Афанасий Афанасьевич Фет Воспоминания
Д. Благой. Афанасий Фет — поэт и человек
Необычная, сложная, во многом весьма драматическая судьба присуща литературной деятельности Фета. Вместе с тем при всей своей оригинальности судьба эта носит отчетливые приметы времени, тесно связана с ритмами движения русской общественной жизни и русской литературы середины и второй половины XIX века. Равным образом литературная судьба Фета не только органически соотносится, но очень причудливо переплетается с его жизненной судьбой.
Афанасий Афанасьевич Фет-Шеншин прожил долгую жизнь. Родился он в октябре или ноябре 1820 года, почти одновременно с выходом в свет первого большого создания русской литературы XIX века — поэмы Пушкина «Руслан и Людмила»; умер 21 ноября 1892 года, примерно через два месяца после появления в печати первого произведения Максима Горького и в период выхода первых сборников стихов русских модернистов. Как видим, в хронологических рамках его жизни происходит все развитие русской классической литературы XIX столетия.
Жизнь Фета — студента, офицера, помещика, камергера двора его императорского величества — протекала на виду у всех и во время, от нас не слишком отдаленное. Тем не менее некоторые основные моменты были окутаны покровом густой, почти непроницаемой тайны, до конца не раскрытой и сейчас окрасившей ее в глубоко трагические тона[1].
Фет родился и рос все свои детские годы в семье богатого и просвещенного в духе русского XVIII века (был пылким приверженцем идей Руссо) орловского помещика Афанасия Неофитовича Шеншина и его жены, урожденной Шарлотты Беккер, с которой он встретился в Германии и привез с собой на родину. И вдруг над головой четырнадцатилетнего отрока грянул неожиданный удар: крещение его сыном Шеншина было объявлено незаконным. В немецкий пансион, находившийся в одном из городов Прибалтики и считавшийся образцовым воспитательным учреждением, куда он при некотором участии Жуковского был незадолго до того помещен, пришло на его имя письмо от отца со странной надписью — не Шеншину, как всегда, а Фету. В письме сообщалось, без указания причин, что отныне именно так он и должен впредь именоваться. Первое, что Последовало, были злые догадки и издевки товарищей. А вскоре Фет ощутил тягчайшие последствия, связанные с новой его фамилией Это было утратой всего, чем он неотъемлемо обладал, — дворянского звания, положения в обществе, имущественных прав, даже национальности, русского гражданства. Старинный потомственный дворянин, богатый наследник внезапно превратился в «человека без имени» — безвестного иностранца весьма темного и сомнительного происхождения. И Фет воспринял это как мучительнейший позор, набрасывавший, по понятиям того времени, тень не только на него, но и на горячо любимую им мать, как величайшую катастрофу, «изуродовавшую» его жизнь. Вернуть то, что было им, казалось, так непоправимо утрачено, вернуть всеми средствами, не останавливаясь ни перед чем, если нужно, все принося в жертву, стало своего рода навязчивой идеей, идеей-страстью, определившей, в сущности, весь его жизненный путь. Оказывало это влияние, и порой весьма роковое, и на литературную его судьбу.
Древние говорили — поэтами рождаются. И Фет действительно родился поэтом. Замечательная художественная одаренность составляла суть его сути, душу его души. Уже с детства был он «жаден до стихов»; испытывал ни с чем не сравнимое наслаждение, «повторяя сладостные стихи» автора «Кавказского пленника» и «Бахчисарайского фонтана»[2]. В немецком пансионе ощутил и первые «потуги» к поэтическому творчеству: «В тихие минуты полной беззаботности я как будто чувствовал подводное вращение цветочных спиралей, стремящихся вынести цветок на поверхность; но в конце концов оказывалось, что стремились наружу одни спирали стеблей, на которых никаких цветов не было. Я чертил на своей аспидной доске какие-то стихи и снова стирал их, находя их бессодержательными»[3]. Стихи Фет продолжал слагать со все большим рвением и в пансионе историка, писателя, журналиста, близкого к Пушкину и Гоголю, профессора Погодина, в который поступил для подготовки в Московский — университет, и в особенности в самом университете (на словесном отделении философского факультета). «Вместо того чтобы ревностно ходить на лекции… почти ежедневно писал новые стихи…» Этому способствовала и дружба с Аполлоном Григорьевым — его сверстником, будущим поэтом, своеобразным и выдающимся критиком, человеком со сложившейся совсем по-иному, но тоже весьма драматичной судьбой (в семье его родителей отец Фета поселил сына). Оба друга «упивались» поэзией, «принимая иногда, — иронически добавляет Фет, — первую лужу за Ипокрену». В доме Григорьевых, который Фет называл «истинной колыбелью» своего «умственного я», собирался кружок студентов, куда, в частности, входили будущий поэт Полонский, будущий историк С. М. Соловьев, отец философа и поэта Владимира Соловьева. Первое «благословение» на серьезную литературную работу Фет полупил от Гоголя, которому через Погодина передал образцы своего творчества. Гоголь советовал продолжать: «Это — несомненное дарование». Ободренный Фет решил издать свои стихи отдельным сборником, заняв триста рублей ассигнациями у гувернантки сестер: молодые люди были влюбены друг в друга, мечтали пожениться и наивно надеялись на то, что издание не только быстро раскупится, но и принесет автору литературную славу, которая обеспечит их «независимую будущность»[4]. В 1840 году сборник вышел в свет под названием «Лирический Пантеон».
В «Отечественных записках», которые благодаря активному участию в них Белинского стали самым популярным журналом 40-х годов, органом передовой литературной и общественной мысли, появился очень сочувственный отклик, автором которого был молодой критик, друг Белинского П. Н. Кудрявцев. «Как хороша его рецензия… на „Лирический Пантеон“ Ф., - сразу же отозвался со свойственной ему исключительной эстетической чуткостью Белинский, добавляя: — только он уж чересчур скуп на похвалы… А г. Ф. Много обещает»[5]. И в печатных своих отзывах ближайших лет Белинский неоднократно выделяет Фета, заявляя, что «из живущих в Москве поэтов всех даровитее г-н Фет», что среди его стихотворений «встречаются истинно поэтические»[6]. Действительно, в числе его стихов, опубликованных в 1842–1843 годы, уже имеются жемчужины фетовской лирики.
Отзывы Белинского были «путевкой» в литературу. Фет начинает усиленно печатать свои стихотворения — и в погодинском «Москвитянине» и в «Отечественных записках», а через несколько лет при активном участии Аполлона Григорьева подготавливает новый сборник своих стихов.
Баратынский прекрасно писал о целительном значении поэтического творчества:
Болящий дух врачует песнопенье. Гармонии таинственная власть Тяжелое искупит заблужденье И укротит бунтующую страсть. Душа певца, согласно излитая, Разрешена от всех своих скорбей; И чистоту поэзия святая И мир дает причастнице своей.Строки эти, конечно, были известны Фету и не могли не быть близки ему — подобный мотив неоднократно и с очень большой силой будет звучать и в его теоретических высказываниях и в стихая. Несомненно, радость творчества и литературный успех во многом целили его «болящий дух», но укротить владеющую им «бунтующую» идею-страсть они не смогли.
И вот во имя поставленной цели Фет круто ломает свой жизненный путь — покидает в 1845 году и Москву и ту. живительную, высокоинтеллектуальную атмосферу, которая сложилась в кружке Григорьева: вскоре по окончании университета поступает нижним чином в один из провинциальных полков, расквартированных на далекой южной окраине, в Херсонской губернии. Сам Фет дал впоследствии точное объяснение этому. На военной службе скорее, чем на какой-либо другой, он мог начать осуществление своей цели — дослужиться до потомственного дворянства и тем самым хотя бы частично вернуть утраченное. Перестал через некоторое время Фет и значиться «студентом из иностранцев» — вернул себе русское гражданство. Однако покупалось это весьма дорогой ценой. В своих воспоминаниях он рассказывает, в каких тяжелых условиях — полной оторванности от привычной среды, литературной жизни, новых книг, журналов и к тому же в каком материальном «стеснении», порой «граничившем с нищетой», он теперь оказался.
Фет еще продолжал писать и печатать стихи, но его литературная деятельность в новых условиях все более ослабевала. Одному из близких с детства друзей, И. П. Борисову, он с горечью и тоской говорил, что может сравнить свою жизнь среди чудищ всякого рода («через час по столовой ложке лезут разные гоголевские Вии на глаза, да еще нужно улыбаться») «только с грязной лужей», в которой он нравственно и физически тонет[7], твердит, что страданья, им испытываемые, похожи на удушье заживо схороненного («никогда еще не был я убит морально до такой степени»). В одну из подобных минут он признается в тайном желании «найти где-нибудь мадмуазелю с хвостом тысяч в двадцать пять серебром, тогда бы бросил все» (характерна сама цинично залихватская в стиле «душки-военного» фразеология этого признания — печать, уже наложенная окружающей средой). Однако во имя поставленной цели Фет терпит все это целых восемь лет. Причем, когда в результате ревностной службы, унизительного подлаживания к начальственным «Виям» достижение желанной цели казалось уже совсем близким, она снова отдалилась. За несколько месяцев до первого офицерского чина был издан, дабы затруднить доступ в дворянство выходцев из других сословий, указ, согласно которому для получения наследственных дворянских прав надо было иметь более высокий чин. Но Фет настойчиво и ревностно продолжал вести свою сложную, труженическую, безотрадную жизнь, хотя и сравнивал себя с мифологическим Сизифом. «Как Сизиф, тащу камень счастия на гору, хотя он уже бесконечные разы вырывался из рук моих». Но возможность отступиться от поставленной цели Фет категорически отвергал: «Ехать домой, бросивши службу, я и думать забыл, это будет конечным для меня истреблением»[8].
До дворянства Фет не дослужился, «мадмуазели с хвостом» не нашел, но обстоятельства стали складываться для него благоприятнее. В 1853 году ему наконец-то удалось вырваться с «Камчатки», из «сумасшедшего дома» — добиться перевода в гвардейский лейб-уланский полк, который был расквартирован сравнительно недалеко от Петербурга, куда он получил возможность часто отлучаться. К этому времени наступила благоприятная перемена и в отношении общества к поэзии.
Во второй половине 40-х годов стихи, как и предсказывал Белинский, утратили в глазах публики всякую ценность: журналы совсем перестали печатать их, спрос на новые сборники стихов, почти не появлявшиеся, совершенно упал. Но к концу 40-х годов громко зазвучала настроенная, «сообразно с духом времени», на тот «другой лад», которого Белинский так ожидал, лира зачинателя новой эпохи в развитии русской поэзии, глашатая передовых общественно-политических и эстетических идей века — Некрасова. К этому времени Некрасов стал хозяином бывшего пушкинского журнала «Современник», куда перешел из «Отечественных записок» Белинский. К журналу примкнули самые замечательные дарования того времени, будущие корифеи литературы второй половины XIX века — Тургенев, Лев Толстой, Герцен, Гончаров. В 1850 году в «Современнике» начала печататься на весьма скромном месте, в отделе «Смесь», серия статей Некрасова под весьма скромным же заглавием «Русские второстепенные поэты». Целью их было показать, что, кроме признанных, давно вошедших в обиход каждого культурного человека великанов русской поэзии и скомпрометировавших ее эпигонов, существует еще много замечательных явлений, по тем или иным причинам не обративших на себя внимание критики и читателей.
В том же 1850 году вышел давно прошедший через цензуру, но пролежавший три года без движения второй сборник стихотворений Фета. Он привлек к себе весьма сочувственное внимание кругу ближайших участников «Современника». Горячим пропагандистом поэзии стал Тургенев, который приступил вместе с «кружком» нескольких других сотрудников «Современники» — критиками В. П. Боткиным, А. В. Дружининым — к подготовке нового издания фетовских стихотворений, в основу которого был положен «вычищенный», основательно переработанный под настойчивым давлением Тургенева, сокращенный почти наполовину сборник 1850 года[9]. Выходу в 1856 году этого издания предшествовало извещение Некрасова, дававшее его автору столь же высокую оценку, как и стихам Тютчева: «Смело можем сказать, что человек, понимающий поэзию и охотно открывающий душу свою ее: ощущениям, ни в одном русском авторе, после Пушкина, не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему г. Фет»[10]. Помимо восхищенных откликов критиков-эстетов Дружинина и Боткина, сделавших поэзию Фета боевым знаменем «чистого искусства», его стихи расхваливают в журналах всех направлений.
Эта восторженная встреча не могла не воодушевить Фета, который почти вовсе перестал писать стихи, продолжая лишь «со скуки» заниматься переводами из Горация, за что сослуживцы насмешливо называли его «дубовым классиком». Теперь последовал новый, еще более сильный, чем в первую половину 40-х годов, прилив его творческих сил. Фет развивает активнейшую литературную деятельность, систематически печатается почти во всех наиболее крупных журналах. Явно стремясь расширить рамки прославившего его литературного жанра небольших лирических стихотворений, пишет поэмы и повести в стихах, пробует себя в художественной прозе, много переводит (не только из еще ранее особенно полюбившегося ему Гейне, но и из Гете, Шенье, Мицкевича, восточных поэтов, в частности большой цикл немецких переложений из Хафиза), кроме того, публикует ряд путевых очерков, критических статей. Принятый как свой в среде талантливейших писателей и литераторов современности, Фет чувствует себя морально воскресшим. Благодаря литературным заработкам наступает несомненное улучшение и в его материальном положении. Однако по службе ему наносится очередной удар. Тяжелый камень, втащенный было Сизифом-Фетом почти на самую вершину горы, снова рухнул вниз. Одновременно с выходом сборника его стихов был издан новый указ: звание потомственного дворянина давал лишь чин полковника. Это отодвигало осуществление цели Фета на столь неопределенно долгий срок, что продолжение военной службы становилось совершенно бесполезным. Естественно вставал вопрос: что делать далее?
Давнее его желание исполнилось: нашлась невеста с необходимым ему приданым. Сразу же после появления нового указа он взял годовой отпуск, совершил на накопившийся литературный гонорар путешествие по Европе (Германия, Франция; Италия) и там же, в Париже, в 1857 году женился на дочери богатейшего московского чаеторговца и в то же время сестре его литературного единомышленника и почитателя В. П. Боткина — Марии Петровне Боткиной. О том, что это был брак отнюдь не по сердечному влечению, красноречиво свидетельствует рассказ брата Л. Н. Толстого, Сергея Николаевича. Как-то, когда он был нездоров, Фет пришел навестить его; «они дружески разговорились, и Сергей Николаевич, будучи всегда очень откровенен и искренен, вдруг спросил его: „Афанасий Афанасьевич, зачем вы женились на Марии Петровне?“ Фет покраснел, низко поклонился и молча ушел. Сергей Николаевич с ужасом впоследствии рассказывал об этом»[11].
Вскоре же, в 1858 году, Фет вышел в отставку и поселился в Москве. Поначалу, во имя все той же своей идеи-страсти, он добивается пополнить полученный «сундук с червонцами» еще более энергичной литературной деятельностью, проявляя присущую ему огромную работоспособность, но зачастую явно поступаясь качеством своего творчества. Фет «стоит на опасной дороге, — с тревогой пишет об этом в 1859 году один из горячих поклонников его поэзии, Дружинин, Льву Толстому, — скаредность его одолела. Он уверяет всех, что умирает с голоду и должен писать для денег… не слушает никаких увещаний, сбывает по темным редакциям самые бракованные из своих стихотворений…»; требует «неслыханную цену» (выражение Некрасова) за свои произведения[12]. Однако скоро же он начинает терпеть неудачи на этом пути. Его поэмы встречаются весьма прохладно, да он и сам признает, что лишен как «драматической» (он пытался писать и пьесы), так и «эпической жилки». Сделанный им, видимо, именно для денег и опубликованный перевод трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» вызвал обстоятельный, но весьма иронический и суровый разбор, автор которого убедительно показывает, что «в нем нет Шекспира ни признака малейшего»[13]. Правда, попутно дается весьма уважительная оценка Фету-лирику. Однако и для этого главного направления его творчества обстановка снова складывается все более неблагоприятно.
Огромный успех лирические стихи Фета встречали все же преимущественно в литературных и потому довольно узких кругах. Это прямо должен был признать тот же Боткин, отмечая, что, хотя в журналах этих лет о лирике Фета отзывались с «сочувствием и похвалами, но тем не менее, прислушиваясь к отзывам о ней публики не литературной, нельзя не заметить, что она как-то недоверчиво смотрит на эти похвалы: ей непонятно достоинство поэзии г. Фета. Словом, успех его, можно сказать, только литературный: причина этого, кажется нам, заключается в самом таланте его»[14].
Последнее справедливо лишь отчасти. Истинная причина заключалась не столько в характере фетовского поэтического дарования, сколько в резком, еще более остро обнаружившемся несоответствии его с «духом времени». В отличие от гениального выразителя этого «духа» — Некрасова лира Фета на всем протяжении его творчества не была переозвучена «на другой лад».
«Дух времени» во второй половине 50-х и особенно в 60-е годы проявился в полной своей силе. Это, естественно, отразилось и на отношении к поэзии Фета. Позднее, уже в период «Вечерних огней», в предисловии к их III выпуску, Фет объяснял отношение к нему критиков-шестидесятников тем, что, «в сущности, люди эти ничего не понимали в деле поэзии». Это неверно. В 60-е годы появлялись и грубо вульгарные статьи и высказывания о Фете, но основные представители революционно-демократической мысли вовсе не были лишены эстетического чутья. Глубоко характерно в этом отношении признание Чернышевского в письме к Некрасову в 1856 году: «Поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли… лично на меня ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденциею. „Когда из мрака заблужденья…“, „Давно отвергнутый тобою…“, „Я посетил твое кладбище…“, „Ах ты, страсть роковая, бесплодная…“ и т. п. буквально заставляют меня рыдать, чего не в состоянии сделать никакая тенденция. Я пустился в откровенности, — но только затем, чтобы сказать вам, что я смотрю (лично я) на поэзию вовсе не исключительно с политической точки зрения. Напротив, политика только насильно врывается в мое сердце, которое живет вовсе не ею или, по крайней мере, хотело бы жить не ею»[15]. Безусловно высоко, подобно Некрасову, и в этом отношении совпадая с критиками-эстетами, ценил Чернышевский и поэтическую прелесть стихов Фета, его «прекрасный лирический талант»[16]. Схожие отзывы находим и у Салтыкова-Щедрина, признававшего, что «большая половина» стихотворений Фета «дышит самою искреннею свежестью», которая «покоряет себе сердца читателей», что романсы на его стихи «распевает чуть ли не вся Россия»[17]. Вместе с тем очень характерен отзыв, который он тут же дает о стихотворении «Шепот, робкое дыханье…». В нем нет ни одного глагола, и это дало легкий повод к ироническому подшучиванию некоторых критиков-вульгаризаторов, к огромному количеству пародий всякого рода. «А ведь сколько оно шума наделало когда-то, сколько его ругали!..» — вспоминал восхищавшийся стихотворением Лев Толстой[18]. Но наделало оно шума не только, вернее, даже не столько оттого, что в нем отсутствовали глаголы, а потому, что являло своего рода квинтэссенцию всего мира фетовской поэзии, как она к тому времени себя проявила, было ярким воплощением основного пафоса поэта — воспевания природы и любви в их органической между собой слиянности. В нем все то, что привлекало в фетовских стихах не только критиков-поэтов, но что высоко ценили наиболее выдающиеся критики — революционные демократы; вместе с тем как бы очерчен тот круг, за пределы которого, за редкими исключениями, не выходила в эту пору муза Фета. Поэтому нет почти ни одной статьи критиков-современников, где не говорилось бы об этом стихотворении. Это как раз и подчеркивает в своем отзыве Салтыков-Щедрин, прямо заявляя, что «в любой литературе редко можно найти стихотворение, которое своей благоуханной Свежестью обольщало бы читателя в такой степени», а с другой стороны, видя в нем подтверждение того, сколь «тесен, однообразен и ограничен мир, поэтическому воспроизведению которого посвятил себя г. Фет», представляющий собой, по мнению критика, повторение «в нескольких стах вариантах»[19] именно этого пленительного стихотворения. Примерно то же писал и Добролюбов, противопоставляя в этом отношении Фета, талант которого способен во всей силе проявляться «только в уловлении мимолетных впечатлений от тихих явлений природы», Тютчеву, которому «доступны, кроме того, — и знойная страстность, и суровая энергия, и глубокая дума, возбуждаемая не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни»[20].
В суженности художественного мира фетовской поэзии, в отсутствии в нем не только гражданских мотивов, но и вообще связи с общественными вопросами, ставившимися «духом времени» и остро волновавшими современников, — и видели критики-шестидесятники коренной недостаток Фета.
А «дух времени» утверждался в литературе все тверже и определеннее. Общественно-политическая атмосфера в стране все накалялась, складывалась революционная ситуация. В «Современнике» окончательно утвердилась линия Чернышевского — Добролюбова; представители «эстетического» кружка во главе с Тургеневым покинули журнал, одновременно ушел из него Л. Н. Толстой, а еще до этого, в связи с появлением статьи о переводе Шекспира, отказался сотрудничать в нем и Фет. С конца 1860 года в том самом «Русском слове», где была опубликована фетовская статья о Тютчеве, руководящую роль начал играть ниспровергавший «эстетику» Писарев.
Все это крайне ограничивало дальнейшие литературные возможности Фета. Ему стало ясно: добиться «жизнеустройства» так, как он себе это представлял, посредством литературно-журнальных заработков, столь же безнадежно, как это было на военной службе. И Фет снова круто ломает свой жизненный путь. Поощряемый шурином, Боткиным («А ты, Фет, я думаю, можешь быть хорошим хозяином при твоем практическом смысле») и, преодолев сопротивление жены, он приобретает на ее имя и средства небольшое имение — хутор Степановку, как раз в тех местах, где находились родовые поместья Шеншиных, становится если и не мценским дворянином, то, на первых порах, мценским помещиком.
Примерно в эту же пору ушел от столичной жизни в свою Ясную Поляну и Л. Н. Толстой. «Нашему полку прибудет, и прибудет отличный солдат…» — сочувственно писал он Фету, узнав об его намерении сесть на землю[21], Но, подобно Пушкину, который, намечая в 30-е годы планы своей последующей жизни, также мечтал об отъезде в Михайловское («О, скоро ли возвращусь я к моим пенатам. Труды поэтические. Крестьяне…»), Толстой в своем деревенском уединении и помещичьих занятиях искал и нашел наиболее подходящие условия для творческой деятельности, которая именно там и достигла своего наивысшего расцвета, и вместе с тем возможности, как его Нехлюдов в «Утре помещика», улучшить положение крестьян. Фетом руководили совсем иные побуждения: разбогатев, осуществить издавна поставленную им заветную цель — вернуть отнятое несправедливой судьбой. «Он теперь сделался агрономом — хозяином до отчаянности, — писал Тургенев Полонскому, — отпустил бороду до чресл с какими-то волосяными вихрами за и под ушами — о литературе слышать не хочет и журналы ругает с энтузиазмом»[22]. Правда, в 1862 году в журнале «Русский вестник» Каткова, ставшем к этому времени на резко реакционные оппозиции, стало снова появляться имя Фета, но под произведениями совсем нового для него жанра — статьями о «земледельческом деле», непосредственно связанными с его новыми сельскохозяйственными занятиями и написанными с точки зрения интересов нового, «жаждущего выхода на рыночный простор»[23] помещика-буржуа пореформенного типа, каким, быстро сориентировавшись в сложившейся к этому времени обстановке в стране, Фет и сделался («Заметки о вольнонаемном труде», «Из деревни», «По вопросу о найме рабочих» и др.). Корыстно-помещичий характер этих статей вызвал взрыв негодования среди даже тех революционных демократов, которые восхищались прелестью его лирических стихов.
Все это знаменовало окончательный разлад между Фетом и «духом времени». В 1863 году он выпустил новое собрание своих стихотворений в двух частях, которое в отличие от быстро разошедшегося сборника 1856 года оставалось, несмотря на небольшой тираж, до конца его жизни в большей своей части нераспроданным. Сам Фет как бы подводил им итоговую черту под своим поэтическим творчеством, почти полностью прекратив писание стихов.
Но хозяином-землевладельцем он оказался не только хорошим, но, говоря словом Толстого, «отличным», проявив в этом, совсем новом для него деле чрезвычайную практическую сметку и присущие ему исключительные способности. Он не только привел купленный им запущенный хутор в цветущий вид, но и пустился в торговые обороты — завел мельницу, конный завод (коневодством он, как одно время Л. Н. Толстой, особенно увлекался). Поздравляя его с очередной «великолепной сделкой», Тургенев выражал уверенность, что она наполнит его карманы «ручьями цаковых». Приводя эти слова, Фет поясняет: «Тургенев всегда говорил, что будто бы никто не произносит с таким выражением, как я, слово „целковый“ и что ему каждый раз кажется, что я уже положил его в карман»[24]. И «цаковые» действительно полились в карманы Фета ручьями. Благосостояние его все росло. Помимо Степановки, он покупает второе имение, а впоследствии приобретает еще одно — и особенно богатое — Воробьевку. С удовлетворенной гордостью сообщал он позднее одному из своих бывших товарищей-однополчан К. Ф. Ревелиоти: «…я был бедняком, офицером, полковым адъютантом, а теперь, слава богу, Орловский, Курский и Воронежский помещик, коннозаводчик и живу в прекрасном имении с великолепной усадьбой и парком. Все это приобрел усиленным трудом, а не мошенничеством»[25].
Среди соседей-помещиков Фет: становился все более уважаемым лицом. Выражением этого был выбор его в 1867 году на установленную судебной реформой 1864 года — и считавшуюся тогда весьма почетной должность мирового судьи, в которой он оставался в течение целых одиннадцати лет. «Свободный выбор уездными гласными наилучших людей в мировые судьи, которым предоставлялось судить публично по внутреннему убеждению, являлся… чем-то священным и возвышающим избираемого в его собственных глазах», — рассказывает Фет в своих мемуарах. Правда, он вскоре же избавился, по его словам, от такого «наивного» взгляда, но тем не менее продолжал считать свое избрание «событием», «которое по справедливости может быть названо эпохой, отделяющей предыдущий период жизни и в нравственном и в материальном отношении от последующего»[26].
Действительно, новое общественное положение Фета открывало ему возможность полностью осуществить главную цель его жизни — вернуть утраченную дворянскую фамилию и связанные с этим наследственные права. В своих мемуарах Фет рассказывает, что, разбирая в 1873 году бумаги покойного отца, он натолкнулся на предписание орловской консистории к мценскому священнику перевенчать повенчанного за границей в лютеранской церкви с матерью Фета отставного штаб-ротмистра Афанасия Шеншина по православному обряду. «Тяжелый камень, — пишет он, — мгновенно свалился» с его груди. Вопрос, промучивший его всю сознательную жизнь, разрешился: он был рожден в законном браке Шеншина с его матерью, но только по не признанному в России лютеранскому обряду[27]. На самом деле почти все в этом рассказе заглажено, передано и неполно и неточно[28]. Фет давно уже и твердо знал, что он не только формально перестал считаться сыном Шеншина, но и вообще им не являлся. Несмотря на все принятые предосторожности, до нас дошел решающий документ — его письмо от 16/28 июля 1857 года к своей будущей жене М. П. Боткиной, которой он счел необходимым перед браком раскрыть страшную и неотступно мучившую его тайну. На конверте письма, которое Фет просил сразу же по прочтении сжечь, надпись: «Читай про себя», и рукой М. П. Боткиной «Положить со мной в гроб». В нем Фет пишет: «Моя мать была замужем за отцом моим — дармштадтским ученым и адвокатом Фетом и родила дочь Каролину и была беременна мною. В это время приехал и жил в Дармштадте вотчим мой Шеншин, который увез мать мою от Фета, и когда Шеншин приехал в деревню, то через несколько месяцев мать родила меня… Вот история моего рождения»[29].
Однако и в этом, несомненно, рискованном признании (Фет опасался, что после него невеста порвет с ним) он, видимо, не решился сказать всего. Ученым и адвокатом его отец не был, а значился мелким «чиновником». Мало того, среди лиц, близко знавших Фета, упорно ходила другая, гораздо более прозаическая версия. «Давно было известно, — рассказывает с их слов покойный академик Грабарь, — что отец Фета, офицер русской армии двенадцатого года, возвращаясь из Парижа через Кенигсберг, увидел у одной корчмы красавицу еврейку, в которую влюбился. Он купил ее у мужа, привез к себе в орловское имение и женился на ней». Трудно сказать, насколько эта версия соответствует действительности, хотя Грабарь прямо говорит, что она была «секретом полишинеля»[30]. Но так или иначе бесспорно, что Шеншин отцом Фета не являлся и что Фет уже давно об этом знал. Однако это его не остановило. Опираясь на консисторское предписание, он обратился в том же 1873 году с просьбой на высочайшее имя о восстановлении в сыновних и всех связанных с этим правах, ссылаясь на «жесточайшие нравственные пытки» и «душевные раны», которые лишение их ему причиняет[31]. И поставленная перед собой Фетом цель наконец-то после сорока лет непрестанных помыслов, настойчивых трудов и усилий была им достигнута. 26 декабря того же года последовал царский указ «о присоединении отставного гвардии штабс-ротмистра Аф. Аф. Фета к роду отца его Шеншина со всеми правами, званию и роду его принадлежащими»[32]. «Теперь, когда все, слава богу, кончено, ты представить себе не можешь, до какой степени мне ненавистно имя Фет, — писал он жене. — Умоляю тебя, никогда его мне не писать, если не хочешь мне опротиветь. Если спросить, как называются все страдания, все горести моей жизни? Я отвечу тогда: имя Фет». Вновь приобретенным именем стал он подписывать и все письма к друзьям и знакомым. Тургенев встретил это едкой иронией; появилось и несколько насмешливых эпиграмм на исчезнувшего Фета и неожиданно народившегося Шеншина. Глубже взглянул на это Л. Н. Толстой. «Очень удивился я, получив ваше письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, — писал он ему, — хотя и слышал… давно уж историю всей этой путаницы; и радуюсь вашему мужеству распутать когда бы то ни было. Я всегда замечал, что это мучило вас, и, хотя сам не мог понять, чем тут мучиться, чувствовал, что это должно было иметь огромное влияние на всю вашу жизнь»[33]. Толстой был прав, но проявил здесь Фет не только «мужество».
Помимо замечательного художественного таланта, Фет вообще был незаурядной, богато одаренной натурой, обладал исключительно яркими интеллектуальными качествами. По словам близко знавших его современников, он был «прекрасным рассказчиком», был «неистощим в речах, исполненных блеска и парадоксов»[34], в остроумии не уступал такому прославленному острослову, как Тютчев[35]. Недаром общением с ним дорожили самые выдающиеся умы того времени. В очень оживленной и длительной переписке с ним был И. С. Тургенев. «Переписываться с вами для меня потребность, — признался он как-то Фету, полушутливо добавляя: — и на меня находит грусть, если я долго не вижу ваш связно-красивый, поэтическо-безалаберный и кидающийся из пятого этажа почерк»[36]. «Кроме вас у меня никого нет… Вы человек, которого, не говоря о другом, по уму я ценю выше всех моих знакомых, и который в личном общении дает один мне тот другой хлеб, которым, кроме единого, будет сыт человек», — пишет ему Лев Толстой. «Вы не поверите, как я дорожу вашей дружбой». «Жду вас с нетерпением к себе. Иногда душит неудовлетворенная потребность в родственной натуре, как ваша» — такими и подобными выражениями переполнены его письма к Фету[37].
О блеске, силе, остроте, глубине и одновременно поэтичности ума Фета свидетельствуют и его критические статьи и образцы его художественной прозы. И все это интеллектуальное богатство, все напряжение воли, все силы души он обратил на достижение поставленной цели, идя к ней всеми путями, не различая добра и зла, жертвуя своей идее-страсти всем самым близким и дорогим. Теперь, когда она была достигнута, он мог бы с полным правом сказать о себе устами барона Филиппа из «Скупого Рыцаря» Пушкина: «Мне разве даром это асе досталось… // Кто знает, сколько горьких воздержаний, // Обузданных страстей; тяжелых дум, // Дневных забот, ночей бессонных мне // Все эта стоило?..» Фету действительно все это досталось не даром, он воистину «выстрадал» себе и свое богатство и свою восстановленную стародворянскую фамилию.
Идея-страсть, владевшая Фетом, не заключала в себе ничего «идеального» и вынуждала, как он пишет в своих мемуарах, «принести на трезвый алтарь жизни самые задушевные стремления и чувства». В годы армейской службы Фет жаловался Борисову, что «насилует» свой «идеализм» «жизнью пошлой», которую должен вести, что он «добрался до безразличия добра и зла»[38]. Трудный жизненный путь, суровая житейская практика Фета, безнадежно-мрачный взгляд на жизнь, на людей, на современное общественное движение все более отягчали его душу, ожесточали, «железили» его характер, отъединяли от окружающих, эгоистически замыкали в себе. «Я никогда не слышала от Фета, чтобы он интересовался чужим внутренним миром, не видала, чтобы его задели чужие интересы. Я никогда не замечала в нем проявления участия к другому и желания узнать, что думает и чувствует чужая душа»[39]. Так писала о нем та, которой Фет посвятил одно из самых прославленных, воистину жемчужных своих созданий — стихотворение «Сияла ночь. Луной был полон сад…» — сестра жены Толстого, Т. А. Кузминская. Примерно так же отзывались о нем и другие современники.
Но, словно бы в подтверждение древнего изречения: «Дух дышит, где хочет» — в этом орловском, курском и воронежском поместном дворянине, жестком и корыстном сельском хозяине, в этом давно дошедшем до безразличия добра и зла пессимисте, сухом и тщеславном камергере двора его императорского величества — продолжал дышать дух поэта, и поэта истинного, одного из тончайших лириков мировой литературы.
Резкое отличие житейского Фета, каким его знали, видели и слышали окружающие, от его лирических стихов дивило многих, даже очень близких ему людей. «Что ты за существо — не понимаю, — писал Фету незадолго до его смерти Полонский, — …откуда у тебя берутся такие елейно-чистые, такие возвышенно-идеальные, такие юношественно-благоговейные стихотворения?.. Какой Шопенгауэр, да и вообще какая философия объяснит тебе происхождение или тот психический процесс такого лирического настроения? Если ты мне этого не объяснишь, то я заподозрю, что внутри тебя сидит другой, никому не ведомый, и нам, грешным, невидимый, человек, окруженный сиянием, с глазами из лазури; и звезд, и окрыленный! Ты состарился, а он молод! Ты все отрицаешь, а он верит!.. Ты презираешь жизнь, а он, коленопреклоненный, зарыдать готов перед одним из ее воплощений…». Остро сформулированное Полонским противостояние двух миров — мира Фета-человека, его мировоззрения, его житейской практики, общественного поведения — и мира фетовской лирики, по отношению к тому, первому, бывшего словно бы антимиром, являлось «загадкой», «тайной» и для огромного большинства его современников.
Еще в 1850 году Фет писал другу: «Идеальный мир мой разрушен давно…»[40]. Место этого разрушенного — идеального — мира заняла та реальная будничная жизнь, сугубо прозаичным законам которой Фет счел себя вынужденным не только подчиниться, а и начать в соответствии с ними строить свое житейское благополучие, но которая резко отвращала его как поэта. И чем больше в своей практической деятельности Фет следовал этим законам, тем сильнее в своем поэтическом сознании стремился он выйти из-под их власти. Оглядываясь (в предисловии к III выпуску «Вечерних огней») на всю свою творческую жизнь, Фет писал: «Жизненные тяготы и заставляли нас в течение пятидесяти лет по временам отворачиваться от них и пробивать будничный лед, чтобы хотя на мгновение вздохнуть чистым и свободным воздухом поэзии». Поразительна способность Фета, в моменты своего лирического настроения, того лиризма, который он считал «цветом и вершиной жизни»[41], полностью перенестись из привычного буднично-прозаического мира в диаметрально ему противоположный, заново, взамен утраченного «идеального», им созидаемый, — «благовонный, благодатный» мир своих лирических «вздохов». Уход от неудовлетворяющего реального мира в мир, создаваемый искусством, от борьбы со злом — от «битв» — в эстетическую созерцательность — все это типичные черты того типа литературного романтизма, который Горький называл «пассивным» и родоначальником которого у нас был Жуковский. В лирике Фета, несомненно, имеются родственные Жуковскому черты, возникшие, в результате как исторической преемственности, так а типологических совпадений. Но имеется и существеннейшее между ними различие.
В идеальном мире лирики Фета, в противоположность Жуковскому, нет ничего мистически-потустороннего. Извечным объектом искусства, считает Фет, является красота. Но эта красота не «весть» из некоего нездешнего мира, это и не субъективное прикрашивание, эстетическая поэтизация действительности — она присуща ей самой. «Мир во всех своих частях равно прекрасен, — утверждает Фет. — Красота разлита по всему мирозданию и, как все дары природы, влияет даже на тех, которые ее не сознают, как воздух питает и того, кто, быть может, и не подозревает его существования. Но для художника недостаточно бессознательно находиться под влиянием красоты или даже млеть в ее лучах. Пока глаз его не видит ее ясных, хотя и тонко звучащих форм, там, где мы ее не видим или только смутно ощущаем, — он еще не поэт… Итак, поэтическая деятельность, — заключает Фет, — очевидно, слагается из двух элементов: объективного, представляемого миром внешним, и субъективного, зоркости поэта — этого шестого чувства, не зависящего ни от каких других качеств художника. Можно обладать всеми качествами известного поэта и не иметь его зоркости, чутья, а следовательно, и не быть поэтом… Ты видишь ли, или чуешь в мире то, что видели или чуяли в нем Фидий, Шекспир, Бетховен? „Нет“. Ступай! Ты не Фидий, не Шекспир, не Бетховен, но благодари бога и за то, если тебе дано хотя воспринимать красоту, которую они за тебя подслушали и подсмотрели в природе»[42].
Представлению о «красоте», как о реально существующем элементе мира, окружающего человека, Фет остается верен до конца. «Целый мир от красоты // От велика и до мала», — читаем в одном из позднейших его стихотворений, примыкающих к периоду «Вечерних огней». И в этом отношении Фет идет не за Жуковским, а за Пушкиным, во всеохватывающем творчестве которого среди бесчисленных семян и побегов, прорастающих в последующей русской литературе, есть и несомненное и по-своему весьма значительное «фетовское» зерно. Это ощущал и сам Фет, когда на вопрос: «Ваш любимый поэт?», ответил: «Пушкин» (в другом «альбоме признаний» им назван и такой «поэт объективной правды», как Гете).
Романтическая по пафосу и по методу, лирика Фета вместе с тем сродни пушкинской «поэзии действительности», представляет своеобразный — романтический — ее вариант. Только, говоря о Пушкине, в этом словосочетании логическое ударение следует ставить на каждом из двух слов, говоря о Фете — на первом из них. «У всякого предмета, — пишет Фет, — тысячи сторон», но «художнику дорога только одна сторона предметов: их красота, точно так же, как математику дороги их очертания или численность»[43].
Так как мир — по Фету — «во всех своих частях равно прекрасен, то внешний предметный элемент поэтического творчества безразличен»[44]. Однако в его лирике почти с самого начала и до самого конца имеется определенный отбор «предметного элемента», который, в сущности, сводится к трем основным «предметам», конечно, узким по сравнению со всем остальным, но достаточно емким и вширь и в особенности вглубь. Это природа, любовь и песня. Причем все эти три поэтических предмета не только соприкасаются между собой, но и тесно взаимосвязаны, проникают друг в друга, образуя единый слитный художественный мир — фетовскую вселенную красоты, солнцем которой является разлитая во всем, скрытая для обычного глаза, но чутко воспринимаемая «шестым чувством» поэта гармоническая сущность мира — «музыка».
Ничему ужасному, жестокому, безобразному доступа в мир фетовской лирики нет: она соткана только из красоты. Это явная односторонность, на которую поэт, демонстративно опираясь на тоже односторонне понятые и развиваемые им пушкинские суждения об искусстве, не только сознательно, но и принципиально идет: дело «поэзии или вообще художества воспроизведение не предмета, а только одностороннего его идеала»[45]. В этой односторонности — специфичность лирики Фета, в ней ее слабость — та узость кругозора, в которой так резко укоряли его критики-шестидесятники; но в ней же и ее сила — ее художественное обаяние, ее эстетическая прелесть.
В десятилетия своего «рабского труда», как Фет называл напряженнейшую, целиком захватившую его работу во имя своего помещичьего жизнеустройства (В. С. Соловьеву — «Ты изумляешься, что я еще пою…», 1885), он, в сущности вовсе бросил заниматься поэзией. И это была едва ли не самая тяжкая для него- поэта — жертва из тех многих, которые он принес на алтарь своей идеи-страсти. «Он стал рьяным хозяином и гонит музу взашей», «выдохся до последней степени» — такими суждениями пестрят письма близко знавших его современников. Не только стихи Фета, но и упоминания о нем как стихотворце почти совершенно исчезают в эти десятилетия со страниц журналов. Сам он упорно твердит о себе как о поэте, навсегда конченном. Решительно не соглашался с этим один Лев Толстой: «Я от вас все жду, как от 20-летнего поэта, и не верю, чтобы вы не кончили. Я свежее и сильнее вас не знаю человека. Поток ваш все течет, давая тоже известное количество ведер воды — силы. Колесо, на которое он падал, сломалось, расстроилось, принято прочь, но поток все течет, и, ежели он ушел в землю, он где-нибудь опять выйдет и завертит другие колеса»[46]. И Толстой оказался весьма прозорливым. Еще долгие годы лирический поток Фета оставался под землей, и все же в конце концов он с необыкновенной силой выбился наружу. Сам Фет писал поэту Константину Романову: «Жена напомнила мне, что с 60-го по 77-й, во всю мою бытность мировым судьею и сельским тружеником, я не написал и трех стихотворений, а когда освободился от того и другого в Воробьевке, то Муза пробудилась от долголетнего сна и стала посещать меня так же часто, как на заре моей жизни»[47].
И в самом деле, с конца 70-х годов Фет начал писать стихи в количестве не меньшем, если не большем, чем в молодую свою пору. Новому отдельному сборнику своих стихотворений, вышедшему после двадцатилетнего перерыва, в 1883 году, когда ему было уже 63 года, он дал заглавие «Вечерние огни». Под этим же очень емким, точным и поэтичным названием он опубликовал в 1885, 1888 и 1891 годах еще три сборника — выпуска — новых стихов; подготовлял и еще один, пятый выпуск, который издать уже не успел. Заглавие, несомненно, говорило о вечере жизни, ее закате. Но «вечерний» день Фета оказался необычным, в своем роде единственным. В стихотворениях, создававшихся на исходе шестого, на седьмом и даже на восьмом десятке лет жизни поэта, его творческий дар не только сохранил свою свежесть и юношескую силу, но и достиг высшего расцвета, полностью развернулся во всем своем «благоуханном» — фетовском — своеобразии, восхищавшем критиков 50-х годов. При этом лирический поток Фета не только стал падать на снова налаженное прежнее колесо, но «завертел» и другие, новые.
Своему творческому обету Фет остался верен до самого конца. Время для новых песнопений было не менее, если не более неблагоприятным, чем в 60-е годы, когда он вовсе было ушел из поэзии. Боевому, подъемному общественному пафосу того времени была наиболее адекватна «муза мести и печали» Некрасова. Переходной поре 80-х годов, когда волна революционного народничества спала, а новая волна, порожденная начинавшимся выходом на историческую авансцену рабочего класса, еще не поднялась, оказалась особенно близка и созвучна муза гражданской скорби и уныния, голос которой зазвучал в вышедшем в том же 1885 году, что и II выпуск фетовских «Вечерних огней», первом и единственном сборнике стихов молодого двадцатитрехлетнего Надсона. По своей поэтической силе дарование Надсона было несоизмеримо с гением Некрасова, но стихи его в широких слоях читающей публики сразу же приобрели популярность едва ли не большую, чем популярность в свое время некрасовских стихов.
Стихи певца соловья и розы Фета снова оказались не ко времени. Мало того, в предисловии к III выпуску «Вечерних огней», вышедшему через три года после появления сборника надсоновских стихов, он с присущей ему агрессивностью выступил против поэзии «гражданской скорби», то есть, по существу, против Надсона и его восторженных поклонников. Все это определило литературную судьбу «Вечерних огней», еще гораздо более суровую, чем прижизненная судьба предшествовавшего творчества Фета. Несмотря на их крайне ограниченные тиражи (всего по нескольку сотен экземпляров), они оставались нераспроданными, в то время как сборник стихов Надсона переиздавался чуть ли не каждый год (за тридцать с небольшим лет выдержал 29 изданий!). Узнав от Фета о скором выходе очередного, IV выпуска «Вечерних огней», Полонский писал ему; «Жду и буду ждать твоих „Вечерних огней“. Хотелось бы сказать: все ждут… весь наш интеллигентный мир ждет огней твоих, — но увы! этого никто не скажет»[48].
Действительно, сколько-нибудь широкому читателю того времени стихи Фета были и чуждыми и просто неизвестными. Способствовала этому и резко антифетовская позиция большинства критиков, которые либо замалчивали его стихи, либо отзывались о них в самом пренебрежительном, а порой и грубо-издевательском тоне. Известность фетовских «Вечерних огней» ограничивалась лишь небольшим кругом друзей, к которым, правда, принадлежали, как мы знаем, такие квалифицированные читатели, как Лев Толстой, Владимир Соловьев, Страхов, Полонский, Алексей Толстой, Чайковский.
Друзья организовали торжественный, пятидесятилетний юбилей поэтической деятельности Фета. Однако исключительная ограниченность читательской аудитории не могла не вызывать в нем, как во всяком писателе, чувства глубокой горечи и затаенной печали. Это звучит и в его стихах «На пятидесятилетие музы» (особенно в первом из них: «Нас отпевают…»), и в совсем небольшом предисловии к IV выпуску «Вечерних огней», в котором, несмотря на демонстративно подчеркиваемое им «равнодушие» к «массе читателей, устанавливающей так называемую популярность», явственно пробиваются грустные нотки.
Стали одолевать Фета и старческие недуги: резко ухудшилось зрение, терзала «грудная болезнь», сопровождавшаяся приступами удушья и мучительнейшими болями, о которых он писал, что ощущает, будто слон наступил ему на грудь. Тем не менее он и в свои последние годы по-прежнему вел напряженную литературную работу, переводил, подготовлял к печати не только очередной, V выпуск «Вечерних огней», но и новое большое издание всех своих стихов. Продолжал биться в нем и тот творческий поток, в неиссякаемую молодость и свежесть которого так верил в свое время Лев Толстой. «Полуразрушенный, полужилец могилы» (так начинается одно из его стихотворений), он продолжает петь «о таинствах любви», всем своим творческим «трепетом» — шестым чувством поэта — отзывается на по-прежнему созвучный ему трепет природы, молодости, красоты («Еще люблю, еще томлюсь перед всемирной красотою»).
Последнее стихотворение Фета, до нас дошедшее, носит дату 23 октября 1892 года, а меньше чем через месяц, 21 ноября, дышать Фету не стало мочи, и он скончался от своей застарелой «грудной болезни», осложненной бронхитом. Так гласила официальная версия вдовы поэта и его первого биографа Н. Н. Страхова. На деле все было не так просто.
Подобно рождению Фета, и его смерть оказалась окутанной покровом густой тайны, раскрывшейся окончательно лишь почти четверть века спустя. За полчаса до смерти Фет настойчиво пожелал выпить шампанского, а когда жена побоялась дать его, послал ее к врачу за разрешением. Оставшись вдвоем со своей секретаршей, он продиктовал ей, но не письмо, как обычно, а записку совсем необычного содержания: «Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий, добровольно иду к неизбежному». Под этим он сам подписал: «21-го ноября Фет (Шеншин)». Затем он схватил стальной стилет, лежавший на его столе для разрывания бумаги. Секретарша бросилась вырывать его, поранила себе руку. Тогда Фет побежал через несколько комнат в столовую к буфету, очевидно, за другим ножом, и вдруг, часто задышав, упал на стул. Это был конец. Формально самоубийство не состоялось. Но по характеру всего происшедшего это было, конечно, заранее обдуманное и решенное самоубийство. Ведь в том крайне тяжелом болезненном состоянии, в котором он находился, самоубийственным, вероятно, был бы — и Фет знал это — и бокал шампанского. Самоубийства обычно рассматриваются как проявление слабости. В данном случае это было проявлением силы. Актом той «железной» фетовской воли, с помощью которой он, одолев преследовавшую его многие десятилетия несправедливую судьбу, сделал в конце концов свою жизнь такою, какою хотел, он «сделал», когда счел это нужным, и свою смерть[49].
* * *
Вскоре после кончины Фета начался и решительный поворот в литературной судьбе его поэтического творчества.
После выхода I выпуска «Вечерних огней» Страхов в коротком отзыве на него написал: «Не всякому времени дается чувство поэзии. Фет точно чужой среди нас и очень хорошо чувствует, что служит покинутому толпою божеству»[50].
И в самом деле, в 80-е годы в отличие от 40-х гонения на стихи не было. Они в изобилии печатались в журналах, выходили отдельными сборниками, но художественный уровень всей этой массовой продукции по сравнению с великими образцами прошлого от Пушкина до Некрасова резко понизился; они далеко уступали художественной прозе тех лет, занимая в иерархии литературных родов весьма скромное место. Положение резко изменилось в 90-е годы и в особенности в первые десятилетия XX века. Уже в середине 90-х годов в литературе выступило несколько крупных поэтов, создателей нового, неоромантического течения — русского символизма, в значительной степени именно на лирике Фета воспитавших в себе «чувство поэзии» и потому сумевших поднять культуру стихотворной речи на новую высокую ступень, снова вывести, стихи в первые ряды литературы. Зачинатель в «вождь» нового течения, Валерий Брюсов демонстративно ориентировался на образцы западноевропейского, преимущественно французского «декадентства», но вместе с тем «проповедовал», помимо Тютчева, и Фета[51]. И это было вполне закономерно.
Никакой прямой связи с западноевропейским модернизмом у Фета не было. Его достаточно широкие литературные симпатии не простирались, однако, дальше Гейне и Гюго. Но за свою долгую жизнь в литературе он, следуя внутренней логике русского литературного развития и совершенно независимо от развития той же французской поэзии второй половины XIX века, прошел типологически сходный путь. Уже почти с самого начала, с 40-х годов, романтизм Фета — его поэзия, способная улавливать «момент, самобытно играющий собственною жизнию»[52] (основная, по Фету, задача истинного искусства), неуловимо музыкальные впечатления, зыбкие душевные движения в их, как и в природе, окружающей человека, «трепете», «дрожи», живой динамике переливов красок и звуков, «волшебных изменений милого лица», «непрестанных колебаниях», «переходах, оттенках», диалектическом сочетании противоположностей — был окрашен чертами, которые значительно позднее получили название «импрессионизм». По утонченности поэтического восприятия, в частности особенной чуткости к ароматам, Фет — явление, аналогичное Бодлеру и Верлену. Ощущение им «музыки» как гармонической первоосновы жизни и искусства равнозначно знаменитому лозунгу Вердена «De la musique avant toute chose» («Музыка прежде всего»). С Бодлером роднит его и культ красоты, однако принципиально противопоказанной, по Фету, каким-либо «цветам зла».
Вообще в отличие от западноевропейских «декадентов» мир поэзии Фета — романтический вариант пушкинской поэзии действительности — не содержит в себе «ни тени болезненности, никакого извращения души… Недаром он питает такую великую любовь к Горацию и вообще к древним; он сам отличается совершенно античною здравостью и ясностью душевных движений, он нигде не переходит черты, отделяющей светлую жизнь человека от всяких демонических областей. Самые горькие и тяжелые чувства имеют у него бесподобную меру трезвости и самообладания»[53]. И, за немногими отдельными исключениями (например, стихотворение «Добро и зло»), это так и есть. Это же отличает его и от «декадентских» моментов, в изобилии имевшихся в русском символизме. Но чувству поэзии, чувству красоты учились у Фета, помимо Брюсова (фетовские традиции в его поэзии, сказавшиеся в ней с самого начала и до самого конца, очень велики и разнообразны), все крупнейшие поэты и художники русского символизма — и Бальмонт, и Андрей Белый, и Александр Блок. Белый характерно вспоминает, как Фет его, тогда восемнадцатилетнего юношу, посвятил в тайны поэзии: «Встреча с поэзией Фета — весна 1898 года; место: вершина березы над прудом: в Дедове; книга Фета — в руках; ветер, качая ветки, связался с ритмами строк, заговоривших впервые»[54].
«Вечерние огни» Фета стали утренней зарей и для творчества Александра Блока. Ощущение Фетом «музыки» мира, своеобразно преломившееся в поэзии Блока и в его лирической публицистике, песенный лад и строй фетовской лирики, мотивы «радости-страданья», отдельные фетовские образы (к примеру, ими насыщена блоковская «Ночная Фиалка»), лексика, интонационные ходы — все эти схожие черты свидетельствуют о преемственной связи поэтов. Как видим, поэзия Фета явилась наиболее живыми еще более непосредственным, чем поэзия Тютчева, связующим звеном между двумя завитками спирали — русским романтизмом первых десятилетий XIX века и неоромантизмом рубежа XIX–XX веков, между Жуковским и Блоком.
Со времени русского символизма лирика Фета перестала быть достоянием лишь узкого круга друзей его музы, прочно вошла в сознание «всего интеллигентного мира».
Однако окончательно определилась сложная и такая нелегкая для поэта литературная его судьба только в наше время. «Народность» стихам Фета — их все растущую на наших глазах популярность принес, на первый взгляд парадоксально, но, по существу, вполне закономерно, как раз тот новый общественный строй, который, в представлении самого Фета, и в особенности Фета-Шеншина, должен был повести к неминуемой гибели не только его творчества, но и всего искусства мира красоты — вообще.
В этом отношении характерны строки одного из современных советских поэтов, метко очерчивающие весьма широкие границы этой популярности: «Вдали от всех парнасов и мелочных сует» поэта равно «врачуют» своим классическим стихом «ночующие» с ним в его «селе глухом» Некрасов и Афанасий Фет[55].
Кое-кто в пылу увлечения шел даже дальше, готов был считать Фета чуть ли не значительнее Некрасова. Это, конечно, глубоко неверно во всех отношениях. Исторически Некрасов и Фет, которого Чернышевский справедливо считал вторым после Некрасова по силе дарования из всех современных ему поэтов[56], в отношении «духа века»; как он проявлялся тогда в поэзии, — единство противоположностей. В период острой идеологической борьбы между революционными демократами и их противниками это единство имело резко антагонистический характер. Сохраняло оно его и в последующие десятилетия. Стоит напомнить, что во время революционного подъема 1905 года и наступившей за ним реакции творчество наиболее крупных поэтов символизма, в какой-то мере даже Брюсова и особенно Андрея Белого и Блока, стало развиваться в направлении от Фета к Некрасову.
Однако в наши дни, в силу природы нашего социалистического общества, историческое единство противоположностей: Некрасов — Фет обретает гармонический характер. Они уже не противостоят друг другу, а один другого восполняют. Некрасов — величайший в нашей поэзии XIX века носитель гражданской — революционной — мысли и слова. Лирика Фета не только доставляет огромное эстетическое наслаждение. На лучших образцах ее можно, как подчеркивали и сам Некрасов, и Чернышевский, и Лев Толстой, и Страхов, учиться «чувству поэзии», восприятию и постижению прекрасного.
Ныне, когда так остро стал вопрос о важности, наряду с гражданским, патриотическим, и эстетического воспитания всего советского народа, подрастающих поколений, — поэзия Фета обретает еще большее значение.
Ранние годы моей жизни
I
Как бы педагоги и физиологи ни отнеслись к словам моим, я буду настойчиво утверждать: первым впечатлением, сохранившимся в моей памяти, было, что кудрявый, темно-русый мужчина, в светло-синем халате на черном калмыцком меху, подбрасывает меня под потолок, и мне было более страшно, чем приятно. Самые черты лица этого человека твердо врезались мне в память, так что я узнал его двадцать лет спустя, хотя в течение всего этого времени не видал даже его портрета. Этот человек был родной брат матери моей, сын Дармштадтского обер-кригскомиссара Карла Беккера, носивший в России имя Эрнста Карловича, точно так же, как мать моя, до присоединения к православной церкви, носила название Шарлотты Карловны[57]. Но как восприемником ее был родной брат отца моего Петр Неофитович, то мать в православии называлась Елизаветой Петровной. Такое светлое пятно на непроницаемом мраке памяти моей в данное время почти невероятно, так как мне не могло быть более 1 1/2 года от роду. Конечно, я ничего не помню, каким образом дядя Эрнст прибыл к нам в Новоселки и снова уехал в Дармштадт. Точно так же, как память моя до самых слабых сумерков своих находит лики моих родителей и моего крестного отца, дяди Петра Неофитовича, — я не помню времени, когда бы при мне не было крещеной немки Елизаветы Николаевны. Равным образом не помню нашего переезда во Мценск, в наемный дом с мезонином, по случаю службы отца в должности уездного предводителя дворянства. В этот период ребяческая память сохранила несколько совершенно ясных пятен. Так я помню прелестную девочку, сестру Анюту, годом моложе меня, и худощавого, болезненного мальчика, брата Васю, моложе меня на два года. Сестренку свою я любил с какою-то необузданностью, и когда набрасывался целовать ее пухленькие ручки и ножки, как бы перевязанные шелковинками, кончалось тем, что жестоко кусал девочку, и та поднимала раздирающий вопль. На крик вбегала мать и сама плакала от отчаяния. Напрасно прибегала она ко всякого рода наказаниям: ничто не помогало. Однажды, услыхав крик девочки, мать совершенно потеряла голову и, схватив меня за руку, сильно ее укусила. Симпатия[58] подействовала: с той поры я уж не кусал сестру. Ту же безграничную любовь, которую внушала мне сестренка, чувствовал ко мне брат Вася. Образ отца, возникший передо мною с раннего детства, мало изменился впоследствии. Круглое, с небольшим широким носом и голубыми открытыми глазами, лицо его навсегда сохранило какую-то несообщительную сдержанность. Особенный оттенок придавали этому лицу со тщательно выбритым подбородком небольшие с сильною проседью бакенбарды и усы, коротко подстриженные. Стройная, небольшого роста, темно-русая, с карими глазами и правильным носиком мать видимо старалась угодить отцу. Но никогда я не видал ни малейшей к ней ласки со стороны отца. Утром при встрече и при прощанье по поводу отъезда он целовал ее в лоб, даже никогда не подавая ей руки. В первый раз в моей памяти я вижу отца быстро вальсирующим по нашей Мценской зале с 4-х летней Анютой. При этом волосы с сильной проседью, которые он зачесывал с затылка на обнаженный череп, длинными косицами свалившись с головы, трепались у него за спиною. Таким остался отец до глубокой старости, с тою разницей, что все короче подстригал на затылке скудные седины, сохраняя те же стриженые усы и бакенбарды и ту же несообщительную сдержанность выражения.
Изредка признаки ласки к нам, детям, выражались у него тем же сдержанным образом. Никого не гладя по голове или по щеке, он сложенными косточками кулака упирался в лоб счастливца и сквозь зубы ворчал что-то вроде: «Ну…»
Бедная мать, утрачивая вместе с здоровьем и энергию, все полнела, и хотя никогда не была чрезмерно толста, но по мере прибавления семейства все реже и реже покидала кровать, обратившуюся наконец в мучительный одр болезни.
Набравшись, как я впоследствии узнал, принципов Руссо, отец не позволял детям употреблять сахару и духов; но доктора, в видах питания организма, присудили поить Васю желудковым кофеем с молоком. Напиток этот для нас, не знавших сахару, казался чрезвычайно вкусным, и Вася, еще плохо произносивший слова: Афанасий, брат и кофей, — каждое утро подходил ко мне и тянул к своей кружке, повторяя: «Ась, бать, фофа».
Почти ежедневно через залу, где мы играли, в кабинет к отцу проходил с бумагами его секретарь, Борис Антонович Овсяников. Часто последний обращался ко мне, обещая сделать превосходную игрушку — беговые санки, и впоследствии я не мог видеть Бориса Антоновича без того, чтобы не спросить: «Скоро ли будут готовы санки?» На это следовали ответы, что вот только осталось выкрасить, а затем высушить, покрыть лаком, обить сукном и т. д. Явно, что санки существовали только на словах.
Как раз по другую сторону улицы, против нашей квартиры, в большом, сером деревянном доме помещались музыканты квартировавшей во Мценске артиллерийской батареи. В настоящее время я полагаю, что бывавший у нас тогда в гостях генерал с золотыми эполетами был артиллерийский бригадный начальник, Алексей Петрович Никитин, впоследствии инспектор резервной кавалерии и граф. В то время, я помню, в гости к сестре Анюте приезжала с гувернанткой дочь Никитина, Лиза, которая подарила Анюте прелестную восковую куклу, открывавшую и закрывавшую глаза. Кукла эта, стоя на подставке, едва ли не была ростом больше самих девочек. По временам, вечером, съезжались у нас окрестные или зимующие в городе помещики, и пока в зале, куда детей не пускали, до полуночи играли в карты, приезжие кучера и форейторы разминались, стараясь согреться, на улице или на просторном дворе перед окошками. Увидав однажды, как они кулаками тузят друг друга, я, невзирая на свою обычную сдержанность, разразился болезненным криком, дошедшим до слуха отца, который, бросив гостей и карты, прибежал узнать, что случилось. На беду я во время плача был подвержен невольным спазматическим всхлипываниям, которые мешали твердому желанию перестать плакать.
В праздничные дни я с особенным любопытством и удовольствием смотрел, как в невысокую калитку против окон нашей детской один за другим, наклоняя голову, чтобы не зацепить высоким качающимся султаном за притолку, выходили со своими инструментами пестрые музыканты. Слышать военную музыку было для меня верхом наслаждения.
Не помню обстоятельств смерти бедного брата Васи. Впоследствии от няни, Елизаветы Николаевны, я узнал, что он погребен на Мценском монастырском кладбище.
Слуг по тому времени держали много; но выдающимся из них был камердинер отца, Илья Афанасьевич, сопровождавший его к Пирмонтским водам и в Дармштадт, откуда вместе с ними через Краков приехала в Новоселки моя мать. Впоследствии не раз она рассказывала о соляных каменоломнях Велички, где, кроме подземных улиц и жилищ из каменной соли, высечен храм, великолепно мерцающий при освещении.
Илья Афанасьевич, безусловно, подобно всем в доме, боявшийся отца, постоянно сохранял к нам, детям, какой-то внушительный и наставительный тон.
— Вам, батюшка барин, скоро надо учиться, schprechen sie deutsch, пойдете в полк да станете генералом, как Алексей Петрович, и стыдно будет без науки.
Это не мешало Илье Афанасьевичу весною из сочной коры ветлы делать для меня превосходные дудки, что давало мне возможность, конечно, в отсутствие отца бить в подаренный крестным отцом барабан, продолжая в то же время дуть в громогласную дудку.
Не могу сказать, при каких обстоятельствах мы переехали в Новоселки, но хорошо помню, что сестра Анюта заболела, и меня к ней на антресоли в детскую не допускали. Тем не. менее через Елизавету Николаевну и горничных я знал обо всем, что происходило наверху: как ежедневно приезжал туда доктор, как поставил за уши ребенку двенадцать пиявок и положил на голову пузырь со льдом. Мать не отходила от кровати ребенка, и наконец положение больной стало до того безнадежно, что на меня уже не обращали никакого внимания, и я упросил Елизавету Николаевну дозволить мне взглянуть на сестру. Та пустила меня наверх, запретивши говорить что-либо. Помнится, кто-то сказал: «Умирает». Не зная собственно, что это такое, я неслышной стопой подошел к кроватке, на которой лежала Анюта. Яркий румянец играл на ее детском лице, и большие голубые глаза неподвижно смотрели в потолок.
— Анюта, — сказал я, забывая запрещение.
Голубые глаза склонились ко мне с несомненною улыбкою, но остальное лицо оставалось неподвижно. Это было последним нашим свиданием. К вечеру того же дня девочка умерла, и мощный отец, хотя и ожидавший этого конца, упал в обморок.
В начале зимы того же года я снова помню себя во Мценске; но не на прежней квартире, а в зале какого-то купеческого дома. Помню, что на этот раз нас с матерью сопровождал не Илья Афанасьевич, а старый, еще дедовский слуга Филипп Агафонович, с которым впоследствии мне суждено было тесно сблизиться, так как он в продолжение нескольких лет был моим дядькой. Помню, что около меня часто повторялась слова: «царские похороны», но помню, что долго, и впоследствии слово «похороны» связывалось в моем воображении с чем-то, начинающимся со звука пох, вроде немецкого pochen — бухать.
Вечером во Мценске меня к матери посадили в заскрипевший по снегу возок, а затем Филипп Агафонович, держа меня на плече, тискался в соборе сквозь густую толпу народа. Помню, как хромой, знакомый нам, городничий крикнул Филиппу Агафоновичу. «Вот ты старый человек, а дурак! ребенка на такую тесноту несешь». Помню, как тот же Филипп Агафонович вынес меня обратно на паперть и сказал; «Постойте, батюшка, минуточку; я только мамашу…».
Оставшись один и увидав вокруг собора у ярких костров греющихся на морозе солдатиков, причем составленные в козлы ружья красиво сверкали, я сам захотел быть солдатом и прошел с паперти к ним.
— Ах, отцы мои небесные! — раздался надо мною голос Филиппа Агафоновича, — пожалуйте в возок, домой, домой!
На другое утро мама сидела под окошком и, глядя на проходящие толпы, утирала слезы платком. Не помню последовательности погребальной процессии, но я уже знал, что вскорости повезут тело государя Александра Павловича.
— А вот и папа, — сказала матушка.
И действительно, отец шел в своем мундире, при сабле и с красной уланской шапкой на голове. Затем последовали сани с устроенным на них катафалком под балдахином. Катафалк везли веревками многочисленные мценские обыватели; провели и траурного коня[59].
Помню себя снова на Новоселках, и с тех пор воспоминания мои проясняются до непрерывности.
Для большей наглядности домашней жизни, о которой придется говорить, дозволю себе сказать несколько слов о родном гнезде Новоселках. Когда по смерти деда Неофита Петровича отцу по разделу достались: лесное в 7 верстах от Мценска Козюлькино, Новосильское, пустынное Скворчее и не менее пустынный Ливенский Тим, — отец выбрал Козюлькино своим местопребыванием и, расчистив значительную лесную площадь на склоняющемся к реке Зуше возвышении, заложил будущую усадьбу, переименовав Козюлькино в Новоселки.
Замечательна общая тогдашним основателям усадеб склонность строиться на местностях, искусственно выровненных посредством насыпи. Замечательно это тем более, что, невзирая на крепостное право, работы эти постоянно производились наемными хохлами, как теперь производятся большею частию юхновцами[60]. На такой насыпи была построена и Новосельская усадьба, состоявшая первоначально из двух деревянных флигелей с, мезонинами. Флигели стояли на противоположных концах первоначального плана с несколько выдающимся правым и левым боками. Правый флигель предназначался для кухни, левый для временного жилища владельца, так как между этими постройками предполагался большой дом. Стесненные обстоятельства помешали осуществлению барской затеи, и только впоследствии умножение семейства принудило отца на месте предполагаемого дома выстроить небольшой одноэтажный флигель.
До того времени пришлось всем нам довольствоваться левым флигелем, получившим у нас название дома, а у прислуги хором. Что эти хоромы были невелики, можно судить по тому, что в нижнем этаже было всего две голландских печки, а в антресолях одна. Поднявшись умственно по ступеням широкого каменного под деревянным навесом крыльца, вступаешь в просторные сени, в которых была подъемная крышка над лестницею в подвал. Налево из этих теплых сеней дверь вела в лакейскую, в которой за перегородкой с балюстрадой помещался буфет, а с правой стороны вдоль стены поднималась лестница в антресоли. Из передней дверь вела в угольную такого же размера комнату в два окна, служившую столовой, аз которой дверь направо вела в такого же размера угольную комнату противоположного фасада. Эта комната служила гостиной. Из нее дверь шла в комнату, получившую со временем название классной. Последней комнатой по этому фасаду был кабинет отца, откуда небольшая дверь снова выходила в сени. Нужно прибавить, что в отцовском кабинете аршина три в глухой стене были отгорожены для гардероба. Весь мезонин состоял из одного 10-ти аршинного сруба, разгороженного крестообразно на четыре комнаты, две поменьше и две побольше. Меньшие были девичьими, а из двух больших одна была спального матери, а другая детской, выпустившей из своих стен, кроме умерших, пять человек детей[61].
Так как моя Елизавета Николаевна всею душой предана была насущным интересам многочисленных горничных, то и я, в свою очередь, не знал ничего отраднее обеих девичьих. Эти две небольших комнаты не отличались сложностью устройства, зато как богаты были содержанием! Вместо стульев в первой и во второй девичьей, с дверью и лестницей на чердак, вдоль стен стояли деревянные с висячими замками сундуки, которые мама иногда открывала к величайшему моему любопытству и сочувствию. Выдавая повару надлежащее количество сахарного горошка, корицы, гвоздики и кардамона, она иногда клала мне в руку пару миндалинок или изюминок. Изюм и чернослив не входили в разряд запретных сахарных и медовых сладостей.
Вот на этих-то сундуках вечером и в особенности рано утром со свечами усаживался на донцах с гребнями говорливый сонм горничных. В такое раннее время из уважения к нашему сну они привлекательно перешептывались. Я знал, что там передаются самые свежие новости: как вчера у отставного дедушкиного повара Игната Семеновича заболела голова, а Павел буфетчик в той же избе в своем углу стал на щипок отхватывать «барыню» на балалайке, и как Игнат Семенович два раза крикнул ему: «перестань!», а потом не посмотрел, что он с барского верха, и расколотил ему балалайку; как третьего дня хоронили мать дурочки Акулины, и как дурочка чудесно по ней голосила и причитала: «Сестрицы родимые, вскиньтесь белыми голубками, прилетайте поплакать надо мною, сиротинкой!» и т. д.
А не то, опять про жар-птицу и про то, как царь на походе стал пить из студеного колодца, и водяной, схватив его за бороду, стал требовать того, чего он дома не знает… Кажется, век бы сидел и слушал!
В пятом часу утра, уступая неудержимому стремлению к фантастическому миру сказок, я вскакивал в затемненной ставешками детской с кроватки и направлялся к яркой черте просвета между половинками дверей, босиком, в длинной ночной сорочке с расстегнутой грудью.
— Вишь ты, кому не спится-то! — говорила шепотом мне навстречу шаловливая Прасковья, пощипывая тонкий лен левой рукой и далеко отводя правою крутящееся веретено. Невзирая на такую ироническую встречу, я каждый раз усаживался на скамейке подле Прасковьи и натягивал через приподнятые колени рубашку, образуя как бы палатку вокруг своего тела. Затем начиналась вполголоса неотвязная просьба: «Прасковья, скажи сказочку».
Когда Шехерезада молчала, моя детская рука хватала ее за подбородок, стараясь повернуть ее голову ко мне, и в десятый раз повторялось неизменное: «Прасковья, скажи сказочку!»
Некоторые горничные особенно щеголяли пряжей, тонкой, как паутина, и, конечно, хлопки (очески) такой намыки были воздушны, как облако.
Зная, вероятно, по опыту, что такой хлопок может только мгновенно вспыхнуть, проказница Прасковья однажды, когда я очень надоел ей, бросила в отверстие моей палатки, т. е. в разверстый ворот рубахи, такой зажженный хлопок; не успели мы все ахнуть, как фейерверк внутри палатки потух, не причинив мне ни малейшего вреда. Но и такой рискованный урок не отбил у меня охоты к сказкам.
По вечерам, когда мама уходила в спальню рядом с нашей детскою, горничные, которым нельзя уже было через запертые сени нижнего этажа шнырять то на кухню за утюгом и кушаньем кормилице, то на дворню, то к приказчице за яблоками, охотно присаживались за гребни возобновить свою болтовню шепотом.
Я знал, что, когда дело было особенной важности, девушки бросали работу и собирались слушать решающие приговоры Елизаветы Николаевны, которая, еще плохо владея русским языком, тем не менее до тонкости знала весь народный быт, начиная с крестинных, свадебных и похоронных обрядов, и которой раньше всех было известно, что у садовника Иллариона такой касарецкий[62], какого никто не видывал.
В случае важной таинственной новости все уходили в маленькую девичью, в которой, отворивши дверь на морозный чердак, можно было видеть между ступеньками лестницы засунутый войлок и подушку каждой девушки, в том числе и Елизаветы Николаевны. Все эти постели, пышащие морозом, вносились в комнату и расстилались на пол, между прочим перед нашими кроватками и колыбельками.
Однажды, догадавшись о важном собрании, я пробрался в маленькую девичью и могу передать только то, что: отрывочно удержалось в моей памяти.
«Сам приказчик Никифор Федорович сегодня вернувшись из Мценска, сказывал: Всех бунтовщиков переловили и в тюрьму посадили. Добирались до царской фамилии, ан не на того напали. Он тут же в тюрьме-то был ряженый, они и говорят: „Не мы, так наши дети, наши внуки“. Тут-то их уже, которых не казнили, сослали со всем родом и племенем».
Отец не был против игр и даже беготни детей, но неприветливо смотрел на игрушки, даримые посторонними. «Не раздражайте желаний, — говорил он, — их и без того появится много; деревянные кирпичики, колчушки — самые лучшие игрушки».
Справедливость этого я испытывал сам. Хотя у меня и была картонная лошадь, но в воскресенье и праздничные дни, когда девичьи скамейки были свободны, с гораздо большим наслаждением запрягал их и отправлялся в далекие и трудные путешествия, не двигаясь с места. Благодетельная фантазия сильнее работает при меньшей правдоподобности, а потому и более восторгает. Эта же богиня усаживала меня верхом на колени к молодой красавице соседке нашей Александре Николаевне Зыбиной, когда последняя приезжала в гости к мама и садилась в своем светлосером шелковом платье на кресло в гостиной около дивана. Хотя, подскакивая на ее коленях, я держал в руках, как вожжи, ее жемчужное ожерелье, но должно быть, делал это достаточно осторожно, так как Зыбина несколько раз позволяла мне это катанье
Кроме колен добрейшей Александры Николаевны, у меня была еще более отрадная лошадка: грудь моего крестного отца и дяди.
Он был холостяк, нежно любил моего отца и, приезжая весьма часто верхом или на беговых дрожках за 4 версты со своего Ядрина, считал наш дом нераздельным со своим.
И отец и дядя были с мундирами в отставке: первый в уланском с малиновым подбоем на лацканах, а дядя в пехотном с красным подбоем и георгиевским крестом в петлице.
Услыхав о приезде дяди, я тотчас же бежал в кабинет отца, где обыкновенно заставал последнего в кресле перед письменным столом, а дядю — лежащим навзничь на кушетке. Поцеловавши у дяди руку, как этого требовал домашний этикет, я взлезал на кушетку и садился на грудь дяди верхом.
— Как же ты так беспокоишь дядю! — говаривал отец; но на это постоянно следовало возражение дяди.
— Ты, пожалуйста, уж оставь нас в покое. Мы с ним друг друга знаем.
Не знаю, что мог видеть дядя в моих глазах, но он всегда с улыбкой брал меня за уши, за подбородок, щеки, нос и т. д. и спрашивал: «Что это такое?» и когда я отвечал: «Нос, ухо», — дядя говорил: «Врешь, плутишка, это глаза».
Хотя у отца, до моего 15-ти летнего возраста, было, как я потом узнал, в Новоселках, Скворчем и на Тиму — всего при трехстах душах 2200 десятин, из коих 700 находилось в пользовании крестьян, тем не менее отец как превосходный хозяин мог бы жить безбедно, если бы не долги, оставшиеся еще с военной службы, вследствие увлечения картами. Уплата частных и казенных процентов сильно стесняла и омрачала и без того мало общительный нрав отца. Самые Новоселки значительно обременили его бюджет своим возникновением.
Бедная мать напрягала все усилия, чтобы избегать денежных трат, обходясь по возможности домашними произведениями, что при тогдашнем образе жизни ей удавалось почти вполне. За исключением свечей и говядины, да небольшого количества бакалейных товаров, все, начиная с сукна, полотна и столового белья и кончая всевозможной съестной провизией, было или домашним производством, или сбором с крестьян. Жалованье прислуге и дворне выдавал сам отец, но в каких это было размерах, можно судить по тому, что горничные, получавшие обувь, белье и домашнюю пестрядь на платья, получали, кроме того, как говорилось «на подметки», в год по полтинному.
Отец, и без того постоянно отъезжавший на Скворчее и на Тим, вынужден был из-за хлопот по процессу ехать в Петербург. Впоследствии он неоднократно рассказывал, как, бегая по недостатку в деньгах пешком по Петербургу, он, намявши мозоли, вынужден был, скрепя сердце, продолжать мучительную беготню. Тем не менее он привез мне венгерку с великолепными плетешками и пуговицами, матери дорогого в то время и красивого ситцу Битепажа и столовые английские часы.
Подрастая в небогатом кругу, я в торжественные визиты, по одному цвету и покрою шелкового платья, мог безошибочно назвать входящую гостью. Зыбина. Александра Николаевна, появлялась в светло-сером, Каврайская, Варвара Герасимовна, в светло-зеленом, Борисова, Марья Петровна, в муаровом коричневом и т. д. У матери нашей, вероятно, не было бы ни одного шелкового платья, если бы дядя Петр Неофитович не был нашим общим восприемником и не считал долгом класть куме золотой «на зубок» и дарить шелковое платье «на ризки».
Ко времени, о котором я говорю, в детской прибавилось еще две кроватки: сестры Любиньки и брата Васи. Назвав меня по своему имени Афанасием, отец назвал и второго за покойным Васею сына тем же именем, в угоду старому холостяку, родному дяде своему Василию Петровичу Шеншину.
Понятно, что при денежной стеснительности нечего было и думать о специальном для меня учителе. Положим, сама мать при помощи Елизаветы Николаевны выучила меня по складам читать по-немецки; но мама, сама понемногу выучившаяся говорить и писать по-русски, хотя в правописании и твердости почерка впоследствии и превосходила большинство своих соседок, тем не менее не доверяла себе в деле обучения русской грамоте. Во время моего детства Россия, не забывшая векового прошлого, знала один источник наук и грамотности — духовенство; и желающие зажечь свой светильник вынуждены были обращаться туда же. По отношению образования крепостных людей, отец всю жизнь неизменно держался правила: всякий крестьянин или дворовый по достижении сыном соответственных лет обязан был испросить позволения отдать его на обучение известному ремеслу, и бывший ученик обязан был принести барину на показ собственного изделия: овчину, рукавицы, подкову, полушубок или валенки, и только в случае одобрения работы, отцу дозволялось просить о женитьбе малого. И вот одна из главных причин сравнительного благосостояния отцовских крестьян. Что же касается до грамотности, то желающим предоставлялось отдавать мальчика к попу; но отец никогда не проверял успехов школьников, так как все счеты в заглазных имениях велись неграмотными старостами по биркам, а общие счеты отец сводил собственноручно, для чего нередко просиживал ночи, чем немало гордился, называя это своими мозолями. Тем не менее среди окружающей нас дворовой молодежи почти все были грамотными. Так буфетчик и кондитер Павел Тимофеевич в силу своей грамотности попал при распродаже дубового леса в приказчики и собственноручно записывал расход дубов и приход денег. Ему не только хорошо были известны буквы и цифры, но и знаки препинания, постоянно выручавшие его из беды. Так, когда в слове: «получено» — ножка «л» слишком близко подвигалась под брюшко «о», и читающий мог принять это сочетание за «а», — на выручку являлась запятая, указывающая, что это две буквы, а не одна. Так как литературные интересы в то время далеко затмевались кулинарными, то по причине частого поступления дворовых мальчиков в Москву на кухни Яра, Английского клуба и князя Сергея Михайловича Голицына, — прекрасных поваров у нас было много. Они готовили попеременно, и один из них постоянно сопровождал отца при его поездках на Скворчее и на Тим. Один из них, Афанасий, превосходно ворковавший голубем, был выбран матерью быть моим первым учителем русской грамоты. Вероятно, привыкнув к механизму сочетания немецких букв, я не затруднялся и над русскими: аз, буки, веди; и вскорости, двигая деревянною рогулькою по стрелкам, не без — труда пропускал сквозь зубы: взбры, вздры и т. п.
В ту пору я мог быть по седьмому году от роду и, хотя давно уже читал по верхам: аз-араб, буки-беседка, веди-ведро, тем не менее немецкая моя грамотность далеко опередила русскую, и я, со слезами побеждая трудность детских книжек Кампе, находил удовольствие читать в них разные стихотворения, которые невольно оставались у меня в памяти. Писать я тогда не умел, так как отец весьма серьезно смотрел на искусство чистописания и требовал, чтобы к нему прибегали хотя и поздно, но по всем правилам под руководством мастера выписывать палки и оники. Это не мешало мне наслаждаться ритмом затверженных немецких басенок, так что по ночам, проснувшись, я томился сладостною попыткой переводить немецкую басню на русский язык. Вот наконец после долгих усилий русские стихи заменяют немецкие. Но как безграмотному удержать свой перевод?
Так как отец большею частию спал на кушетке в своем рабочем кабинете, или был в разъездах по имениям, то я знал, что мама не только одна в спальне на своей широкой постели, но что за высокими головашками последней под образами постоянно горит ночник. Когда мною окончательно овладевал восторг побежденных трудностей, я вскакивал с постели и босиком бежал к матери, тихонько отворяя дверь в спальню.
— Что тебе надо? — сначала спрашивала мать, встревоженная моим неожиданным приходом, но впоследствии она уже знала, что я пришел диктовать свой стихотворный перевод, и я без дальнейших объяснений зажигал свечку, которую ставил на ночной столик, подавая матери, по ее указанию, карандаш и клочок бумаги. Одно из таких ночных произведений удержалось в моей памяти и в оригинале и в переводе:
Ein Bienchen fiel in einen Bach, Das sah von oben eine Taube Und brach ein Blattchen von der Laube Und warf's ihm zu. Das Bienchen schnamm danach. In kurzez Zeit sass unsre Taube Zufrieden wieder auf der Laube. Em lager hatte schon den Hahn danach gespant. Das Bienchen Kam: pik! stach's ihn, in die Hand, Puff ging der ganze Schuss daneben. Die Taube flog davon. Wem dankte sie ihr Leben?а затем мой перевод:
Летела пчелка, пала в речку, Увидя то, голубка с бережечку С беседки сорвала листок И пчелке кинула мосток. Затем голубка наша смело На самый верх беседки села. Стал егерь целиться в голубку, Но пик! пчела его за губку, Паф! дробь вся пролетела. Голубка уцелела.Не менее восторга возбуждала во мне живопись, высшим образцом которой являлась на мои глаза действительно прекрасная масляная копия Святого Семейства, изображающая Божию Матерь на кресле с младенцем на руках, младенцем Иоанном Крестителем по левую и Св. Иосифом по правую сторону. Мать растолковала мне, что это произведение величайшего живописца Рафаэля и научила меня молиться на этот образ. Сколько раз мне казалось, что Божия Матерь тем же нежным взором смотрит на меня, как и на своего божественного младенца, и я проливал сладкие слезы умиления…
Как ни страстен я был к неисчерпаемым сказкам Прасковьи, но должен сказать, что, подобно всему дому, испытывал невольное влечение к горничной или, как тогда говорили, фрейлине мама́ Аннушке. Это была прелестная, стройная блондинка с светло-серыми глазами, и хотя и она прошла через затрапезное платье, но мать наша всегда находила возможность подарить ей свое ситцевое или холстинковое и какую-нибудь ленту на пояс. Из этого Аннушка при своем мастерстве и врожденной грации умела в праздник быть изящно нарядной. Припоминая ее образ, я в настоящее время не сумел бы вернее воспроизвести его, чем словами Пушкина:
Коса змеей на гребне роговом, Из-за ушей змеями кудри русы, Косыночка крест накрест иль узлом, На тонкой шее восковые бусы…[63]Никто не мог выпрясть более тонких талек (мотков) на полотно, не уступающее батисту. Вышитые Аннушкой на пяльцах воротнички приводили в восхищение соседних барынь.
Случалось, что мама́ перед приездом гостей заставляла свою горничную в спальне переменить мне чулки; и когда, бывало, Аннушка, завязавши подвязку антом спереди, ловко пришлепнет рукою по этому анту, мне казалось, что она присадила туда астру: так хороши выходили у нее банты. Надо было видеть Аннушку разряженную на Святой недели. Однажды, видя как я неловко царапаю перочинным ножом красное яйцо, чтобы сделать его похожим на некоторые писанные, Аннушка взяла из рук моих яйцо, со словами: «Позвольте, я его распишу». Усевшись у окна, она стала скрести ножичком яйцо, от времени до времени, вероятно, для ясности рисунка, слизывая соскобленное. Желая видеть возникавшие под ножичком рисунки и цветы, я до того близко наклонился к ней, что меня обдавало тончайшим и сладостным ароматом ее дыхания. К этому упоению не примешивалось никакого плотского чувства, так как в то время я еще твердо верил, что проживающая у нас по временам акушерка приносит мне братцев и сестриц из колодца. Если бы меня теперь спросили, чем благоухало дыхание Аннушки, я бы не затруднился ответить прелестной эпиграммой Марциала — кн. III, 65:
Мальчику Диадумену
Чем от нежной кусающей яблоко девушки дышит, Чем ветерок, набежав на Корицийский шафран, Чем зацветает впервой лоза, заболевшая гроздом, Чем трава отдает, срезана зубом овцы, Чем и мирт, или жнец араб и янтарь после тренья, Чем благовонен огонь, ладан эосский куря, Чем земля, как ее окропить летним дождиком малость, Чем венок, что с волос, нардом упитанных снят, Этим дышат твои, Диадумен, поцелуи. Что же, если бы ты все их давал не скупясь?Вероятно, под влиянием дяди Петра Неофитовича, отец взял ко мне семинариста Петра Степановича, сына мценского соборного священника. О его влиянии на меня сказать ничего не могу, так как в скорости по водворении в доме этот скромный и, вероятно, хорошо учившийся юноша попросил у отца беговых дрожек, чтобы сбегать во мценский собор, куда, как уведомлял его отец, ждали владыку. Вернувшись из города, Петр Степанович рассказывал, что дорогой туда сочинил краткое приветствие архипастырю на греческом языке. Вероятно, приветствие понравилось, ибо через месяц Петр Степанович получил хорошее место чуть ли не в самом Орле. Даже за короткое время его пребывания мне казалось, что Аннушка нравится ему более, чем мне; и я заключил, что стихотворение, забытое им впопыхах на столе, начинавшееся стихами:
«Цветок милый и душистый, Цвети для юности моей»…— относилось к ней.
С отъездом Петра Степановича я остался снова без учителя. Но так как в детскую акушерка вместе с новой кормилицей принесла из колодца вторую сестричку Анночку, — меня перевели в комнату — между гостиной и кабинетом отца, получившую вследствие этого название классной. С тем вместе я поступил на руки Филиппа Агафоновича. Старик на прогулках, конечно, не мог поспеть за резвым мальчиком, величайшим удовольствием которого было забежать по саду вперед и взлезть на самую макушку дерева. Я приходил в восторг, когда приспевший Филипп Агафонович, воздевая руки, отчаяно причитал: «Ах отцы мои небесные! что ж это такое!»
Натешившись отчаянием старика, я с хохотом соскакивал с дерева. Но такие проказы случались редко: большею частию старик умел занять меня своими рассказами про нашего дедушку Неофита Петровича и бабушку Анну Ивановну, у которых съезжалось много гостей и были свои крепостные музыканты в лаптях. Как однажды бросившийся на дедушку задержанный собаками волк сильно поранил ему правую руку, которою тем не менее он в глотку заколол волка кинжалом. Как однажды, когда дедушка, по привычке, лежа в зимней кибитке на пуховиках и под медвежьими одеялами раздетый, проснувшись, громко крикнул: «Малый!» — в то время как кучер и слуга для облегчения лошадей и чтобы самим размяться на морозе, шли в гору за кибиткой; как лошади испугались этого внезапного крика, и вся тройка подхватила, даром что дело было в гору. К счастию, вожжи лежали на головашках, и дедушка, поднявшись в одной сорочке, остановил лошадей, успевших проскакать с четверть версты.
Филипп Агафонович рассказывал, что был при дедушке парикмахером и сам носил косу, отчего волосы его сохранили способность ложиться за гребнем безразлично во всех направлениях; в подтверждение этого он доставал роговой гребень из кармана и говоря: «Извольте видеть», — гладко зачесывал свои седые волосы назад.
— Были мы, — говорил он, — с вашим папашей на войне в Пруссии и Цецарии. Вот дяденьку Петра Неофитовича пулей в голову контузили, а нас-то бог миловал.
Хотя я и не без усилий читал главнейшие молитвы, но Филипп Агафонович умел упросить меня возобновить это чтение, которое, конечно, ему было приятнее беготни по саду и по лесу.
— Которую же вам прочитать, Филипп Агафонович? Вот эту, что ли? — говорил я сидящему у стола с шерстяным на толстых медных спицах чулком в руках: — Эту, что ли: «Верую во единого»?
— Эту самую, батюшка, — отвечал Филипп Агафонович, продолжая как бы медленно читать по книжке: — Бога Отца, Вседержителя…
— Филипп Агафонович, да разве вы умеете читать?
— Как же, батюшка, — говорил старик, в действительности совершенно неграмотный, — да вот глаза больно плохи, так уж вы мне, батюшка, от божественного-то почитайте.
И преодолев с величайшим трудом «Верую», я переходил к бесконечному «Помилуй мя Боже»…
Во все время моего заикающегося чтения, Филипп Агафонович, поставивши кулак на кулак, упирался лбом на эту надежную подставку и во сне громко переводил дух, сперва взасос натягивая воздух, а затем испуская его; причем губы очень внятно делали: пфу.
— Филипп Агафонович, да ведь вы меня не слушаете!
— Все время, батюшка, слушал, да уж так-то вы сладко читаете, что я задремал.
Петр Степанович, остававшийся у нас недолго, тем не менее успел начать со мною русскую грамматику, хотя часто приезжавший дядя Петр Неофитович справедливо советовал упражнять меня более в чтении. До сих пор не могу себе объяснить, почему мне так трудно давался механизм чтения? В то время мне было лет девять от роду, но, обучаясь впоследствии разным наукам, я продолжал читать весьма неудовлетворительно. Вообще трудно себе представить приемы обучения, более отталкивающие, чем те, которым подвергали мою далеко не блестящую память. Наемные учителя были равнодушны к моим успехам, и сама мать, напрягавшая все силы для моего развития, не умела за это взяться.
Помню, как однажды, когда, за отсутствием учителя, мать, сидя в классной, заставляла меня делать грамматический разбор какой-то русской фразы, и я стал в тупик, — она, желая добиться своего, громко и настоятельно начала повторять: «Какой это падеж? какой это падеж?» При этих восклицаниях находившийся в числе прислуги молодой и щеголеватый портной Меркул Кузьмич проворно растворил дверь классной и внушительно доложил: «Коровий, сударыня, у Зыбиных коровы падают».
Та же добрая мать, желая большей ясностью облегчить дело памяти и не подозревая, что ris и toum родительные падежи mare и cete — заставляла меня учить: mare — море и ris — море; cete — кит и torum — кит.
Важные мероприятия в доме шли от отца, не терпевшего ничьего вмешательства в эти дела. Было очевидно, до какой степени матери было неприятно решать что-либо важное во время частых разъездов отца. Должно быть, как лицу, ко мне приближенному, старику Филиппу Агафоновичу сшили нанковую пару серо-синего цвета.
Однажды, когда я спросил про Филиппа Агафоновича, мне сказали, что он болен, а через несколько дней, забежав в столярную, я увидал, что Иван столяр делает длинный ящик. На вопрос мой: «Что это такое?» Иван отвечал, что это гроб Филиппу Агафоновичу, заказанный с утра приказчиком Никифором Федоровичем.
Около полудня слуга, войдя в детскую, доложил о приходе Никифора Федоровича.
— Сударыня, — сказал последний, — осмелюсь доложить, домашние Филиппа Агафоновича убрали его в гроб и надели на него новую летнюю пару, ни у кого не спросясь. Теперь он уже закоченел, и ломать покойника не приходится, а как бы Афанасий Неофитович не прогневались.
— Ну, ты доложи барину, что это я позволила.
Я никогда ничего более не слыхал об этом разрешении.
В числе ближайших соседей было в селе Подбелевце семейство Мансуровых с почтенным стариком Михаилом Николаевичем во главе. От времени до времени старик приезжал к нам на дрожках, запряженных парою добрых гнедо-пегих лошадей. Старик, очевидно, передал заведывание хозяйством в руки старшего сына Дмитрия Михайловича, который по временам тоже приезжал к нам в гости и нередко с двумя сестрами смолянками[64]: Анной и Варварой Михайловнами. Это были весьма милые и образованные девушки, в особенности меньшая Варвара, до конца жизни бывшая преданною подругой моей матери, которую снабжала интересными книгами, так как отец, кроме «Московских Ведомостей» и «Вестника Европы», никаких книг не выписывал.
В семействе был еще младший брат Дмитрия Михайловича Александр, проживавший со своими книгами в отдельном флигеле, из которого изредка предпринимал одиночные прогулки по тенистому саду. Кушанье носили ему прямо во флигель, и никто не видал его за семейным столом. Говорили о нем как о больном.
Выше я упоминал о соседке Александре Николаевне Зыбиной. Во время, когда я принимал ее колена за лошадку, помню сопровождавшего ее иногда плотного супруга в отставном военном мундире с красным воротником. Дом в имении Зыбиных, снабженный Двухэтажными балконами по обе стороны, примыкал к обширному саду, одна из аллей которого вела к калитке церковной ограды. Каменная, далеко не казенной архитектуры, ядринская церковь была и нашим Новосельским приходом. Внутри церковь была расписана крепостным зыбинским живописцем; и отец, ознакомившийся с заграничными музеями и петербургским Эрмитажем, не раз указывал на действительно талантливое письмо на стенах и иконостасе. Еще теперь помню двух ангелов в северном и южном углах церкви: один с новозаветным крестом в руках, а другой с ветхозаветными скрижалями. Как удачно живописец накинул полупрозрачное покрывало на лик ветхозаветного ангела, намекая тем на учение о преобразовании.
Как часто с матерью в праздничные дни приезжали мы к обедне, по окончании которой нельзя было отказаться от любезного приглашения к зыбинскому завтраку.
Вероятно, невоздержанность в пище и спиртных напитках в скором времени до того утучнила расположенного к полноте Дмитрия Александровича, что он оставался во время приезда гостей в кабинете и никому не показывался. Все три сына его были старше меня и потому мне с ними вступать в близкие отношения не приходилось.
Кроме Зыбиных и Мансуровых, ближайшими нашими соседями были Борисовы, проживавшие в родовом имении Фатьянове, верст за 10 от Новоселок.
Низменный, рецептом протянувшийся, деревянный дом, с несоразмерно высокою тесовою крышей, некрашеный и за древностью принявший темно-пепельный цвет, выходил одним фасадом на высоком фундаменте в сад, а с другой стороны опускался окнами чуть не до земли. Комнат средних и малых размеров в длину было много, начиная с так называемой приемной, в которой помещался шкаф с книгами, и кончая самой отдаленной кладовою, куда красивая хозяйка Марья Петровна собственноручно убирала варенье и всякого рода бакалея. Кроме специального кабинета хозяина Петра Яковлевича, комнат требовалось немало для семерых детей с их няньками и мамками и соответственным числом горничных.
На том же дворе под прямым углом к старому дому стоял так называемый новый флигель, в котором в трех комнатах проживала мать владельца, добродушная старушка Вера Александровна. Она появлялась за домашний общий стол, но, кроме того, пользуясь доходами небольшого болховского имения, варила собственное сахарное и медовое варенье, которым чуть не ежедневно угощала многочисленных внуков, имена которых решаюсь выставить в порядке по возрасту: Николай, Наталья, Петр, Александр, Екатерина, Иван, Анна.
Все окрестные помещики считали Петра Яковлевича весельчаком и неистощимым шутником и забавником. По своему уменью попасть в тон каждого, по щедрости, с которою он совал деньги чужой прислуге, что в те времена не было в обычае, он был всеми любим, за пределами собственного дома, в котором за все проигрыши и неудачи искал сорвать сердце на первом встречном. Конечно, такой балагур в обществе не затруднялся позабавиться насчет заочного лица
У Зыбиных под домом была великолепная купальня, в которой растолстевший до невозможности Дмитрий Александрович в летние жары искал прохлады Борисов уверял, что перед Зыбиным в купальне на доске графин и рюмка. «Выпьет рюмку и окунется…»
Нет безумия, затеи, проделки, шутки, которой бы Петр Яковлевич не способен был предаться с полным увлечением, лишь бы на то хватило у него материальных и нравственных средств. Надо ему отдать спра ведливость, что он обладал комическим талантом, заставлявшим смеяться даже наименее сочувствовавших его проделкам.
В те времена многие из духовенства отличались невоздержностью к крепким напиткам. И вот этот-то порок сельского попа был поводом Борисову к много численным проделкам во время праздничных посещений причта. Так, напоив попа, Петр Яковлевич приказывал украсть вороную кобылу, а сам между тем одобрениями и насмешками доводил его до решимости стрелять в цель из двуствольного ружья, устраивая так, что пьяному приходилось стрелять из левого ствола, обращенного кремневого полкою к стрелявшему. На эту полку незаметно клали косу попа и, присыпав ее порохом, закрывали огниво.
— Ну, целься, батька, хорошенько! — говорили окружающие. И вслед за тем раздавался гром холостого, но двойного заряда, и приходилось тушить волосы неудачного стрелка, который вопил: «Сжег, спалил, разбойник! Сейчас еду к преосвященному с жалобой!»
Но тут подходил дьячок с известием, что вороная кобыла пропала.
— Что же, поезжай, коли на то пошло, — говорил Петр Яковлевич, — тут всего верст тридцать до Орла. Украли кобылу, так мои Разореные тебя духом домчат.
Разореными Петр Яковлевич называл шестерик бурых лошадей, на тройке которых он всюду скакал по соседям.
По данному знаку тележка, запряженная тройкою Разореных с отчаянным кучером Денискою на козлах, подкатывала под крыльцо, и челобитчик во весь дух мчался на ней за ворота. Но так как у тележки чеки из осей были вынуты, то все четыре колеса соскакивали, и жалобщик, после невольного сальто-мортале, возвращался во двор с новым раздражением и бранью. Тогда хозяин начинал его уговаривать, доказывая, что никто не виноват в его неумении обращаться с огнестрельным оружием, что с Дениски взыщется за неисправность тележки, и что в доказательство своего благорасположения он готов подарить попу кобылу, которая нисколько не хуже его прежней, хотя и пегая. Конечно, благодарности не было конца; и только на другой день по приезде домой одаренный убеждался, что вернулся на собственной кобыле, разрисованной мелом.
Смутно помню, как однажды, собрав у нас вокруг себя мужскую молодежь, Борисов читал вслух запрещенную рукописную поэму «Имам-козел». Все смеялись содержанию, состоявшему, если память мне не изменяет, в том, что корыстолюбивый Имам, желая напугать правоверных ликом дьявола, надел свежую шкуру убитого козла, которая приросла к нему и сделала его общим посмешищем.
Постепенно увеличивающаяся тучность Зыбина привела его к роковому концу.
Однажды, когда мать повторяла со мною какой-то урок, вошел буфетчик Павел Тимофеевич и доложил в неизменной форме о просьбе соседа дозволить половить рыбы под нашим берегом Зуши: «Дмитрий Александрович приказали кланяться и о здоровье узнать, приказали просить дозволения рыбки половиться и приказали долго жить».
— Неужели скончался? — спросила матушка, поднося платок к глазам.
— Точно так-с, сегодня в пять часов утра.
Жена Борисова, Марья Петровна, была весьма красивая женщина, умевшая расположить к себе интересного и влиятельного человека. При небольших средствах и постоянном безденежье безалаберного мужа она умела придать своему гостеприимству показной вид. Что же касается до домашних приготовлений, которых в те времена бывало очень много, начиная с маринованных грибов и рыб до разных солений и варений, — то в настоящее время они бы смело попали на выставку. Конечно, наша мать употребляла все усилия, чтобы сравняться в этом отношении с искусною соперницей. Напрасно добрейшая жена приказчика Никифора Федоровича, белая и румяная ключница Авдотья Гавриловна, утешала мать мою, говоря: «Матушка, не извольте беспокоиться об наших огурцах! подлинно они не хуже борисовских, но ведь у нас я подаю их рядом, а у них, когда вы пожалуете, так длинным деревянным ковшом всю кадку до самого дна перероют; все ищут огурца, чтобы был как стеклянный».
Даже по части детских игр дом Борисовых отличался разнообразием. У детей была колясочка на рессорах, отделанная совершенно наподобие большой; няньки и дети сами возили ее по саду. А у первого сына Николеньки, старше меня на два года, был небольшой клепер[65], с остриженною гривой и подрезанным хвостом.
Старшая дочь Наташа, весьма красивая девочка, была должно быть несколько моложе меня. Петр Яковлевич, в один из наших приездов, уверял, что в коляску надо заложить клепера и посадить в нее меня с Наташей — жениха и невесту; мне дать в руки трубку, а ей веер.
Помню, в какой восторг однажды пришел наш отец, которому ловкий Петр Яковлевич сумел с должным выражением рассказать, как мы с сестрою Любинькой посаженные за детским столом в отдельной комнате, отказываясь от сладкого соуса к спарже, сказали: «Это с сахаром, нам этого нельзя». Конечно, отцу и в голову не приходило, какое чувство унижения он вселял в мое сердце, выставляя меня перед сторонними детьми каким-то парием. Тут дело было не в ничтожной сласти, а в бесконечном принижений. О, как осторожно надо обращаться с чувствами ребенка!
У Борисовых детей были игрушки, которых я ужасно боялся. Это было собрание самых безобразных и страшных масок, с горбатыми красными носами и оскаленными зубами. Страшнее всего для меня были черные эфиопы с бровями из заячьего пуху. Хотя я и видел с изнанки простую бумагу, но стоило кому-нибудь надеть эфиопа, и я убегал, подымая ужасный крик.
Мне было, должно быть, около десяти лет, когда молодой Дмитрий Михайлович Мансуров женился на одной из дочерей богатых Сергеевых. Большое состояние Сергеевых, как я впоследствии узнал, шло от Лутовиновых, которые выдали двух единственных дочерей, одну за Сергеева, а другую за Тургенева.
Конечно, Мансуров женился не по любви, так как девица Сергеева, кроме несколько тяжеловесной полноты, была и хрома, чего не могла скрыть и поддельным каблуком. На свадебном обеде мать моя была одною из почетнейших гостей, но мне лично живо помнится этот обед потому, что в ряду тесно сдвинутых стульев пришлось сидеть между большими, и очень хотелось полакомиться прекрасно зарумяненными дупелями; но так как локтей поднять было невозможно, то у меня не хватило силы резать жаркое, и я напрасно щипал вилкой небольшие пряди мяса, которые удавалось оторвать.
В то время рояли еще не были распространены, и полновесную новобрачную упросили сыграть на фортепьяно.
Слушатели разместились в зале, а Борисов, ставши перед матерью моей за дверью гостиной, представлял руками месящую тесто; в этих телодвижениях нельзя было не увидать сходства с игравшею. Мать моя, без малейшей улыбки, старалась не глядеть на проказника.
В доме Мансуровых, кроме свадьбы, случились и похороны: скончался ученый отшельник Александр Михайлович, давший вольную своему крепостному слуге Сергею Мартыновичу и завещавший ему весь свой гардероб. Вероятно, хорошая слава трезвого и усердного Сергея Мартыновича побудила отца нанять его в качестве дядьки при мне.
Я давно уже спал на кровати в классной, и новый мой дядька на ночь, подобно остальной прислуге, приносил свой войлок и подушку и расстилал его на ночь.
Мне хорошо памятна зима 30 года тем, что по распоряжению отца по обеим сторонам дороги, проходившей чрез усадьбу, разложены были день и ночь курившиеся навозные кучи. Толковали, что это предохранительное средство от холеры, от которой много погибает народу. Но лично я не помню, чтобы видел такое множество похорон, какое мне позднее пришлось видеть в Малороссии в 48 году.
Однажды, лежа в кроватке в зимнюю, лунную ночь, я услыхал, как из гостиной тихо отворилась дверь в классную, и хотя говорили шепотом, тотчас же узнал голос буфетчика Павла Тимофеевича.
— Мартыныч! а Мартыныч! Ты спишь?
— А? Что такое, братец ты мой?
— Вставай, иди в людскую! Оказия, братец ты мой! Холеру поймали!
Покуда Сергей Мартынович собирался и надевал сапоги, Павел продолжал:
— У колодца поймали; пузырьки на ней нашли, что яд-то народу подливает. Старая такая, худощавая, страсть поглядеть! Сидит, крестится и чудно как-то говорит: «Я восточная».
Через полчаса Сергей Мартынович снова улегся. Поутру мы узнали, что «холеру» сдали сотскому для отправки в город. В скорости разъяснилось, что мнимая холера была запоздавшая прохожая богомолка Анна Ивановна, недавно принявшая православие и нашедшая приют у добродушной А. Н. Зыбиной. Анна Ивановна несла из Киева в пузырьке святое масло от лампады и подходила к колодцу напиться. По чрезмерной худобе и сильному иностранному выговору ее приняли за «холеру», и не умевши сказать: «я православная», она говорила: «я восточная».
Впоследствии я не раз встречал Анну Ивановну в церкви и в доме Зыбиных, и даже с подвязанною левой рукой, которую ей сильно повредили мужики, еще раз где-то принявшие ее за холеру.
Так как мне пошел уже десятый год, то отец, вероятно, убедился, что получаемых мною уроков было недостаточно, и снова нанял ко мне семинариста Василия Васильевича. В то же время отец заботился о доставлении мне общественных талантов. На мое стремление к стихам он постоянно смотрел неблагосклонно, зато музыку считал верным средством для молодого человека быть всюду приятным гостем. Решено было, что так как я буду служить в военной службе и могу попасть в места, где не случится фортепьяно, то мне надо обучаться игре на скрипке, которую удобно всюду возить с собою. Последнее мнение поддержал и отец Сергий, весьма образованный мценский священник, к тому же и музыкант; родители мои нередко прибегали к нему за советами в домашних недоразумениях. По просьбе отца моего, отец Сергий купил для меня скрипку и подговорил скрипача приезжать на урок два раза в неделю. Помню, с каким отчаянием в течение двух зимних месяцев я вечером наполнял дом самыми дикими звуками. Но судьбе угодно было избавить меня и дом от незаслуженной пытки. Во-первых, музыкальный мой учитель, вероятно, запил и перестал являться на уроки, а затем, сделавшись позднее страстным любителем птиц, я ночью услыхал удар сорвавшейся с окна клетки. Убедившись, что уронила ее кошка, пробравшаяся к щеглу, я вне себя в полумраке, за отсутствием другого орудия, схватил со стены смычок и ударил им кошку так усердно, что смычок разлетелся на куски. На другой день со слезами я похоронил в саду пестрые останки щегла.
Отец Сергий мало-помалу сделался у нас домашним человеком и не стеснялся обратиться с какою-либо исполнимою просьбою.
Так, однажды весной он писал Василию Васильевичу:
«Прогони мою досаду; Исходатайствуй рассаду».Иногда, независимо от служившего у нас в доме приходского отца Якова с причтом, отец Сергий привозил и свои церковные книги и облачение и служил всенощную с особенно назидательным выражением. Даже ходившая в. это время за матерью Поличка сказала: «Уж как отец Сергий „неглиже“ служит!», прибавив: «Никуда не оглядываясь».
Мать по временам страдала истерическими припадками, и потому мценский уездный доктор Вейнрейх иногда приезжал к нам. Воспитанник дерптского университета, он был человек и образованный, и общежительный.
Помню, как однажды доктор Вейнрейх, войдя в гостиную, положил перед матерью захваченный с почты последний номер «Московских Ведомостей», прибавив: «Здесь прекрасное стихотворение Жуковского на смерть императрицы Марии Феодоровны». И она стала читать:
«Итак твой гроб с мольбой объемлю». — Das ist in Iamben[66], - сказал Вейнрейх.Это замечание осталось мне на всю жизнь самым твердым уроком. Позднее я слушал метрику в московском университете у незабвенного Крюкова, но не помню ни одного слова из его лекций. Зато поныне узнаю ямб, прикидывая его к стиху:
«Итак твой гроб…»Могу сказать, что я с детства был жаден до стихов, и не прошло часу, как я знал уже наизусть стихотворение Жуковского.
Для возбуждения во мне соревнования в науках положено было учить вместе со мною сына приказчика Никифора Федорова Митьку. При тогдашнем дето убийственном способе обучения не могу не посочувствовать мысли посадить ко мне в класс Митьку.
Если laudaturus, laudatura[67] была какая-то мутная микстура, и Архилай, Аргизелай и Менелай и даже Лай[68] являлись каким-то клубком, в котором поймать конечную нить голова моя отказывалась, то при помощи Митьки у нас скоро развелось в доме множество пойманных птиц, которым по мере достоинства и занимаемых комнат давались подходящие названия. Так, висевшая в клетке на буфете голосистая синичка прозывалась: синица певица, красная девица, буфетница. Как раз перед окнами классной зимою в палисаднике на липовой ветке раскачивалась западня в два затвора, и когда на последнюю садились синички, заглядывавшие в затвор, глаза наши без сожаления следили за всеми движениями наиболее отважной.
— Что ж вы молчите? Что ж вы молчите? — повторяет Василий Васильевич: — Вы не умеете склонять mus[69]? Митька, склоняй!
Но мы оба с Митькой увидали, что синицу захлопнуло западней, и по колено в снегу несемся вынимать драгоценную добычу.
Весною, помню, я ловил чижей, целым стадом садившихся на упомянутую липку. А так как рамы у нас были подъемные, то, повесив за окном клетку с чижом, я приподымал окно настолько, чтобы можно было просунуть тонкий прут с волосяною петлей на конце. Замечательно, что когда из трех чижей, усевшихся на клетку, один вслед за накинутою на шею петлею, трепеща, исчезал в отверстие окна, два других продолжали сидеть на клетке.
Как ни бесследно проходили томительные уроки, все-таки нельзя сказать, чтобы почерпаемые нами сведения оставались без всякого применения.
Митька оказался великим искусником в выделке оружия, и запасшись луками и стрелами, в первое время еще без железных наконечников, мы становились друг против друга, стараясь побольнее попасть в противника. Получая удары, мы сходились все ближе и ближе, громко восклицая: Гораций и Курьяций[70]. Можно благодарить Бога, что эти древнеримские бойцы не выбили друг другу глаза.
Если дядя Петр Неофитович настоятельно советовал более читать, справедливо говоря: «Можно ли учиться по книжкам, затрудняясь их чтением?», то отец, вероятно, насмотревшийся на успех чиновников-каллиграфов, настаивал на чистописании. Думаю, что в то время это было общею задачей воспитателей, так как со всех сторон родители хвастались чистописанием детей. В этом случае М. П. Борисова, заставляя своего Николеньку писать каллиграфические поздравления моей матери, возбуждала в последней не меньшее соревнование, чем несравненными соленьями и вареньями.
Но главными источниками наших с матерью мучений были каллиграфические тетрадки моих двоюродных братцев. Сестры отца моего, Любовь и Анна, были замужем. Первая за богатым болховским помещиком Шеншиным, а вторая за небогатым офицером из поляков — Семенковичем и проживала в своем наследственном имении под Орлом, на реке Оптухе. У Шеншиной был сын Капитон, а у Семенкович было двое сыновей: Николай и Александр. Вот эти-то двоюродные братцы с двух сторон присылали чистописания такой красоты, которой подражать нечего было и думать.
— Василий Васильевич, — говорила мать, со слезами подавая тетрадь учителю, — неужели вы не можете обучить ребенка такому чистописанию?
— Сударыня, — отвечал Василий Васильевич, — да ведь это все не писаное, а наведенное; это, можно сказать, один отвод глазам.
Любитель истории и поэзии, дядя Петр Неофитович продолжал восхищаться моею памятью, удерживающей с необычайною легкостью всякие стихи.
— Вот, — говорил он, — учи на память перевод Раича «Освобожденный Иерусалим»[71], и я буду платить тебе по тысяче рублей за каждую выученную песню.
Я действительно выучил наизусть почти всю первую песню; но так как корыстолюбие в такие годы немыслимо, то я набросился на «Кавказского пленника» и затем на «Бахчисарайский фонтан», найденные мною в рукописной книжке Борисовых, выпрошенной Василием Васильевичем для прочтения. По изумительной игре жизни книга эта в числе небольшой библиотеки внука Петра Яковлевича Борисова в настоящее время у меня, и я дозволяю себе сказать о ней несколько слов. Трудно определить первоначальное назначение книги в 1/4 листа, в черном кожаном переплете, в которой на первом листе почерком 18-го века написано:
«1790 года декабря 11-го взяли штурмом город Измаил, где убит сея книги хозяин, товарищ и однокашец мой приятель Иван Кузьмич секунд-майор Воинов, а я в ногу ранен».
Литературные произведения начала 19-го века внесены в эту книгу другою рукой не позже 20-х годов, и выбор их явно указывает на наклонность к романтизму.
О, какое наслаждение испытывал я, повторяя сладостные стихи великого поэта, и с каким восторгом слушал меня добрый дядя, конечно не подозревавший, что память его любимца, столь верная по отношению к рифмованной речи, — прорванный мешок по отношению ко всему другому.
Вместе с поступлением к учителю во мне стало возникать уклонение от женского влияния вообще. Великолепно вышитый кружевными мотыльками откидной воротничок кругом шеи, составлявший, быть может, в праздник гордость матери, скорее унижал меня, чем доставлял удовольствие; и хотя при проходе моем через лакейскую ученый и бывалый Илья Афанасьевич, видя меня в таком воскресном наряде, и восклицал: «Господин Шеншин, пожалуйте ручку», — мне хотелось быть настоящим Шеншиным, а не с отложным воротничком. Меня тянуло взлезть на гумне на Старостину лошадь и проехать на ней несколько шагов, просунув ноги вместо слишком длинных стремян в их путлища. Я старался в 12 часов, когда староста, приехав в людскую к обеду, ставил заседланную лошадь на крытый ворок[72], отвязать последнюю и ездить на ней кругом стен, насколько возможно шибче. При этом я однажды чуть не лишился жизни, или по крайней мере не изувечился в конец. С большого ворка в боковые отделы вели калитки настолько высокие, что самый большой человек или рослая лошадь могли проходить беспрепятственно. Смерив издали калитку глазами и считая ее достаточно высокой для проезда верхом с наклоненной головой, а разогнал и, пригнувшись насколько возможно, направил ее в калитку. Вдруг с сильнейшим ударом по левой брови и придавленный сверху к седлу, скатываюсь через круп лошади, как смятый мешок, на землю. Некоторое время я не мог даже сообразить, где я; но затем, невзирая на страшную боль в пояснице, для сокрытия следов приключения, взял лошадь за повод и привязал к комяге, откуда увел ее. Увидавши мой совершенно черный левый глаз, отец спросил: «Что это у тебя?»
— Должно быть, дурная муха укусила, — подхватил Василий Васильевич.
Святая неделя прошла совершенно сухая, хотя и холодная. Отца не было дома, и я отпросился у матери с Василием Васильевичем к заутрене в церковь. Так как каретная четверка была с отцом в отъезде, нам запрягли в рессорные дрожки пару разгонных, и по приказанию матери мы отправились с вечера в дом Ал. Н. Зыбиной, откуда должны были вместе с хозяйкой идти в церковь.
Несмотря на предстоящие часа через три разговены, у Зыбиных по установленному порядку подали великолепный ужин на зеленом конопляном масле. В доме всюду перед образами были зажжены лампадки, и наконец раздался громогласный благовест к заутрене.
В церкви среди толпы народа я узнавал и своих крестьян и прифрантившихся дворовых. Много было густых приглаженных волос уже не белых, а от старости с сильно зеленоватым оттенком. При сравнительно дальнем переходе по холодной ночи в церковь, нагретую дыханием толпы и сотнями горящих свечей, дело не обошлось без неожиданной иллюминации. Задремавший старик поджег сзади другому скобку, и близко стоящие бабы стали шлепать горящего по затылку, с криком: «Дедушка, горишь! Дедушка, горишь!»
Помню, что я очень гордился новою синей суконной чуйкой на сером калмыцком меху. Но гордиться мне долго не пришлось. Почувствовав себя дурно, я шатаясь пошел к выходу, ловя за руку не знаю как очутившегося тут Сергея Мартыновича. На паперти я упал, и не помню, как меня доставили в темный и совершенно умолкнувший дом Зыбиных. Тут Сергей Мартынович сдал меня в передней на руки какой-то женщине, которая привела меня в просторную полутемную комнату, впечатление обстановки, хотя и мгновенное, осталось в памяти моей навсегда. За широкой кроватью в углу, при мерцании нескольких лампад, выступал широкий ряд образов в богатых ризах, а в самом углу сиял огромный золотой венчик, кажется, образа Спасителя в натуральную величину.
Женщина раздела меня до белья и положила на широкую кровать, и я в ту же минуту заснул. Проснувшись при полном свете дня, я узнал, что комната моего отдыха была спальня Ал. Н. Зыбиной.
На другой день Светлого праздника к нам в дом и затем на деревню приносили образа и появлялись как говорили, «священники», хотя священник был один, даже без дьякона. Тем не менее церковнослужителей с их семьями, при многочисленности последних, набиралось человек двадцать, начиная с попадьи и дьячихи, которых можно было узнать по головам, тщательно завязанным шелковыми косынками с двойным отливом. Усердные люди (оброчники), все без шапок, приносили образа, в видах неприкосновенности святыни, на полотенцах. В числе провожатых причта неизменно появлялся седоватый и всклокоченный, с разбегающимися во рту, как у старой лошади, и осклабленными зубами, огромного роста, дурак Кондраш. Несмотря на то, что добродушные глаза его ничего не выражали, кроме совершенного бессмыслия, он непривычному взгляду внушал ужас и отвращение Но во исполнение непреложного обычая, всем, начиная с матери нашей, доводилось целоваться со всеми, до Кондраша включительно. Между тем в зале для духовенства накрывался стол, и подавался полный обед из пяти блюд. Перед обедом отец, раздавая семинаристам, одетым в новые нанковые чуйки и певшим в общем праздничном хоре, по гривенничку, расспрашивал их родителей об успехах молодежи.
— Проходит философию, — отвечал вопрошаемый, — а вот в конце года надеется поступить в богословие.
— Это хорошо, — замечал отец, — знание за плечами не тянет.
В конце недели перед домом расставлялись для крестьян обоего пола столы с пасхами, куличами, красными яйцами, ветчиной и караваями, причем подносилось по стакану водки.
Не могу забыть 140-летнего старика Ипата, который, поддерживая левою рукою дрожащую правую, до капли выпивал поднесенный ему стакан. Этого Ипата, взятого по бездетности и бесприютности из Скворчего в число новосельских дворовых, я знал уже более года. Бывало, сидит он без шапки, с густыми, зелеными, как свежая пенька, волосами, на солнышке, на углу на камне, и плетет лапоть. Каждый раз, проходя мимо старика, я испытывал желание заговорить с ним, расспрашивая о Петре Великом, которого он называл «царем батюшкой Петром Алексеевичем», прибавляя: «В ту пору был я еще парень молодой».
На вопрос мой: «Ипат, да сколько же тебе лет?» старик постоянно отвечал: «Родился коли — не знаю, крестился коли — не упомню, а умру коли — не ведаю».
Заговорив о долголетии крестьянина моей памяти, останавливаюсь на семействе дебелой и красивой кормилицы сестры Анюты, приходившей в свободное от уроков время ко мне с ребенком в классную. Это бесспорно была весьма добродушная женщина; тем не менее ее выхоленная и массивная самоуверенность вызывали с моей стороны всякого рода выходки. Так, например, зная лично ее мужа, Якова, я, обучая ее молитве Господней, натвердил вместо: «яко на небеси» — «Яков на небеси».
Конечно, всякая невежливость с моей стороны к кому-либо из прислуги не прошла бы мне даром, но я нашел способ дразнить кормилицу Афимью безнаказанно. Глядя пристально на ее белое и румяное лицо и ходя вслед за нею, я убедительно и настойчиво твердил: «Кордова, Кордова». Долго «Кордова» выслушивала мой географический урок, но наконец, вероятно, поняв, в чем дело, с неменьшей выразительностью проговорила: «И ни на что-то вы непохоже затвердили Кордова да Кордова». Убедившись, что стрела дошла по назначению, я тотчас же перешел на дружелюбный тон. Деда и прадеда ее мужа я знал лично, но, несмотря на это, часто беседовал о них с кормилицею. Оба старика уже не работали в поле, но в воскресный день я часто видал их проходящими через барский двор по направлению к церкви. Дед мужа Афимьи был сильно поседевший старик с простриженным на голове гуменцом и ходил к обедне без палки. Ему считали от роду 90 лет, но удивительно, что у его отца в густых и черных волосах не было ни одной сединки. Высокого роста, сухощавый, он проходил, опираясь на длинную палку, причем имел вид человека, сломленного в поясе на правую сторону. Афимья с улыбкой говорила: «Прадедушка рос, рос, да и покачнулся». Ему считали 120 лет. Хорошо помню, что когда дед Афимьи давно уже был снесен на кладбище, покривившийся на сторону отец его, в чистом долгополом зипуне и с длинной палкой, продолжал проходить мимо окон к обедне версты за четыре.
Заговорив о стариках, скажу несколько слов о своих Шеншиных, хотя бы о Петре Афанасьевиче Шеншине, бывшем воеводе и ездившем, как я слыхал, на лошадях, кованных серебром.
Очевидно, коренным его местопребыванием было село Клейменово, где близ церкви на белом надгробном камне написано: «Петр Афанасьевич Шеншин, скончался в 1709 году».
Согласно обычаю предоставлять меньшим членам семейства главную усадьбу, Клейменово, по смерти Петра Афанасьевича, перешло к меньшому его сыну Василию Петровичу, тогда как старшему Небфиту Петровичу досталась «Добрая Вода», где последний, выстроив дом и женившись на Анне Ивановне Прянишниковой, стал отцом трех сыновей: Афанасия, Петра И Ивана, и трех дочерей: Прасковьи, Любови и Анны. О дяде Петре Неофитовиче я уже говорил, но необходимо вспомнить и дядю Ивана Неофитовича, личность которого могла бы в руках искусного психолога явиться драгоценным образом.
Я не раз слыхал, что в свое время Иван Неофитович был одним из лучших танцоров на балах Московского Благородного Собрания. Он прекрасно владел французским языком и всю жизнь до глубокой старости с зеленым зонтиком на глазах продолжал читать «Journal des Debats»[73]. Высокого роста, но и когда я его помню, человеком лет 45-ти, он уже был нетверд на ногах и ходил, как люди сильно выпившие, зигзагами.
Входя в дом, он непременно останавливался у первого зеркала и, доставая гребенку из кармана, расчесывал свои жидкие бакенбарды и копром подымал с затылка волосы. В родственных домах, как наш и дяди Петра Неофитовича, он, усевшись на диван, тотчас засыпал, либо, потребовав тетрадку белой бумаги, правильно разрывал ее на осьмушки, которые исписывал буквами необыкновенной величины.
При такой работе он всегда пачкал пальцы в чернилах и, кончив бесконечные приказы старосте, кричал: «малый!» и требовал мыла и таз с рукомойником. Такое омовение рук совершалось им по нескольку раз в день, и когда он высоко засучивал рукава сюртука и сорочки, можно было на левой руке прочесть крупные пороховые буквы имени Варвара. Конечно, я не смел ни его, ни кого-либо спросить о возникновении виденного мною имени, но впоследствии мне привелось услыхать, что имя это принадлежало одной даме, дочери которой было дано полуимя Шеншиной: Шинская, и которой до ее замужества Иван Неофитович помогал.
Как-то услыхав, что Иван Неофитович женится, я, конечно, не обратил на этот слух никакого внимания.
Однажды я только что сошел с качелей, на которых попавшая за мною на очередь горничная кричала благим матом отчасти от страха высоких размахов, отчасти от чувствительных ударов, наносимых ей по поясу веревкою игривых качальщиков. Такие удары назывались «напупчиками» или «огурчиками». В толпу ожидающих очереди прибежала горничная и сказала мне: «Мамаша приказала вас звать в хоромы; приехала новая тетенька».
Боявшийся старых тетенек Любви и Анны Неофитовен, постоянно мучивших меня экзаменными вопросами, я неохотно шел и к новой тетеньке. Но новая тетенька Варвара Ивановна, расцеловавшая меня, оказалась молодою и румяною дамою со свежим цветом лица под белою бастовою шляпкой, и распространявшей сильный и сладкий запах духов. Она с первого же раза обозвала меня «Альфонсом», какое имя я сохранил в устах ее на всю жизнь.
Приехавший вместе с нею дядя не переменил для молодой жены своих привычек. Сказавши несколько слов с моей матерью, он тут же в гостиной задремал на кресле. Помню, что через год после этого на мезонине Добро-Водского дома, я заглядывал в люльку моей кузины Любиньки, а через год или два родилась ее сестра Анюта, Мужского потомства у дяди Ивана Неофитовича не было.
* * *
Если соседи по временам приезжали к нам в гости на несколько часов, то Вера Александровна Борисова, о которой я выше только слегка упомянул, приезжала к матери и гащевала иногда по целым месяцам. Располагалась она на ночлег против кровати матери на длинном диване, и тут я старался пробраться в спальню и упросить бабушку (подобно детям Борисовых, мы звали Веру Александровну бабушкой) рассказать сказочку, которые рассказывать она была великая мастерица. Понятно, что и мать наша, по случаю частых и долговременных отъездов отца, не менее нас рада была гашению доброй старушки. По середам и пятницам бабушка кушала рыбу, а потому дело иногда бывало не без приключений. На половине карася или окуня Вера Александровна вдруг жалобным голосом застонет: «Опять я, жадная, подавилась! Ох, голубчик Афоня, подойди, ударь меня хорошенько по затылку!»
Стараясь решительно помочь беде, я угощал бабушку сильным ударом по шее, за которым следовало восклицание: «Ох, спасибо, выскочила!», а с другой стороны возвышенный окрик матери: «Ты как смеешь так бить бабушку?»
Но бабушке побои были, видно, не в диковинку. Однокашник, сослуживец, а впоследствии и родственник мой Иван Петрович Борисов рассказывал, как, бывало, в Фатьянове приваженные ходить к бабушке всею детскою толпою за лакомством, они иногда приходили к ней во флигель в неурочное время, повторяя настойчиво: «Бабушка, дай варенья!» Никакие резоны с ее стороны не принимались, и толпа с возгласом: «Бабушка, дай варенья!» все ближе и ближе подступала к старухе, и когда та, выведенная из терпенья, кричала: «Ах вы мерзкие, пошли домой!» толпа ребятишек хватала ее за руки, за волосы, валила на пол и колотила, продолжая кричать: «Бабушка, дай варенья!»
Однажды, когда мать до слез огорчалась моею неспособностью к наукам, бабушка сказала: «И-и, матушка, Елизавета Петровна, что вы убиваетесь заблаговременно! Вырастут, все будут знать, что им нужно».
Сколько раз в жизни вспоминал я это мудрое изречение.
Кроме бабушки Веры Александровны, у матери часто за столом появлялись мелкопоместные дворяне из Подбелевца, бывавшие точно так же и в других домах нашего круга: у Мансуровых, Борисовых и Зыбиных. Отец, в свою очередь, был скорее приветлив, чем недоступен и горд. Так, длиннобородые, в скобку и долгополые хлебные покупатели, мценские купцы Свечкин и Иноземцев, славившиеся даже в Москве своим пивом, нередко сидели у нас за обеденным столом, и я живо помню, как краснолицый Иноземцев, р?здувая пенистый стакан пива, пропускал его сквозь усы, на которых оставались нападавшие в стакан мухи. Помню я за нашим столом и толстого заседателя Болотова в мундирном сюртуке с красным воротником и старенького его письмоводителя Луку Афанасьевича.
Великим постом отец любил ботвинью с свежепросоленною домашней осетриной, но особенно гордился хорошим приготовлением крошева (рубленой кислой капусты). Помню, однажды под влиянием любви к крошеву отец спросил подлившего себе в тарелку квасу письмоводителя: «А что, Лука Афанасьевич, хороша ли капустка?»
— Этой «копусткой» можно похвалиться.
— Что ты говоришь?
— Этой «копусткой» ангели святые на небесах питаются.
— Да ведь ты же еще не ел?
— Сейчас будем спотреблять.
Невзирая на такое радушие, отец весьма недоброжелательно смотрел на мелких подбелевских посетительниц, вероятно, избегая распространения нежела- тельных сплетен.
Из этого остракизма изъята была небогатая дворянская чета, появлявшаяся из Подбелевца иногда пешком, иногда в тележке. В последнем случае сидевший на козлах маленький и худощавый в синем фраке с медными пуговицами Константин Гаврилович Лыков[74] никогда не подвозил свою дебелую супругу Веру Алексеевну к крыльцу дома, а сдавал лошадь у ворот конного завода конюхам. Оттуда оба супруга пешком пробирались к крыльцу, и я иначе не помню Веру Алексеевну в праздничные дни, как в белом чепчике с раздувающимися оборками.
Сколько раз впоследствии она говорила мне, что в год моего рождения ей было двадцать лет от роду. Посещения Веры Алексеевны, отличавшейся благословенным аппетитом, были до того часты, что у всех моих братьев и сестер она считалась домашним человеком, так как незаметно приходила за четыре или пять верст и к вечеру летней порой возвращалась домой.
Вероятно, в подражание Борисовым отец приказал домашним мастерам сделать тоже детскую коляску на рессорах, но только двуместную без козел. За дышло коляска эта возилась легко, и я не знал лучшего наслаждения, чем, подражая самому рьяному коню, возить эту коляску. Особенно любил я катать в ней кого-либо. Так, однажды, посадивши сестру Любиньку, я свез ее под горку к риге и там на гладком току возил сестру с возможно большею быстротою. О прочности коляски может свидетельствовать то, что бывший в немилости у отца дворовый Филимон, желая показать мне ловкость лакеев, кричавших кучеру: «пошел!» и затем уже на ходу вскакивавших на запятки, догонял меня и прыгал на ходу на заднюю ось. Раза два эта проделка ему удавалась; но никому в голову не приходило, что шкворень под переднею осью не закреплен. Вдруг при новом прыжке Филимона колясочка, откинувшись назад, соскочила с передней оси и затем, падая на всем бегу передом, сбросила хохотавшую девочку на землю. Раздался пронзительный крик, и бросившаяся нянька подняла девочку, у которой подбородок оказался глубоко рассеченным, и кровоизлияние было как из зарезанной. Филимон до того испугался, что я обещал ему взять вину на себя, даже не поминая его имени.
Шрам при помощи хирурга зарос, надолго оставляя (правда, на малозаметном месте) темно-красную полоску, которая к совершеннолетию хотя и побелела, но сохранилась на всю жизнь.
Дорога из Новоселок в Подбелевец шла под гору до оврага, но по другую сторону оврага подымалась весьма круто в гору, почти с полверсты.
Бывало, когда Вера Алексеевна, припрятав в большом ридикюле гостинцев многочисленным своим детям, говорила: «Ну, мне пора домой», мы хором кричали: «Вера Алексеевна, мы вас подвезем на коляске».
— Да что вы это! — восклицала Вера Алексеевна, — вы посмотрите-ка на меня, ведь я тоже хлеб с солью; разве ваша коляска выдержит меня?
— Выдержит, выдержит! — восклицали мы, подвозя коляску к крыльцу. И чтобы прекратить все усиливающееся волнение, Вера Алексеевна с хохотом садилась в коляску, и мы без всякого затруднения везли ее с полверсты под гору до оврага. Предвидя, что придется везти Веру Алексеевну на длинную и крутую гору, мы, проезжая мимо дворовых изб, закликали с собою, кроме Митьки, еще пару мальчиков, обычно из многочисленных детей покойного Филиппа Агафоновича. Тем не менее взъезд на гору до ровного места требовал большого напряжения, и пот лился с нас ручьями; но в этом подвиге и заключалось все удовольствие.
Однажды Митька, к великой радости моей, принес копье, на которое кузнец насадил железный наконечник, и так как наискось против крыльца дома стоял пустой флигель, бывший когда-то на моей памяти малярной мастерской, то мы уходили в него и, начертивши углем на дверях круги с черным центром упражня- лись в метании копья.
Но видно умножающееся семейство заставило отца повернуть этот флигель в жилое помещение. С этою целью навезли лесу и досок, и флигель при помощи дощатых перегородок вокруг центральной печки получил четыре комнаты, т. е. переднюю, приемную и две спальни, из которых в одной помещался отец, а другая предназначена была мне и учителю спальнею и в то же время классною.
Порою посещения Веры Алексеевны прекращались, но тогда вдруг появлялся Константин Гаврилович в неизменном фраке и кланялся в ноги матери нашей. При этом он всегда повторял: «Осчастливьте, сударыня! Позвольте Афанасию Афанасьевичу привести младенцев в христианскую веру».
— Вы говорите, младенцев, Константин Гаврилович, — спрашивала мать.
— Точно так, матушка: троих бог дал.
Затруднений к удовлетворению просьбы не представлялось, за исключением разве полтинника подбелевскому причту, расходом которого отец мог остаться недоволен при проверке счетов.
Я сам не без боязни появлялся у купели с сестрою Любинькой у подбелевского священника, заставлявшего дьячка читать символ «Веры», плохо сохранившийся в моей памяти. Но в большинстве случаев мне приходилось крестить у наших дворовых, при этом буфетчику Павлу не раз случалось разыскивать меня в саду или в поле и насильно приводить к купели, от которой я бежал, избавляясь от слова нашего приходского священника: «Читайте Верую».
Хотя отец Яков крестил меня и был постоянным духовником отца и матери, но отец смотрел на него неблагосклонно, по причине его пристрастия к спиртным напиткам, хотя о. Яков появлялся у нас в возбужденном состоянии только в отсутствие отца. Отец Яков усердно исполнял требы и собственноручно пахал и убирал, с помощью работника, попадьи и детей, свою церковную землю; но помянутая слабость приводила его к крайней нищете.
Помню, как во время великопостных всенощных, когда о. Яков приподымался на ногах и с поднятыми руками восклицал: «Господи, Владыко живота моего», — я, припадая головою к полу, ясно видел, что у него, за отсутствием сапог, на ногах женины чулки и башмаки.
Раз в год в доме у нас происходил великий переполох, когда заранее объявлялся день приезда дедушки Василия Петровича, из его села Клейменова, где он проводил лето. Зимою дедушка проживал в собственном доме в Орле, где пользовался общим уважением и вниманием властей.
Конечно, к этому дню выпаивался теленок на славу, добывалась дичина и свежая рыба, а так как он любил гольцов, то Марья Петровна Борисова присылала к этому дню живых гольцов, которых тотчас же пускали в молоко.
Так как буфетчик Павел (обучавшийся в Москве у Педоти) был в то же время и кондитер, то к назначенному дню, кроме всяких конфект, появлялись различные торты и печенья и назначались к столу наилучшие вина и наливки.
В назначенный день, часа за два до приезда дедушки, появлялась крытая, запряженная тройкой бричка, и из нее выходили камердинеры и рыжий, рябой, с бельмом на левом глазу, парикмахер Василий. Люди эти, немедля отставив от стены в гостиной кресла, раскидывали около нее складную деревянную кровать, накладывали на нее перину и сафьянный тюфяк и расстилали перед нею персидский коврик. Затем, убрав постель бельем, накрывали ее розовым шелковым одеялом; затем парикмахер приносил и ставил в передней на окно деревянный раскрашенный болван для парика, а камердинер ставил на подоконник в столовой серебряный таз с кувшином и такою же мыльницей. Часов в 11 из-за рощи появлялась двуместная, гнедым цугом запряженная желтая карета, на запятках которой стояли в треугольных шляпах и гороховых ливреях два выездных лакея. На последней ступеньке каменного крыльца ждал наш отец, и когда карета останавливалась, спешил к ее дверцам, чтобы помочь дедушке выйти. Мать стояла обычно или на верхней, или на второй ступеньке крыльца и старалась поймать руку дедушки, чтобы поцеловать ее; но каждый раз со словами: «Что это ты мать моя!» он обнимал и целовал ее в щеку. Нечего прибавлять, что мы считали за великое счастье поцеловать руку дедушки.
К приезду дедушки в дом съезжались ближайшие родные: два его племянника Петр и Иван Неофитовичи и родная племянница Анна Неофитовна. Любовь Неофитовна, по отдаленности места жительства, приезжала только крестить моих братьев и сестер вместе с дядею Петром Неофитовичем.
Так как дедушка был старинный охотник и, содержа псарню, в хорошую погоду выезжал в легком экипаже послушать гончих и посмотреть на резвость собак, то в случае пребывания его в Новоселках более суток, отец приглашал его послушать на ближайшей опушке леса наших гончих и посмотреть наших борзых.
Помню, как однажды запуганный заяц, пробираясь из лесу в другой, набежал на самые дрожки дедушки и на минуту присел под ними; а другой подбежал в том же направлении по меже, близ которой отец пешком стоял с своею свитою. Желая вовремя показать собакам зайца, отец бросился во всю прыть зайцу наперерез; но собаки раскидались, и заяц, помнится, ушел. Тем не менее сцена эта позабавила деда, и первыми словами его на крыльце к отцу было: «Как ты, брат, прытко побежал! У мужика куча детей, а он бегает как мальчик».
Изо всех, подобострастно выслушивавших суждения деда о разных делах и главное сельскохозяйственных, только один Петр Неофитович не стеснялся возражать старику, когда считал его речи неосновательными. На кроткие замечания отца, что дядя может рассердиться, Петр Неофитович отвечал: «А какое мне дело! Я ничего не ищу и кланяться ему не стану».
Во время объездов племянников дедушка заезжал на день к Борисовым, и бабушка Вера Александровна сказывала, что детям было строго приказано стоять в два ряда по ступенькам крыльца и низко кланяться, когда Василий Петрович будет по ним всходить.
Так как дедушка знал, что нам запрещены конфекты и вообще сладкое, то он и нас, и борисовских детей каждое утро оделял апельсинами.
В свою очередь, отец и мать отправлялись в Клейменово благодарить дедушку за сделанную честь.
* * *
Между тем и Василий Васильевич, подобно Петру Степановичу, получил место сельского священника, и я снова пробыл некоторое время без учителя.
Но вот однажды прибыл новый учитель, высокий брюнет, Андрей Карпович. Это был человек самоуверенный и любивший пошутить. Прибыл он из дома богатых графов Комаровских, принимавших много гостей, почему Андрей Карпович любил повторять, что видел у Комаровских «сокращение света».
Если Петра Степановича и Василия Васильевича вне класса должно было считать за немых действующих лиц, то Андрей Карпович представлял большое оживление в неофициальной части своей деятельности. Правда, и это оживление в неурочное время мало споспешествовало нашему развитию, так как система преподавания «отсюда и досюда» оставалась все та же, и проспрягав быть может безошибочно laudo[75], мы ни за что не сумели бы признать другого глагола первого спряжения. Протрещав с неимоверной быстротою: «Корон, Модон и Наварин» или «Свевы, Аланы, Вандалы с огнем и мечом проходили по Испании», — мы никакого не отдавали себе отчета, что это такие за предметы, которые память наша обязана удерживать. Не помогало также, что, когда мы вечером на прогулке возвращались с берега реки между посевами разных хлебов, Андрей Карпович, слегка нахлестывая нас тонким прутом, заставлял твердить: panicum — гречиха, milium — просо.
Но наибольшую живость характера Андрей Карпович высказывал по отношению к Сергею Мартыновичу.
Почему-то оба эти совершенно здоровых человека вообразили себя чахоточными и, налив часть бутылки дегтем, заливали ее водою и, давши ей настояться на чердаке флигеля, пили утром и вечером по рюмке, уверяя, что это очень здорово. Андрей Карпович, будучи скрипачом еще в семинарии, привез с собою скрипку в футляре и сначала упражнялся по вечерам на этом язвительном инструменте один, но потом, сообразив, что играть вдвоем было бы и поладнее, и благозвучнее, подбил и Сергея Мартыновича на занятие музыкой. В кладовой нашлась моя скрипка, но без смычка. Тогда обратились к Ивану столяру, который устроил березовый смычок, вставив в него прядь волос, вырванных мальчишкой-конюхом из хвоста рабочей лошади. Канифоли у Андрея Карповича было довольно, а для своей скрипки Мартыныч прибегал к смоленому горлышку донской бутылки. Большого труда стоило Андрею Карповичу обучить Сергея Мартыновича тем двум единственным ладам, которые подпадали под его исполнение в неистощимой «барыне», этом цветке и вершине веселости русского лакея. Зато с каким наслаждением Сергей Мартынович каждый вечер волнообразно пускал свой смычок по этим двум нотам, в то время как смычок уносящегося в выспрь Андрея Карповича выдергивал из «барыни» самые отчаянные возгласы. Этот концерт только почерпал новые силы в окриках Андрея Карповича: «Валяй, валяй, Мартыныч!» При этом оба, и наставник, и ученик, страстно приникая левой щекой к скрипке и раздувая ноздри от удовольствия, с азартом подлаживались друг к другу, и в то время как качающийся смычок Мартыныча производил неизменное: ури-ури, — нарезающий и проворный смычок Андрея Карповича отхватывал: титирдити-титирдити.
Если Андрей Карпович охотно сопровождал нас летом на прогулках, а зимою в теплицы и мастерские, то я не помню, чтобы он участвовал в народных забавах и играх, которым мы предавались уже под исключительной охраной Сергея Мартыновича. Так, на масляной, когда ловкие столяры взвозили на гору Новосельской усадьбы не салазки, а большие сани и, насажав на них десятки разряженных баб, неслись несколько сот сажень с возрастающей быстротой, мы неизменно были на головашках в числе хохочущих седоков. На «сорок мучеников» и мы выходили на проталину к дворовым мальчишкам с жаворонками из белого теста и, подбрасывая их кверху, кричали: «Чувиль-чувиль жаворонки!»
На «красную горку» мы не пропускали хороводов и горелок, а в троицын день шли к разряженным бабам в лес завивать венки и кумиться. Последнее совершалось следующим образом: на ветку березы подвешивался березовый венок, и желающая покумиться женщина вешала на шнурке в середину венка снятый с шеи тельник; затем кумящиеся становились по обе стороны венка и единовременно целовали крест с двух сторон, целуясь в то же время друг с другом. Тут же по прогалинам бабы разводили огни и на принесенных сковородах изготовляли яичницу. Покумившиеся оставались кумом и кумою на целый год. На закате солнца вся пестрая толпа в венках шла к реке, распевая:
Кумитеся, любитеся, Любите меня, Вы пойдете на Дунай реку, Возьмите меня.Параллельно с занятиями науки шла и охота за птичками. Мы с Митькой очень хорошо знали, что птичка, спугнутая с яиц, бросит их высиживать, а по- тому, разыскавши в садовых кустах или в лесу птичку на яйцах, мы довольствовались наслаждением видеть, как она неподвижно припадает на своем гнездышке, недоверчиво смотря блестящими глазками на любопытных, очевидно, не зная наверное, открыта ли она или нет. Но когда молодые уже вывелись, птичка не покидает детей даже спугнутая с гнезда.
Помню, однажды дворовые мальчишки поймали на гнезде серенькую птичку, похожую несколько на соловья, и принесли ее вместе с гнездом, наполненным молодыми пичужками, которых было штук восемь. Мы, не зная, как помочь беде, вложили гнездо с детьми в соловьиную клетку, и когда посаженная туда же птичка немного успокоилась, отворили ей дверку.
В это время в доме почти у каждого окна стояло принесенное садовником из оранжереи лимонное или померанцевое дерево с плодами и в цвету. К величайшему удивлению и радости нашей, птичка-мать, выбравшись из клетки, ловила на оконных стеклах мух и, возвращаясь в клетку, совала их в раскрытые желтоватые рты птенцов. Продолжая опыт, мы вывесили клетку с растворенной дверкой на двор за окно и к величайшей радости увидали, что птичка, наловя на воле насекомых, по-прежнему возвращается с ними в клетку. Не менее забавно было видеть в комнате, как птичка учила оперившихся птенцов летать, поощряя их к тому своим примером и громким зовом. Сначала она звала их таким образом со стула на ближайший стул; затем, увеличивая пространство, садилась наконец на сучок померанцевого дерева и назойливо звала их к себе. Когда птенцы стали летать совершенно свободно, мы выставили их в растворенной клетке за окно, и они вместе с матерью улетели.
С некоторых пор наше внимание обращали на себя птички, с виду похожие на овсянку, только кофейного цвета, как соловей, и с прелестным красным нагрудничком. Мы называли их вьюрками. Мягкий камень фундамента близ крыльца, осыпавшись от ненастья, представлял продолговатое углубление вроде грота. Не знаю, чего искали краснозобые вьюрки под этим навесом, но редко можно было спуститься с крыльца, не видавши сбоку нарядных хлопотуний.
Наши попытки захватить птичек под их крошечным навесом были, очевидно, напрасны. Птички не попадались ни в расставленные пленки и не шли, когда мы под углублением устроили сетку, чтобы накрыть птичек.
Помню, как однажды в минуту, когда, сойдя с крыльца, я косился на крылатых гостей, по дороге за флигелем на своем темном клепере промчался Николинька Борисов в сопровождении, как тогда говорили, Ваньки доезжачего, хотя этому Ваньке было за тридцать лет. Старше меня двумя годами, Николинька смотрел на меня с высоты величия, как на ребенка, и потому я нимало не удивился, что он не удостоил заехать и остановиться около меня. Но мне видно было, что оба верховых на минутку останавливались между конным двором и дворовыми избами, и что когда барчук проехал дальше, Ванька, размахивая рукою, чтото рассказывал кучеру Никифору. Минут через пять в лакейской уже говорили, что Николая Петровича Ванька повез будто бы отыскивать неизвестно куда скрывшегося Петра Яковлевича, а покуда им седлали лошадей, в саду у них рассмотрели, что Петр Яковлевич повесился на дереве.
На другой день от Борисовых вернулся отправленный туда матерью кондитер Павел Тимофеевич и, еще более заикаясь от волнения, рассказал следующее: «Сидел я у крыльца на лавочке, когда Петр Яковлевич с трубкою в руках прошли мимо меня после утреннего чаю; но миновав дом по садовой дорожке, вернулись назад и, подавая мне докуренную трубку, сказали: „Отнеси в дом“, а сами вслед затем пошли в сад. Я уже успел сварить целый таз вишен и накрыл варенье ситом от мух, как идет буфетчик Иван Палочкин и говорит: „Тимофеевич, не видал ли ты барина? Стол накрыт, и барыня приказала подавать суп; а барина все нет. Он никогда так долго не гуляет“. — „Пошел, говорю, от меня еще утром в сад, а больше я его не видал“. — Смотрю, барыня отворила окошко и, услыхавши наш разговор, крикнула: „Павел, голубчик, поищи Петра Яковлевича“. Тут я со всех ног побежал по саду. Вижу навстречу идет старик садовник и как-то странно машет руками себе под бороду, и еще издали закричал: „Вон он в березовой роще висит, удавился“. Пробежал я туда, вижу, люди бегают и кличут его по саду, а там уж и кликать-то некого. Вернулся к господам и не знаю как сказать обиняком. Сказал обиняком-то, — и жена об земь, и мать об земь. И не приведи господи!»
Вернулся отец наш с поездки на Тим, где затевалась дорогая плотина для большой мельницы.
Подъехал и дядя Петр Неофитович, и за перегородкой из классной, я слышал ясно, как дядя говорил:
— Положим, великая беда стряслась над Борисовыми, но не понимаю, для чего ты принимаешь их дела под свою опеку. Детей у тебя немало, и дела твои далеко не в блестящем виде; а взять на свое попечение еще многочисленное семейство с совершенно расстроенными делами, — едва ли ты с этим справишься.
— Но нельзя же, — возражал отец, — оставить в поле погибающего человека. Без сторонней помощи это семейство погибнет. Ведь последняя-то девочка Анюта осталась году.
— Все это так, но ты, кажется, поучился насчет опек, во время предводительства, над Телегинским делом. Ты доверился мошеннику секретарю Борису Антонову, а тот имение разорил и по сю пору, попавши под суд, сидит во мценском остроге, а на твое-то имение по этому делу наложено запрещение. Поди-ка, скоро ли его с шеи скопаешь!
— Знаю, брат, знаю, — говорил отец, — но что хочешь, говори, хоть ты там «Утушку» пой, я не могу не помочь этому несчастному семейству. Борисов убит, в этом не может быть сомнения, и если никто за это дело не возьмется, то и самое преступление может остаться ненаказанным.
— Делай, как хочешь, — сказал в заключение дядя, — я знаю, что ты великий упрямец.
Уже на следующий день все четыре мальчика Борисовы были привезены в Новоселки, и Николай поступил, подобно мне, в ведомство Андрея Карповича.
Три же девочки остались в Фатьянове, под надзором мамзели, обучавшей их первоначальной грамоте и французскому языку. С борисовскими детьми прибыл в Новоселки их дядька, черномазый и кудрявый Максим, который, принося своим барчонкам утром вычищенные сапоги, непременно выкрикивал: «Петр Петрович», или: «Иван Петрович, извольте вставать, се ляр де парле е декрир корректеман»[76].
В силу этого изречения, Сергей Мартынович обозвал Максима «Селярдепарле», и это имя осталось за ним окончательно. С Николинькой Борисовым прибыл и его клепер, на котором он ежедневно катался.
Пребывание у нас Борисовых продолжалось до поздней осени, когда по раскрытии, наказании и ссылке убийц все дело было покончено. Тогда только впервые я услыхал имя молодого и красивого соседа, владельца села Воин, Петра Петровича Новосильцова, служившего адъютантом у московского генерал-губернатора князя Голицына. Видно, молодая вдова Борисова обладала искусством заслужить внимание нужных ей людей. К зиме Николай был отдан в Москву в частный пансион Кистера, а три брата его в кадетский корпус. Вслед за удалением осиротевшего семейства из нашего дома языки домашних развязались, и повесть об убийстве в соседней и близко знакомой среде разрослась в целую поэму, в которой всякий старался поместить новую подробность или оттенок. Я не в состоянии теперь указать на отдельные источники стоустой молвы, а могу только в общих чертах передать дошедшее до моего детского слуха. Ни от отца, ни от матери, ни от дяди я никогда ни слова не слыхал о потрясающем событии.
Даже в бытность мою студентом, я не раз при расспросе о дороге в Фатьяново слыхал от окрестных крестьян вместо ответа на вопрос: «К Борисову?» вопрос: «К забалованному?» Это было обычное имя Петра Яковлевича у соседних крестьян. Понятно, что соседним помещикам, не соприкасавшимся со сферами лакейских и девичьих, знакома была только забавная сторона Борисова. Так во время моего студенчества проживавший в Москве у Большого Вознесения и баловавший меня Семен Николаевич Шеншин часто говаривал: «Веселый человек был покойный Петр Яковлевич. Бывало, на дрожках тройкой с колокольчиками и бубенчиками приедет и скажет: „Ну, господа, продал гречиху и хочу проиграть вам деньги“. А затем к утру, проигравшись до копейки, сядет снова на свои дрожки и, зазвеня колокольчиками и бубенчиками, умчится во весь дух».
Про него же не раз рассказывал мне, студенту, проживавший на Якиманке в великолепном собственном доме старый Михаил Федорович Сухотин.
«Такого исправника, — говорил он, — каким был Борисов, нам не нажить. Бывало, как узнает о краже лошадей или другого добра, сейчас же возьмется за славного вора старика Шебунича. Тот, бывало, хоть запори его, своих не выдаст. „А, не знаешь! Крикнет Петр Яковлевич: топи овин! коптить его!“ И вот в самом густом дыму, зацепленный за ногу веревкой, Шебунич висит на перемете. Тут уж некогда запираться, и все разыщется».
Но никто кроме прислуги не знал, как весело проигравшийся Борисов возвращался домой на тройке Разореных. Голос у кучера Дениски был звонкий, и он, как бы развеселясь, подъезжая к дому, еще на выгоне за полверсты кричал: «Эх вы, Разореные!», извещая этим домочадцев о приезде барина, которому в это время никто не попадайся.
Воздерживаюсь от передачи жестоких выходок забалованного самодура. О них может дать некоторое понятие его отношение в минуты раздражения к собственной семье. Находя пирожки к супу или жаркое неудачным, он растворял в столовой окно и выбрасывал все блюдо борзым собакам, причем не только жена и дети, но и мать Вера Алекс, оставались голодными.
Позднее из разговоров Андрея Карповича, Сергея Мартыновича и остальной прислуги я узнал следующие подробности.
У борисовского повара Тишки была сестра, девушка, состоявшая в любовной связи со стремянным Ванькой, сопровождавшим Николиньку при проезде через Новоселки в день убийства. С этой девушкой Борисов вступил в связь, к безмерному озлоблению повара и стремянного, возбужденных, кроме того, подобно кучеру Дениске, частыми жестокостями Борисова. Сговорившись между собою, эти три лица научили девушку назначить свидание в роще, и там все трое, поднявшись из густой травы, набросились на коренастого Борисова, который, при первоначальном безучастии Дениски, успел было забрать под себя перевернувшего ему галстук повара Тишку, а затем и помогавшего ему Ваньку. Говорили, что на хриплые слова Борисова: «Тишка, Ванюшка, пустите душу на покаяние! Я вас на волю отпущу!» Ванька крикнул: «Ну, Дениска, если не поможешь, первым долгом тебе нож в бок!» Тут и Дениска навалился на борющегося, и когда последний был покончен, они, изготовив петлю на веревке, перекинутой через сук, встащили его на дерево.
Ознакомившись со всем нехитростным сплетением жизни домашней жизни покойного Борисова, нетрудно было разъяснить ход преступления, в котором соучастники признались во всех подробностях. К осени все они были наказаны и сосланы.
* * *
При страсти отца к постройкам, вся Новосельская усадьба, за исключением мастерской и кузницы, передвинулась выше в гору и ближе к дому. Во время же, о котором я говорю, около кухни под лесом возникла липовая баня, крытая тесом, расписанная зелеными и темно-красными полосками. Так как, по случаю перестройки дома, матери с меньшими детьми пришлось перебираться во флигель, занимаемый отцом и моею классного, нам с отцом были поставлены кровати в самой бане, а Андрею Карповичу в предбаннике.
Впрочем, невзирая на пристройку дома, отец зачастую уезжал на Тим к бесконечному устройству дорогой плотины и крупчатки. Сестре Любиньке могло быть в то время лет семь, и родители стали заботиться о ее музыкальном образовании. В этом деле советником продолжал быть тот же домашний друг отец Сергий, который, будучи в то же время хорошим столяром, держал фортепьянного мастера и не только чинил старые, но и делал новые фортепьяна. Он-то и прислал во флигель к матери небольшие клавикорды, говоря, что для ребенка это будет инструмент вполне подходящий.
Однажды после обеда во флигеле у матери доложили о приходе фортепьянного учителя, объявившего себя вольноотпущенным музыкантом князя Куракина, причем прибавил: «Насчет жалованья не извольте беспокоиться, — что пожалуете».
Не полагаясь на собственный суд, мама тотчас отправила музыканта с запискою во Мценск для испытания к о. Сергию, который отвечал, что посланный вполне может давать первоначальные уроки. Сказавши, что до приезда мужа она не может дать окончательного ответа, мать разрешила музыканту, ночуя со слугами в передней, дождаться приезда барина, ожидаемого дня через два.
На другое утро, по снятии ставешков с окон, в спальне стало необычайно светло от выпавшего в ночь первого зазимка. Когда матери принесли кофий, она спросила: «Почему сливки поданы, вместо серебряного с барельефами молочника, в фарфоровом?». Ей сказали какой-то пустой предлог. А когда она взглянула на туалет, то под зеркалом увидала пустую подставку без часов. Это открытие повело к другим, и оказалось, что в буфетном шкафу, где хранилось все серебро, не осталось ничего. Даже графин с водкой был пуст, и половина ситного хлеба исчезла.
— Боже мой, — вспоминала мать, обращаясь к своей горничной Пелагее. — Поличка, да ведь я слышала над головою шум и окликала тебя, говоря: «тут кошка, выгони ее». А ты проговорила: «никого нет», — и легла снова.
— Барыня, да я не осмелилась пугать вас; а я как встала впотьмах да развела руками, а тут прямо кто-то мне в руки. Я подумала, что нечистая сила, да кому ж больше и быть в спальной, — так и не пикнула, а он у меня ерзь из рук. А, пожалуй, это он к серебряным окладам образов пробирался.
Конечно, по разъяснению дела тотчас же разосланы были верховые в разные стороны. Часов в 10 утра я, проходя по двору, увидал подъезжавшего верхом со стремянным и борзыми дядю Петра Ниофитовича, выехавшего по первой пороше за зайцами. Бросившись ему навстречу, я рассказал о случившейся беде.
— Разослали нарочных? — спросил дядя.
— Разослали.
— Теперь надо ждать, — прибавил дядя. — Конечно, очень неприятно; но мне жаль сестру Елизавету Петровну, на которую брат будет сердиться за такую неосторожность. Пойдем к ней.
Покуда дядя старался по возможности успокоить мать, появился один из верховых нарочных, неся в руках салфетку, завязанную большим узлом. На расспросы: что? как? — нарочный сказал: «Пустился я из дому под гору к Зыбинскому селу, торопя лошадь большою рысью; а сам все посматриваю по сторонам, нет ли следов; но так как снежок-то должно выпал под самое утро, то и следов никаких не было. У самых Зыбинских плетней на околице наехал я на бабу; она шла с гумна. „А что, говорю, тетка, не видала ли тут какого прохожего?“ — „Не видала, касатик, никакого, разве мы за ними смотрим? А вон там на гумно какой-то спит под ометом, и то только одни ноги из-под соломы торчат“. — „А можно, тетушка, поглядеть?“, — спросил я бабу. — „Чего ж, ступай, гляди“; Как увидал я, что из соломы торчат рыжие дворовые сапоги, я слез с лошади и давай будить сонного, раскидавши солому. Насилу дотолкался, вижу, пуртупьянщик и есть; я его признал да и говорю: „Ну, брат, куда девал серебро? От меня не уйдешь! Запорю арапником: ты пеший, а я конный“. — „Вот, оно, говорит отрывая в соломе этот самый узел. Ведите, говорит, меня к барыне: все цело, ни одной ложечки не потерял. А вот и часы, сказал он, вынув их из кармана. Ночью-то Пелагея меня схватила, я и отхилился от нее в полукруглую туалетную вырезку, притаив дыханье. Слышу, за спиной чикают часы: кстати, мол, думаю. Протянул руку, да в карман“».
Охотника до чужого серебра передали в полицию, и о судьбе его я более не слыхал.
Сравнительно богатые молодые Зыбины воспитывались в московском дворянском пансионе и не раз приезжали в мундирах с красными воротниками и золотыми галунами к нам с визитом, но никогда, невзирая на приглашение матери, не оставались обещать. Вероятно, желая казаться светски развязными, они громогласно хохотали за каждым словом, чем заставили случившегося в гостиной о. Сергия неосторожно сказать: «Per lisum multum…»[77] (по причине выпавшего зуба он говорил lisum вместо risum).
Когда о. Сергий вышел из гостиной, старший Николай, нахмурясь, громко сказал: «Поп-то хотел удивить своей латынью; настолько-то и мы понимаем и знаем конец поговорки: „debes cognoscere stultum“ — узнаешь дурака. И кто тут вышел дураком, неизвестно», — прибавил он, захохотав во все горло.
Зимой того же года раздражительная, но грациозная, с прекрасными русыми в две косы волосами, Наташа Борисова умерла от чахотки; а прибывший на летнюю вакацию Николинька, хотя и разыгрывал роль взрослого молодого человека и пользовался баловством Марьи Петровны и обожавшей его бабушки, тем не менее имел усталый вид, и про него все говорили: нездоров. Иногда мне случалось бывать вместе с ним у молодых Зыбиных. Тут Николинька старался без церемонии смеяться над моим сравнительным ребячеством, так как и он, и Зыбины не только свободно катались верхом, но и показно затягивались «жуковым»[78], о чем я в то время не смел и помышлять. Однако больному юноше не суждено было вернуться в Москву. Осенью того же года он скончался, подобно сестре своей, от чахотки, и погребен на семейном кладбище.
На следующий год все три брата Зыбины поступили в уланские полки, двое с малиновыми, а меньшой Александр с голубыми отворотами на мундирах. Молодые юнкера в тонких мундирах с коваными эполетами не раз появлялись в нашей гостиной, причем однажды тот же о. Сергий назвал их в глаза украшением юношества.
Дом Зыбиных во время пребывания юнкеров в отпусках представлял постоянное оживление. Со всех сторон съезжались их родственники с молодыми женами и дочерьми.
Говоря о доме Зыбиных, нельзя не упомянуть двух ближайших родственников Александры Николаевны: добродушного и вечно хихикающего родного ее брата Ник. Ник. Голостьянова и двоюродную их сестру Анну Сергеевну. Оба они были музыканты; Ник. Ник. играл на всех инструментах: на фортепьяно, скрипке, флейте, гитаре и кларнете; а Анна Сергеевна, кроме того что играла на фортепьянах, весьма приятным голосом пела романсы. Когда она по просьбе моей садилась петь, я с восторгом слушал ее, заглядываясь на ее гладко причесанную миловидную головку и стараясь не глядеть на безобразный горб, портивший небольшую ее фигурку.
В воскресенье и праздники можно было рассматривать в церкви всевозможные прически и красивые платья приезжих дам. А после обеда небольшие фортепьяны переносились из гостиной в залу, и под танцы, наигрываемые Анной Сергеевной с аккомпанементом скрипки Николая Николаевича, начинались бесконечные вальсы, кадрили и котильоны. Помню, как вальсировала моя мать, приглашенная однажды вечером Николаем Зыбиным.
Зимою во время святок веселье у Зыбиных достигало своей вершины. Помню, как однажды красавцу мальчику лет 18-ти, Голостьянову, еще безбородому, выводили на антресолях усы помадой с сажею.
В новом с иголочки синем армяке брюнет с черными выразительными глазами и наведенными усами был действительно прелестным кучером.
Один из гостей, молодой и ловкий блондин Данилов, привез с собою крепостных плясунов, для которых выписывал особенные сапоги из Москвы, так как говорили, что у обыкновенных сапог на тонких подошвах последние вылетали при первом круге, оставляя плясуна босым.
Дальние и ближние приезжие гостили по целым неделям, и общество, особенно по утрам, разделялось на две половины: мужскую и дамскую.
Первая, сойдя с антресолей, преимущественно держалась мужского кабинета и приемной, выходящей стеклянного дверью на балкон. Из той же приемной большая дверь в буфет была постоянно открыта, и там желающим наливали водку, ром, херес и наливку. Последнее обстоятельство сильно помогало шумному разговору и громкому смеху, раздававшемуся как в приемной, так и на балконе, где на столике лежало большое зажигательное стекло, для желающих закурить на солнце трубку. Помню, как второй Зыбин, Василий Дмитриевич, умевший хорошо рисовать и писать, забавлялся посредством зажигательного стекла выжиганием вензелей на деревянных колоннах балкона, выкрашенных белою краскою. В этой же приемной я удостоился увидать знаменитого мценского силача Протасова Василия Семеновича. Легенды о его необычайном росте и силе повторялись со всех сторон. Так, рассказывали, что из своего имения в город он постоянно ездил на крепких беговых дрожках, в которых запряжен был саврасый мерин.
В крутой и каменистой соборной мценской горе будет до ста саженей. Однажды Василий Семенович, подъехав к ней, сказал: «Ну, саврасый, ты много меня возил, а я тебя ни разу». С этими словами мценский Милон взвалил себе на плечи обе передние лопатки саврасого, которому осталось только послушно переступать задними ногами. Протасов втащил лошадь вместе с дрожками на гору к самому собору.
Рассказывают также, что в те времена, когда окрестности Мценска представляли чуть не сплошной лес, Василий Семенович, возвращаясь поздно вечером через Сатыевский верх, услыхал перед собою свист и затем вопрос: «Слышишь?» — «Слышу», — отвечал Василий Семенович; и когда четыре молодца бросились к нему, сказал: «Не трогайте, братцы, меня, я вас не трогаю». Когда грабители, остановив лошадь, подошли к нему, он, встав с дрожек, схватил первых подошедших и засунул одного себе под мышку, а другого в колени. Когда два остальных подоспели на выручку товарищей, он схватил и этих за волосы и, щелкнув голова об голову, бросил на землю. То же самое повторил он с защемленными в коленях и под мышкой. Затем преспокойно сел на дрожки и продолжал путь.
Мне довелось видеть состарившегося Полифема все еще в грозном, но далеко не привлекательном виде. В жизнь мою я не встречал подобного человека. Седые подстриженные волосы торчали копром на его громадной голове; белки и веки больших серых глаз были воспалены, вероятно вследствие излишне выпитых рюмок; громадный шарообразный живот, поддерживаемый толстыми как у слона ногами, одет был в поношенный коричневый суконный сюртук, оказывавшийся чрезмерно широким. Поневоле думалось, каков был Василий Семенович, когда сюртук был ему впору. Василий Семенович сидел на старинном вольтеровском кресле, с трудом в нем умещаясь. Ловкий и сильный Данилов под видом похвалы давал чувствовать старику, что время его силы невозвратно прошло.
— Что обо мне говорить! — сказал старик. — Теперь ваша взяла! Бороться с тобою я не стану, а ты вот поди да стань у меня между коленками, а я тебя ими придержу; вот ты, силач, и вырывайся руками и ногами, как знаешь, и если вырвешься, то будь твой верх; я уж с тобою мериться силой не стану.
По общей просьбе Данилов пошел на такое испытание.
Старик сжал его коленками; раза два рванувшись видимо, с крайними усилиями, Данилов сказал, при общем любопытном молчании: «Пусти, дедушка, не только я один, а если б нас и трое было, и то бы не вырвались».
Когда вследствие частых посещений буфета шум в приемной увеличился, со всех сторон поднялись голоса, обращавшиеся к Протасову с просьбой: «Дедушка, хрюкни!» Долго старик отнекивался, но наконец, остановившись посреди комнаты, стал с совершенным подсвистываньем борова хрюкать, причем непонятным образом двигал и вращал своим огромным сферическим животом.
За этим представлением на сцену появилось другое. К старичку небольшого роста Субочеву, очевидно достаточно побывавшему в буфете, подступил молодой забавник Бельков, говоря: «Ведь вот видите, как мы все вас уважаем, да и нельзя не уважать, Так как вы в 12-м году достославно исполнили поручение дворянства по сдаче в Москву сапогов для армии. Всё бы хорошо было, но одно вышло нежадно».
— Что такое? Что такое? — спросили многие, как бы не зная, в чем дело.
— Да плохо то, что, когда по отъезде нашего достопочтенного депутата хватились большого колокола У Ивана Великого, колокола на месте не оказалось. Бросились по Серпуховской дороге и догнали депутата. «Вы господин Субочев?» — «Я». Стали обыскивать, а колокол-то у него в заднем кармане.
— Как вам не стыдно! — восклицал старик дрожащим голосом, — верить подобным наговорам! Возможно ли подозревать честного дворянина в воровстве!
Ко всем зыбинским забавам следует присовокупить их 5-ти верстное катанье по льду до Мценска. Самому мне с Андреем Карповичем приходилось не раз кататься на одиночке или парой в городе с кучером Никифором, который, проезжая мимо гауптвахты, часто раскланивался с кем-то, стоявшим за сошками в грязном овчинном полушубке. На вопрос — «кто это?» Никифор отвечал: «Да это Борис Антонович Овсянников, бывший папашин секретарь, что теперь под судом».
При наших поездках во Мценск нам неоднократно попадалась тройка отличных бурых лошадей, мчавших во весь дух широкие сани, за которыми иногда, сильно отставая, скакали другие сани. Тройку бурых, которых с трудом удерживал правивший по-ямски в стойку кучер, Зыбины называли «Зарезами». Эту тройку нередко можно было видеть во Мценске перед винным погребом Шарапова. Распивая заморские вина, господа не забывали подносить водки и кучеру для смелости. Таким образом в веселии седоков, уносимых «Зарезами», сомневаться было невозможно.
В нашей скромной семье, состоявшей, за частыми отлучками отца, из матери и детей, не было никакого мужского господского элемента, и потому наши затрапезные сенные девушки сидели, как мы их видели, наверху за работой. Но у Зыбиных, где дом был разделен продольным коридором на две половины, горничные, поневоле поминутно встречаясь с мужским полом, щеголяли самыми изысканными прическами и нарядами.
* * *
В праздничные дни для меня большим наслаждением было ездить к дяде Петру Неофитовичу на его Ядрино, в котором он в небольшом, но удобном доме проживал зажиточным холостяком, ружейным и псовым охотником. Стрелки и доезжачие составляли его многочисленную и внимательную прислугу. Будучи от природы внимательным человеком, дядя был любим домашними, которые знали, что не надо только его раздражать, так как вспыльчивый, он мог оборвать человека сразу, хотя остывал в скором времени. При нем нередко проживали ближайшие мелкопоместные дворяне, составлявшие ему партию на биллиарде или в бостон.
Светлый и высокий дом, обращенный передним фасадом на широкий двор, а задним в прекрасный плодовый сад, примыкавший к роще, снабжен был продольным коридором и двумя каменными крыльцами по концам. Около левого крыльца была устроена в уровень с верхней площадкой большая каменная платформа, набитая землею. В эту землю посажены были разнородные деревья и кустарники, образовавшие таким образом небольшую рощу. Все это пространство было обнесено легкою оградой и обтянуто проволочной сеткой и представляло большой птичник. Там в углу сеялась и рожь. По деревьям развешены были скворечники, наваливался хворост. Таким образом, в этом птичьем ковчеге проживали попарно и плодились, за исключением хищных, всевозможные птицы, начиная от перепелок и жаворонков до соловьев, скворцов и дроздов.
Дядя обычно был ко мне внимателен и любил слушать мое восторженное чтение стихов. Тем не менее я сильно побаивался, чтобы он, хорошо знакомый со всеобщей историей, не задал мне какого-либо исторического вопроса. Я уже не раз говорил о слабости моей памяти вне стихотворных пределов, но если бы я обладал и первоклассною памятью, то ничему бы не мог научиться при способе обучения, про который можно сказать только стихом из «Энеиды»:
«Несказанную скорбь обновлять мне велишь ты, царица».
Все эти поверхностные облегчения не только мешают знать дело в настоящем, но приносят с собою убожество и будущему обучению. Так, знакомившись с греческим алфавитом по соображению с русским, в котором не оказывается буквы «кси», я по сей день, ища в лексиконе, затрудняюсь отыскивать место этого беглеца.
О Петровом дне, именинах дяди, в Новоселках знали заранее. Так как гостей на Ядрине ожидалось преимущественно из холостых окрестных помещиков на два или на три дня, то к нашей Новосельской кладовой над ледником приезжало несколько исправных телег на барских лошадях за перинами, подушками, вареньями, соленьями и наливками. К этому же дню, в ожидании приезда матери нашей в желтой карете шестериком, за два дня выгонялись крестьяне справлять довольно крутой и длинный спуск по лесной дороге к речке Ядринке, за которою тотчас дорога подымалась по отлогому взлобку к воротам усадьбы. В этот день дядя, державший вообще прекрасный стол, не щадил никаких издержек, чтобы угостить на славу, и мать являлась за столом на Ядрине такою же хозяйкой, какой была и в Новоселках. Вечером вся мужская компания усаживалась за карты, а мы в той же желтой карете возвращались домой.
Именинные поездки не ограничивались одним Ядриным, и раз в год родители наши считали необходимым съездить с одной стороны за 15 верст в родовое наше гнездо «Добрую Воду» к дяде Ивану Неофитовичу, а оттуда еще верст на 20 ближе к Орлу к тетке моей Анне Неофитовне Семенкович; а с другой стороны в совершенно ином направлении верст за 70, в Волховский уезд, к тетке Любви Неофитовне Шеншиной. Справедливость требует сказать, что поездки эти совершались вовсе не из родственной нежности, а ради пристойности, про которую отец говаривал, что это небольшой зверок, который, однако, очень больно кусается.
Хотя, при помощи развивавшейся с годами наблюдательности, я буду подробнее говорить ниже о дядюшке Иване Неофитовиче и тетушке Варваре Ивановне, но никакая наблюдательность не поможет мне произвести окончательный над ними суд. Мне кажется, что наиболее верно охарактеризовал его мой отец, говоря нередко: «Брат Иван Неофитович колпак». Несмотря на природное добродушие, он, назначенный опекуном некоего Бибикова, допустил совершенное разорение имения, но зато всю жизнь держал Бибикова в своем доме и одевал его и кормил со стола; но так как сам был совершенно равнодушен к гастрономии, то обыкновенно складывал в одну или две тарелки весь обед, суя в суп котлетки, зеленый соус, жареное, а пожалуй и пирожное. Так как многочисленная прислуга в лакейских только за каких-нибудь 40, 50 лет ушла от лаптей, а слова: «Малый, дай огня да льду, позови старосту», раздавались поминутно, то понятно, что, из опасения наноса в хоромы налипнувшей грязи, в большинстве передних была наложена солома для обтирания ног.
Тетушку Варвару Ивановну можно было всегда застать в ее кабинете румяною, расчесанною, расфранченною и сильно раздушенною, а дядю в его кабинете читающим «Journal des Debats».
Когда тетушка пускалась в какие-либо объяснения, она говорила весьма стремительно и неудержимо, причем не переставала заявлять, что все дела по имениям и долгам ведет она, так как «Фан Фидич» ничего не хочет делать. В потоке ее речей сторонний человек слышал только непрестанные взрывы «Фан Фидич», «Фан Фидич», как она называла мужа. Когда она с этим обращалась к моему отцу, то я удивлялся, как не замечает она иронии, с которою он смотрел на нее своими голубыми глазами. Но затем наедине с нами отец не забывал сказать: «Брат — колпак».
Однажды по приказанию отца я поехал один на «Добрую Воду». В гостиной на диване рядом с дядею застал пожилого мужика в худых лаптях и порванном кафтане.
— А, mon cher! — воскликнул дядюшка, пряча от меня за спину руку и подставляя на поцелуй жидкую бакенбарду, — это у нас Андрей; он иногда по праздникам заходит к нам с деревни.
В те времена посещения подобных божьих людей были не редкость. Бывали в то время посетители И другого, не менее жалкого рода. Не надо забывать, Что это было каких-либо двадцать пять лет спустя после нашествия Наполеона. Помню, как не раз на дворе усадьбы останавливались две или три рогожные кибитки, запряженные в одиночку, и Павел, буфетчик, подавая сложенные бумаги, заикаясь докладывал матери: «Сударыня, смоленские дворяне приехали».
— Проси в столовую, — был ответ. И минут через десять действительно в дверь входило несколько мужчин, различных лет и роста, в большинстве случаев одетых в синие с медными пуговицами фраки и желтые нанковые штаны и жилетки; притом все, не исключая и дам, в лаптях.
— Потрудитесь, сударыня, — говорил обыкновенно старший, — взглянуть на выданное нам предводителем свидетельство. Усадьба наша сожжена, крестьяне разбежались и тоже вконец разорены. Не только взяться не за что, но и приходится просить подаяния.
Через час, в течение которого гости, рассевшись по стульям, иногда рассказывали о перенесенных бедствиях, появлялось все, чем наскоро можно было накормить до десяти и более голодных людей. А затем мать, принимая на себя ответственность в расточительности, посылала к приказчику Никифору Федорову за пятью рублями и передавала их посетителям.
К тетеньке Семенкович мы ездили в ее небольшое имение под Орлом довольно редко; но зато по причине значительного расстояния в ночевку. Этот небогатый помещичий дом мог служить образцом неизменяемости и постоянства, вызвавших вероятно пословицу: «У барина живот тонок да долог».
Тетушку я постоянно помню в одном и том же платье и чепце, а единственного слугу Павла в том же темно-синем сюртучке, дома на Оптухе и у нас в Новоселках, когда он на облучке брички приезжал к нам. Следом за бричкой ехала зеленая тележка парой, и в ней сидели два молодых Семенковича, Николай и Александр, столь притеснительные для меня своей каллиграфией и ученостью, как это мне старались внушить. Конечно, старшие меня летами, полуюноши смотрели на меня несколько свысока. Впрочем, я должен отдать справедливость тетушке Анне Неофитовне в том, что ни при жизни мужа, ни овдовев, она никогда не придиралась ко мне с экзаменами, чего никак не могу сказать о тетушке Любви Неофитовне, ежегодно приезжавшей в Новоселки в неизменной желтой шали крестить детей. Она привозила с собою из-за Волхова и единственного своего сына Капитона, которого не оставляла в покое, ежеминутно восклицая: «Capiche, venez ici»[79]. Но Gapiche, мало обращавший внимания на эти возгласы, закинув кверху голову, ходил взад и вперед по комнате и подкидывал заложенными за спину руками короткие фалдочки полуфрачка с такою уверенностью, как бы это был настоящий фрак. Я очень радовался, что мать так меня не муштрует, но сильно завидовал, что на мне не полуфрачек, а куцая куртка.
* * *
Между тем дом был переделан и пристроен. Большая передняя с буфетом была присоединена к столовой, а место для буфета было отгорожено неподвижными стрельчатыми ширмами.
Моя бывшая сказочница Прасковья вышла замуж за старшего повара Сергея Яковлева и была приставлена к буфету в ограждение хрусталя и фаянса от беспощадного крушения многочисленной прислугой.
Хотя Прасковья за это время успела заметно постареть, но, видимо, не забывала своих проказ. Жертвою ее шуток сделался Сергей Мартынович, который почему-то сильно брезговал ее руками; этого было достаточно, для того чтобы Прасковья нежданно проводила у него рукою по лицу сверху вниз. Тогда Сергей Мартынович отплевывался и восклицал: «Тьфу ты мерзость какая! Прасковь! я тебе говорю, ты не смей! А то я тебе, надобно сказать, такую пыль задам! Ты, надобно сказать, самая паскудная женщина!»
За этим нередко в совершенном безмолвии следовал новый мазок по лицу.
— Самая, надобно сказать, паскудная женщина!
Сергей Мартынович, подобно буфетчику Павлу Тимофеевичу, был страстный ружейный охотник, а Павел Тимофеевич, кроме охоты на порошу за зайцами с барским ружьем, был облечен наравне с Тихоном садовником и официальной должностью ястребятника. Так как охота эта представляла и материальную выгоду, то отец обращал на нее особое внимание.
Он расспрашивал: не заметили ли над усадьбой и садом хорошего ястреба? и если есть, то надо бы его поймать. С последней целью на огороде устраивалась вышка, на которой по двум отвесным стойкам, связанным вверху перекладиной, легко двигалась четвероугольная рамка с привязанною на ней в виде колпака сеткой. Вся эта рамка за верхушку колпака приподымалась к середине перекладины и держалась на настороженном с помощью зубчатой дощечки клинушке. От этой дощечки были пропущены книзу нитки, прикрепленные к тонкому обручу, висящему на воздухе, вокруг поставленной с живыми воробьями клетки. Конечно, при малейшем прикосновении к обручу зубчатая дощечка (сторожок) соскакивала с клинушка и мягкая сеть падала, накрывая тронувшего обруч. Такое приспособление снаряда, называвшегося «кутнею», было окончательным, предварительно же верхняя сеть прочно укреплялась, и воробьи под сетью клетки выставлялись на жертву хищных птиц. Когда ястреб насмеливался летать под кутню, что бывало в определенные часы дня, то, подсторожив кутню, ждали, когда он попадется. Тут его бережно вынимали и тотчас же пеленали, чтобы, махая крыльями, он не испортил перьев. Правда, в случае перелома пера, Павел Тимофеевич обрезал последнее по самую дудку, в которую с клеем вставлял утиное; но этого он избегал, потому что в осеннюю пору, в дождливое время клей размокал, утиное перо вываливалось, и полет ястреба терял свою резкость. Пока ястреб находился в пеленках, на ноги ему надевались самые легкие и в то же время прочные опутенки (путы) из конского волоса, и к хвосту или к ноге привязывался крошечный бубенчик, дающий знать охотнику о месте, на котором ястреб щиплет пойманного им перепела. Конечно, развязанный ястреб рвался улететь с правой руки охотника, которую тот в перчатке подставлял ему, удерживая птицу за опутенки. Но вот истомленный напрасными усилиями ястреб усаживался наконец на перчатке. Он еще вполне дикая птица, чуждающаяся человека, что видно по его белым перьям, пушащимся из-под верхних пепельного цвета. Только когда ястреб, переставая ерошиться, из бело-серого превратится в серого, он станет ручным и не будет более так дичиться. Достигнуть этого можно единственно не давая ему заснуть; ибо выспавшись, он снова начинает дичиться; поэтому необходимо проходить с ним иногда трое суток, передавая его, и то на короткое время, другому умелому охотнику. Изнемогающий от бессонницы ястреб дозволяет себя трогать и гладить и окончательно убирает белые перья. Хороших испытанных ястребов Павел Тимофеевич и Тихон оставляли на зиму в больших деревянных клетках. Такой перезимовавший ястреб ценился более вновь пойманного или купленного и назывался «мытчим», т. е. перелинявшим. Иногда ястреб бывал двух и трех мытов. Когда ястреб становился ручным, нетрудно было голодом приучить его летать кормиться на руку.
Перепелов в наших местах была такая бездна, что ястребятники, отправлявшиеся каждый на лошади верхом с легавою собакой и ястребом, приносили вечером матери на подносе каждый от тридцати до пятидесяти штук. Перепелок этих, слегка просолив, клали в бочонки с коровьим маслом и малосольные они сохранялись целый год.
Однажды в воскресенье, во время поспевания ржи, Павел предложил мне идти с ним на луг ловить выслушанного им замечательного перепела. Конечно, я пошел с величайшей радостью. Прислушавшись в лугу к хриплому ваваканью интересовавшего его перепела, Павел разостлал легкую сеть по колосьям высокой ржи, а затем сам полез под сеть и залег, приглашая и меня последовать его примеру. Как только перепел начинал вдали вавакать, Павел перебивал его трюканьем кожаной дудки. Минут через пять хрип и «спать пора» перепела раздавались снова, но на гораздо ближайшем расстоянии.
— Лежите смирно, — шепнул Павел Тимофеевич, — хоть бы он совсем к лицу подошел.
Действительно, я услыхал громкое ваваканье чуть не около самой головы своей, но в это время Павел вскочил и бросился с порывистым шиканьем вперед, Заставившим меня невольно вздрогнуть. Перепел вспорхнул и запутался в слабо раскинутой сети.
Неудивительно, что, будучи от природы страстным птицеловом, я по воскресеньям отпрашивался у матери сопровождать Сергея Мартыновича на Лыковские болота, отстоявшие от Новоселок верст на пять. Сергей Мартынович отправлялся туда с тяжеловесным одноствольным ружьем, а я с одною пестрою палочкой. Правда, без собаки Сергею Мартыновичу редко доводилось захватить на чистом месте неосторожного селезня или куличка. Но зато какое утро! какая в лугу по плечи трава и освежительная роса! На обратном пути измоченное платье высыхало, и если нам попадалась утка, кулик или коростель, то я с восторгом приносил их матери.
Хотя бы я менее всех решался испрашивать отцовского позволения ездить верхом, тем не менее мне иногда удавалось выпрашивать у матери позволение прокатиться поблизости верхом на смирном пегом мерине в сопровождении молодого кучера Тимофея, который на этот конец разыскал на верху каретного сарая небольшое исправное венгерское седло. На этих поездках мы с Тимофеем старались держаться степных и лесных долин для избежания огласки.
Однажды явившаяся к нам Вера Алексеевна, разливаясь в похвалах своему церковному празднику, стала подзывать на него и мать, говоря: «Вы бы, матушка, пожаловали к нам в будущую пятницу на Казанскую. Она, матушка, у нас милостивая, и народу на ярмарке и крестьян, и однодворцев видимо-невидимо; и товару по палаткам всякого довольно».
Конечно, мать осталась равнодушна к прелестям ярмарки, зато я положил непременно отпроситься в этот день верхом.
— Хорошо, — сказала мать, — поезжай, но ни в каком случае не езди на ярмарку; только под этим условием я разрешаю тебе.
Помню, что мы с Тимофеем берегом Зуши незаметно добрались до самого Подбелевца, первоначально без намерения заезжать на ярмарку; но тут не столько желание увидать ярмарку, сколько соблазн проскользнуть верхом мимо многочисленной и пестрой толпы, заставил меня забыть запрещение матери. Да и кто же меня увидит? Если есть знакомые помещики, то они в церкви, а прошмыгнув по краю ярмарки, мы тотчас пронесемся через бугор и проселок и скатимся в Дюков лесной верх, где до самого дома будем скрыты от нескромных взоров. Сказано — сделано. Но каков был мой испуг, когда, проносясь через проселок, я как раз пересек дорогу во всю прыть подъезжавшей коляске тройкой по направлению к Новоселкам. Сворачивать в сторону значило бы возбуждать подозрение в незаконности моего появления. Оставалось скрепя сердце пропустить перед собою коляску, из-под верха которой любезно кланялись мне А. Н. Зыбина и В. А. Борисова. Я почтительно снял картуз и раскланялся.
Через четверть часа Тимофей повел лошадей на конный двор, а я отправился в дом, у крыльца которого не без душевного трепета заметил зыбинскую коляску. Не успел я поцеловать ручки дам, как Зыбина воскликнула, обращаясь к матери: «Какой он у вас молодец! Мы полюбовались, как он во весь дух несется с ярмарки».
— Не откушаете ли вы с нами? — сказала мать гостям.
— Нет, нас ожидают дома, — отвечала Зыбина, вставая и направляясь к коляске.
Проводивши гостей, мать вернулась в гостиную и сказав: «Так ты, мерзкий мальчишка, не исполнил моего приказания и решился обмануть мать!» — ударила меня по щеке.
Добрая мать никогда ни на кого не подымала руки, но на этот раз явный обман со стороны мальчика вывел ее из себя.
Однажды, когда, играя с дядею у него на Ядрине на биллиарде, я проболтался, что, раздобывшись небольшим количеством пороху, я из разысканного в гардеробном чулане пистолета пробовал стрелять воробьев, дядя приказал принести маленькое двуствольное ружье и подарил мне его, к величайшему моему восторгу; но так как ружье было кремневое, то я помню, как несколько дней спустя, я целый вечер до совершенной темноты стрелял на реке в нырка, который при первом щелканьи замка был уже под водою, тщетно осыпаемый запоздалою дробью. — Ежегодно у нас праздновался 5 сентября день именин матери, и один из этих дней навсегда остался мне памятным по двум причинам. В доме у нас с месяц уже проживала старушка акушерка с воспитанником Пашей, служанкой Нюшкой и гувернером французом Деверетом.
Когда утром я из столовой шел во флигель вслед за отцом, и последний по обычаю, напившись чаю в красном узорчатом шлафроке, подошел уже к крыльцу флигеля, его догнала буфетчица Прасковья и сказала: «Афанасий Неофитович, смеем поздравить вас, Елизавете Петровне бог послал младенца».
— Что там? — спросил, сдвигая брови, отец.
— Дочка, — отвечала Прасковья.
— Любовь и Анна есть, — сказал он, обращаясь ко мне и к Андрею Карповичу, — пускай же эта будет Надежда. Право, стоило бы Анну переименовать в Веру.
Часа через два в новой коляске на четверке бурых с форейтором подъехал дядя Петр Неофитович поздравить именинницу.
— Кстати, я привез заячьи почки, — сказал дядя, — прикажи их достать из коляски, а другие лежат в поле. Я подозрил русака недалече от дороги, как раз против Зыбинского лесного оврага. Пошли за ним Павлушку с ружьем. А знаешь ли, — прибавил он, — вместо Павлушки, пока коляску еще не отложили, возьмем ружья и поедем, брат, вместе с тобою!
— В самой вещи так, — сказал отец и приказал Сергею Мартыновичу зарядить две одностволки. (Двуствольных у нас не было.)
Я бросился за Сергеем Мартыновичем к отцовскому шкапу, где ему было приказано достать снаряды.
— Голубчик, Сергей Мартынович, зарядите и мою двустволку, — попросил я и, когда ружья были заряжены, а коляска подана, я, обращаясь к отцу, сказал: «Позвольте и мне с вами».
— Да тебе места не будет, — отвечал отец.
— Мы с Сергеем Мартыновичем станем на запятки.
Когда старшие уселись, я, схватив припасенную за дверью двустволку, быстро вскочил с Сергеем Мартыновичем на запятки. Как ни смотрел я вправо с дороги, когда мы поравнялись с Зыбинским оврагом, я ничего не видал.
— Да, быть может, он уже вскочил? — спросил отец.
— Нет, — отвечал дядя, — вон он. Надо только проехать немного подальше к не идти на него прямо, а дугою.
Устремив глаза на одну точку, импровизованные охотники и не заметили, что и я за ними иду с ружьем.
— Ну довольно, — шептал дядя, — тут до него не более сорока шагов. Ты, брат, стреляй лежачего, а я, если побежит, стану добивать.
Долго целился отец, но когда грянул выстрел, я впервые увидал вскочившего и побежавшего зайца. Грянул другой выстрел дяди, придавший зайцу только быстроты. «Большие охотники, подумал я, дали по промаху; отчего же и мне не выпустить попусту снаряда?» Я прицелился и выстрелил, и заяц мгновенно покатился через голову.
— Браво! — воскликнул дядя, — будешь хороший артиллерист.
Напрасно стал бы я описывать свою гордость и радость, удвоенную тем, что фактическое разрешение стрелять было мне дано, так как отец ничего не сказал.
Выше я говорил о красивом и вдовом соседе, адъютанте московского генерал-губернатора П. П. Новосильцове, но приходится сказать несколько и о старшем брате его Николае Петровиче, товарище министра внутренних дел, бывшем в милости при дворе. Так как отец наш пользовался славою замечательного сельского хозяина, то приехавший на лето в деревню Н. П. Новосильцов явился в Новоселки, прося советов отца, которому жаловался на малодоходность своих превосходных имений. Очевидно, такая просьба была по душе отцу, и он обещал по соседству наблюдать за имениями Новосильцова.
В последнее время Андрей Карпович сильно задался мыслью выйти из духовного звания и занять штатное место учителя в уездном училище. Мысль носить шпагу и треугольную шляпу приводила его в восхищение.
— Ты, Мартыныч, тогда ко мне в гости приходи, — повторял Андрей Карпович, — ты придешь, а я тебя шпагой. Ты придешь, а я тебя шпагой! Шпагой тебя!
По однообразию и бесцветности последние годы моего пребывания в деревне как-то смутно рисуются в моем воспоминании. Андрей Карпович, получивший действительно место учителя в Ливенском училище, отошел, а у меня некоторое время пробыл новый учитель, семинарист Петр Иванович, но и тот ненадолго. Исключившись из духовного звания, он поступил в Московскую медико-хирургическую академию.
Два раза в неделю стали посылать тележку во Мценск за о. Сергием, который не столько являлся в качестве моего репетитора, сколько в качестве законоучителя 8-ми или 9-ти летней сестры моей Любиньки. Уроки их в классной мало меня занимали. Помню только, как однажды на изречение о. Сергия: «Природа человеческая наклонна ко злу», — Любинька любопытно спросила: «А праведные будут овечки?»
За какой-либо год до моего отъезда из дому родился меньшой наш брат Петруша, которого девичья прозвала «поскребышком», и кормилицею к нему поступила знакомая мне полновесная кормилица сестры Анюты, которую я когда-то дразнил «Кордовой».
II
Мне было уже лет 14, когда около Нового года отец решительно объявил, что повезет меня и Любиньку в Петербург учиться. Приготовлены были две кожаных кибитки с фартуками и круглыми стеклянными по бокам окошечками, и как бы вроде репетиции отец повез нас с сестрою на «Добрую Воду», на Оптуху к Семенковичам и наконец, главным образом, в Орел проститься с дедушкой. Нервная мать все время не могла удержаться от слез, но это, видимо, только раздражало отца, и он повторял: «Нет, нет, это не моя метода; так-то, говорят, обезьяны обнимают детей, да и задушат. Дети не игрушки; по-моему, поезжай хоть в Америку, да будь счастлив».
Конечно, все делалось по совещанию с дядей Петром Неофитовичем, и я даже подозреваю, с его материальной помощью. Домашний портной Антон не только смастерил мне фрачную пару из старой отцовской, но сшил и новый синий сюртук, спускавшийся мне чуть не до пят. Дядя подарил мне плоские серебряные часы с золоченым ободком и 300 рублей ассигнациями денег.
Наконец, в переднюю кибитку, по возможности нагруженную, подобно задней, всяким добром, преимущественно конфектами в подарки, сели мы с отцом, а во второй следовала нянька с Любинькой, а на облучках ехали: Илья Афанасьевич и дорожный повар Афанасий, мой бывший учитель.
Дети, если это возможно, еще большие эгоисты, чем взрослые, и прощаясь с матерью, я, гордый предстоящей, как я думал, свободой, не понимал, с какою материнскою нежностью разлучаюсь.
Незадолго до нашего отъезда, годовой брат Петруша сильно заболел, и я как теперь помню на руках кормилицы выздоравливающего изнеможденного ребенка, едва держащего голову на исхудалой шее.
Дядя Петр Неофитович, соскучась зимою в деревне, купил себе во Мценске небольшой домик, состоявший из передней, порядочной столовой и спальной. У него почти ежедневно обедали и по вечерам играли в карты артиллерийские офицеры, и он говорил шутя: «Я выставлю над крыльцом надпись: „Клуб для благородных людей“».
Вот к этому-то дому и подъехали наши кибитки по пути в Москву, и перед наступлением сумерков привели ямских лошадей.
— Илюшка, — сказал Илье Афанасьевичу на прощанье дядя, — вот тебе по целковому вашим ямщикам, если они птицей пролетят первую станцию. Так и скажи им.
К сожалению, мы попали в такие ухабы и развалы, при которых о птичьем полете нечего было и думать. Вероятно, избегая еще худшей дороги, мы поехали не на Тулу, а на Калугу, и это единственный раз в жизни, что мне удалось побывать в этом городе, в котором помню только громадное количество голубей, да надпись на окне постоялого двора: «Вы приехали в Калугу к любезному другу».
В Москве, остановившись в гостинице Шевалдышева, на нижнем конце Тверской, отец повез нас с сестрою в дом нашего деревенского соседа, генералгубернаторского адъютанта П. П. Новосильцева, в его собственный дом у Харитония в Огородниках. Там я в первый раз познакомился с 6-ти летним сыном Новосильцова Ваничкой, бегавшим в красной шелковой рубашке с золотым прозументом на вороте. Невзирая на малые лета ребенка, я уже застал при нем молодого рыжеватого наставника немца Фелькеля; а Любинька познакомилась со старшей сестрою Ванички Катенькой (впоследствии княгиней Вяземской). Всем домом светского красавца Новосильцова заведовала небогатая родственница, к которой дети, рано лишившиеся матери, привязались на всю жизнь и называли ее: Агрипин.
— Если вы хотите послушать моего совета, — говорил за обедом Петр Петрович, — то не останавливайтесь с детьми в Москве; тут вам их поместить некуда. И вы, так же как и я, не располагаете отдать сына в кадетский корпус, да и женские институты наилучшие в Петербурге. Поэтому поезжайте в Петербург и обратитесь там к брату Николаю Петровичу; он заведует институтами и будет сердечно рад служить вам, а насчет сына обратитесь к нашему земляку Жуковскому; он тоже даст вам наилучший совет и сделает все от него зависящее.
На другой день, пока отец ездил хлопотать в опекунский совет, я вздумал навестить в академии бывшего своего учителя Петра Ивановича; а как деньги по милости дяди у меня были, то я попросил Илью Афанасьевича нанять мне извозчика в академию.
— Извозчик, извозчик! — закричал Илья Афанасьевич, когда мы сошли на крыльцо гостиницы. — Что возьмешь в Иже-херувимскую академию?
За двугривенный санки подвезли меня к железной калитке академии на Рождественке, и мы радостно бросились с Петром Ивановичем друг другу в объятия. Петр Иванович даже явился к нам обедать в гостиницу.
На другой день тем же порядком, как до сих пор, т. е. на сдаточных[80] с своими замороженными щами и скороспелыми обедами приготовления Афанасия по постоялым дворам, — потянулись мы к Петербургу. Тут утром и вечером по длинным деревням, в которых каждый двор исполнял должность постоялого, происходила одна и та же проделка: кибитка останавливалась перед крыльцом двора, и Афанасий или Илья, отстегивая край кожи, сняв шапку, спрашивал отца: «Прикажете спросить?» «Спроси, — говорил отец, — да смотри, чтоб не было угару».
Минуты через две слуга возвращался с донесением, что хозяин меньше пятиалтынного за самовар не берет.
— Ну, что ж ты, дурак, меня беспокоишь? Ступай дальше, ищи за гривенник и сливки в пять копеек.
За вновь уходящим слугой передвигались и наши повозки к другому постоялому двору, и это продолжалось до тех пор, пока слуги кричали: «Пожалуйте!» Тогда вносилась чайная шкатулка, запасные бублики и начиналось чаепитие.
Я забыл сказать, что перед отъездом под предлогом переменившихся у меня зубов и невозможностью проводить далее безсахарного житья нам разрешен был чай и вообще сладкое.
Но как всему бывает конец, то и наше путешествие окончилось на постоялом дворе Средней Мещанской в Петербурге.
Пока отец сглаживал перед нами дальнейшие пути жизни, я проводил время или в комнате молодой хозяйской дочери, распевавшей над шитьем: «И колокольчик гаргалгая…» или ловлею голубей на галерее вовнутрь двора. Раздобывшись при посредстве Афанасия конскими волосами, я наделал из них петель и деревянными клепышками набил их на деревянную рамку балясника и взятой у Афанасия крупы насыпал среди петель. Из окна я следил за тем, как голубь, усердно клюющий крупу, коралловой ножкой попадал в петлю и начинал биться. Первое время я безразлично ловил голубей и, связавши им крылья, чтобы они не выбили окон, пускал их в кухне; затем непременно пожелал иметь пару белых, а пойманных сизых или глинистых выпускал на волю. Так вместо одной пары белых я наловил их две.
На другой или третий день отец повез нас на Миллионную в дом министра Новосильцова, где кроме его жены мы были представлены и старухе матери с весьма серьезным лицом, украшенным огромною на щеке бородавкою. В глаза бросалось уважение, с которым высокопоставленные гости относились к этой старухе, говорившей всем генералам! «Ты, батюшка»…
До сей поры я продолжал ходить с отложными воротничками, но однажды отец привез мне черный шелковый платок, подгалстучник на щетине и пеструю летнюю шейную косынку.
— Я пойду к Ник. Петр, обедать, а вы обедайте дома, а в 8 часов вечера ты приезжай туда, и я тебя представлю Жуковскому.
Вечером, желая явиться во всем блеске, я к фрачной паре надел свой прелестный пестрый галстук. К счастию, Жуковского на этом блестящем вечере не было, и, конечно, никто не обратил внимания на провинциального мальчишку. Но, возвращаясь домой, отец сказал: «Зачем ты надел пестрый летний галстук? этого никто не делает».
В непродолжительном времени Любиньку отвезли в Екатерининский институт, а по отношению ко мне Жуковский, у которого отец был без меня, положительно посоветовал везти меня в Дерпт, куда дал к профессору Моеру рекомендательное письмо.
* * *
Таким образом, оставив на постоялом дворе одну из повозок, мы с отцом отправились в Дерпт, куда и прибыли на третьи сутки.
Главное, бросившееся мне в глаза на другой день, при поездке к профессору Моеру, было, что извозчик сидел перед нами в санях в капоте с коротким многоэтажным воротником, а его парочка лошадок в дышле была запряжена в шоры без всякой шлеи, так что при спуске с горы шоры всползали лошадкам на самый затылок.
Старик Моер, принявший нас весьма радушно, высказал мнение, что для воспитанника, до такой степени отрываемого от домашнего надзора, Дерпт по шумной студенческой жизни не представляет достаточно благонадежного приюта и что следует попытать счастья, не согласится ли его приятель, директор учебного заведения в соседнем городке Верро, принять меня в свою школу? С этой целью Моер написал директору Крюммеру письмо и просил переслать его с эстафетам, с которым на другой же день должен был получиться ответ. Ответ пришел благоприятный, и на следующий день повозка наша подъехала к одному из домов широкой улицы, вдоль кото́рой с площади до самого озера тянулась широкая березовая аллея. Извозчиков в городе Верро не оказалось, и на утро, помню как раз в воскресенье, отец повел меня пешком к парадным угольным сеням училища. Когда из небольших сеней мы переступили в главную залу, то как раз попали на воскресный молитвенный хор всего училища и на последние аккорды органа, после которых слушавшие проповедь, расходятся. Находя, вероятно, что мы явились невпопад, отец снова отпер за собою дверь и, выведя меня в сени, сам снова вошел в залу. Минуты через две, которые показались мне бесконечными, дверь снова отворилась, и я по знаку отца вернулся в залу, представляя собою общий предмет любопытства школьников. Навстречу к нам после директора подошел, как мы потом убедились, главный преподаватель института, многоученый Мортимер. На уверения отца, будто бы я так же твердо знаю латинскую грамматику, как и русскую, — фраза, в которую я и сам со слов своих наставников семинаристов готов был верить, — Мортимер попросил меня перевести на латинский язык слова: «Я говорю, что ты идешь». Как я ни силился, но не мог попасть на винительное с неопределенным, пока Мортимер не подсказал мне: «Dico te venire».
Этим и кончился довольно плачевно мой вступительный экзамен. Часа через два мне указано было мое место по возрасту в старшей палате, номер первый, а по ученью я был назначен в третий класс этажом ниже, занимавший во время уроков помещение второй палаты. Вещи мои сданы были на другую половину института, где помещались наши дортуары, в отделение более чем пожилой гардероб-мейстерши. На вопрос Крюммера, обращенный к отцу, что я желаю пить утром и вечером, так как большинство учеников предпочитает молоко, отец, снисходя к моему желанию, просил давать мне чаю.
— Очень хорошо, — сказал Крюммер, — это безразлично, так как чай и кофей делается для учителей.
Затем, ссылаясь на приближающуюся весеннюю оттепель, отец, заказав почтовых лошадей, дал поцеловать мне свою руку, и я, мечтавший о свободе и самобытности, сразу почувствовал себя среди иноплеменных людей в зависимости, с которой прежняя домашняя не могла быть поставлена ни в какое сравнение.
У длинного крашеного стола с подъемными крышами на обе стороны и соответственными рядами неподвижных скамеек мне указали место, которое я мог занять своими тетрадями и письменными принадлежностями, причем я получил и ключ от ящика в столе. Снабдив меня бумагой для черновых и беловых тетрадей, директор выдал мне и соответственные моему классу учебники. Книги эти помещались на открытых вдоль стены полках.
Образ школьной жизни был почти неизменно однообразен и состоял в следующем.
Вечером, для старших классов в 10 часов, по приглашению дежурного надзирателя, все становились около своих мест и, сложивши руки с переплетенными пальцами, на минуту преклоняли головы, и затем каждый, сменив одежду на халат, а сапоги на туфли, клал платье на свое место на стол и ста- вил сапоги под лавку; затем весь класс с величайшей поспешностью сбегал три этажа по лестнице и, пробежав через нетопленые сени, вступал в другую половину здания, занимаемого, как сказано выше, темными дортуарами. В дортуарах вдоль по обеим стенам стояли шкафы; дверка такого шкафа скрывала складную кровать, которую стоило опустить, чтобы она при помощи отворенной дверки представила род отдельной корабельной каюты. Всякие разговоры в постели строго воспрещались, и никто не мог знать, не проходит ли в темноте по коридору неслышной стопою кастелянша или же и сам Крюммер, коего ночное шествие обозначалось только слабым мерцанием пенковой трубки и ароматным запахом кнастера[81]. В 6 часов утра дежурный надзиратель безмолвно проходил вдоль кроватей, стуча рукою по громозвучным их дверцам, и тогда — о горе! — приходилось из нагретой постели, накинув халат, бежать по холодным сеням в свою палату, где неуклюжий на вид чухонец Мерт успевал уже, дурно ли хорошо ли, перечистить платье и сапоги. Равным образом толстые, белокурые и в кружок остриженные чухонки в отсутствие учеников успевали вынести подставную в умывальнике лохань с грязной >водой и наполнить деревянный над ним резервуар свежею. По окончании туалета такие же корпулентные чухонки приносили на одном подносе кружки — с молоком, а на другом ломти домашнего ситного хлеба; затем каждый старался окончить приготовление к предстоящим урокам. Ровно в 8 часов внизу в коридоре раздавался громогласный звонок, по которому все устремлялись в большую залу на утреннюю молитву, продолжавшуюся минут пять и состоявшую из лютеранских стихов, пропетых общим хором под мастерскую игру на органе знакомого нам уже Мортимера. Затем до 11-ти час. следовали три утренних урока, по окончании которых до половины двенадцатого на завтрак в палаты приносились такие же ломти ситного хлеба, весьма тонко и прозрачно намазанные маслом. С половины двенадцатого до половины первого шел четвертый утренний урок для старших классов; а в половине первого снова по звонку все бежало в общую залу к двойному ряду столов, где всякий за обедом занимал свое обычное место. Здесь на первом столе сам Крюммер, а на втором старший надзиратель одного из меньших классов наливали из объемистой оловянной суповой чашки каждому по тарелке супу с картофелем или щей, и надлежащая порция достигала по передаче своего назначения. Запасный хлеб на возобновление съеденного куска лежал поблизости раздавателей благостыни, и надо было иметь сильную протекцию, чтобы дождаться желанного повторения. На второе блюдо почти неизменно следовала жареная говядина с круглым жареным картофелем. Этим в будни и кончалась трапеза, украшаемая в воскресные дни драченой или жареными в масле розанами.
Нечего греха таить, что мы постоянно были впроголодь. В воскресенье после обеда входная дверь с улицы в залу растворялась, и рослая, краснощекая и в кружок остриженная белокурая чухонка вступала с двумя полными корзинами печенья от соседнего хлебника Шлейхера. Чего тут ни было, начиная с простых белых или сдобных хлебов и кренделей до лакомых пряников, которыми Шлейхер славился и гордился. Были они большею частию в форме темно-красных сердец. Каждого первого числа Крюммер, по просьбе родителей, снабжал учеников карманными деньгами даже до размера двух серебряных рублей. Будучи по милости дяди, сравнительно с другими учениками, богачом, я по воскресеньям, кроме оставляемых по завещанию уходившими к родителям товарищами порций завтрака и вечернего молока, покупал у посланной от Шлейхера по тогдашним ценам громадную провизию на 20 копеек. При этом ящик моего стола наполнялся всяческой благодатью, и я, с наслаждением приподымая крышку и пощипывая запас, с радостью мечтал и о завтрашнем утолении голода всласть. Но увы! по большей части к вечеру ящик мой пустел окончательно. Здесь я должен упомянуть о довольно характерном обычае школы. Несмотря на то, что перед обедом круглый год даже учителям не подавалось ни водки, ни вина, раз в год, в день рождения Крюммера, красное вино раздавалось всей школе в весьма почтенных размерах, увеличивавшихся по мере возраста учеников палаты. Так, наприм., в самую многочисленную низшую четвертую палату с 20-ю учениками от 7-ми до 11-ти летнего возраста выдавалось четыре бутылки, и затем начиналось там громогласное пение, крик, задор, и павшие в битве относились в постель. О нашей первой палате, состоявшей из 16-ти человек, говорить нечего: нам отпускалось бутылок десять, и, расходившись, мы нередко тихонько посылали от себя за вином.
В час вставали из-за стола и, невзирая ни на какую погоду, отправлялись под надзором дежурного учителя гулять. Учителями этими являлись через день иностранцы, т. е. в один день француз, а в другой русский, и соответственно этому на прогулках было обязательно говорить не иначе как по-французски или по-русски. Прогулка длилась час, в два часа все садились за приготовительный получасовой урок, а от половины третьего до половины пятого шли два послеобеденных урока в младших классах; а в двух старших присоединялся от половины пятого до половины шестого третий послеобеденный ежедневный латинский урок независимо от утреннего. Затем у старших на вечернее молоко оставалось только полчаса времени до шести, а в шесть часов до восьми все садились снова приготовлять уроки. В 8 часов по звонку все бежали к ужину, состоявшему, как и обед, из двух блюд, но только с заменою супа размазней и жареной говядины — вареною с таким же картофелем. С половины девятого до половины десятого полагался отдых, и затем раздевание и бегство в дортуар.
Два раза в неделю, в среду и субботу, тотчас после ужина классы один за другим по звонку отправлялись в гардероб, где на столах было разложено кастеляншею каждому его свежее белье. Здесь мы имели случай рассмотреть нашу кастеляншу, которая при чухонской курносости отличалась весьма сильным ростом бороды, которую она напрасно тщательно подстригала.
Вернувшись в класс, мы, переменивши белье, завязывали грязное в носовой платок или в полотенце и по дороге в дортуар складывали на стол в гардеробе. Надо отдать справедливость кастелянше: она никогда не путала нашего белья.
Поступления новичков в третью и четвертую палату (Stube) я не видал, находясь в самом верхнем этаже корпуса в первой; а в эту, за исключением меня, новичков не поступало, и я могу только рассказать о том, что было со мною. Между благодушными и юмористическими товарищами некоторые, обладающие по возрасту значительной силой и ловкостью, были, к несчастию, склонны практиковать свою силу над новичком. В нашем классе некто Фурхт не без основания внушал страх, как гласила его фамилия. Не было возможности спастись от его кулака, которым он по заказу бил куда хотел, заставляя видимым пинком в грудь, живот или нос невольно защищать угрожаемое место; но тут-то его кулак, как молния, бил в указанный бок. Хотя и с меньшей ловкостью, но не меньшим задором и силой отличались Менгден и Кален. Последний не выжидал случаев или предлогов к нападению, а не только в рекреацию[82], но и в часы приготовления уроков вполголоса говорил: «Я иду, защищайся». И затем жестокие удары сыпались куда попало. Жаловаться дежурному в палате учителю нечего было и думать, так как этим приобреталось бы только позорное прозвание «Clatsche» — доносчика и удвоение ударов. Но ежедневные умножающиеся синяки вынудили меня на отчаянное средство. Я пошел в кабинет директора и, не жалуясь ни на кого, сказал: «Господин Крюммер, пожалуйте мне отдельную комнатку, так как я не в силах более выносить побоев».
— Ну, хорошо, — отвечал Крюммер, — ступай в свой класс, там видно будет.
Не знаю, принял ли директор какие-либо меры, но на другой же день просьба моя: «Господин Крюммер, пожалуйте мне отдельную комнату», — насмешливо повторялась большинством класса, и удары продолжали сыпаться с прежним обилием.
К этому присоединялись насмешки: «Хорош! Нечего сказать, в своем длиннополом сюртуке, и отец-то выпихнул его за дверь!» Действительно, во всей школе среди разнообразных и небогатых, но зато короткополых сюртучков и казакинов, я один представлял синюю сахарную голову. Чтобы раз навсегда окончить с поводом постоянных насмешек, я разложил свой синий сюртук на стол, обозначил мелом на целых две четверти кратчайший против подола круг и с некоторым упоением обрезал по намеченной черте губительные полы. Я должен прибавить, что из обрезков портной состроил мне модную, кверху в виде гречневика сужающуюся шляпу.
Так как ни один учитель или ученик не избегал прозвища, то, вероятно, в намек на мое происхождение из глубины России я получил прозвание «медведь-плясун», что при случае употреблялось в смысле упрека, а иногда и ласкательно. Выпрашивая что-либо, просящий гладил меня по плечу и приговаривал: «Tanzbaer, Tanzbaer». Про самого Крюммера злоязычники говорили, что он был «Прусский барабанщик», и между собою никто не говорил: Крюммер, все: «Trommelschleger».
Однажды перед приходом учителя в наш третий класс, помещавшийся во второй палате, широкоплечий Менгден без всякой с моей стороны причины стал тузить меня. Но, должно быть, задевши чересчур больно, он привел меня в ярость и заставил из оборонительного положения перейти в наступательное. Не думая о получаемых ударах, я стал гвоздить своего противника кулаками без разбора сверху вниз; тогда и он, забыв о нападении, только широко раздвинув пальцы обеих рук, держал их как щиты перед своею головой, а я продолжал изо всех сил бить, попадая кулаками между пальцами противника, при общих одобрительных криках товарищей: «Валяй, Шеншин, валяй!» Отступающий противник мой уперся наконец спиною в классный умывальник и, схватив на нем медный подсвечник, стал острием его бить меня по голове. В один миг бросившиеся товарищи оттащили нас друг от друга, так как я уже ничего не видал из-под потока крови, полившейся по лицу из просеченной до кости головы. Рубец этого шрама, заросшего под волосами, я сохранил на всю жизнь, но зато эта битва положила конец всем дальнейшим на меня нападениям.
Для желающих пить на умывальных столах стояли глиняные кружки, в которые жаждущий нацеживал из резервуара воды. В третьем классе Мортимер давал нам уроки географии перед немыми картами издания самого Крюммера. Когда, по указанию прутика на один из островов Ледовитого океана, никто не умел назвать острова, Мортимер пояснил, что это Новая Цемлия. Захотев во время урока пить, я молча встал и, напившись из классной кружки, снова сел на свое место.
— Шеншин, — кротко сказал Мортимер, — вы теперь будете знать, что пить можно только в приготовительные часы, а не во время урока.
Как ни плох я был в латинской грамматике, тем не менее, приготовившись, с грехом пополам следил за ежедневным чтением Цезаря; а уроки геометрии в нашем классе преподавал Крюммер. На доске рисовал он фигуру новой теоремы, требуя, чтобы до следующего урока мы представили ему правильный рисунок теоремы в большой тетради и буквальное разрешение ее в маленькой. При этом, кроме разрешения задачи, он требовал опрятного письма и присутствия промокательной бумаги, без чего свое V, т. е. «видел», нарочно ставил широкой чернильной полосой чуть не на всю страницу и потом захлопывал тетрадку, а в начале следующего урока, раздавая работы по рукам, кидал такую под стол, говоря: «А вот, Шеншин, и твоя тряпка».
Так как, к счастию, директор начинал свои уроки с первых теорем Евклида, то я тотчас же усердно принялся за геометрию, в которой, как и в алгебре, особенных затруднений не находил. Зато уроки истории были для меня истинным бедствием. Вместо общего знакомства с главнейшими периодами и событиями учитель третьего класса расплывался в неистощимых подробностях о Пипине Коротком, Карле Великом и Генрихе Птицелове, так что я наконец не умел различить этих скучных людей одного от другого. К этому я должен для краткости присовокупить, что, быть может, весьма ученый преподаватель истории во втором классе, где я пробыл два года, буквально из году в год, стоя перед нами и пошатываясь за спинкою стула, вдохновенно повторял рассказы о рыжих германцах, которые на своих пирах старались отпивать ступеньки лестницы, поставленной на бочку с пивом. Но так как проверок по этому предмету было очень мало, и многоречивый учитель охотнее спрашивал наиболее внимательных и способных учеников, то в начале следующего года я учительской конференцией с директором во главе был переведен ввиду успехов моих в математике и в чтении Цезаря во второй класс.
* * *
Для полноты воспроизведения устройства школы следует сказать, что ученики первого класса только частию и предварительно оставались в нашей первой палате, но приближающиеся к экзамену в Дерптский университет перемещались в две большие комнаты над нашими дортуарами, так называемом педагогиуме, находившемся и в умственном и в нравственном отношении под руководством Мортимера. Последний был исключительным преподавателем истории, географии и древних языков, так что на долю главного математика Гульча доставалось преподавание только этой науки.
Так называемые педагогисты имели право сами выбирать время для приготовления уроков и одиночных прогулок по городу; им же дозволялось курение табаку, строго запрещенное всем прочим ученикам.
Чем Мортимер был для первого класса, тем Гульч был для нашего второго, с тою разницей, что он, кроме главных уроков, целый день проводил в нашей первой палате в качестве надзирателя, меняясь через день с французом Симоном.
Обрисовать в своем воспоминании почтенную личность Гульча значит не только воспроизвести весь второй класс, но указать отчасти и на те нравственные складки, которые сложились в душе моей под руками этого незабвенного наставника. Это был совершенная противоположность моих деревянных учителей-семинаристов. В своих уроках он, если можно так выразиться, подвигался плечо в плечо с учеником, которому считал необходимым помочь. При ответах ученика его не столько раздражало незнание, сколько небрежность, мешавшая логически поискать темно сознаваемого ответа. Наводя в таком случае ученика на должный ответ, добродушный Гульч не гнушался и школьным прозвищем ученика. Так весьма способный и прилежный ученик Браж за свое вертлявое искательство получил прозвище «утиного хвоста», иные просто называли его «вертуном». Убеждаясь из ответов, что Браж не дает себе труда сосредоточиться, Гульч восклицал: «Браж, Браж, не вертите!» Сочувственная улыбка проносилась по всему классу, и Браж, подумавши, давал надлежащий ответ. Гульч во всем требовал систематической и логической отчетливости. Так, задавая задачи по задачнику, от которого ключ был только у него, он до тех пор не допускал до нового вида задач, пока ученик из хорошо усвоенных им не разрешит известного числа, например, пятидесяти без ошибок. Если бы ученик, безошибочно разрешив 49, случайно ошибся на 50-й, то весь предварительный его труд считался ни во что, и надо было начинать сызнова. Затруднительные задачи Гульч усердно проверял собственным вычислением, и в рабочие уроки я не могу его себе представить иначе, как сидящим за учительским столом с откинутыми на лысеющую голову очками, машинально посасывающим потухающую фарфоровую трубку с отливом и нагибающимся по близорукости к бумаге или грифельной доске. В такие минуты, погруженный в занятие, он ничего стороннего не видал и не слыхал. Шалуны это хорошо знали и пользовались случаем развеселить товарищей. На одной стороне книжной полки на гвозде висел ключ, в котором все попеременно нуждались, иногда только для того, чтобы безвозбранно покурить табаку. Чтобы уйти из палаты, конечно, не во время уроков, нужно было сказаться надзирателю. И вот тут-то опытные шалуны доходили до крайней отваги, громогласно восклицая: «Г. Гульч, могу ли я уехать в Америку?» — разнообразя каждый раз шутку другими отдаленными пунктами земли.
Невзирая на углубление в занятия, Гульч никогда не отказывал подходящим к нему ученикам с недоумениями по поводу приготовления уроков. Подобные вопросы Гульч разрешал с полной симпатией и удовольствием. Хотя в немецком существует несколько выражений соответствующим словам: «я думал», «я предполагал», но самое обычное из них: я верил — ich glaubte. Когда дело шло о математическом вопросе, и ученик в извинение ошибки говорил: «Ich glaubte», Гульч не без волнения говорил: «Оставьте вы свою веру для чего-либо другого, а здесь она совершенно неуместна. Здесь нужно основание и вывод».
Во время рекреаций Гульч рассказывал о разных неразрешимых математических задачах, за разрешение которых там или сям установлены премии. Так говорил он о миллионной премии, назначенной англичанами, за деление геометрическим путем угла на три части.
Будучи стрелком и ружейным охотником, Гульч живо сочувствовал красотам и особенностям природы и однажды пришел в восторг, когда я, умевший несколько рисовать, во время отдыха нарисовал на память ходившую у нас в Новоселках под охотником черноморскую лошадь. Глядя на тяжелую горбоносую голову и прямую из плеч с кадыком шею и круп с выдающимися маслаками, Гульч, заливаясь восторженным смехом, восклицал: «Да, поистине это черноморка!»
Однажды, когда, расхохотавшись подобным образом по поводу вновь воспроизведенной мною на доске черноморки, он хватился оставленной им в своей комнате фарфоровой трубки, за которою ему через весь школьный двор не хотелось идти, я Сказал: «Пожалуйте мне ваш ключ; я в одну минуту сбегаю и набью вам трубку».
— Пожалуйста, — сказал он, добродушно передавая мне ключ.
В комнате Гульча я из только что начатого фунтового картуза «Жукова» набил предварительно вычищенную мною трубку и, вырубив огня, раскурил ее самым лакомым образом.
Возвращаясь через двор с пылающей трубкой, я с таким усердием затягивался благовонным дымом «Жукова», что чуть среди двора не упал от головокружения. Тем не менее трубка была доставлена до принадлежности, и черноморка на классной доске неоднократно доставляла мне удовольствие затянуться «Жуковым».
Между тем неразделимость угла на три части сильно меня мучила, и, понаторевший во всяких вспомогательных математических линиях и подходах, я однажды пришел к убеждению, что задача мною разрешена. Надо было видеть изумленные глаза, с которыми добрый Гульч смотрел на мой рисунок на классной доске.
— Да, воистину, wahrhattig! — восклицал он. — Он разрешил задачу!
Я стоял в каком-то онемении восторга, и вдруг в классе раздался раскатистый хохот Гульча.
— А это что такое? — сказал он, указывая на софистический прием, лишенный всякого математического основания. Фантастический мыльный пузырь мой исчез бесследно.
Латинских уроков Гульч давал нам ежедневно два: утром мы читали Ливия и через день переводили изустно с немецкого на латинский, а после обеда, с половины пятого до половины шестого, неизменно читали Энеиду, из которой, в случае плохой подготовки, приходилось учить стихи наизусть.
Со второго класса прибавлялся ежедневно час для греческого языка, с 11 1/2 ч. до 12 1/2; и если я по этому языку на всю жизнь остался хром, то винить могу только собственную неспособность к языкам и в видах ее отсутствие в школе туторства[83]. Ведь другие же мальчики начинали учиться греческой азбуке в один час со мною. И через год уже без особенного затруднения читали «Одиссею», тогда как я, не усвоив себе с первых пор основательно производства времен, вынужден был довольствоваться сбивчивым навыком.
Не меньшее горе испытал я с игрою на фортепьяно, которой отец положил обучать меня, соображая, что в каждом значительном доме, куда молодому человеку интересно будет войти, есть фортепьяно. То, что было у меня и с другими науками, и в особенности с греческой грамматикой, случилось и с музыкой. Учитель наименовал мне все семь фортепьянных косточек и указал соответственные им пятнышки на дискантных и басовых линейках, и я каждый раз должен был находить ноту на фортепьянах в последовательном алфавитном порядке, отсчитывая соответственное ей пятно и на печатных нотах, так как не умел назвать ее ни там, ни сям по прямому на нее взгляду. Конечно, такая двойная ежеминутная работа превышала мои силы. К этому присовокуплялось еще затруднение: одновременный счет пятнышек басового ключа. Неудивительно, что я объявил учителю музыки, что в единовременном разыгрывании скрипичного и басового ключей вижу невозможное чтение двух книг разом. Так промучился я с фортепьянами целый год у начального учителя; но ввиду безуспешности моих уроков, меня передали главному и более строгому учителю музыки. Когда я, развернувши свои ноты, сел за фортепьяно, учитель спросил меня, знаю ли я ноты? Желая быть правдивым, я сказал: «Не знаю».
— В таком случае вам нечего у меня делать, — сказал он.
Испугавшись дальнейших мытарств, я сказал: «Знаю, знаю», — и стал ковылять двухтактный марш и не более сложный вальс. С этой минуты все свободные часы я должен был сидеть в зале за одним из роялей, между прочим и с 11-ти до половины двенадцатого утра, когда к специальной закуске собирались учителя. Но ежедневные музыкальные мучения нисколько не подвигали дела, и казалось, что чем более я повторял заученные по пальцам пьесы, тем чаще пальцы мои сбивались с толку; так что однажды Крюммер за завтраком при всех учителях громко через всю залу спросил меня: «Ты, большун, или это все та же пьеса, которую ты два года играешь?» Чаша горести перелилась через край: на другой день, набравшись храбрости, я пошел в кабинет директора и объявил ему, что готов идти в карцер и куда угодно, но только играть больше не буду. Так расстались мы навсегда с богиней музыки, ко взаимному нашему удовольствию.
Еще в конце первого года моего пребывания в школе, когда товарищи, привыкнув ко мне, перестали меня дразнить, одно обстоятельство внесло в мою душу сильную смуту и заставило вокруг меня зашуметь злоязычие, подобно растроганной колоде пчел. Дядя, отец и мать по временам писали мне, и чаще всех дядя, изредка влагавший в свое письмо воспитаннику Шеншину сто рублей. Часто директор по получении почты сам входил в класс и, смотря на конверты, громко называл ученика по фамилии и говорил: «Это тебе, Шеншин», передавая письмо.
Но однажды отец без дальнейших объяснений написал мне, что отныне я должен носить фамилию Фет, причем самое письмо ко мне было адресовано: Аф. Аф. Фету. Вероятно отец единовременно писал об этом и Крюммеру, который, не желая производить смущения, продолжал передавать мне отцовские письма, говоря по-прежнему: «Это тебе, Шеншин», так как школа никакого Фета не знала. Как ни горька была мне эта нежданная новость, но убежденный, что у отца была к тому достаточная причина, я считал вопрос до того деликатным, что ни разу не обращался за разрешением его ни к кому. «Фет так Фет, — подумал я, — видно так тому и быть. Покажу свою покорность и забуду Шеншина, именем которого надписаны были все мои учебники». Затем в первом письме к дяде я подписался этой фамилией. Через месяц на это письмо я получил ответ дяди:
«Я ничего не имею сказать против того, что быть может в официальных твоих бумагах тебе следует подписываться новым именем; но кто тебе дал право вводить официальные отношения в нашу взаимную кровную привязанность? Прочитавши письмо с твоей новой подписью, я порвал и истоптал его ногами, и ты не смей подписывать писем ко мне этим именем».
Вся эта передряга могла бы остаться в семейном кругу, так как никто сторонний не читал моих писем. Но однажды Крюммер, стоя у самой двери классной, тогда как я сидел на противоположном ее конце, сказавши: «Шеншин, это тебе», — передал письмо близстоящему для передачи мне. При этом никому не известная фамилия Фет на конверте возбудила по уходе директора недоумение и шум.
— Что это такое? У тебя двойная фамилия? Отчего же нет другой? Откуда ты? Что ты за человек? и т. д., и т. д.
Все подобные возгласы и необъяснимые вопросы еще сильнее утверждали во мне решимость хранить на этот счет молчание, не требуя ни от кого из домашних объяснений…[84].
* * *
Троицын день у лютеран в особенном почете, и если я не ошибаюсь, в школе он праздновался в течение трех суток. Тут младших два класса под предводительством надзирателей уходили на какую-нибудь ближайшую ферму, а нам, старшим, предоставлялось право нанимать верховых лошадей и под предводительством надзирателя пускаться в довольно отдаленные прогулки.
Так однажды, я помню, мы не только добрались до Нейхаузена, с его историческими развалинами замка, но проехали и до Печор, где побывали и в монастыре, и в прилегающих к нему пещерах, углубляющихся в гору наподобие киевских, с которыми мне пришлось познакомиться позднее.
В пограничной Псковской корчме, где мы давали вздохнуть нашим наемным коням, мы наткнулись на великорослых русских троечников, везших какой-то товар. Обрадовавшись землякам, я тотчас же пустился в разговоры и должен был в свою очередь отвечать на их вопросы.
— Так сами-то вы, — добивался мой ражий собеседник, — как сюда зашли? — А затем, выслушав мои объяснения, прибавил: — Значит разными иностранными языками обучаетесь.
Когда мы за Нейхаузеном, перешедши через мосток, очутились на русской земле, я не мог совладать с закипевшим у меня в груди восторгом; слез с лошади и бросился целовать родную землю…
Однажды зимою в нашей школе появился толстоватый и неуклюжий на вид пожилой человек, приведший черного, кудрявого и высокорослого сына совершенно цыганского типа, но, как оказалось, получавшего до 15-летнего возраста воспитание в Швейцарии и говорившего только гнусливым и малопонятным французским языком.
У нас он поступил, несмотря на свой рост, в меньшой класс. Фамилия его была Воейков. Услыхав, что я русский, старик Воейков, проживший в гостинице около недели, выпросил у Крюммера позволение взять меня вместе с сыном своим к себе.
Я забыл сказать, что по рукописной книге борисовской библиотеки я дома познакомился с большинством первоклассных и второстепенных русских поэтов от Хераскова до Акимова[85] включительно, и помнил стихи, наиболее мне понравившиеся. Я заметил, что грубоватому Воейкову было приятно, что я помнил много куплетов из его «Сумасшедшего дома»[86]. Просил он меня принять участие в его сыне, но участие мое ни к чему не повело: молодой Воейков не оказывал никаких успехов ни по части общежительности и дружбы, ни по части наук. Кажется, в течение того же года отец взял его из школы, и дальнейшая судьба его мне неизвестна.
Мое качество коренного русского обратило на себя внимание лифляндского помещика испанского происхождения Перейры, обрусевшего в русской артиллерии, в которой, достигнув чина полковника, он женился на весьма милой дочери лифляндского богача Вульфа, обладавшего, как мне говорил сам директор Крюммер, 360-ю больших и малых имений и фольварков[87]. Отставной артиллерийский полковник Перейра получил за женою в приданое прекрасное имение и прижил с нею двух детей: мальчика Альфонса и девочку, носившую имя матери Елизавета. Молодой Перейра, малый моих лет, был во второй палате и никак не выше третьего класса, но зато отличался всякого рода шалостями и непокорством. Считая, вероятно, для сына, предназначаемого в военную службу, мое товарищество полезным, хотя бы в видах практики в русском языке, полковник сперва упросил Крюммера отпускать меня в гостиницу в дни, когда сам приезжал и брал к себе сына, а затем, узнавши, что изо всей школы на время двухмесячных каникул я один останусь в ней по отдаленности моих родителей, он упросил Крюммера отпустить меня к ним вместе с сыном. Полковник Перейра, оказалось, был человек зажиточный, содержавший имение и дом при помощи приветливой и красивой блондинки жены в примерном порядке. Мы с Альфонсом пользовались полною свободой, но причудам и шалостям последнего представлялось в имении отца слишком тесное поприще, так как всякая из выходок могла дойти до отца, который, поставляя меня в пример благонравия, не щадил сына резкими замечаниями. За неимением лучшего развлечения Альфонс забавлялся преследованием своей милой сестры, гонялся за ней и нещадно тере- бил ее за прекрасные светло-русые косы. Бедная девочка кричала и плакала; на гйлос ее выходила мать и останавливала шалуна, но по уходе ее преследования сестры начинались снова, так что я нередко вступался за девочку. Зато когда нас привозили по соседству в знаменитое имение Сербигаль к богатому деду Альфонса Вульфу, проказам и своеволию мальчика не было границ.
Вероятно, наша ночная оргия в Сербигале сильно не понравилась отцу Перейры, который, должно быть, пришел к заключению, что мое товарищество мало способствует нравственному воспитанию Альфонса. Перейры более не брали меня к себе на каникулы; и, оставаясь один в громадной пустой школе и пустом для меня городе, я слонялся бесцельно целый день, напоминая более всего собаку, потерявшую хозяина. К счастью моему, Гульч женился на очень милой девушке, и я хотя изредка заходил в небольшой их домик. Раза с два я увязывался даже за Гульчем на болотную охоту, причем городской его товарищ по охоте любезно снабжал меня двуствольным ружьем и патронташем. В первый раз я лихо срезал первым выстрелом взлетевшего передо мной бекаса, но затем промах следовал за промахом. На следующий раз, когда, уставши равняться со старыми охотниками, я поставил кремневую двустволку со взведенными курками прикладом на ягдташ, приклад, неожиданно соскочив, заставил меня внезапно сжать шейку ружья; палец мой попал на левую собачку, и раздался никем не ожидаемый выстрел. Мне было совестно и больно на обожженной правой щеке.
— Что такое? Что такое? — спрашивали мои товарищи, между которыми я шел, и вдруг Гульч, взглянув на меня, разразился гомерическим смехом: правая щека моя представляла подбородок негра. При вспышке полка, находящаяся прямо против правой щеки, закоптила последнюю и глубоко загнала в нее пороховые зерна.
На другой день Крюммер, увидавши на полу моей классной около умывальника громадную дохлую крысу, спросил: «Это, должно быть, та дичина, которую ты вчера застрелил?»
Чтобы не остаться татуированным на всю жизнь, я вынужден был иглою выковыривать засевшие в щеку порошинки.
Вследствие неудачи я опять пошел по целым дням бесцельно и тоскливо слоняться по городу, причем щеголял пестрым бухарским архалуком[88], купленным мною, по примеру одного из франтоватых товарищей, у проезжего татарина.
Но вот с окончанием каникул наступила и вторая половина семестра, венчающегося для лучших учеников переходом в высший класс. Каждый раз перед концом семестра и роспуском учеников Крюммер после молитвенного пения под орган говорил напутственную речь, из которых одна запечатлелась в моей памяти. Смысл ее был приблизительно таков:
«Мои милые (meine lieben!), родители ваши поместили вас сюда в надежде, что в своей школе я снабжу вас сведениями, необходимыми для образованного человека. При настоящем возвращении вашем под домашний кров, родители вправе спросить, в какой мере вы воспользовались годичным сроком для преуспеяния, и насколько я исполнил долг свой, сообщая вам эти сведения? Конечно, способы сообщения сведений могут быть, подобно всяким иным усилиям, добросовестны и умелы, или, напротив, небрежны и неудовлетворительны; но люди, помышляющие только о ваших успехах, могли бы отчасти смотреть, на меня, как на человека, обладающего возможностью, помимо всяких с вашей стороны трудов, влить вам в голову надлежащие сведения. Не буду говорить, что последнего я сделать не могу; но скажу, что если бы мог, то и тогда бы не делал, так как главное значение школы в моих глазах не те или другие сведения, которые сами по себе большею частью являются совершенно бесполезными в жизни, а в привычке к умственному труду и способности в разнообразии жизненных явлений останавливаться на самых в данном отношении существенных. Такой умственной зрелости возможно достигнуть только постепенным упражнением в логическом понимании вещей, понимании, в котором небрежный пропуск одного связующего звена делает всю дальнейшую работу несостоятельной. Я, как вы знаете, ничего не имею против сведений, приобретаемых памятью. Все географические немые карты в нашей школе составлены и изданы мной, между тем история и география составляют только богатство памяти, тогда как упражнять разум для будущего правильного мышления можно только над математикой и древними языками».
Мне доходил 17-й год, и я рассчитывал попасть в первый класс, так как в изустных и письменных переводах с немецкого на латинский и в классе «Энеиды», равно как и на уроках математики и физики, я большею частию занимал второе место и нередко попадал на первое. Немецкими сочинениями моими учитель был весьма доволен и ставил их в пример прочим ученикам-немцам. При этом не могу не вспомнить о русских стихотворных потугах, иногда овладевавших мною при совершенно неблагоприятных условиях. В тихие минуты полной беззаботности я как будто чувствовал подводное вращение цветочных спиралей, стремящихся вынести цветок на поверхность; но в конце концов оказывалось, что стремились наружу одни спирали стеблей, на которых никаких цветов не было. Я чертил на своей аспидной доске какие-то стихи и снова стирал их, находя их бессодержательными.
Любивший надо мною подтрунить, Крюммер говорил в моем присутствии кому-то, чуть ли не полковнику Перейре, будто я пишу на аспидной доске стихи известных русских поэтов и потом выдаю их за свои. А между тем удивительно, что Крюммер мог говорить о моих мараниях стихов, так как я их никому не показывал.
Вдруг в конце декабря совершенно для меня нежданно явился отец и Сказал, что решено не оставлять меня в таком отдалении от родных, а везти в Москву для приготовления в университет.
— А ну сыграй-ка на фортепьянах, — сказал отец, когда я пришел к нему в гостиницу.
Я вынужден был рассказать о случившемся, к немалому неудовольствию отца.
III
На другой день мы были уже в кибитке и через Петербург доехали в Москву. Здесь, по совету Новосильцова, я отдан был для приготовления к университету к профессору Московского университета, знаменитому историку М. П. Погодину[89].
В назначенный час я явился к Погодину,
Вместо всякого экзамена Михаил Петрович вынес мне Тацита и, снабдив пером и бумагой, заставил в комнате, — ведущей к нему в кабинет, перевести страницу без пособия лексикона. Не знаю, в какой степени удовлетворительно исполнил я свою задачу; полагаю даже, что почтенный Михаил Петрович и не проверял моего перевода по оригиналу, но на другой день я вполне устроился в отдельном левом флигеле его дома.
Помещение мое состояло из передней и комнаты, выходящей задним окном на Девичье поле, Товарищем моим по комнате оказалcя некто Чистяков, выдержавший осенью экзамен в университет, но не допущенный в число студентов на том основании, что одноклассники его по гимназии, из которой он вышел, еще не окончили курса. Таким образом, жалуясь на судьбу, Чистяков снова принялся за Цицерона, «Энеиду» и исторические тетрадки Ивана Дмитр. Беляева, которого погодинские школьники прозывали «хромбесом» (он был хром), в отличие от латинского учителя Беляева, который прозывался «черненьким».
Когда последний в виде экзамена развернул Передо мною наудачу «Энеиду», и я, не читая по-латыни, стал переводить ее по-русски, он закрыл книгу и поклонившись сказал: «Я не могу вам давать латинских уроков». И действительно, с той поры до поступления в университет я не брал латинской книги в руки. Равным образом для меня было совершенно бесполезно присутствовать на уроках математики, даваемых некоим магистром Хилковым школьникам, проживавшим в самом доме Погодина и состоявшим в ведении надзирателя немца Рудольфа Ивановича, обанкрутившегося золотых дел мастера. Рудольф Иванович к нам с Чистяковым вхож не был; но и у своих шаловливых и задорных учеников не пользовался особым вниманием и почетом.
Обедать и ужинать мы ходили в дом за общий стол с десятком учеников, составлявших Погодинскую школу, в которой продовольственною частью занималась старуха мать Погодина, Аграфена Михайловна, отличавшаяся крайней бережливостью…
* * *
Не одним примером долбления служил для меня, провинциального затворника, бывалый в своем роде Чистяков. При его помощи я скоро познакомился в Зубовском трактире с цыганским хором, где я увлекся красивою цыганкой. Заметив, что у меня водятся карманные деньжонки, цыгане заставляли меня платить им за песни и угощать их то тем, то другим. Такое увлечение привело меня не только к растрате всех наличных денег, но и к распродаже всего излишнего платья, начиная с енотовой шубки до фрачной пары. При этом дело иногда не обходилось без пьянства почти до бесчувствия. Надо сказать, что окно наше было окружено с обеих сторон колоннами, опиравшимися на высокий каменный цоколь, подымавшийся аршина на два с половиною от земли. Окно с вечера запиралось ставнями с Девичьего поля. Выходить ночью из нашего флигеля можно было не иначе, как по стеклянной галерее дома через парадную дверь. Подымать подобный шум, тем более летом, было немыслимо, так как Мих. Петр., работая в кабинете нередко за полночь, оставлял дверь на балкон отпертою и по временам выходил на свежий воздух. Поэтому мы, тихонько раскрыв свое окно и прикрывши отверстие снаружи ставнем, спрыгивали с цоколя на Девичье поле к подговоренному заранее извозчику, который и вез нас до трактира
…перед самым вступительным экзаменом вошел прихрамывая человек высокого роста, лет под 30, с стальными очками на носу, и сказал: «Господа, честь имею рекомендоваться, ваш будущий товарищ Иринарх Иванович Введенский»[90].
Оказалось, что он чуть ли не исключенный за непохвальное поведение из Троицкой духовной академии, недавно вышел из больницы и, не зная, что начать, обратился с предложением услуг к Погодину. Михаил Петрович, обрадовавшись сходному по цене учителю, пригласил его остаться у него и помог перейти без экзаменов на словесный факультет. Не только в тогдашней действительности, но и теперь в воспоминании не могу достаточно надивиться на этого человека. Не помню в жизни более блистательного образчика схоласта. Можно было подумать, что человек этот живет исключительно дилеммами и софизмами, которыми для ближайших целей управляет с величайшей ловкостью.
Познакомившись со Введенским хорошо, я убедился, что он в сущности знал только одно слово: «хочу»; но что во всю жизнь ему даже не приходил вопрос, хорошо ли, законно ли его хотенье. Так, первым рассказом его было, как он довел до слез в больнице сердобольную барыню, пришедшую к нему в комнату после пасхальной заутрени поздравить его со словами: «Христос воскрес!». «Вместо обычного „воистину воскрес“, — говорил Введенский, — я сказал ей: „Покорно вас благодарю“. Озадаченная сердобольная назвала меня безбожником. „Не я безбожник, отвечал я, а вы безбожница. У вас не только нет бога, но вы даже не имеете о нем никакого понятия. Позвольте вас спросить, что вы подразумеваете под именем бога?“ — Конечно, я хохотал над всеми нелепостями, которые она по этому вопросу начала бормотать и, убедившись, вероятно, в полном своем неведении, разревелась до истерики».
И по переходе в университет Введенский никогда не ходил на лекции. Да и трудно себе представить, что мог бы он на них почерпнуть. По-латыни Введенский писал и говорил так же легко, как и по-русски, и хотя выговаривал новейшие языки до неузнаваемости, писал по-немецки, по-французски, по-английски и по-итальянски в совершенстве. Генеалогию и хронологию всемирной и русской истории помнил в изумительных подробностях. Вскоре он перешел в наш флигель…
* * *
— Михаил Петрович, — сказал я, входя, за несколько дней до вступительных экзаменов в университет, к Погодину, — не зная ничего о формальных порядках, прошу вашего совета касательно последовательных мер для поступления в университет.
— И прекрасно делаете, почтеннейший. Идешь, надо узнать, к кому обратиться в университете: к сторожу или к его жене. А какой факультет?
— На юридический.
— Ну хорошо, я там секретарю скажу, а вы обратитесь к нему, и он вам все сделает.
Начались экзамены. Получить у священника протоиерея Терновского хороший балл было отличной рекомендацией, а я еще по милости Новосельских семинаристов был весьма силен в катехизисе[91] и получил пять. Каково было мое изумление, когда на латинском экзамене, в присутствии главного латиниста Крюкова[92] и декана Давыдова[93], профессор Клин подал мне для перевода Корнелия Непота. Чтобы показать полное пренебрежение к задаче, я, не читая латинского текста, стал переводить и получил пять с крестом.
Из истории добрейший Погодин, помимо всяких Ольговичей, спросил меня о Петре Великом, и при вопросе о его походах я назвал ему поход к Азовскому морю, Северную войну, Полтавскую битву и Прутский поход.
Из математики я, к счастию, услыхал от добрых людей, что Дмитрий Матвеевич Перевощиков, спрашивая у экзаменующегося! «Что вы знаете?» — терпеть не мог утвердительных ответов и тотчас же доказывал объявившемуся знающим хотя бы четыре первых правила, что он ничего не знает. Предупрежденный, я сказал, что проходил до таких-то пределов и, удачно разрешив в голове задачу, получил четверку.
Таким образом, поступление мое в университет оказалось блестящим, и я до того возгордился, что написал Крюммеру самохвальное письмо. В последний день экзаменов я заказал себе у военного портного студенческий сюртук, объявив, что не возьму его, если он не будет в обтяжку. Я знал некоторых, не менее меня гордых первым мундиром, как вывескою известной зрелости для научных трудов. Но мой восторг мундиром был только предвкушением офицерского, составлявшего мой всегдашний идеал. Независимо от того, что все семейные наши предания не знали другого идеала, офицерский чин в то время давал потомственное дворянство, и я не раз слыхал от отца, по поводу какого-то затруднения, встреченного им в герольдии: «Мне дела нет до их выдумок; я кавалерийский офицер и потому потомственный дворянин».
В таких кавалерийских стремлениях надо, кажется, искать разгадки все более и более охватывавшего меня чувства отвращения к юридическому поприщу, на котором я вместо гусара видел себя крючкотворцем. И вот не прошло двух недель, как я появился у Погодина в кабинете со следующей речью}
— Михаил Петрович, не откажите еще раз в вашей помощи. Я ненавижу законы и не желаю оставаться на юридическом факультете, а потому помогите мне перейти на словесный.
— Вот, вот, подумаешь, у теперешней молодежи какие разговоры! Ненавижу законы! Что ж вы, почтеннейший, беззаконник, что ли? Ведь на словесный факультет надо додерживать экзамен из греческого.
— Буду держать, Михаил Петрович.
— Да ведь вам надо сильно дорожить университетом, коли вы человек без имени. Я, почтеннейший, студентов у себя в доме не держу, но для вас делаю исключение до Нового года.
Добрейший профессор Василий Иванович Оболенский развернул мне первую страницу «Одиссеи», хорошо мне знакомую, и поставил пять. И вот я поступил на словесный факультет.
Когда минула горячая пора экзаменов, и Введенский надел тоже студенческий мундир, мы трое стали чаще сходиться по вечерам к моему или медюковскому[94] самовару. Заметив, вероятно, энтузиазм, с которым добродушный и сирый юноша вспоминал о своем воспитателе Ганзиере, прямолинейный Введенский не отказывал себе в удовольствии продернуть бедного Медюкова, сильно отдававшего польским духом.
— Позвольте, господа, — восклицал Введенский, — чтобы правильнее относиться к делу, следует понять, что Ганзиер миф. Для каждого понимающего, что такое миф, несомненно, что когда идет дело о русском юноше, получающем образование через сближение с иностранцами, то невольно возникает образ Ганзы, сообщившей нашим непочатым предкам свое образование. Во избежание некоторой сложности такого представления, миф уловляет тождественными звуками нужное ему олицетворение, и появляется Ганзиер миф.
Надо было видеть, до какой степени оскорбляло Медюкова такое отношение к его воспитателю. Он кипятился, выходил из себя и, наконец, со слезами просил не говорить этого. Таким образом миф Ганзиер был оставлен в покое.
Никогда с тех пор не приводилось мне видеть такого холодного и прямолинейного софиста, каким был наш Иринарх Иванович Введенский.
Оглядываясь в настоящее время на эту личность, я могу сказать, что это был тип идеального нигилиста. Ни в политическом, ни в социальном отношении он ничего не желал, кроме денег, для немедленного удовлетворения мгновенных прихотей, выражавшихся в самых примитивных формах. Едва ли он различал непосредственным чувством должное от недолжного.
Во всем, что называется убеждением, он представлял белую страницу, но в умственном отношении это была машина для выделки софизмов, наподобие специальных машин для шитья или вязанья чулок.
— Позвольте, — говорил он, услыхав самую несомненную вещь, — такое убеждение требует доказательств; а их в данном случае не только нет, но есть множество в пользу противоположного.
Но и при такой прямолинейности возможны, не скажу, страсти, а минутные увлечения. Так, нескольких лишних рюмок водки или хересу было достаточно, чтобы Введенский признался нам в любви, которую питает к дочери троицкого полицмейстера Засицкого, за которою ухаживает какой-то более поощряемый офицер.
Однажды он даже прочел мне письмо, написанное им к разборчивой матери девушки, в котором он два пола сравнивал с двумя половинками разрезанного яблока.
В настоящую минуту мне ясно, до какой степени это сухое и сочиненное сравнение обличало головной характер его отношений к делу. Под влиянием неудачи он вдруг неведомо отчего приступил ко мне с просьбой написать сатирические стихи на совершенно неизвестную мне личность офицера, ухаживающего за предметом его страсти.
Несколько дней мучился я неподсильною задачей и наконец разразился сатирой, которая, если бы сохранилась, прежде всего способна бы была пристыдить автора; но не так взглянул на дело Введенский и сказал: «Вы несомненный поэт, и вам надо писать стихи». И вот жребий был брошен.
С этого дня, вместо того чтобы ревностно ходить на лекции, я почти ежедневно писал новые стихи, все более и более заслуживающие одобрения Введенского.
Но судьбе угодно было с дороги мертвящей софистики перевести меня на противоположную стезю беззаветного энтузиазма.
Познакомившись в университете, по совету Ив. Дм. Беляева, с одутловатым, сероглазым и светло-русым Григорьевым[95], я однажды решился поехать к нему в дом, прося его представить меня своим родителям.
Дом Григорьевых с постоянно запертыми воротами и калиткою на задвижке находился за Москвой-рекой на Малой Полянке, в нескольких десятках саженей от церкви Спаса в Наливках. Приняв меня как нельзя более радушно, отец и мать Григорьева просили бывать у них по воскресеньям. А так как я в это время ездил к ним на парном извозчике, то уже на следующее воскресенье старики буквально доверили мне свозить их Полонушку в цирк. До той поры они его ни с кем и ни под каким предлогом не отпускали из дому. Оказалось, что Аполлон Григорьев, невзирая на примерное рвение к наукам, успел, подобно мне, заразиться страстью к стихотворству, и мы в каждое свидание передавали друг другу вновь написанное стихотворение.
Свои я записывал в отдельную желтую тетрадку[96], и их набралось уже до трех десятков. Вероятно, заметив наше взаимное влечение, Григорьевы стали поговаривать, как бы было хорошо, если бы, отойдя к Новому году от Погодина, я упросил отца поместить меня в их доме вместе с Аполлоном, причем они согласились бы на самое умеренное вознаграждение.
Все мы хорошо знали, что Николай Васильевич Гоголь проживает на антресолях в доме Погодина, но никто из нас его не видал. Только однажды, всходя на крыльцо погодинского дома, я встретился с Гоголем лицом к лицу. Его горбатый нос и светло-русые усы навсегда запечатлелись в моей памяти, хотя это была единственная в моей жизни с ним встреча. Не будучи знакомы, мы даже друг другу не поклонились.
О своих университетских занятиях в то время совестно вспомнить. Ни один из профессоров, за исключением декана Ив. Ив. Давыдова, читавшего эстетику, не умел ни на минуту привлечь моего внимания, и, посещая по временам лекции, я или дремал, поставивши кулак на кулак, или старался думать о другом, чтобы не слыхать тоску наводящей болтовни. Зато желтая моя тетрадка все увеличивалась в объеме, и однажды я решился отправиться к Погодину за приговором моему эстетическому стремлению.
— Я вашу тетрадку, почтеннейший, передам Гоголю, — сказал Погодин, — он в этом случае лучший судья.
Через неделю я получил от Погодина тетрадку обратно со словами: «Гоголь сказал, это несомненное дарование».
* * *
Однажды, когда, пуская дым из длиннейшего гордового чубука, я читал какой-то глупейший роман, дверь отворилась и на пороге совершенно неожиданно появился отец в медвежьей шубе. Зная от меня, как враждебно смотрит отец мой на куренье табаку, не куривший Введенский, услыхав о приезде отца, вбежал в комнату и сказал: «Извини, что помешал, но я забыл у тебя свою трубку и табак».
Эта явная ложь до того не понравилась отцу, что он впоследствии не иначе говорил о Введенском, как называя его «соловьем-разбойником» — Ты говорил мне, — сказал он, — о семействе ^Григорьевых. Поедем к ним. Я очень рад познакомиться с хорошими людьми. Да и тебе, по правде-то сказать, было бы гораздо полезнее попасть под влияние таких людей вместо общества «соловья-разбойника».
И при этом отец не преминул прочитать наизусть один из немногих стихов, удержавшихся в его памяти вследствие их назидательности:
«Простой цветочек дикий Нечаянно попал в один пучок с гвоздикой. И что же? От нее душистым стал и сам. Хорошее всегда знакомство в прибыль нам».У Григорьевых взаимное впечатление отцов наших оказалось самым благоприятным. Старик Григорьев сумел придать себе степенный и значительный тон, упоминая имена своих значительных товарищей по дворянскому пансиону. Что же касается до моего отца, то напускать на себя серьезность и сдержанность ему никакой надобности не предстояло.
Мать Григорьева Татьяна Андреевна, скелетоподобная старушка, поневоле показалась отцу солидною и сдержанной, так как при незнакомых она воздерживалась от всякого рода суждений. Мой товарищ Аполлон не мог в то время кому бы то ни было не понравиться. Это был образец скромности и сдержанности. Конечно, родители не преминули блеснуть его действительно прекрасной игрой на рояле.
Пока мы с Аполлоном ходили осматривать антресоли, где нам предстояло поместиться, родители переговорили об условиях моего помещения на полном со стороны Григорьевых содержании. В виду зимних и продолжительных летних вакаций, годовая плата была установлена в 300 рублей.
На другой день утром Илья Афанасьевич перевез немногочисленное мое имущество из погодинского флигеля к Григорьевым, а я, проводивши отца до зимней повозки, отправился к Григорьевым на новоселье[97].
* * *
Дом Григорьева, с парадным крыльцом со двора, состоял из каменного подвального этажа, занимаемого кухней, служившею в то же время и помещением для людей, и опиравшегося на нем деревянного этажа, представлявшего, как большинство русских домов, венок комнат, расположенных вокруг печей. С одной стороны дома, обращенной окнами к подъезду, была передняя, зала, угольная гостиная с окнами на улицу, и далее по другую сторону дома столовая, затем коридор, идущий обратно по направлению к главному входу. По этому коридору была хозяйская спальня и девичья. Если к этому прибавить еще комнату налево из передней, выходящую окнами в небольшой сад, то перечислены будут все помещения, за исключением антресолей. Антресоли, куда вела узкая лестница с двумя заворотами, представляли два совершенно симметрических отделения, раз- деленные перегородкой. В каждом отделении было еще по поперечной перегородке, в качестве небольших спален. Впоследствии я узнал, что в правом отделении, занятом мною, долго проживал дядька француз, тогда как молодой Аполлон Александрович жил в отделении налево, которое занимал и в настоящее время. Француз кончил свою карьеру у Григорьевых, по рассказам Александра Ивановича, тем, что за год до поступления Аполлона в университет напился на святой до того, что, не различая лестницы, слетел вниз по всем ступенькам. Рассказывая об этом, Александр Иванович прибавлял: «Снисшел еси в присподняя земли».
Для меня следом многолетнего пребывания француза являлось превосходное знание Аполлоном французского языка, с одной стороны, и с другой — бесcмысленное повторение пьяным поваром Игнатом французских слов, которых он наслышался, прислуживая гувернеру.
— Коман ву порте ву? Вуй мосье. Пран дю те ю.[98]
Ал. Ив. Григорьев и родной брат его Николай Иванович родились в семье владимирского помещика; но поступя на службу, отказались от небольшого имения в пользу преклонной матери и двух, если не трех, сестер, старых девиц. Николай Иванович служил в каком-то пехотном полку, а Александра Ивановича я застал секретарем в московском магистрате. Жалованье его, конечно, по тогдашнему времени было ничтожное, а размеров его дохода я даже и приблизительно определить не берусь. Дело в том, что жили Григорьевы если не изящно, зато в изобилии, благодаря занимаемой им должности.
Лучшая провизия к рыбному и мясному столу появлялась из Охотного ряда даром. Полагаю, что корм пары лошадей и прекрасной молочной коровы, которых держали Григорьевы, им тоже ничего не стоил.
По затруднительности тогдашних путей сообщения, Григорьевы могли снабжать мать и сестер только вещами, не подвергающимися порче, но зато последними к праздникам не скупились. К святой или по просухе через знакомых подрядчиков высылался матери годовой запас чаю, кофею и красного товару.
В шестилетнее пребывание мое в доме Григорьевых я успел лично познакомиться с гостившими у них матерью и сестрами.
Но о холостой жизни Александра Ивановича и женитьбе его на Татьяне Андреевне я мог составить только отрывочные понятия из слов дебелой жены повара Лукерьи, приходившей в отсутствие Григорьевых, отца и сына, наверх убирать комнаты и ненавидевшей свою госпожу до крайности. От Лукерьи я слыхал, что служивший первоначально в сенате Александр Иванович увлекся дочерью кучера и, вследствие препятствия со стороны своих родителей к браку, предался сильному пьянству. Вследствие этого он потерял место в сенате и, прижив с возлюбленною сына Аполлона, был поставлен в необходимость обвенчаться с предметом своей страсти. Когда я зазнал Алекс. Ив., он не брал в рот капли горячительных напитков. Так как, верный привычке не посещать лекций, я оставался дома, то, проходя зачем-либо внизу, не раз слыхивал, как Татьяна Андреевна громким шепотом читала старинные романы, вроде «Постоялый двор», и, слыша шипящие звуки: «по-слее-воос-хоож-деее-ни-яяя солн-цааа», я убедился, что грамота нашей барыне не далась, и что о чтении писанного у нее не могло быть и речи. Тем не менее голос ее был в доме решающим, едва ли во многих отношениях не с большим правом, чем голос самого старика. Осуждать всегда легко, но видеть и понимать далеко не легко. А так как дом Григорьевых был истинною колыбелью моего умственного я, то позволю себе остановиться на некоторых подробностях в надежде, что они и мне и читателю помогут разъяснить полное мое перерождение из бессознательного в более сознательное существо. Добродушный и шутливый по природе, Александр Иванович был человек совершенно беспечный. Это основное качество он передал и сыну. Я нередко присутствовал при незначительных наставлениях матери сыну, но никогда не слыхал, чтобы она наставляла своего мужа. Тем не менее чувствовалось в воздухе, что тот заматерелый догматизм, под которым жил весь дом, исходил от Татьяны Андреевны, а не от Александра Ивановича, который по рефлексии догматически и беззаветно подчинялся своей жене.
Утром в 7 1/2 часов летом и зимой, когда я еще валялся на кровати, Аполлон, или, как родители его называли, Полошенька, вскакивал с кровати, одевался и бежал в залу к рояли, чтобы звуками какой-либо сонаты будить родителей. В 8 часов отец, до половины одетый, но в теплой фуфайке и ермолке на обнаженной голове, выходил вместе с женой, одетою в капот и неизменный чепчик с оборкою, в столовую к готовому самовару. Там небольшая семья пила чай, присылая мне мою кружку наверх. Затем Александр Иванович, наполнив свежестертым табаком круглую табакерку, шел в спальню переменить ермолку на рыжеватый, деревянным маслом подправленный, парик и, надев форменный фрак, поджидал Аполлона, который в свою очередь в студенческом сюртуке и фуражке бежал пешком за отцом через оба каменных моста и Александровский сад до Манежа, где Аполлон сворачивал в университет, а отец продолжал путь до присутственных мест. К двум часам обыкновенно кучер Василий выезжал за Аполлоном, а старик большею частию возвращался домой пешком. В три часа мы все четверо сходились внизу в столовой за сытным обедом. После обеда старики отправлялись вздремнуть, а мы наверх — предаваться своим обычным занятиям, состоявшим главным образом для Аполлона или в зубрении лекций или в чтении, а для меня отчасти тоже в чтении, прерываемом постоянно возникающим побуждением помешать Аполлону и увлечь его из автоматической жизни памяти хотя бы в самую нелепую жизнь всякого рода причуд. В 8 часов мы снова нередко сходили чай пить и затем уже возвращались в свои антресоли до следующего утра. Так, за исключением праздничных дней, в которые Аполлон шел с отцом к обедне к Спасу в Наливках, проходили дни за днями без малейших изменений.
Казалось, трудно было бы так близко свести на долгие годы две такие противоположные личности, как моя и Григорьева. Между тем нас соединяло самое живое чувство общего бытия и врожденных интересов. Я знал и чувствовал, до какой степени Григорьев, среди стеснительной догматики домашней жизни, дорожил каждою свободною минутой для занятий; а между тем я всеми силами старался мешать ему, прибегая иногда к пытке, выстраданной еще в Верро и состоящей в том, чтобы, поймав с обеих сторон кисти рук своей жертвы и подсунув в них снизу под ладони большие пальцы, вдруг вывернуть обе свои кисти, не выпуская рук противника, из середины ладонями кверху; при этом не ожидавший такого мучительного и беспомощного положения рук противник лишается всякой возможности защиты. При таких отношениях надо было бы ожидать между нами враждебных чувств, но в сущности было наоборот. Я от души любил свою жертву, а Аполлон своего мучителя, и если слово «воспитание» не пустой звук, то наше сожительство лучше всего можно сравнить с точением одного ножа о другой, хотя со временем лезвия их получат совершенно различное значение.
Связующим нас интересом оказалась поэзия, которой мы старались упиться всюду, где она нам представлялась, принимая иногда первую лужу за Ипокрену[99].
Начать с того, что Александр Иванович сам склонен был к стихотворству и написал комедию, из которой отрывки нередко декламировал с жестами; но Аполлон, видимо, стыдился грубого и безграмотного произведения отцовской музы. Зато сам он с величайшим одушевлением декламировал свою драму в стихах под названием: «Вадим Нижегородский». Помню, как, надев шлафрок на опашку, вроде простонародного кафтана, он, войдя в дверь нашего кабинета, бросался на пол, восклицая:
«О, земля моя родимая, Край отчизны, снова вижу вас!.. Уж три года протекли с тех пор, Как расстался я с отечеством. И те три года за целый век Показались мне, несчастному».Конечно, в то время я еще не был в силах видеть все неуклюжее пустозвонство этих мертворожденных фраз; но что это не ладно, я тотчас почувствовал и старался внушить это и Григорьеву. Так родилась эпиграмма:
«Григорьев, музами водим, Налил чернил на сор бумажный И вопиет с осанкой важной: Вострепещите! — мой Вадим».Писал Аполлон и лирические стихотворения, выражавшие отчаяние юноши по случаю отсутствия в нем поэтического таланта.
«Я не поэт, о боже мой!» — восклицал он.
«Зачем же злобно так смеялись, Так ядовито надсмехались Судьба и люди надо мной?»По этим стихам надо было бы ожидать в Аполлоне зависти к моим стихотворным попыткам. Но у меня никогда не было такого ревностного поклонника и собирателя моих стихотворных набросков, как Аполлон. Вскорости после, моего помещения у них в доме моя желтая тетрадка заменена была тетрадью, тщательно переписанною рукой Аполлона. Бывали случаи, когда мое вдохновение воплощало переживаемую нами сообща тоскливую пустоту жизни. Сидя за одним столом в течение долгих зимних вечеров, мы научились понимать друг друга на полуслове, причем отрывочные слова, лишенные всякого значения для постороннего, приносили нам с собою целую картину и связанное с ними знакомое ощущение.
— Помилуй, братец, — восклицал Аполлон, — чего стоит эта печка, этот стол с нагоревшей свечею, эти замерзлые окна! Ведь это от тоски пропасть надо!
И вот появилось мое стихотворение
«Не ворчи, мой кот мурлыка…»долго приводившее Григорьева в восторг. Чуток он был на это, как Эолова арфа.
Помню, в какое восхищение приводило его маленькое стихотворение «Кот поет, глаза прищуря», над которым он только восклицал: — Боже мой, какой счастливец этот кот и какой несчастный мальчик!
Аполлон в совершенстве владел французским языком и литературой, и при нашей встрече я застал его погруженным в «Notre Dame de Paris»[100] и драмы Виктора Гюго. Но главным в то время идолом Аполлона был Ламартин. Последнее обстоятельство было выше сил моих. Несмотря на увлечение, с которым я сам перевел «Озеро» Ламартина, я стал фактически, чтением вслух убеждать Григорьева в невозможной прозаичности бесконечных стихов Ламартина и довел Григорьева до того, что он стал бояться чтения Ламартина, как фрейлины Анны Иоановны боялись чтения Тредьяковского. Зато как описать восторг мой, когда после лекции, на которой Ив. Ив. Давыдов с похвалою отозвался о появлении книжки стихов Бенедиктова[101], я побежал в лавку за этой книжкой?!
— Что стоит Бенедиктов? — спросил я приказчика.
— Пять рублей, — да и стоит. Этот почище Пушкина-то будет.
Я заплатил деньги и бросился с книжкою домой, где целый вечер мы с Аполлоном с упоением завывали при ее чтении. Но, поддаваясь байроновскофранцузскому романтизму Григорьева, я вносил в нашу среду не только поэта-мыслителя Шиллера, но, главное, поэта объективной правды Гете. Талантливый Григорьев сразу убедился, что без немецкого языка серьезное образование невозможно, и, при своей способности, прямо садился читать немцев, спрашивая у меня незнакомые слова и обороты. Через полгода Аполлон редко уже прибегал к моему оракулу, а затем стал самостоятельно читать фило- софские книги, начиная с Гегеля, которого учение, распространяемое московскими юридическими профессорами с Редкиным и Крыловым во главе, составляло главнейший интерес частных бесед студентов между собою. Об этих беседах нельзя не вспомянуть, так как настоящим заглавием их должно быть Аполлон Григорьев. Как это сделалось, трудно рассказать по порядку; но дело в том, что со временем, по крайней мере через воскресенье, на наших мирных антресолях собирались наилучшие представители тогдашнего студенчества. Появлялся товарищ и соревнователь Григорьева по юридическому факультету, зять помощника попечителя Голохвастова Ал. Вл. Новосильцев, всегда милый, остроумный и оригинальный. Своим голосом, переходящем в высокий фальцет, он утверждал, что Московский университет построен по трем идеям: тюрьмы, казармы и скотного двора, и его шурин приставлен к нему в качестве скотника. Приходил постоянно записывающий лекции и находивший еще время давать уроки будущий историограф С. М. Соловьев. Он, по тогдашнему времени, был чрезвычайно начитан и, располагая карманными деньгами, неоднократно выручал меня из беды, давая десять рублей взаймы. Являлся веселый, иронический князь Влад. Ал. Черкасский, с своим прихихикиванием через зубы, выдающиеся вперед нижней челюстью. Снизу то и дело прибывали новые подносы со стаканами чаю, ломтиками лимона, калачами, сухарями и сливками. А между тем в небольших комнатах стоял стон от разговоров, споров и взрывов смеха. При этом ни малейшей тени каких-либо социальных вопросов. Возникали одни отвлеченные и общие: как, например, понимать по Гегелю отношение разумности к бытию?
— Позвольте, господа, — восклицал добродушный Н. М. О-в, — доказать вам бытие божие математическим путем. Это неопровержимо.
Но не нашлось охотников убедиться в неопровержимости этих доказательств.
— Конечно, — кричал светский и юркий Жихарев, — Полонский несомненный талант. Но мы, господа, непростительно проходим мимо такой поэтической личности, как Кастарев:
Земная жизнь могла здесь быть случайной, Но не случайна мысль души живой.— Кажется, господа, стихи эти не требуют сторонней похвалы.
— Натянутость мысли, — говорит прихихикивая Черкасский, — не всегда бывает признаком ее глубины, а иногда прикрывает совершенно противоположное качество.
— Это противоположное, — пищит своим фальцетом Новосильцев, — имеет несколько степеней: il у а des sots simples, des sots graves et des sots superfins[102].
Что касается меня, то едва ли я был не один из первых, почуявших несомненный и оригинальный талант Полонского[103]. Я любил встречать его у нас наверху до прихода еще многочисленных и задорных спорщиков, так как надеялся услыхать новое его стихотворение, которое читать в шумном сборище он не любил. Помню, в каком восторге я был, услыхав в первый раз:
Мой костер в тумане светит, Искры гаснут на лету…Появлялся чрезвычайно прилежный и сдержанный С. С. Иванов, впоследствии товарищ попечителя Московского университета. С великим оживлением спорил, сверкая очками и темными глазками, кудрявый К. Д. Кавелин, которого кабинет в доме родителей являлся в свою очередь сборным пунктом нашего кружка.
Приходил к нам и весьма способный и энергичный, Шекспиру и в особенности Байрону преданный, Студицкий. Жаль, что в настоящее время я не помню ни одного из превосходных его стихотворных переводов еврейских мелодий Байрона. Вынужденный тоже давать уроки, он всем выхвалял поэтический талант одного из своих учеников, помнится, Карелина. Из приводимых Студицким стихов юноши, в которых говорится о противоположности чувств, возбуждаемых в нем окружающим его буйством жизни, я помню только четыре стиха:
«Как часто внимая их песням разгульным, Один я меж всеми молчу, Как часто, внимая словам богохульным, Тихонько молиться хочу».
Что Григорьев с 1-го же курса совершенно безнамеренно сделался центром мыслящего студенческого кружка, можно видеть из следующего случая. Григорьев был записан слушателем, и в числе других был причиной неоднократно повторяемой деканом юридического факультета Крыловым остроты, что слушатели и суть действительные слушатели. Вспоминаю об этом, желая указать на то, что какой-то слушатель Григорьев не мог представлять никакого интереса в глазах властительного и блестящего попечителя графа Строганова. Между тем Аполлон был потребован к попечителю, который спросил его по-французски, им ли было написано французское рассуждение, поданное при полугодичном испытании? Оно так хорошо, прибавил граф, что я усомнился, чтобы оно было писано студентом, и на утвердительный ответ Григорьева прибавил: «vous faites trop parler de vous; il faut vous effacer»[104].
Наглядным доказательством участия, возбуждаемого Аполлоном Григорьевым в преподавателях, может служить то обстоятельство, что малообщительный декан Никита Иванович Крылов, — недавно женившийся на красавице Люб. Фед. Корш, выходя с лекции, пригласил Аполлона в следующее воскресенье к себе пить чай. Конечно, Аполлон с торжеством объявил об этом родителям и вечером в воскресенье вернулся обвороженный любезностью хозяйки и ее матери, приезжавшей на вечер с двумя дочерьми.
Аполлон рассказывал мне, что вдова генеральша Корш целый вечер толковала с ним о Жорж Занд, и, к великому его изумлению, говорила наизусть мои стихи, а в довершение просила привести меня и представить ей. Мы оба не раскаялись, что воспользовались любезным приглашением.
45-летняя вдова была второю женою покойного заслуженного доктора Корша и, несмотря на крайнюю ограниченность средств, умела придать своей гостиной и двум молодым дочерям, Антонине и Лидии, совершенно приличный, чтобы не сказать изящный вид. Я не видал их никогда иначе, как в белых полубальных платьях. Иногда на вечера к матери приезжала старшая ее дочь, можно сказать, идеальная красавица Куманина. Идеалом всех этих дам была Консвелло Жорж Занд, и все их симпатии, по крайней мере на словах, склонялись в эту сторону. В скором времени за вечерним чаем у них мы стали встречать Конст. Дм. Кавелина, который, состоя едва ли уже не на 4-м курсе, видимо интересовался обществом молодых девушек. Надо сказать правду, что хотя меньшая далеко уступала старшей в выражении какой-то воздушной грации и к тому же, торопясь высказать мысль, нередко заикалась, но обе они, прекрасно владея новейшими языками, отчасти музыкой и, при известном свободомыслии, хорошими манерами, могли для молодых людей быть привлекательными.
Не берусь определить времени, когда нам стало известным, что старшая Антонина дала слово выйти за Кавелина.
Надо отдать справедливость старикам Григорьевым, что они были чрезвычайно щедры на все развлечения, которые могли, по их мнению, помогать развитию сына. В этом случае первое место занимал Большой и Малый (французский) театры. Хотя мы нередко наслаждались с Григорьевым изящною и тонкою игрой французов, но главным источником наслаждений был для нас Большой театр с Мочаловым в драме, Ферзингом, Нейрейтер и Беком в опере. Что сказать об игре Мочалова, о которой так много было говорено и писано в свое время? Не одни мы с Григорьевым, сидя рядом, подпадали под власть очарователя, заставлявшего своим язвительным шепотом замирать весь театр сверху донизу. При дальнейшем ходе воспоминаний придется рассказать, как однажды я был изумлен наивным отношением Мочалова к произведениям литературы вообще. В настоящую минуту, озираясь на Мочалова в Гамлете по преимуществу, я не умею ничем другим объяснить магического действия его игры, кроме его неспособности понимать Шекспира во всем его объеме. Понимать Шекспира или даже одного Гамлета — дело далеко не легкое, и подобно тому, как виртуозу, разыгрывающему музыкальную пиесу, невозможно сознательно брать каждую отдельную ноту, а. достаточно понимать характер самой пиесы, так и чтецу нет возможности сознательно подчеркивать каждое отдельное выражений, а достаточно понимать общее содержание. Но в этом-то смысле я решаюсь утверждать, что Мочалов совершенно не понимал Гамлета, — игрой которого так прославился. Мочалов был по природе страстный, чуждый всякой рефлексии человек. Эта страстность вынуждала его прибегать к охмеляющим напиткам, и тут он был воплощением того, что Островский выразил словами: «не препятствуй моему нраву». Поэтому он не играл роли необузданного человека: он был таким и гордился этим в кругу своих приверженцев. Он не играл роли героя, влюбленного в Офелию или в Веронику Орлову; он действительно был в нее безумно влюблен. Он действительно считал себя героическим лицом, и когда однажды, получив небольшое жалованье, давно ожидаемое нуждавшимся семейством, он вышел из кассы, то на просьбу хромого инвалида, подавая все деньги, сказал: «Выпей за здоровье Павла Степановича Мочалова». Однажды, выпив под Донским монастырем с друзьями весь запас вина, он отправил к настоятелю такую записку: «У Павла Степановича Мочалова нет более ни капли вина, и он надеется на подкрепление из вашего благодатного погреба». Говорили, что подкрепление прибыло. Итак, мне кажется, что Мочалов искал не воспроизведения известного поэтического образа, а только наиболее удобного случая показаться пред публикой во всю ширь своей духовной бесшабашности. Он совершенно упускал из виду, что Гамлет слабое, нерешительное существо, на плечи которого сверхъестественная сила взвалила неподсильное бремя и который за постоянною рефлексией желает скрыть томящую его нерешительность; он не в состоянии рассмотреть, что иронически-холодное отношение Гамлета к Офелии явилось не вследствие какого-либо проступка со стороны последней, а единственно потому, что, со времени рокового открытия, ему не до мелочей женской любви. Он не понимал, что в решительные минуты слабый человек высказывает вспыльчивость, которой может позавидовать любая энергия. Зато сколько блистательных случаев представлял Гамлет Мочалову высказать собственную необузданность! Какое дело, что язвительность иронии Гамлета есть только проявление непосильного внутреннего страдания? Гамлет — Мочалов не бежит от страдания в иронию, а напротив, всею силой предается ей, как прирожденному элементу, и конечно, при таком условии нервы, зрителя держись… Гамлет — Мочалов страстно любит свою Офелию и терзает ее от избытка любви. Нечего разбирать, говорит ли мучительная ирония устами Гамлета или действительное сумасшествие; но эта ирония-удобный случай порывистому Мочалову высказать свое безумное недовольство окружающим миром. И вот, помимо рокового конфликта случайных событий с психологическою подкладкой основного характера, помимо, так сказать, вопроса «почему?» — окончательные результаты этого конфликта выступают с такою силой, что сокровеннейшая глубина аффекта внезапно развертывается пред нами:
«И бездна нам обнажена С своими страхами и мглами, И нет преград меж ей и нами: Вот отчего нам ночь страшна»[105]И действительно, зрителям становилось страшно… Когда Гамлет-Мочалов, увидав дух своего отца, падает на колени и, стараясь скрыть свою голову руками, трепетным голосом произносит: «Вы, ангелы святые, крылами своими меня закройте», пред зрителем возникал самый момент появления духа, и выразить охватывавшего нас с Аполлоном чувства нельзя было ничем иным, как старанием причинить друг другу сильнейшую боль щипком или колотушкой. Было бы слишком несправедливо приписывать нам с Григорьевым монополию потрясающих впечатлений, уносимых из театра от игры Мочалова. Под власть этого впечатления подпадали все зрители. Когда Мочалов своим змеиным шепотом, ясно раздававшимся по всем ярусам, задерживал дыхание зрителей, никто и не думал аплодировать: аплодисменты раздавались позднее, по мере общего отрезвления. Что зрителям нужен был Мочалов, а не трагическое лицо, видно из того, что я сам несколько лет спустя видел Мочалова играющим г Гамлета с костылем и тем не менее вызывающим все то же воодушевление. Юноша, принц Гамлет на костыле — не лучшее ли это подтверждение нашей мысли?
Ко времени, о котором я упоминаю только для связи рассказа, появился весьма красивый и самонадеянный актер Славин; последний, желая блеснуть общим образованием, издал книгу афоризмов, состоящую из бесспорных истин, вроде: Шекспир велик, Шиллер вдохновенен и т. д. Наконец последовал его бенефис в Гамлете, а затем и следующее стихотворение Дьякова:
«О ты, восьмое чудо света, Кем опозорен сам Шекспир, Кто изуродовал Гамлета, Купцы зовут тебя в трактир. Ступай, они тебя обнимут, Как удальца, как молодца, И дружно с окорока снимут Гнилые лавры для венца — Тебя украсить, подлеца».Не один Мочалов оказался властителем наших с Григорьевым сердец: в не меньший восторг приводила нас немецкая опера. Трудно в настоящую минуту определить, кто из нас нащипывал восторг в другом; но я должен сказать, что мы мало прислушивались к общественной молве и славе, и, наслаждаясь сценическим искусством, увлекались не столько несомненным блеском таланта, сколько кровью сердца, если позволено так выразиться. Так мы с наслаждением слушали Роберта-Бека и оставались совершенно равнодушными к Голланду, несколько запоздавшему со своею громадною репутацией из Петербурга; но подобно тому, как нас приводил на границу безумия Мочалов, влюбленный в Орлову, так увлекал и влюбленный в Алису-Нейрейтер Бертрам-Ферзинг[106]. Когда он, бывало, приподняв перегнувшуюся на левой руке его упавшую у часовни в обморок Алису и высоко занесши правую руку, выражал восторг своей близости к этой безупречной чистоте фразой: «du zarte Blume!»[107], потрясая театр самою низкою нотой своего регистра, мы с Григорьевым напропалую щипали друг друга.
Говоря о московском театре того времени, не могу не упомянуть о Щепкине, как великом толкователе Фамусова и героев гоголевских комедий, о начинающем в то время Садовском и о любимце русской комедии — Живокини, которого публика каждый раз, еще до появления из-за кулис, приветствовала громом рукоплесканий. Зато, что же это был и за перл смешного! Хотя я отлично познакомился с его лицом на сцене, но он гримировался так мастерски, что иногда без афиши трудно было в «Пилюлях» узнать вчерашнего Льва Гурыча Синичкина. Силу юмора Живокини мне пришлось испытать на себе при следующих обстоятельствах.
Зашел я в трактир, так называемый «Над железным» (ныне Тестова), съесть свою обычную порцию мозгов с горошком. Поджидая в отдельной комнате полового, я стал на пороге в большую общую залу и увидал против себя за столом у окна двух посетителей. В одном из них я узнал знакомого мне на под- мостках Живокини и захотел воспользоваться случаем рассмотреть его при дневном освещении, насколько возможно лучше и подробнее. Должно быть вскинувший глаза Живокини в свою очередь заметил вперившего в него взор студента. Лицо его мгновенно приняло такое безнадежно глупое выражение, что я круто повернулся на каблуках и, разражаясь хохотом, влетел в свою комнату.
Тогда в балете безраздельно царила Санковская. Даже беспощадный Ленский, осыпавший всех своими эпиграммами, говорил, что ее руки — ленты и что удар ее носка в пол, в завершение прыжка, всепобеден.
С наступлением великого поста все бросилось готовиться к переходным экзаменам. Принялся и я усердно за богословие Петра Матвеевича Терновского. Достал я себе также и усыпительные лекции его брата, Ивана Матвеевича, читавшего логику. При моем исконном знакомстве с катехизисом, мне нетрудно было подготовиться из догматического богословия и я отвечал на четыре; но если бы меня спросили из истории церкви, то я бы не ответил даже на единицу. После счастливого экзамена по богословию, я в присутствии профессора латинской словесности Крюкова, читавшего начиная со второго курса, экзаменовался из логики и к несчастию вынул все три билета из второй половины лекций, которой не успел прочитать. Услыхав на третьем билете мое: «И на этот не могу ответить», он сказал: «А меня ваша четверка сильно интересует, и я желал бы, чтобы вы перешли на второй курс. Не можете ли чего-либо ответить по собственному соображению?» И когда я понес невообразимый вздор, экзаменаторы переглянулись и тем не менее поставили мне тройку. Любезные лекторы французского и немецкого языков поставили мне по пятерке, а Погодин, по старой памяти, тоже поставил четверку из русской истории. Таким образом я, к великой радости, перешел на второй курс.
На другой день по выдержании экзамена я, надев свежие лайковые перчатки, обещал ямщику, везшему меня на перекладной, полтинник на водку, если он меня промчит во весь дух мимо окон девиц Корш, которые, конечно, только случайным и самым невероятным образом, могли видеть меня в таком победоносном виде.
Помню, какое освежительно-радостное впечатление произвели на меня зеленеющие поля и деревья, когда я выехал за заставу пыльной и грохочущей Москвы на мягкую грунтовую дорогу (так как в то время даже Московско-Курского шоссе еще не существовало). Но губительная медленность почтовой тройки была слишком тяжела для счастливого студента, перешедшего на следующий курс. Приходилось, во избежание скуки, во время пути предаваться всевозможным мечтам, а на станциях тщательному пересмотру лубочных картин, фельдмаршалов, топчущих под собою армии, и карандашных надписей по всем дверям и оконным притолокам.
Видно, та же тоска, которая вынуждала меня читать подобные надписи, вынуждала других писать их. Память сохранила мне одну из них, прочтенную на окне подольской гостиницы. Начала стихотворения я не помню; это было описание разнородных порывов, возникающих в душах путешественников; оно заключалось словами:
«Так что некая проезжая девица Не могла себя в том победить, Не могла себя на месте усадить, А бегала по коридору, Аки перепелица».В Туле, по крайней ограниченности денежных средств, я купил себе пистонное ружье, но только одноствольное, помнится, не дороже 10 рублей.
Как выдержавший экзамены, я был принят и дома, и у дяди с большим радушием. Еще зимой я познакомился с восемнадцатилетнею гувернанткой моих сестренок, Анюты и Нади. У нее были прекрасные голубые глаза и хорошие темно-русые волосы, но профиль свежего лица был совершенно неправилен, тем не менее она своею молодостью могла нравиться мужчинам, если судить по возгласам, которые я сам слышал среди мужчин, при ее появлении с воспитанницами на Ядрине, в именины дяди 29 июня. Еще зимой заметил я, что она с видимым удовольствием принимала от меня знаки внимания, обязательного, по мнению моему, для всякого благовоспитанного юноши по отношению к женщине. В настоящий приезд внимание наше друг к другу скоро перешло во взаимное влечение/ Понятно, что в присутствии отца и матери мы за обеденным или чайным столом старались сохранять полное равнодушие. Но стоило одному из нас случайно поднять взор, чтобы встретить взгляд другого. Невольные маневры эти, вероятно, стали кидаться в глаза посторонним, так как однажды мать сделала мне наедине по этому поводу замечание.
С точки зрения третейского судьи, на которую я становлюсь в моих воспоминаниях, невозможно не видеть ежеминутного подтверждения истины, что люди руководствуются не разумом, а волей. Какой смысл могло представлять наше взаимное с m-le Б. увлечение, если подумать, что я был 19-летний, от себя не зависящий и плохо учащийся студент второго курса, а между тем дело дошло до взаимного обещания принадлежать друг другу, подразумевая законный брак. Мы даже обменялись кольцами, так как я носил подаренное мне матерью кольцо, а у нее тоже было обручальное кольцо ее покойного отца. Что такое обещание было не шуткой, явно из того, что однажды, думая покончить эту неразрешимую задачу, я вышел из флигеля на опушку леса Дюкинского верха с заряженною двустволкой и некоторое время, взведя курки, обдумывал, как ловчее направить в себя смертельный удар. Слезы изменили окончательную мою решимость, и я ушел домой. Не прибавлю ничего к описанию минуты, в которой я сам не берусь различить всех сокровенных побуждений.
Мало ли о чем мечтают 19-летние мальчики! Между прочим я был уверен, что имей я возможность напечатать первый свой стихотворный сборник, который обозвал «Лирическим Пантеоном», то немедля приобрету громкую славу, и деньги, затраченные на издание, тотчас же вернутся сторицей. Разделяя такое убеждение, Б., при отъезде моем в Москву вручила мне из скудных сбережений своих 300 рублей ассигнациями, — так как тогда счет на серебро еще не существовал, — на издание, долженствовавшее, по нашему мнению, упрочить нашу независимую будущность. Мы расстались, дав слово писать через старую Елизавету Николаевну.
Весь этот невероятный и, по умственной беспомощности, жалкий эпизод можно понять только при убеждении в главенстве воли над разумом. Сад, доведенный необычно раннею весной до полного расцвета, не станет рассуждать о том, что румянец, проступающий на его белых благоуханных цветах, совершенно несвоевременен, так как через два-три дня все будет убито неумолимым морозом.
* * *
С переходом на второй курс, университетские занятия более специализировались. Юристы еще более подпали под влияние профессора Редкина, и имя Гегеля до того стало популярным на нашем верху, что сопровождавший по временам нас в театр слуга Иван, выпивший в этот вечер не в меру, крикнул при разъезде вместо: «коляску Григорьева! — коляску Гегеля!». С той поры в доме говорили о нем, как об Иване Гегеле. Не помню, кто из товарищей подарил Аполлону Григорьеву портрет Гегеля, и однажды, до крайности прилежный Чистяков, заходивший иногда к нам, упирая один в другой указательные пальцы своих рук и расшатывая их в этом виде, показывал воочию, как борются «субъект» с «объектом». Кажется, что в то время Белинский не поступал еще в «Отечественные Записки», как критик, и не открывал еще своего похода против наших псевдоклассических писателей. Не думая умалять его почина в этом деле, привожу факт, доказывающий, что поднятая им тема носилась в воздухе. Одно из величайших духовных наслаждений и представляет благодарность лицам, благотворно когда-то к нам относившимся. Не испытывая никакой напускной нежности по отношению к Московскому университету, я всегда с сердечной привязанностью обращаюсь к немногим профессорам, тепло относившимся к своему предмету и к нам, своим слушателям. Вследствие положительной своей беспамятности я чувствовал природное отвращение к предметам, не имеющим логической связи. Но не прочь был послушать теорию красноречия или эстетику у И. И. Давыдова, историю литературы у Шевырева или разъяснение Крюковым красот Горация. Вероятно, желая более познакомиться с нашей умственной деятельностью, И. И. Давыдов предложил нам написать критический разбор какого-либо классического произведения отечественной литературы. Не помню, досталось ли мне или выбрал я сам оду Ломоносова на рождение порфирородного отрока, начинающуюся стихом:
«Уже врата отверзло лето».Помню, с каким злорадным восторгом я набросился на все грамматические неточности, какофонии и стремление заменить жар вдохновения риторикой вроде: «и Тавр и Кавказ в Понт бегут».
Очевидно, это не было каким-либо с моей стороны изобретением. Все эти недостатки сильно поражали слух, уже избалованный точностью и поэтичностью Батюшкова, Жуковского, Баратынского и Пушкина. Удостоверясь в моей способности отличать напыщенные стихи от поэтических, почтенный Иван Иванович отнесся с похвалою о моей статье и, вероятно, счел преждевременным указать мне, что я забыл главное: эпоху, в которую написана ода. Требовать от Державина современной виртуозности, а у современных стихотворцев державинской силы — то же, что требовать от Бетховена листовской игры на рояле, а от Листа — бетховенских произведений.
Познакомился я со студентом Боклевским, прославившимся впоследствии своими иллюстрациями к произведениям Гоголя. В то время мне приходилось не только любоваться щегольскими акварелями и портретами молодого дилетанта, но и слушать у него на квартире прелестное пение студента Мано, обладавшего бархатным тенором.
Между обычными посетителями григорьевского мезонина стал появляться неистощимый рассказчик и юморист, однокурсник и товарищ Григорьева Ник. Антонович Ратынский, сын помещика Орловской губернии Дмитровского уезда; он, кажется, не получал от отца никакого содержания и вынужден был давать уроки. Через Ратынского познакомился я с двумя орловскими земляками-студентами, жившими на одной квартире: Гриневым и поэтом Лизандром.
Пламенная переписка между Еленой Григорьевной и мною продолжалась до начала октября; но вдруг совершенно неожиданно явился Илья Афанасьевич с известием, что «папаша прибыли в Москву и остановились с сестрицами Анной и Надеждой Афанасьевными у Харитония в Огородниках, в доме П. П. Новосильцова и просили пожаловать к ним». На дворе Новосильцова стояла наша желтая четвероместная карета, в которой отец, в сопровождении няньки Афимьи, привез моих сестренок, чтобы везти их в Смольный монастырь. Не успел я поздороваться с отцом и сестрами, как в комнату вошел в новом блестящем мундире П. П. со словами: «Как вы кстати приехали, почтеннейший Афанасий Неофитович; я назначен московским вице-губернатором и сию минуту еду принимать присягу. Мы на днях с семейством переедем сюда из нашей Сокольничьей дачи, и вашему студенту, право, не стыдно было бы зимою бывать у нас, где он по воскресеньям встретит своих бывших товарищей-кадетов Ваню и Петю Борисовых. Славные ребята; особенно хорошо учится и ведет себя Ваня».
После обеда, приготовленного отцовским походным поваром Афанасием Петровым, отец, оставшись со мною наедине, неожиданно вдруг сказал: «Беспутную Елену Григорьевну я расчел, а девочек везу в институт. Матку-правду сказать, некрасивую глупость ты там затеял. Хорошо, что я вовремя узнал обо всем случайно; но прежде всего il faut partir du point ou on est»[108].
На другой день отец уехал в Петербург, а недели через две тем же путем проследовал в Новоселки.
Во время остановки в Москве отец представил меня в доме своего однофамильца и дальнего родственника Семена Николаевича, занимавшего дом на Большой Никитской против Большого Вознесения. Мценский помещик Семен Николаевич, проводивший зиму с женою и двумя взрослыми дочерьми в Москве, был типом солидного русского барина. Постоянным его чтением был Капфиг, и вся обстановка дома отличалась безукоризненною аккуратностью. Все часы в доме били единовременно и строго согласовались с золотыми карманными часами, стоявшими перед хозяином в кабинете на столе. Утро он проводил в кабинете в красном шелковом халате, но к обеду, хотя бы и без гостей, выходил в воздушном белом галстуке, а жена и дочери обязательно нарядно одетыми. Дворецкий и ливрейные слуги с особенным искусством накрывали стол, на котором приборы и вдоль и поперек должны были представлять прямые линии, так что. каждая отдельная рюмка или стакан с одного конца стола до другого закрывали весь ряд своих товарищей. С первым ударом пяти часов Семен Николаевич выходил к столу, где около дымящегося супа уже стояла его жена и около своих мест ожидали красивые и благовоспитанные дочери. После обеда Семен Николаевич отправлялся на часок отдохнуть и затем уже проводил вечер, слушая прекрасную игру на рояли преимущественно одной из дочерей, или же большею частию за карточным столом с гостями. Одною из оригинальных черт Семена Николаевича был обычай, по которому каждый воскресный день утром, когда барин был еще в халате, камердинер, раскрывши в кабинете запертый шкаф, ставил перед Семеном Николаевичем на большом блюде груду золотых, а на меньшем собрание драгоценных перстней и запонок, и Семен Николаевич мягкою щеткою принимался систематически перечищать свою коллекцию. Не знаю почему, но я с первых посещений заслужил расположение Семена Николаевича и убедился, что этот в свое время благовоспитанный и начитанный человек не особенно нежно относился к членам своей семьи. Каждый раз, когда я обедал у него, нам подавали полбутылки Аи, из которой одной капли не попадало в бокалы дам, и достаточно было при уходе из-за стола ему сказать: «А вы, Афанасий Афанасьевич, посидите с моими дочерьми», для того чтобы ни одна из них не сделала шагу из гостиной до отцовского пробуждения.
Однажды вечером в залу какой-то темно-русый гость ввел двух мальчиков.
— Устройте им сиденья пред роялью, — сказал Семен Николаевич, обращаясь к дочерям.
Приведенным мальчикам, по-видимому, было около восьми лет; их усадили на подмощенных нотах за рояль, и учитель стал за ними, перевертывая ноты. Блистательная игра мальчиков продолжалась около часу, а затем они сели на паркет, куда им дали конфект, фруктов и каких-то игрушек. Мальчики эти были братья Рубинштейны, с которыми позднее мне случалось встречаться не раз в период их славы.
Между тем я тщательно приберег деньги, занятые на издание, и к концу года выхлопотал из довольно неисправной типографии Селивановского свой «Лирический Пантеон».
Письма от Елены Григорьевны вдруг прекратились, и я отчасти понял тому причину.
Однажды вечером, когда я, тоскуя, старался помешать Аполлону в его занятиях, мальчик Ванюшка подал мне небольшую запечатанную записку, в которой я прочел:
«Выходи поскорее за ворота, в карете я тебя ожидаю.
Твоя Ел.»
Узнавши руку, я только надел фуражку и без шинели и калош побежал за калитку, где незнакомый слуга помог мне сесть в карету.
Мы бросились в объятия друг другу, и она тотчас же стала тревожиться, что я на морозе так легко
одет.
— Ничего, ничего, — говорил я в крайнем смущении; а она, далеко запахивая полу пышной песцовой шубы, старалась прикрыть меня от стужи. Но мне было не до того: мысли пересыпались в моей голове, как бисер в калейдоскопе, и я никак не мог понять, куда и зачем нас везут. Из отрывочных слов и восклицаний я мог наконец понять, что отец мой, узнавши все, поступил с Еленой, как она сама говорила, самым деликатным образом. О наших отношениях он не сказал ни слова, а только сослался на необходимость поместить двух девочек, по примеру старшей сестры их, в институт и, уплативши ей за полгода вперед, с благодарностью возвратил ей триста рублей, занятые у нее сыном студентом.
— Теперь, — говорила Елена, — я поступила в компаньонки к дочерям генерала Коровкина в Ливенский уезд, и вот причина, почему из этого дома я не могла тебе писать. В настоящее время Коровкины переехали в Москву, — и она сказала их адрес. — А я по праздникам буду брать карету и приезжать сюда, а у Коровкиных буду говорить, что эту карету прислала за мною моя подруга.
Раза два нам пришлось видеться таким образом, хотя, признаюсь, я стал мало-помалу понимать всю нелепую несбыточность наших затей. Но у меня недоставало духу разочаровывать мечтательницу, и письма снова беспрепятственно стали ходить между нами.
Однажды, распечатавши письмо, я прочел: «Все пропало; глупый извозчик, на вопрос об имени моей подруги, сказал, что он прямо с биржи. Таким образом, все вышло наружу, принимая самый неблагоприятный оттенок по отношению к нашим с тобою свиданиям. Я сегодня же оставляю их дом».
Возмущенный до глубины души ролью человека, набросившего неблагоприятную и совершенно незаслуженную тень на несчастную девушку, я счел своею обязанностью отправиться к генералу. Я сам чувствовал всю нелепость моей выходки. Но долг чести прежде всего, думалось мне, и я добился желаемой аудиенции.
— Что вам угодно? — спросил генерал, когда я вошел к нему в кабинет.
— До вчерашнего дня, — отвечал я, — у вас проживала m-lle Б-а, с которой я познакомился в доме моих родителей и испросил у нее ее руку. Теперь я узнал, что в ни чем не повинная девушка навлекла свиданием со мною на себя незаслуженное нарекание, и счел своим долгом засвидетельствовать, что в этих свиданиях не было и тени чего-либо дурного.
— Если вы хотели, — отвечал генерал, — позаботиться о чести девушки, то избрали для этого наихудший путь. Зная вашего батюшку, я уверен, что он ни в каком случае не даст своего согласия на подобный брак, и разглашать самому тайные свидания с девицей не значит восстановлять ее репутацию. Я отказал m-lle Б-ой потому, что она не обладает сведениями, которые могли бы быть полезны моим дочерям.
Убедившись в своей неудаче, я поклонился и вышел.
Действительность иногда бывает неправдоподобнее всякого вымысла. Такою оказалась развязка нашего полудетского романа. Только впоследствии я узнал, что ко времени неожиданной смуты так же неожиданно приехал в Москву чиновник из Петербурга и проездом на Кавказ, к месту своего назначения, захватил и сестру свою Елену Григорьевну. Впоследствии я слышал, что она вышла там замуж за чиновника, с которым, конечно, была гораздо счастливее, чем могла бы быть со мною.
* * *
«Лирический Пантеон», появясь в свете, отчасти достиг цели. Доставив мне удовольствие увидать себя в печати, а барону Брамбеусу поскалить зубы над новичком, сборник этот заслужил одобрительный отзыв «Отечественных Записок»[109]. Конечно, небольшие деньги, потраченные на это издание, пропали безвозвратно.
Брата Васю я уже в Новоселках не застал[110], так как еще зимою отец отвез его кратчайшим путем в Верро в институт Крюммера, у которого я сам воспитывался. В доме с семинаристом-учителем находился один меньшой семилетний брат Петруша, а я по-прежнему поместился в соседней с отцовским кабинетом комнате во флигеле, и те же сельские удовольствия, то есть рыжая верховая Ведьма, грубый Трезор и двуствольное ружье были по-прежнему к моим услугам.
Мне приходится говорить о романе дяди Петра Неофитовича, романе, о котором я никогда не смел спросить кого-либо из членов семейства, а тем менее самого дядю, и хотя он известен мне из рассказов слуг, вроде Ильи Афанасьевича, тем не менее несомненные факты были налицо.
Крутой правый берег речки Ядринки, на левом, менее возвышенном побережье которой находилась дядина усадьба, — называется Попами, так как вокруг каменной приходской церкви и погоста селятся священно- и церковнослужители. Верстах в двух по так называемой Сушковской дороге, в старину весьма торной, находится деревня Чахино, Тулениново тож, по имени владельцев Тулениновых. Главою семейства был, не знаю отставной или на службе, полковник Платон Гаврилович Туленинов, у которого были две, как говорят, красивые сестры: Марья и Клавдия. Последнюю, впрочем, мне довелось знать лично, когда она вдовою господина Богданова вышла замуж за отставного чиновника Адриана Ивановича Иваницкого.
За несколько лет до моего рождения дядя Петр Неофитович сделал формальное предложение старшей Тулениновой, Марье Гавриловне, которая дала свое согласие и подарила ему, как охотнику, на чумбур длинную и массивную серебряную цепь, которую я впоследствии держал в руках.
Что между ними произошло, наверное утверждать не стану; но говорили, будто бы дядя представлял своего двоюродного брата Кривцова своей невесте, а та не успела снять перчатку и дала в ней поцеловать руку. Зная дядю, я никогда не доверял такому объяснению события по соображениям из лакейской. Последовала размолвка, и дядя будто бы взял свое слово назад. Говорят также, будто злоязычный Петр Яковлевич Борисов раздул эту историю пред полковником Тулениновым, и тот, по неизвестным мне причинам, застрелился в собственном доме.
С Сушковской дороги по сей день, шагах во ста от окопа Ядринского кладбища, виден в поле большой камень, и поныне всякий местный житель скажет, что это могила Туленинова.
По смерти главы семейства и старшей его сестры имение перешло к меньшой — Клавдии Иваницкой. Впоследствии я видел Клавдию Гавриловну у нашей матери в гостях, но я ее встретил в первый раз в Троицын день на Ядрине в церкви. День был яркий и почти знойный. В церкви пахло свежими березками и травою, которою устлан был помост. Бодрый, но хромой старик Овсянников быстро ковылял по церкви с пучками свечей и с медяками на тарелке. Он весело раскланивался со всеми и, видно, был очень доволен своею распорядительностью.
Впоследствии мне постоянно казалось, что «Однодворец Овсянников» списан Тургеневым с являвшегося ко всем окрестным помещикам и приносившего в подарок свежего меду из своего пчельника однодворца Ивана Матвеевича Овсянникова. Старуха, жена его, Авдотья Ионовна, повязывавшая голову пестрым ковровым платком с вырывающейся кверху бахромою и в пестром праздничном платье была истым подобием бубнового короля.
Когда я в белых летних штанах и безукоризненно новом сюртуке стал против царских дверей в северных дверях, — с протянутою вперед рукою заковылял Иван Матвеевич, раздвигая дорогу двум входящим дамам. Впереди шла плотная барыня с выступающею на лбу из-под шляпки фероньеркой на темно-русых волосах. Дама прошла передо мною и остановилась недалеко от правого клироса, но молодая брюнетка, очевидно, дочь ее, стала на место, указанное ей рукою Ивана Матвеевича, как раз передо мною. Девушке не могло быть более 16–17 лет; небольшая тирольская соломенная шляпка нисколько не закрывала ее черных с сизым отливом роскошных волос, подобранных в две косы под самую шляпку. Белое тарлатановое платье ее было без всяких украшений, за исключением широкой, ярко-красной ленты. Я передвинулся немного вправо, заметив, что по временам она оборачивает голову к матери. О, что за прелесть, что за свежесть лица, напоминающего бархатистость лилеи, и что за приветливо-внушительные черные глаза под широкими черными бровями!
«Кто такая?» — спросил я шепотом во время пения Ивана Матвеевича, поймав его за рукав.
— Это тулениновская барыня Клавдия Гавриловна, что вышла теперь за Иваницкого; а это ее дочка от первого мужа Богданова, Матрена Ивановна.
Впоследствии Клавдия Гавриловна приехала с визитом к нашей матери, и хотя последняя по болезненности не бывала в Туленинове, Клавдия Гавриловна от времени до времени появлялась у нас даже за обедом. Простудила ли она когда-либо горло, но гозорила постоянно шепотом, чем, при известной полноте и небольшом росте, заслужила прозвание утки-шептуна. Без золотого обруча на волосах и какого-то камня на лбу я ее никогда не видал. Если она любила украшать свою особу, то еще более любила танцы, которые, благодаря расквартированным по окрестностям офицерам пехотного полка, умела устраивать у себя в доме невзирая на беспокойное состояние супруга, кончавшего день роковым охмелением. Танцующая в одной кадрили с дочерью, охотница до танцев не стеснялась отвечать на ехидные подчас вопросы: «А где же Адриан Иванович?». Затрудняясь в своем хриплом шепоте произношением буквы «б», она на подобный вопрос отвечала: «Он припран», — обозначая тем, что ввиду предстоящего танцевального вечера шумливый Адриан Иванович связан и положен в пустой амбар. Конечно, такое обращение не могло нравиться Адриану Ивановичу, который терпел его, так как владетельницей была Клавдия Гавриловна.
Не могу утвердительно сказать в каком году, но помню хорошо, что, когда после чаю я пришел к отцу во флигель, новый его камердинер, сын приказчика Никифора Федорова, Иван Никифорович доложил, что пришел господин Иваницкий.
— Иваницкий? — сказал отец, глядя на меня вопросительно. — Что ему от меня надо? Проси, — сказал отец, обращаясь к слуге.
Вошел во фраке с гербовыми пуговицами сухопарый и взъерошенный господин и сказал с несомненно малороссийским акцентом: «Я к вам, Афанасий Неофитович, пришел пешком, да, да, пешком. Вот видите, как есть пешком».
— Вижу, — отвечал отец, — но что же мне доставляет удовольствие вас видеть?
— Я пришел вам заявить, что меня вчера мои домашние убили, да, да, убили, да; зарезали, да. И я вот пришел пешком по соседству заявить, что меня убили, да.
— Но как же я имею удовольствие с вами беседовать, если вас вчера убили?
— Точно, точно, да; зарезали; и пожалуйте мне лошадку до Мценска подать объявление в суд.
— Очень жалею, что вас убили, и готов служить вам лошадьми, но только в противоположную от Мценска сторону, по простой русской пословице: «свои собаки грызутся…».
— Так вы не пожалуете мне лошадку?
— Извините, пожалуйста, — не могу. Иваницкий поклонился и ушел.
В те времена от самой Ядринки и до Оки по направлению к дедовскому Клейменову тянулись почти сплошные леса, изредка прерываемые распашными площадями и кустарниками. Этим путем дядя, дав мне в верховые спутники егеря Михаилу, отправлял в Клейменово с тем, чтобы мы могли дорогою поохотиться и на куропаток и на тетеревов, которых в те времена было довольно. Хотя дядя сам нередко переезжал в Клейменово и потому держал там на всякий случай отдельного повара, но я не любил заставлять людей хлопотать из-за меня и довольствовался, спросив черного хлеба и отличных сливок.
Однажды дядя, нежданно подъехав к крыльцу, захватил меня за этой трапезой.
— Ох, ты все свое молочище глотаешь; ну как тебе не стыдно не заказать обеда?
В клейменовском доме с поступлением имения к дяде ничего не изменилось из дедовской обстановки. Те же белые крашеные стулья, кресла, столы, зеркала и диваны времени Империи. Только в комнате за гостиной на стене снова появились портреты консула Наполеона и Жозефины, находившиеся с 12-го года в опале у деда и висевшие в тайном кабинете. Когда я спросил об этом дядю, горячего поклонника гения Наполеона, дядя с хохотом сказал: «Да, да, как только Наполеон перешел Неман и сжег Москву, так дядя Василий Петрович его вместе с женой и разжаловал».
В Клейменове к дяде являлись те же увивавшиеся около него мелкопоместные дворяне, между прочим, неизменный Николай Дмитриевич Ползиков в неизменном сером казакине ополчения. В те времена клейменовские пруды, и верхний и нижний, представляли прекрасное купание, и дядя, мастерски плававший, не пропускал хорошего летнего дня не выкупавшись. Мы оба с Ползиковым, хотя и весьма печальные пловцы, не отставали, не пускаясь на середку пруда, среди которой дядя отдыхал на спине.
Однажды пред купанием мы, сняв платье, все трое лежали на берегу, чтобы, как говорится, очахнуть. Светло-голубое безоблачное небо, как раз перед глазами лежащего навзничь дяди, внезапно вызвало у него мысли вслух: «И-и-и, — воскликнул он, — так-то душа моя взовьется и взлетит высоко, высоко; а ты, Афоня, не беспокойся; вот и Николай Дмитриевич знает, что твоих сто тысяч лежат у меня в чугунке».
В начале августа дядя как-то сказал; «Теперь начинается пролет дупелей, и тут около Клейменова искать их негде; я дам тебе тройку в кибитку, Мишку егеря с его Травалем, Ваньку повара, благо он тоже охотится с ружьем, да ты возьми с собою своего Трезора, и поезжайте вы при моей записке в имение моего старого приятеля Маврина; там в запустелом доме никто не живет; но с моей запиской вас все-таки примут насколько возможно удобно, да не забудь взять мне круг швейцарского сыру, который у них отлично делают в сыроварне».
В назначенный день тройка наша остановилась перед длинным, соломою крытым, барским домом. Перекрыт ли дом соломою по ветхости деревянной крыши, или простоял он век под нею — неизвестно.
— Пожалуйте, — сказал появившийся в отпертых дверях староста, — если прикажете самоварчик, мы сейчас поставим.
Пришлось проходить по анфиладе пустых комнат до последней угольной, в которой сохранились вокруг стен холстом обтянутые турецкие диваны. Из какой- то предыдущей комнаты принесли уцелевший стол, и, с помощью своих подушек и простынь, я устроился на ночлег, так как для вечернего поля времени было мало. Чай, сахар и свечи у нас были свои, а молока и яиц оказалось сколько угодно. Любопытство заставило меня взглянуть на соседнюю комнату, оканчиваю- щую, подобно спальне, другую анфиладу, обращенную к саду. Только в этой комнате ставни были раскрыты в совершенно заросший и заглохший сад; во всей же анфиладе закрытые окна представляли, особенно к вечеру, непроглядный мрак.
Сказавши Михаиле, чтобы он, запасшись проводником, разбудил меня на утренней заре, я отпустил людей, которые, забрав самовар, ушли, должно быть, ночевать в повозке, так что я в целом доме остался один.
Только впоследствии, постигнув утешение, доставляемое чтением в одиночестве, я умел запасаться книгою, над половиною страницы которой обыкновенно засыпал, никогда не забывая в минуту последней искры самосознания задуть свечу; но во времена студенчества я еще не возил с собою книг и, чтобы хотя на миг разогнать невыносимую скуку, читал на табачном картузе: «Лучший американский табак Василия Жукова; можно получать на Фонтанке, в собственном доме», и через минуту снова: «Лучший американский табак» и т. д.
На этот раз я даже не зажигал свечки, а лег на диван, стараясь заснуть. Сумерки незаметно надвинулись на безмолвную усадьбу, и полная луна, выбравшись из-за почерневшего сада, ярко осветила широкий двор перед моею анфиладой. Случилось так, что я лежал лицом прямо против длинной галереи комнат, в которых белые двери стояли уходящими рядами вроде монахинь в «Роберте».
Но вот среди тишины ночи раздался жалобный стон; ему скоро завторил другой, третий, четвертый, десятый, и все как будто с разными оттенками. Я. догадался, что это сычи, населяющие дырявую крышу, задают ночной концерт. Но вот к жалобному концерту сычей присоединился грубый фагот совы. Боже, как тут заснуть под такие вопли? Даже равнодушный Трезор, уместившийся около дивана, начинал как бы рычать в полусне, заставляя меня вскрикивать: тубо! Зажмурю бессонные глаза, но невольно открываю их, и передо мною опять в лунном свете ряд белых монахинь. Это наконец надоело; я встал, затворил дверь комнаты и понемногу заснул.
На другой день проводник направил нас на неширокую речку с плавучими берегами. Дупелей оказалось мало; зато утки вырывались из камышей чуть ли не на каждом шагу из-под самых ног и кряканьем разгоняли бекасов.
Не желая утомлять внимание читателя описаниями более или менее удачных охот, которыми пополнялась деревенская жизнь моя во время вакаций, упомяну об одной из них в доказательство того, как баловал меня дядя. Отправились мы с ним на дупелей в доставшееся ему от дяди Василия Петровича Долгое, близ реки Неручи, славившейся в то время своими болотами. Если жилые помещичьи усадьбы александровского времени, за некоторыми исключениями, принадлежали к известному типу, о котором я говорил по поводу Новоселок, то заезжие избы в имениях, где владельцы не проживали, носили, в свою очередь, один и тот же характер исправной крестьянской избы. Сквозные сени отделяют чистую избу с голландскою печью и перегородкою от черной избы с русскою пекарной печью. В такой заезжей избе в Долгом остановились мы с дядей, сопровождаемые егерями, поваром и прислугой. Так как по полям и Краям болот неудобно ездить четверкою в коляске, то на охоту мы выезжали в боковой долгуше, запряженной парою прекрасных лошадей в краковских хомутах, у которых клещи подымаются кверху и загибаются в виде лиры, и на которой на одном ее рожке висит лоскут красного сукна, а на другом шкура барсука. Под горлом у лошадей повешены бубенчики. Сам дядя трунил над этой упряжью, говоря, что мальчишки будут принимать его за фокусника и кричать вослед: «Мусю, мусю, покажи нам штуку». Кроме того, на случай усталости дяди от ходьбы по болоту, берейтор вел за ним любимого им верхового Катка, красивую лошадь Грайворонского завода[111], чем отец был весьма доволен. Помню, что пред вступлением нашим в широкое болото, дядя подозвал трех или четырех бывших с нами охотников и сказал: «Равняйтесь и ищите дупелей, но боже сохрани в кого-либо выстрелить; когда собака остановится, кричи: гоп! гоп! и подымай ружье кверху. Стрелять можно по дупелю только, если Афанасий Афанасьевич, подойдя, даст два промаха».
При этом он не только запретил стрелять егерям, но когда и его собственная собака останавливалась, он кричал мне: «Иди сюда, птичья смерть». А когда, набегавшись таким образом от дупеля к дупелю, я устал, он говорил мне: «Садись на Катка», хотя сам, видимо, утомился не меньше.
В те времена я о том не думал, да так и по сей день для меня осталось необъяснимым, почему Семен Николаевич Шеншин, так радушно принимавший меня в Москве на Никитской, покинув Москву, переселился во Мценск. Было бы понятно, если бы он переселился в свое прекрасное, благоустроенное имение Желябуху; но почему он избрал Мценск и притом не только для зимнего, но и летнего пребывания, объяснить не умею. Он занимал лучший во всем городе двухэтажный дом с жестяными львами на воротах. Львы эти и по сей день разевают на проходящих свои пасти, выставляя красные жестяные языки. Ничто в домашнем обиходе Семена Николаевича не изменилось, за исключением разве того, что старшей дочери, вышедшей замуж за богатого соседнего однофамильца Влад. Ал., не было дома. Любитель всевозможных редкостей, Семен Николаевич подарил сво- ему зятю замечательные по цене и работе карманные часы, которые все желали видеть и просили нового владельца показать их. Каждое воскресенье к Семену Николаевичу собирались родные и знакомые откушать и вечером поиграть в карты. В Новоселках я никогда не отказывал себе в удовольствии послать Семену Николаевичу дупелей, до которых он был большой охотник.
— Очень вам признателен, — сказал он однажды, когда я приехал к нему, — за дупелей; но тут же вы прислали несколько перепелок; я их не ем и боюсь; говорят, между ними попадаются очень жирные, так называемые лежачки, весьма опасные для желудка.
Слова эти характерны в известном отношении. Будучи всю жизнь охотником, я после выстрела подымал перепелок и преимущественно дупелей, лопнувших от жиру при падении, но лежачек, которые будто бы, пролетев пять шагов, снова падают на землю, не видал никогда, хотя и слыхал о них в те времена, когда наши местности изобиловали всякого рода дичиной и не были еще истреблены бесчисленными промышленниками.
В гостеприимном доме Семена Николаевича мне пришлось познакомиться со многими членами его довольно обширного родства, к которому, очевидно, принадлежал и наш дом, так как однажды Семен Николаевич, вздвигая рукава и показывая прекрасные коралловые запонки, сказал! «Это мне подарил дядюшка Василий Петрович», то есть мой дед.
* * *
Об обычном возвращении в Москву на григорьевский верх говорить нечего, так как память не подсказывает в этот период ничего сколько-нибудь интересного. Во избежание нового бедствия с политическою экономией, я стал усердно посещать лекции Чивилева и заниматься его предметом.
В нашей с Григорьевым духовной атмосфере произошла значительная перемена. Мало-помалу идеалы Ламартина сошли со сцены, и место их, для меня по крайней мере, заняли Шиллер и главное Байрон, которого «Каин» совершенно сводил меня с ума. Однажды наш профессор русской словесности С. П. Шевырев[112] познакомил нас со стихотворениями Лермонтова, а затем и с появившимся тогда «Героем нашего времени». Напрасно старался бы я воспроизвести могучее впечатление, произведенное на нас этим чисто лермонтовским романом. Когда мы вполне насытились им, его выпросил у нас зашедший к вечернему чаю Чистяков, уверявший, что ой сделает на романе обертку и возвратит его в полной сохранности.
— Ну что, Чистяков, как тебе понравился роман? — спросил Григорьев возвращавшего книжку.
— Надо ехать в Пятигорск, — отвечал последний, — там бывают замечательные приключения.
К упоению Байроном и Лермонтовым присоединилось страшное увлечение стихами Гейне.
Приехав на две недели рождественских праздников в Новоселки, я застал большую перемену в общем духовном строе и главное в состоянии здоровья и настроении больной матери. Отсутствие непосредственных забот о детях, развезенных по разным заведениям, как и постоянные разъезды отца, наводили мечтательную мать нашу на меланхолию, развиваемую в ней, с другой стороны, возрастающими жгучими ощущениями в груди. Отец собирался в следующую зиму увезти последнего птенца восьмилетнего Петрушу к лифляндской генеральше Этинген, воспитывавшей своих внучат и любезно предложившей отцу поместить к ней же малрлетнего сына.
Я никогда до того времени не замечал такой изменчивости в настроении матери. То и дело, обращаясь к своему болезненному состоянию, она со слезами в голосе прижимала руку к левой груди и говорила: «Рак». От этой мысли не могли ее отклонить ни мои уверения, ни слова навещавшего ее орловского доктора В. И. Лоренца, утверждавшего, что это не рак. В другую минуту мать предавалась мечте побывать в родном Дармштадте, где осталась старшая сестра Лина Фет.
Вскоре по моем возвращении в Москву отец привез из Петербурга сестру Любиньку, окончившую курс в Екатерининском институте, но без шифра[113], о котором отец постоянно мечтал.
Великий пост и святая не только подошли, но и прошли незаметно, особенно для меня, для которого провалиться на экзамене вторично равнялось исключению из университета. Как нарочно, погода стояла чудная, и, сидя день и ночь над тетрадками лекций, я мучительно завидовал каменщикам, сидевшим перед нашими окнами с обвязанными тряпками ступнями на мостовой и разбивавшим упорные голыши тяжелым молотком. Там знаешь и понимаешь, что делаешь, и если камень разбит, то в успехе ни сам труженик, ни сторонний усомниться не может. Здесь же, не зная, что и для чего трудишься, — нельзя быть и уверенным в успехе, который может зависеть от тысячи обстоятельств.
На этот раз мои каникулы были особенно удачны[114]. Я застал сестру Лину не только вполне освоившеюся в семействе, но и успевшею заслужить всеобщую симпатию, начиная с главных лиц, то есть нашего отца и дяди Петра Неофитовича. Старушка Вера Александровна Борисова, узнав от матери нашей, что Лина есть сокращенное — Каролина и что покойного Фета звали Петром, сейчас же переделала имя сестры на русский лад, назвав ее Каролиной Петровной.
Сестры Лина и Любинька подружились между собой, а брат Петруша так привязался к старшей сестре, что почти не отходил от нее.
Между всякого рода проделками Лины, в видах оживления общества, помню одну. В один из семейных праздников, когда гости, вышедши из-за стола, направились в гостиную к кофею и фруктам, нам нежданно объявили, что барышни просят всех в новый флигель, стоявший в то время пустым. Хотя до этого флигеля не было и ста шагов, и погода была прекрасная, для желающих стояли у крыльца экипажи. Во флигеле мы нашли переднюю с раскрытыми дверями и большую половину гостиной, уставленную рядами стульев, тогда как меньшая половина комнаты, упирающаяся в глухую стену, была завешена простынями, из-под нижнего конца которых виднелись дощатые подмостки. Когда зрители уселись и простыни раздвинулись, в раме, обтянутой марлей, взорам предстали три фигуры живой картины, в значении которых не было возможности сомневаться: Любинька стояла с большим, подымающимся с полу черным крестом и в легком белом платье; близ нее, опираясь на якорь, Лина в зеленом платье смотрела на небо, а восьмилетний Петруша в красной рубашке с прелестными крыльями, вероятно, позаимствованными у белого гуся, и с колчаном за плечами целился из лука чуть ли не на нас. Конечно, можно бы было заметить, что в картине произошло смешение христианской символики с греческой мифологией, но критика зрителей не была так строга, и неподвижно целящийся в течение целых двух минут хорошенький мальчик заслужил общую симпатию. Раздались рукоплескания, и все отправились в дом, исполненные действительного или поддельного восторга.
В подтверждение того, что Грибоедов почерпнул из жизни двустишие Фамусова:
Нет, я перед роднёй ползком, Сыщу ее на дне морском… —мне не раз приходилось уже говорить о наших поездках к родным, которые отец считал обязательными со стороны приличия или пристойности, как он выражался. Бедная мать, проводившая большую часть времени в постели, только чувствуя себя лучше по временам, выезжала лишь поблизости и едва ли не в один дом Борисовых. Зато отец счел бы великим упущением не съездить за Волхов, верст за сто к неизменной куме своей Любови Неофитовне и не представить ей вышедшую из института дочь, падчерицу и меня — студента. Опять желтая четвероместная карета с важами, наполненными дамскими туалетами и нашим платьем, подъезжает шестериком под крыльцо, дверцы отворяются, подножка в четыре ступеньки со стуком подставляет свои коврики, и мы занимаем надлежащие места; повар Афанасий садится с кучером на козлы, а проворный камердинер Иван Никифоров, крикнув: «Пошел!» — на ходу вскакивает на запятки и усаживается в крытой сиделке. И поныне проезжий по проселкам и уездным городам, не желающий ограничиваться прихваченною с собой закуской, вынужден брать повара, так как никаких гостиниц на пути нет, а стряпне уездных трактиров следует предпочитать сухой хлеб.
Но вот, худо ли, хорошо ли, карета останавливается перед крыльцом продолговатого двухэтажного дома, обшитого тесом под тесовою крышей, без всяких архитектурных украшений и затей, представляющего желтоватый брус, вроде двух кирпичей, положенных друг на друга. Это и есть село Пальчиково тетушки Любови Неофитовны Шеншиной.
Отъезжая в конце августа в Москву, я оставил Лину, с которой по случаю ее начитанности и развитости очень подружился, вполне освоившеюся в Новоселках. Я бы решился сказать, что доживал до периода, когда университетское общение и знакомство со всевозможными поэтами сгущало мою нравственную атмосферу и, придавая в то же время ей определенное течение, требовало настоятельно последнему исхода.
При трудности тогдашних путей сообщения, прошло некоторое время до распространения между нами роковой вести о трагической смерти Лермонтова. Впечатлительный Шевырев написал по этому случаю стихотворение, из которого память моя удержала только два разрозненных куплета:
«О грустный век! мы видно заслужили И по грехам нам видно суждено, Чтоб мы в слезах так рано хоронили Все, что для дум высоких рождено».Мысль, что толпе все равно, кончается куплетом:
«Иль что орла стрелой пронзили люди, Когда младой к светилу дня летел, Иль что поэт, зажавши рану груди, Безмолвно пал и песни не допел».Добрый Аполлон, несмотря на свои занятия, продолжал восхищаться моими чуть не ежедневными стихотворениями и тщательно переписывал их. Внимание к ним возникало не со стороны одного Аполлона. Некоторые стихотворения ходили по рукам, и в настоящую минуту я за малыми исключениями не в состоянии указать на пути, непосредственно приведшие меня в так называемые интеллигентные дома. Однажды Ратынский, пришедши к нам, заявил, что критик «Отечественных Записок» Васил. Петров. Боткин[115] желает со мной познакомиться и просит его, Ратынского, привести меня. Ратынский в то время был в доме Боткиных своим человеком, так как приходил младшим девочкам давать уроки. Боткин жил в отдельном флигеле, и в 30 лет от роду пользовался семейным столом, и получал от отца 1000 руб. в год. У Боткина я познакомился с Александром Ивановичем Герценом[116], которого потом встречал и в других московских домах. Слушать этого умного и остроумного человека составляло для меня величайшее наслаждение. С Вас. Петр, знакомство мое продолжалось до самой моей свадьбы, за исключением периода моей службы в Новороссийском крае…
* * *
Между тем хмель, сообщаемый произведениями мировых поэтов, овладел моим существом и стал проситься на волю. Гете со своими римскими элегиями и «Германом и Доротеей» и вообще мастерскими произведениями под влиянием античной поэзии увлек меня до того, что я перевел первую песню «Германа и Доротеи». Но никто, в свою очередь, не овладевал мною так сильно, как Гейне своею манерой говорить не о влиянии одного предмета на другой, а только об этих предметах, вынуждая читателя самого чувствовать эти соотношения в общей картине, например, плачущей дочери покойного лесничего и свернувшейся у ее ног собаки. Гейне в ту пору завоевал все симпатии; влияния его не избежал и самобытный Лермонтов. Мои стихотворения стали ходить по рукам. Не могу в настоящую минуту припомнить, каким образом я в первый раз вошел в гостиную профессора истории словесности Шевырева. Он отнесся с великим участием к моим стихотворным трудам и снисходительно проводил за чаем по часу и по два в литературных со мною беседах. Эти беседы меня занимали, оживляли и вдохновляли. Я чувствовал, что добрый Степан Петрович относился к моей сыновней привязанности с истинно отеческим расположением. Он старался дать ход моим стихотворениям и с этою целью, как соиздатель «Москвитянина», рекомендовал Погодину написанный мною ряд стихотворений под названием: «Снега»[117]. Все размещения стихотворений по отделам с отличительными прозваниями производились трудами Григорьева.
Счастлив юноша, имеющий свободный доступ к сердцу взрослого человека, к которому он вынужден относиться с Величайшим уважением. Такой нравственной пристани в минуты молодых бурь не может заменить никакая дружба между равными. Мне не раз приходилось хвататься за спасительную руку Степана Петровича в минуты, казавшиеся для меня окончательным крушением. Но не один Шевырев замечал мое стихотворство.
Увлеченный до крайности выпуклыми и изящными объяснениями Дм. Льв. Крюковым Горация? я представил последнему свой стихотворный перевод оды Горация, кн. I, XIV, «К республике». Как университетское начальство, от попечителя графа Строганова до инспектора П. С. Нахимова, относилось к студенческому стихотворству, можно видеть из ходившего в то время по рукам шуточного стихотворения Я. П. Полонского, по поводу некоего Данкова, писавшего мизерные стишки к масляной под названием «Блины» и к святой под названием «Красное Яичко» и продававшего эти небольшие тетрадки книгопродавцу издателю Лонгинову за десятирублевый гонорар.
Привожу самое стихотворение Полонского, насколько оно удержалось в моей памяти.
Второй этаж. Платон сидит, Пред ним студент Данков стоит: Ну, вот, я слышал, вы поэт. На Маслянице сочинили Какие-то блины и в свет По пятиалтынному пустили. — Платон Степаныч, я писал Затем, что чувствовал призванье. — Призванье? Кто вас призывал? Я вас не призывал, граф тоже; То ж Дмитрий Павлович. Так кто же? Скажите, кто вас призывал? — Платон Степаныч, я пою В пылу святого вдохновенья, И я мои стихотворенья В отраду людям продаю. — Опять не то, опять вы врете! Кто вам мешает дома петь? Мне дела нет, что вы поете: Стихов-то не могу терпеть. Стихов-то только не марайте! Я потому вам говорю, Что мне вас жаль. Теперь ступайте! — Покорно вас благодарю!Однажды, когда только что начавший лекцию Крюков, прерывая обычную латинскую речь, сказал по-русски: «М.г., - в качестве наглядной иллюстрации к нашим филологическим объяснениям од Горация, позвольте прочесть перевод одного из ваших товарищей, Фета, книги первой, оды четырнадцатой, „К республике“»; при этих словах дверь отворилась, и граф С. Г. Строганов вошел в своем генерал-адъютантском мундире. Раскланявшись с профессором, он сел в кресло со словами: «Прошу вас продолжать» — и безмолвно выслушал чтение моего перевода. Такое в тогдашнее время исключительное отношение к моим трудам было тем более изумительно, что проявлялось уже не в первый раз. Так, когда И. И. Давыдов в сороковом году сказал мне на лекции, в присутствии графа Строганова: «Вашу печатную работу я получил, но желал бы получить и письменную», граф спросил: «Какую печатную работу?» и на ответ профессора: «Небольшой сборник лирических стихотворений» — ничего не ответил.
Не помню хорошо, каким образом я вошел в почтенный дом Федора Николаевича и Авдотьи Павловны Глинок[118]. Вероятно, это случилось при посредстве Шевырева. Нетрудно было догадаться о небольших материальных средствах бездетной четы, но это нимало не мешало ни внешнему виду, ни внутреннему значению их радушного дома. В небольшом деревянном домике, в одном из переулков близ Сретенки, мне хорошо памятны только три, а если хотите две комнаты: тотчас направо от передней небольшой хозяйский кабинет, куда желающие уходили курить, и затем налево столовая, отделенная аркой от гостиной, представлявшей как бы ее продолжение. Зато это был дом чисто художественных интересов. Здесь каждый ценился по мере своего усердия к этому вопросу, и если, с одной стороны, в гостиной не появлялось чванных людей напоказ, зато не было там и неотесанных неуков, прикрывающих свою неблаговоспитанность мнимою ученостью. Мастерские переводы Авдотьи Павловны из Шиллера ручаются за ее литературный вкус, а «Письма русского офицера» свидетельствуют об образованности их автора. В оживленной гостиной Глинок довольно часто появлялся оберпрокурор Мих. Ал. Дмитриев[119], о котором я уже говорил по поводу его сына в Погодинской школе. Между дамами замечательны были по уму и по образованию две сестры девицы Бакунины, из которых меньшая, несмотря на зрелые лета, сохранила еще неизгладимые черты красоты. Мы собирались по пятницам на вечер, и почти каждый раз присутствовал премилый живописец Рабус, о котором Глинки говорили как о замечательном таланте. Он держал себя чрезвычайно скромно, выказывая по временам горячие сочувствия той или другой литературной новинке. Не знаю, по какому случаю на этих вечерах я постоянно встречал инженерного капитана Непокойчицкого, и когда в 1877 году я читал о действиях начальника штаба Непокойчицкого, то поневоле сближал эту личность с тою, которую глаз мой привык видеть с ученым аксельбантом на вечерах у Глинок.
Услыхав о моей попытке перевести «Германа и Доротею», Глинки просили меня привезти в следующую пятницу тетрадку и прочесть оконченную первую песнь. Нетрудно представить себе мое смущение, когда в следующий раз, при появлении моем в гостиной, Федор Николаевич, поблагодарив меня за исполнение общего желания, прибавил: «Мы ждем сегодня князя Шаховского и решили прочесть при нем отрывок из его поэмы „Расхищенные шубы“. Это старику будет приятно». Действительно, через несколько времени в гостиную вошел старик Шаховской[120], которого я непременно узнал бы по чрезвычайно схожему и давно знакомому мне из «Ста русских литераторов»[121] гравированному портрету.
Старому князю, видимо, было чрезвычайно приятно слушать прекрасное чтение его плавных и по своему времени гармонических стихов.
Тем сильнее было мое смущение, когда, после небольшого всеобщего молчания, хозяйка напомнила мое обещание прочесть начало перевода. Ведь нужно же было судьбе заставить меня выступить с моими неизвестными попытками непосредственно за чтением произведения, славного и присутствовавшего писателя. Но робость стеснила меня только до прочтения первых двух-трех стихов, а затем самое течение поэмы увлекло меня, и я старался только, чтобы чтение было по возможности на уровне содержания. Не менее смущен и восхищен был я общим одобрением кружка, когда я окончил. Приятнее всего было мне слышать замечание Рабуса: «Я хорошо знаю „Германа и Доротею“, и во все продолжение чтения мне казалось, что я слышу немецкий текст».
Около полуночи в зале накрывался стол, установленный грибками и всякого рода соленьями, посреди которых красовалась большая деревенская индейка и, кроме разных водок, появлялись разнообразные и превкусные наливки.
Совершенно в другом роде были литературные чайные вечера у Павловых[122], на Рождественском бульваре. Там все, начиная от роскошного входа с парадным швейцаром и до большого хозяйского кабинета с пылающим камином, говорило если не о роскоши, то по крайней мере о широком довольстве.
Находя во всю жизнь большое удовольствие читать избранным свои стихи, я постоянно считал публичное их чтение чем-то нескромным, чтобы не сказать профанацией. Вот почему я всегда старался прийти к Кар. Карл. Павловой, пока в кабинете не появлялось посторонних гостей. Тогда по просьбе моей она мне читала свое последнее стихотворение, и я с наслаждением выслушивал ее одобрение моему. Затем мало-помалу прибывали гости, между которыми я в первый и последний раз был представлен не меньшей в свое время знаменитости М. Н. Загоскину[123]. За столом, за которым сама хозяйка разливала чай, и появлялись редкие еще в то время мелкие печенья, сходились по временам А. И. Герцен и Т. Н. Грановский[124]. Трудно себе представить более остроумного и забавного собеседника, чем Герцен. Помню, что увлеченный, вероятно, его примером, Тимофей Николаевич, которым в то время бредили московские барыни, в свою очередь, рассказал, своим особенным невозмутимым тоном с пришепетыванием, анекдот об одном лице, державшем у него экзамен из истории для получения права домашнего учителя.
«Видя, что человек и одет-то бедно, — говорил Грановский, — я решился быть до крайности снисходительным и подумал: бог с ним, пусть получит кусок хлеба. Что бы спросить полегче? — подумал я. Да и говорю: не можете ли мне что-нибудь сказать о Петре? — Петр, — заговорил он, — был великий государь, великий полководец и великий законодатель. — Не можете ли указать на какое-либо из его деяний? — Петр разбил, — был ответ. — Не можете ли сказать, кого он разбил при Полтаве? Он подумал, подумал и сказал: Батыя. Я удивился. — Кто же, по вашему мнению, был Батый? Он подумал, подумал и сказал: Протестант. — Мне остается спросить вас: что такое, по вашему мнению, протестант? — Всякий, не исповедующий православную греко-российскую церковь. — Извините, — сказал я, — я не могу поставить вам больше единицы. — Если вы недовольны и таким знанием, — сказал он уходя, — то я и не знаю, чего вы требуете».
Помню, что однажды у Павловых я встретил весьма благообразного иностранного немецкого графа, который, вероятно, узнав, что я говорю по-немецки, невзирая на свои почтенные лета, подсел ко мне и с видимым удовольствием стал на чужбине говорить о родной литературе. Услыхав мои восторженные отзывы о Шиллере, граф сказал: «Вполне понимаю ваш восторг, молодой человек, но вспомните мои слова: придет время, когда Шиллер уже не будет удовлетворять вас, и предметом неизменного удивления и наслаждения станет Гете». Сколько раз пришлось мне вспоминать эти слова.
Однажды, сходя к лекции, Шевырев сказал мне на лестнице: «Михаил Петрович готовит вам подарок». А так как Степан Петрович не сказал, в чем заключается подарок, то я находился в большом недоумении, пока через несколько дней не получил желтого билета на журнал «Москвитянин». На обороте рукою Погодина было написано: «Талантливому сотруднику от журналиста; а студент берегись! пощады не будет, разве взыскание сугубое по мере талантов полученных. Погодин».
В числе посетителей нашего григорьевского верха появился весьма любезный правовед Калайдович[125], сын покойного профессора и издателя песен Кирши Данилова[126]. Молодой Калайдович не только оказывал горячее сочувствие моим стихам, но, к немалому моему удовольствию, ввел меня в свое небольшое семейство, проживавшее в собственном доме на Плющихе. Семейство Калайдовичей состояло из добрейшей старушки матери, прелестной дочери, сестры Калайдовича, и двоюродного его брата, исполнявшего в доме роль хозяина, так как сам Калайдович, кончив курс школы правоведения, поступил на службу в Петербурге и у матери проводил только весьма короткое время. Старушка так полюбила и приласкала меня, что по отъезде сына я нередко просиживал вечера в их уютном домике. Чтобы не сидеть сложа руки, мы раскидывали ломберный столик и садились играть в преферанс по микроскопической игре, несмотря на мою совершенную неспособность к картам. Через молодого Калайдовича я познакомился с его друзьями: Константином и Иваном Аксаковыми[127]. Однажды, начитавшись песен Кирши Данилова, я придумал под них подделаться, и мы с Калайдовичем решили ввести в заблуждение любителей и знатоков русской старины братьев Аксаковых. Отыскав между бумагами покойного отца чистый полулист, Калайдович постарался подделаться под руку покойного, передал рукопись Константину Сергеевичу, сказав, что нашел ее в бумагах отца, но желал бы знать, можно ли довериться ее подлинности. В следующий мой приход я с восхищением услыхал, что Аксаков, прочитав песню, сказал: «Очень может быть, очень может быть; надо хорошенько ее разобрать». Но, кажется, в следующее затем свидание Калайдович расхохотался и тем положил конец нашей затее.
* * *
Но никакие литературные успехи не могли унять душевного волнения, возраставшего по мере приближения весны[128], Святой недели и экзаменов. Не буду говорить о корпоративном изучении разных предметов, как, например, статистики, причем мы, студенты, сойдясь у кого-либо на квартире, ложились на пол втроем или четвером вокруг разостланной громадной карты, по которой воочию следили за статистическими фигурами известных произведений страны, обозначенными в лекциях Чивилева.
Но вот начались и самые экзамены, и сдавались мною один за другим весьма успешно, хотя и с возрастающим чувством томительного страха перед греческим языком. Мучительное предчувствие меня не обмануло, и в то время, когда Ап. Григорьев радостный принес из университета своим старикам известие, что кончил курс первым кандидатом, я, получив единицу у Гофмана из греческого языка, остался на третьем курсе еще на год.
Дома более или менее успешно я свалил вину на несправедливость Гофмана; но внутренно должен был сознаться, что Гофман совершенно прав в своей отметке, и это сознание, подобно тайной ране, не переставало ныть в моей груди. Впрочем, сердечная дружба и нравственная развитость сестры Лины во многих отношениях облегчала и озаряла на этот раз мое пребывание в деревне. Переполненный вдохновлявшими нас с Григорьевым мелодиями опер, преимущественно «Роберта», я был очень рад встретить прекрасную музыкальную память и приятное сопрано у Лины, и бедная больная мать в дни, когда недуг позволял ей вставать с постели, изумлялась, что мы с сестрою, никогда не жившие вместе, так часто певали в два голоса одно и то же.
Хотя, как я уже говорил выше, Лина пользовалась в семействе, начиная с нашего отца, самым радушным сочувствием, тем не менее привычка к безусловной свободе, очевидно, брала верх, и она объявила, что возвращается в Дармштадт. Самый отъезд, как я помню, состоялся в начале августа, когда в прекрасном новосельском фруктовом саду поспели все плоды и, между прочим, крупные груши под названием «bon Chretien», не уступавшие иностранным «дюшес», хотя росли на открытом воздухе. Не помню, ходили ли тогда по только что устроенному шоссе дилижансы из Орла в Москву. Полагаю, что их еще не было, и не могу припомнить, в чем или с кем Лина проехала из Мценска до Москвы. Понятно, с каким чувством больная мать навсегда расставалась со старшей дочерью; мы все были взволнованны и растроганны. В минуту последних объятий все были изумлены неожиданным возгласом отца: «Что же это такое! все плачут!» С этими словами невозмутимый старик, которого никто не видал плачущим, зарыдал.
— Каков папа! — восклицала дорогою в карете Лина, обращаясь ко мне. — Я никак не ожидала от него таких дорогих для меня слез.
Это не помешало самовольной девушке развернуть данные ей груши «bon Chretien», которыми отец просил ее похвастаться перед дядей Эрнстом.
— Куда я их повезу более чем в 10-дневном пути? — сказала она, доставая складной дорожный ножик и угощая меня половиною сочной груши.
— Дай мне, — сказала она, — что-нибудь на память из своих вещей, бывших в ближайшем твоем употреблении. — С этими словами она сняла с меня черный шейный платок и спрятала в мешок.
Недели через две я и сам вернулся в Москву
…обычная студенческая жизнь брала свое, невзирая ни на какие потрясения и внутренние перемены. К последним принадлежало окончание университетского учения Ап. Григорьевым, продолжавшим еще проживать со мною на верху Полянского дома. Освободившись от сидения над тетрадками, Аполлон стал не только чаще бывать в доме Коршей, но и посещать дом профессора Н. И. Крылова и его красавицы жены, урожденной Корш. По привязанности к лучшему своему ученику, Никита Ив. сам не раз приходил к старикам Григорьевым и явно старался выхлопотать Аполлону служебное место, которое бы не отрывало дорогого сына от обожавших его родителей. Как нарочно, секретарь университетского правления Назимов вышел в отставку, и, при влиянии Крылова в совете, едва окончивший курс Григорьев был выбран секретарем правления. Радости стариков не было конца. Зато мне по вечерам нередко приходилось оставаться одному, по причине отлучек Григорьева из дому.
* * *
Можно было предполагать, что неуклонный посетитель лекций и неутомимый труженик Ап. Григорьев будет безукоризненным чиновником. Но на деле вышло далеко не то: списки, отчеты с своею сухою формалистикой, требующие тем не менее настойчивого внимания, не возбуждали в нем никакой симпатии, и совет университета вскорости пришел к убеждению в совершенной неспособности Григорьева исполнять должность секретаря правления. Как нарочно упразднилось место университетского библиотекаря, на которое Крылов успел поместить Ап. Григорьева. Надо сказать, что пробуждение стариков посредством музыки Аполлона продолжалось со стороны кандидата, секретаря правления и библиотекаря точно так же, как оно производилось студентом первого курса. Хотя Аполлон наверху со мною жестоко иронизировал над догматизмом патеров, как он выражался, тем не менее по субботам сходил вниз по приглашению: «Ап. Ал., пожалуйте к маменьке головку чесать» — и подставлял свою голову под ее гребень. Соответственно всему этому Аполлон в первое время поступления на службу считал своею гордостью отдавать все жалованье родителям без остатка. И можно было только удивляться наивности стариков, не догадывавшихся, что молодой чиновник мог нуждаться в карманных деньгах. Следствием такого недоразумения было тайное сотрудничество Григорьева в журналах и уроки в богатых домах. К этому Григорьев не раз говорил мне о своем поступлении в масонскую ложу и возможности получить с этой стороны денежной субсидии. Помню, как однажды посетивший нас Ратынский с раздражением воскликнул: «Григорьев! Подавайте мне руку, хватая меня за кисть руки сколько хотите, но я ни за что не поверю, чтобы вы были масоном».
Насколько было правды в этом масонстве, судить не берусь, знаю только, что в этот период времени Григорьев от самого отчаянного атеизма одним скачком переходил в крайний аскетизм и молился пред образом, налепляя и зажигая на всех пальцах по восковой свечке. Я знал, что между знакомыми он раздавал университетские книги как свои собственные, и я далеко даже не знал всех его знакомых. Однажды, к крайнему моему изумлению, он объявил мне, что получил из масонской ложи временное вспомоществование и завтра же уезжает в три часа дня в дилижансе в Петербург, вследствие чего просит меня проводить его до Шевалдышевской гостиницы, откуда уходит дилижанс, и затем вернувшись с возможною мягкостью объявить старикам о случившемся. Он ссылался на нестерпимость семейного догматизма и умолял меня во имя дружбы исполнить его просьбу. Прожить уроками и литературным трудом казалось ему самой легкой задачей.
Сборы его были несложны, ограничиваясь едва ли не бельем и платьем, бывшим на нем в данную минуту, так как остальное было на руках Татьяны Андреевны, у которой нельзя было выпросить вещей в большом количестве, не возбудив подозрения. В минуту отъезда дилижанса мы пожали друг другу руки, и Аполлон вошел в экипаж. Когда дилижанс тронулся, я почувствовал себя как бы в опустелом городе[129]. Это чувство сиротливой пустоты я донес с собою на григорьевские антресоли. Не буду описывать взрыва негодования со стороны Александра Ивановича и жалобного плача Татьяны Андреевны после моего объявления об отъезде сына. Только успокоившись несколько, на другой день они решились послать вслед за сыном слугу Ивана-Гегеля с платьем, туалетными вещами и несколькими сотнями рублей денег. При отъезде Аполлон сказал мне, у кого можно было искать его в Петербурге. Оказалось, что Аполлон по добродушной бесшабашности роздал множество книг из университетской библиотеки, которые мне пришлось не без хлопот возвращать на старое место.
* * *
Когда по окончании экзамена я вышел на площадку лестницы старого университета, мне и в голову не пришло торжествовать какой-нибудь выходкой радостную минуту. Странное дело! я остановился спиною к дверям коридора и почувствовал, что связь моя с обычным прошлым расторгнута и что, сходя по ступеням крыльца, я от известного иду к неизвестному[130].
Отправился я благодарить добрейшего Ст. П. Шевырева за его постоянное и дорогое во мне участие. Он оставил меня обедать и даже, потребовав у жены полбутылки шампанского, пил мое здоровье и поздравлял со вступлением в новую жизнь.
Был я и у Крюкова, который принял меня в постели и никак не мог понять моего намерения поступить на кавалерийскую службу.
* * *
Вскорости, простившись со стариками Григорьевыми, я отправился в Новоселки, где застал мать окончательно поселившеюся в так называемом новом флигеле, где она лежала в постели, с окнами, закрытыми ставнями, и, кроме двух сменявшихся горничных, никого к себе не допускала, разве на самое короткое время в случае неизбежных объяснений.
В Новоселках ожидали меня две новости: во-первых, письмо дяди Петра Неофит., ворчавшего на мое замедление в университете, где, по его словам, я добивался какой-то премудрости. В этом письме он извещал меня, что в настоящее время пользуется кавказскими минеральными водами и чувствует силы свои в такой степени восстановленными, что на днях скакал вперегонку с линейными казаками. При этом он звал меня поскорее в Пятигорск для поступления в военную службу, чтобы при производстве занять место адъютанта при знакомом ему генерале.
Другою новостью было известие о письме Ал. Павл. Матвеева из Дармштадта, в котором он испрашивал родительского соизволения на брак с Линой, давшей ему слово[131].
С своей стороны, и Лина писала в том же смысле. Пока продолжались мои экзамены, Матвеев писал уже из Киева, что, будучи назначен профессором и директором клиник, он ни в каком случае не имеет возможности ехать снова за границу за невестой. Ввиду этого последнего письма отец сказал, что по обстоятельствам за Линой некому более ехать, кроме меня. «Да кстати, — прибавил он, — по доверенности матери он может окончательно расчесться с адвокатом по наследству матери, заключавшемуся в каменном доме на главной площади, в котором помещалась гостиница Траубе». Вырученная от продажи дома сумма должна была делиться между тремя братьями Беккер или же их представителями в нисходящей линии.
Откладывать поездку было неудобно и по отношению к Матвееву и ко мне, без того потерявшему много лет в университете. Поэтому, получивши от отца небольшую сумму денег, я тем же путем вернулся в Москву к старикам Григорьевым и, доехав в дилижансе до Петербурга, немедля взял место на отходившем в Штетин пароходе «Николай». Зная, что платье несравненно дешевле за границей, я сел на корабль в студенческом сюртуке.
* * *
Сестра должна была расставаться не только со своей хорошей мебелью и безделушками, но также с кроликами, всякого рода птицами и лягушками. Зато оставить своих любимцев, серого попугая Коко и колибри, она не решилась, и мастера сделали ей небольшую клетку с тесным помещением для Коко вверху и миниатюрным внизу для колибри.
Наконец, когда мы разочли, что поклажа наша, согласно словам комиссионера, должна была прибыть в Штетин, мы, в свою очередь, тронулись в путь. Надо правду сказать, этот путь, при тогдашних дилижансах да еще под дождем по грязному шоссе, представлял мало привлекательного. Из Штетина до Свинемюнде мы доехали на речном прусском пароходе под звуки весьма плохого оркестра, пилившего в угоду русским путешественникам Варламовское «На заре ты ее не буди…»[132].
Когда прусский пароход стал подтягиваться к морскому «Николаю», и оркестр замолк, матрос, чаливший канат, не вытерпел и сказал: «Вот и мы добрались с нашей Burstenmusik» (щеточной музыкой).
Несмотря на сильное волнение, которым встретило нас Балтийское море, мы на третий день добрались до Кронштадта и затем набережной перед петербургской таможней. Покуда причаливали и накладывали трап, я оглядывал толпу, встречавшую пароход, и увидал за гранитным парапетом кивавшую мне голову в каске. Это была голова давнишнего товарища и друга Ивана Петровича Борисова. Не любя толкотни, я не спешил на берег, и Борисов показал нам знаком, что он придет на пароход. Я сейчас же представил его сестре, которая во время пребывания в Новоселках настолько выучилась по-русски, что могла с грехом пополам объясняться. Чтобы не говорить среди шумной толпы, я увел Борисова в опустевшую каюту.
— Ну что? — спросил я.
— Мало хорошего, — отвечал он, — скорее больше дурного: дядя твой Петр Неофит., вызывавший тебя на службу на Кавказ, сперва было поправился молодцом от болезни, а затем скоропостижно в Пятигорске скончался. Там он и похоронен.
— А что сталось с моими деньгами, о которых он мне столько раз говорил?
— Деньги неизвестно каким образом из его чугунка пропали, и на долю твою ничего не осталось.
Как ни тяжела была такая неожиданная утрата, но я всегда держался убеждения, что надо разметать путь перед собою, а не за собою, и поэтому в жизни всегда заботило меня будущее, а не прошедшее, которого изменить нельзя. Еще отправляясь в Германию, я очень хорошо понимал, что ввиду отсрочки ехать к дяде на Кавказ, где через полгода ожидал меня офицерский чин, дававший в то время еще потомственное дворянство, я приносил тяжелую жертву, заботясь о судьбе сестры; но я счел это своим долгом и дорого за него заплатил.
До Москвы в прекрасной почтовой карете мы доехали и по старой памяти остановились у старика Григорьева, у которого, чтобы доехать до Новоселок, я купил поезженный двухместный фаэтон, а громоздкую поклажу отправил через контору транспорта.
Бедная страдалица-мать наша оставалась на одре болезни безвыходно в новом флигеле, в комнате с постоянно закрытыми окнами, так что в спальне царила непрестанная ночь. Кроме сменявшихся при ней двух горничных, она никого не принимала. Так и нас, в свою очередь, она приняла не более двух минут, благословила и дала поцеловать руку.
До отъезда моего в Германию больная принимала меня иногда в течение 5-10 минут. Но как ужасны были для меня эти минуты! Вопреки уверениям доктора Лоренца, что ничего определенного о ее болезни сказать нельзя, мать постоянно твердила: «Я страдаю невыносимо, рак грызет меня день и ночь. Я знаю, мой друг, что ты любишь меня; покажи мне эту любовь и убей меня».
Я очень хорошо знал, какому в те времена подвергал себя наказанию. Но я каждую минуту готов был зарядить свои пистолеты и прекратить невыносимые страдания дорогой матери.
Через несколько дней на самый короткий срок приехал из Киева жених сестры профессор Матвеев. Конечно, все мы стали просить его осмотреть больную.
— Ну что? — спросил я его, когда он выходил из спальни.
— Не могу понять, — отвечал он, — какое может быть тут сомнение: у нее рак в левой груди и внизу живота, и ей не прожить долее семи дней.
Свадьба Матвеевых справлена была самым скромным домашним образом, и ввиду кратковременного отпуска, молодые на другой же день в подаренной им отцом коляске с четверкою лошадей, кучером и горничной отправились на своих в Киев, куда прибыли только на десятый день[133].
Несмотря на смертельные муки, мать из своего мрачного заточения заботилась о приданом Лины до мельчайших подробностей. С отъездом молодых в целом семействе внезапно почувствовалась томительная пустота. Я большую часть времени проводил наедине в бане, служившей мне помещением.
Однажды, когда после долгого чтения на сон грядущий, я только что заснул перед утренним светом, меня разбудил голос горничной, воскликнувшей: «Аф. Аф., пожалуйте поскорее во флигель, мамаша кончается».
Не прошло и двух минут, как, надев сапоги и халат, я уже тихонько отворял дверь в спальню матери. Бог избавил меня от присутствия при ее агонии; она уже лежала на кровати с ясным и мирным лицом, прижимая к груди большой серебряный крест. Через несколько времени и остальные члены семейства, начиная с отца, окружили ее одр. Усопшая и на третий день в гробу сохранила свое просветленное выражение, так что несловоохотливый отец по окончании панихиды сказал мне: «Я никогда не видал более прекрасного покойника».
Отпуская покойницу за 30 верст в родовое село Клейменово, отец поклонился ей в землю и сказал: «Скоро и я к тебе буду». Тем не менее он прожил еще 11 лет.
IV
Стараясь по возможности поручать воспитание детей отдельному доверенному лицу, отец соображал, что для брата моего Васи, воспитывавшегося, подобно мне, в Верро у Крюммера, не может быть лучшего места для приготовления в университет, чем дом Матвеевых в Киеве. Поэтому, дождавшись зимы, отец отправился в заветных кибитках за сыном в Верро, покуда я раздумывал об окончательном направлении своего жизненного пути. Положим, я давно решил две вещи: идти в военную службу и непременно в кавалерию. Проживавший в это время в годовом отпуску гусарский ротмистр, двоюродный брат мой Николай Васильевич Семенкович нередко приезжал к нам гостить и настойчиво советовал мне поступить на службу в Киевский жандармский дивизион.
Не имея никакого понятия о родах оружия, я не мог понять, почему Семенкович отдавал такое предпочтение жандармскому дивизиону. Тем временем отец вернулся из Лифляндии с братом Васей, которого я сперва не узнал, принимая его по пестрой ермолке за какого-то восточного человека. Оказалось, что по причине недавно перенесенной горячки он был с бритой головою.
— Ну что же? — спросил меня отец. — Надумался ты Насчет своей карьеры?
— Надумался, — сказал я, — вам, как опекуну Борисова, известно, что он вместо вступления в академию из артиллерии перешел в кирасиры, и вот он зовет меня к себе в Орденский полк и пишет: «Приезжай, службы никакой, а куропаток столько, что мальчишки палками их бьют».
— Ну, брат, — заметил отец, — перспектива незавидная. Я надеялся, что из него выйдет военный ученый, а он попросту сказать — куропаточник. Ступай, коли охота берет; будешь от меня получать 300 руб. в год, и отпускаю тебе в услужение сына Васинькиной кормилицы Юдашку, а при производстве пришлю верховую лошадь.
Говорили, что поп в сердцах дал моему будущему слуге имя Иуды. Как бы то ни было, хотя я и звал слугу Юдашкой, имя его много стесняло его, а через него и меня в жизни.
Так как ближайший и наиболее удобный путь в Елизаветград, корпусный штаб дивизии, в которой первым полком состоял кирасирский Военного Ордена[134], лежал через Киев, то заветным двум повозкам пришлось снова сослужить службу, увозя нас с отцом, братом Васей и тремя нашими слугами в Киев.
Дорогою в Орле отец повез меня вечером представить зимовавшему там с женою соседу своему по Клейменову, барону Ник. Петр. Сакену, родному племяннику Елизаветградского корпусного командира, барона Дмитрия Ерофеевича Сакена. Я застал миловидную баронессу Сакен по случаю какого-то траура всю в черном. Она, любезно подавая мне руку, просила сесть около себя.
В это время барон ушел к себе в кабинет, из которого вынес и передал мне рекомендательное письмо к своему дяде. Напившись чаю, мы раскланялись и, вернувшись в гостиницу, тотчас же ночью отправились на почтовых в путь, ввиду конца февраля, изрывшего отмякшие дороги глубокими ухабами. В Киеве мы поместились в небольшой квартире Матвеевых, где отцу отведена была комната, предназначавшаяся для Васи.
Мы же с братом ночевали как попало по диванам. Успокоенный помещением Васи под непосредственный надзор старшей сестры и шурина, отец, тоже по случаю испортившейся дороги, торопился обратно и, благословив меня, дал мне 150 рублей на дорогу, сказавши, что справится дома и тотчас же вышлет мне мое годовое содержание. В свою очередь и я с Юдашкой отправился в перекладных санях и с большим чемоданом, заключавшим все мое небольшое имущество, в путь к Борисову в Новогеоргиевск на Васильково и Белую церковь. Чем более мы подвигались к югу, тем начало апреля давало себя чувствовать более. Снег становился все тоньше и наконец превратился в блестящую ледяную кору, по которой уносила нас тройка среди необъятной равнины. В воздухе днем было скорее жарко, чем холодно, и дикие голуби, спугнутые нашим колокольчиком с еще обнаженных придорожных ракит, с плеском улетали вперед и снова садились на деревья. Через несколько минут мы их нагоняли, и они летели далее; и так на протяжении многих верст, пока птицы не догадывались, что им покойнее лететь от нас назад, чем вперед. Пустыня и весеннее солнце производили на меня какое-то магическое действие: я стремился в какой-то совершенно неведомый мне мир и возлагал все надежды на Борисова, который не откажет мне в своем руководстве.
В Новогеоргиевске, куда мы прибыли рано утром, нам скоро указали небольшой отдельный домик — квартиру корнета Борисова.
— Это ты, матушка, — воскликнул Борисов, обнимая меня, — тут спозаранку звенишь у крыльца? Добро пожаловать! Отдохни с дороги, а там надо познакомить тебя с нашими орденцами; отличные, братец ты мой, люди!
Но узнав, что у меня рекомендательное письмо к корпусному командиру, Борисов решил, что мне, ввиду окончательной распутицы, медлить нечего, а следует ехать в Елизаветград представляться корпусному командиру.
— А когда определишься, то прямо несись сюда; вот это будет твоя комната.
* * *
У Борисова из двух занимаемых им комнат я поместился в задней, более просторной, и, горя нетерпением превратиться в кирасира, спросил у Ивана Петр., как мне это сделать.
— Обратись, — сказал он, — к полковому закройщику, и он живой рукой превратит тебя в сермяжного рыцаря.
Через час полковой закройщик по фамилии Лехота снял с меня мерку и через два дня обещал одеть меня в рейтузы, подбитые кожей, и даже изготовить белую фуражку с номером первого эскадрона.
— Ну, брат, отдыхай с дороги, — сказал Борисов, — а там надо тебя познакомить с полком, в который ты поступаешь. Сам увидишь, какие хорошие люди!
Боже, подумал я, помоги моей дырявой памяти разобраться в этом хаосе новых лиц и имен. Поневоле выйдет каша; с одной стороны-Крупенский, а с другой — Кащенки и Каширины.
Чтобы не терять времени, мой Вергилий повел меня в конец нашей улицы, выходящей на обширную площадь, часть которой была занята деревянными торговыми лавками, окруженными галереей с навесом.
Небольшой город Крылов получил официально имя Новогеоргиевска со времени поступления в него полкового штаба Военного Ордена полка. Широкая, особенно в весенний разлив, река Тясьмин, впадающая в Днепр и дозволяющая грузить большие барки, давала возможность местным купцам, промышлявшим большею частию убоем скота для саловарен, производить значительный торг салом, костями и шкурами. Зажиточные купцы, большей частью раскольники, держали свои калитки на запоре и ни в какое общение с военными не входили. Грунт улиц был песчаный, но довольно твердый; зато во всем городе не было признака мостовой, как во всех малороссийских городах того времени. «Вот этот серый дом с решеткою под окнами, стоящий против рядов, квартира полкового командира генерала Энгельгардта, — сказал Борисов, — ты видишь, сейчас солдатик прошел и фуражку снял перед окнами».
— Почему же? — спросил я. — Ведь говорили, он в Одессе?
— Все равно! У полкового командира на квартире стоят штандарты, и перед этой святыней нижние чины снимают фуражки.
* * *
Давно закройщик Лехота принес мне полную кирасирскую форму из толстого армейского сукна, и, гордясь привинченными к форменным сапогам солдатскими шпорами, я с непривычки не раз бороздил ими сапоги, причиняя немалую боль подвернувшейся под репеек ноге.
Красивый и сдержанный командир лейб-эскадрона Ростишевский сказал мне, что я зачислен им во второй взвод ко взводному вахмистру Лисицкому, который будет учить меня пешему фронту, а учить верховой езде поручено эскадронному вахмистру Веснянке.
Тем временем мне сильно хотелось преобразиться в формального кирасира, и я мечтал о белой перевязи, лакированной лядунке, палаше, медных кирасах и каске с гребнем из конского хвоста, высящегося над георгиевской звездой. Нередко обращался я с вопросами об этих предметах к Борисову, который, не любя фронтовой службы, хмурясь, отвечал мне: «Зачем ты, братец, поминаешь такие страшные вещи? Пожалуйста, не превращай мою квартиру в стан воинский».
Я не знал, что все эти принадлежности хранятся во взводном цейхгаузе и выдаются на руки только при исполнении службы. Зато я со всем рвением предался изучению фронтовой службы, для чего ежедневно проходил от борисовской квартиры через весь город… в 6 часов утра в конюшню второго взвода на пешее учение к вахмистру Лисицкому. Таким образом каждый день мне приходилось пройти версты две. и столько же назад. По окончании пешего учения, продолжавшегося часа два, мне вели из второго взвода заседланную лошадь в манеж, куда являлся сам эскадронный вахмистр Веснянка гонять меня на корде. Вместе со мною училось пешему фронту пять или шесть новобранцев. Тут я мог убедиться в подспорье, представляемом даже в телесном упражнении известным умственным развитием.
Видно было, каких усилий стоило рекрутам правильно делать по команде поворот. Рассказывали, будто в недавнем прошлом для укрепления в памяти противоположности правого левому новобранцам привязывали к одной ноге сено, а к другой солому. До этого не доходило на наших учениях, не лишенных, впрочем, трагизма
Как ни тяжело было просить отца о высылке обещанного мне полугодового содержания, но ввиду опустошения моего кошелька закройщиком Лихотой я принужден был довести до сведения отца о моем полнейшем безденежье. Тогда не существовало теперешних путей сообщения, и каково было мое грустное изумление, когда через месяц я получил письмо, в котором отец спрашивал меня, куда я так скоро девал высланные мне деньги.
Жутко припомнить, что такое недоразумение, повторявшееся с каждым ответным письмом отца, тянулось до самого корпусного кампамента[135], т. е. до сентября месяца. Положим, что жизнь в новороссийском крае в то время была дешева: отборная говядина стоила 3 коп. фунт, курица 10 коп., десяток яиц 5 коп., воловий воз громадных раков 1 1/2 руб. За отдельную небольшую квартиру я платил 3 руб. в месяц. Тем не менее нужно было купить чаю, сахару, кофею, и на простую провизию нужны были деньги, которых сперва было очень мало, а затем окончательно не стало.
Надобно сказать, что река Тясьмин составляла границу нашей Херсонской губернии с Киевской, которая кратко обзывалась Польшею, а слобода, находившаяся на левом берегу Тясьмина, заселенная преимущественно евреями с находящейся тут же синагогой, называлась Польским Крыловым. Из этого Крылова в Новогеоргиевском полковом штабе по временам появлялись два еврея: черный, красивый и важный полковой офицерский портной Шварц и офицерский же сапожник Волька. Последний назвался доставлять мне в долг чай, сахар, кофе, табак и стеариновые свечи. Все это я старался расходовать с крайней аккуратностью. Все-таки через день, через два я вынужден был ходить к добрейшему Павлу Вас. Кащенке занимать иногда рубль, а большею частию полтинник на прожитие с моим Юдашкой.
Хотя кирасирская форма состояла преимущественно из белого суконного полуфрака (колета), но по маркости такого костюма на ежедневных учениях надевались черные куртки, заменяемые у офицеров черными фраками (оберроками). Эти оберроки были в то же время и бальною формою, за исключением парадных балов.
Во время, о котором я говорю, в полк к нам приезжал отставной нашего полка поручик Ник. Дм. Золотницкий, сохранивший не только дружескую связь с офицерами, но и пользовавшийся репутацией интеллигента. В качестве последнего он счел нужным сказать мне несколько любезных слов по поводу моих появлявшихся в журналах стихотворений. Сам он, приезжая к нам из Александрийского уезда, отстоящего десятков на шесть верст от нашего Крылова, останавливался у Потапова. Брюнет среднего роста, с прекрасными длинными усами, Золотницкий действительно носил отпечаток порядочности; и его две сестры-красавицы были замужем: одна за уездным предводителем Каневальским, а другая за уездным судьею Егор. Ал. Касиновым.
Приглашая офицеров от имени предводителя на домашний праздник по случаю именин Ульяны Дм. Каневальской, Золотницкий настойчиво приглашал и меня, говоря, что хороший его приятель и сосед Ал. Фед. Бржесский, поэт, жаждет познакомиться со мною. Такое настойчивое приглашение не могло не быть лестно для заброшенного в дальний край одинокого бедного юноши. Я дал слово приехать; но в чем? — был почти неразрешимый вопрос в моих обстоятельствах. Я очень хорошо знал, что в обществе невозможно было появляться в мундире из толстого сукна. На вопрос мой, что будет стоить пара, которую мне, поступившему на полугодичном праве, придется скоро бросить, Шварц запросил 70 руб., тогда как у меня в кармане не было и семи. Но из беды выручил Волька, доставший мне готовую юнкерскую пару, в которой он поставил новую подкладку. Таким образом явилась возможность ехать на праздник, который описывать не стану. Скажу только, что хозяин был чрезвычайно любезный и еще подвижной старик, лет 60; вышедший в отставку казачьим полковником, он женился на прелестной брюнетке Золотницкой, которой, когда я представлялся ей, было около 23 лет. Все приезжие размещались в доме, где только было можно; но на другой день после обедни в церкви, отстоящей от дома саженях в ста, к кулебяке собралось значительное число гостей; а самый обед, по крайней мере на 60 персон, в пять часов был подан в саду при громе двух сменяющихся оркестров. Большинство гостей было из соседних помещиков. Предоставленному самому себе в таком совершенно неизвестном обществе, мне, конечно, трудно было на первый раз найтись; но судьба как бы нарочно послала мне доброго гения в виде родственницы хозяйки дома и отчасти заменявшей ее Софьи Мих. Золотницкой. Темнорусая девушка, носившая передние волосы роскошными локонами, несмотря на свои 25 лет, сохранила всю свежесть первой молодости и с первых же слов объявила себя поклонницей моих стихов. Случайно или намеренно, она, любезно проболтав со мною перед обедом, оказалась за столом моей соседкой. В качестве хозяйки она заботилась о том, чтобы мой бокал шампанского исправно наполнялся. Вечером во время танцев, которым до упоения предавалась именинница, Софья Михаил, уводила меня в дальнюю гостиную под предлогом отдыха; там разговор наш сам собою становился более задушевным.
Настоящий день именин явился для меня многозначительным началом знакомства с молодою парой Бржесских, ближайших соседей предводителя. Когда эта пара перед обедом входила в гостиную, по всем углам зашептали: «Бржесские, Бржесские». И действительно стоило того. Отставной поручик Ал. Фед. Бржесский с вьющимися по плечам русыми волосами и выхоленными усами мог по справедливости быть назван красивым мужчиной; но темно-русая и голубоглазая жена его, среднего роста, кидалась в глаза своею несравненною красотой.
— Я давно жаждал познакомиться с вами, — сказал мне Бржесский, с которым свел меня Николай Золотницкий, — и если есть вам хотя малейшая возможность, то мы оба с женою (он представил меня жене) просим вас приехать отобедать с нами в нашей Березовке.
О мой дорогой, мой лучший друг поэт! Могу ли я без умиления вспомнить годы нашей встречи и дружбы[136]?
В наших взаимных отношениях никакое злоречие не могло бы отыскать ничего, кроме взаимной страсти к поэзии, страсти, которая кажется так смешна людям толпы и которая с таким восторгом высказывается там, где она встречает горячее сочувствие.
Так как Березовка с ее жителями и посетителями представляет главный центр моей тогдашней задушевной жизни, то позволю себе несколько подробнее поговорить об этом селе. И это село, подобно другим новороссийским селам, сошло со степного уровня в широкий овраг, так называемую балку, к струям небольшой речки, перепруженной надежною плотиной и превращенной в громадный пруд.
Близ плотины стоял сельский винокуренный завод, представлявший по тогдашнему безакцизному винокурению и таковой же продаже значительное подспорье хозяйству.
К этому пруду и выше заросшей камышами речке примыкал обширный английский сад, обнесенный стрельчатой деревянной решеткой с двумя такими же воротами, выходившими на широкую улицу. Между воротами стоял большой одноэтажный дом, обращенный подъездом к саду, в котором, кроме ближайшей кухни, построек не было, так как прекрасный флигель, конюшня и прочие постройки находились против дома по другую сторону улицы. Обширный сад окаймлен был старинными березами с гнездившимися на них аистами; но при этом в глубине его было столько лип, кленов и тополей, что, выйдя на крыльцо, можно бы было принять парк за лес. Влево от левых ворот в той же ограде находилась прекрасная сельская церковь, куда по воскресеньям приходили крестьяне с женами и дочерьми в пестрых платках, со множеством живых цветов на голове. Всем садом заведовал ученый садовник пан Кульчицкий, гордившийся преимущественно тем, что перед примыкающею к гостиной теплицей, служившею зимним садом, он содержал большой цветочный круг, на котором цветы были разбиты на 24 группы, из которых на каждой они распускались последовательно в каждый час дня и ночи. Этот же Кульчицкий выводил в двух, скрывавшихся за деревьями сада, оранжереях бесчисленное множество персиков, слив и абрикосов. Говоря о березовском пруде, нельзя забыть о паре лебедей, постоянно выплывавших из тростников. Не вдаваясь в описание домашней половины дома, скажем несколько слов о главных комнатах.
Из большой прихожей единственная дверь вела в залу, которая в то же время служила и столовой. Из этой залы двери вели направо, в кабинет хозяйки, и налево, в парадную гостиную. Кроме того, из той же залы налево был ход в коридор, проходивший на черное крыльцо. Из кабинета хозяйки был тоже выход в цветник, как я уже говорил, через зимний сад. Вправо из залы шла еще дверь в угольную комнату, бывшую кабинетом хозяина. Эти две комнаты, т. е. два кабинета хозяев, видимо, были их любимыми. В дамском кабинете, независимо от экзотических растений, глядящих в комнату через зеркальное стекло двери, красовались пальмы, олеандры и цветущие лимонные деревья. Вся шелковая мебель с великолепной перламутровой инкрустацией была выписана из Вены. На стенах висели прекрасные гравюры, воспроизводившие сцены из Байрона, любимого поэта Алексея Федоровича.
Так как мне придется часто говорить о ближайших родственниках Бржесского, то скажу все, что я слышал об его отце, выдавшем при жизни двух дочерей: Екатерину за флота капитана Вл. Павл. Романова, а Елизавету за отставного поручика Военного Ордена полка Мих. Ильича Петковича. Сына Алексея, получившего, если не ошибаюсь, домашнее воспитание, старик определил в соседний кирасирский принца Петра Ольденбургского полк. Полк этот и в мое время продолжал пребывать с своим штабом в посаде Новая Прага, в котором находился и дивизионный штаб. Для избежания недоразумений скажу, что первая бригада нашей дивизии состояла из нашего Орденского и Стародубовского полков. Наш полк с черным воротником и обшлагами на белом колете и с черными вольтрапами на гнедых лошадях; а в Стародубовском черный цвет заменялся на всем светло-голубым на рыжих лошадях. Вторая бригада состояла из третьего полка с зеленою отделкою на караковых лошадях и полка Елены Павловны с темно-синим на вороных. В противоположность первой дивизии, одетой первоначально в оставшиеся от 12-го года стальные французские кирасы и впоследствии таковые же каски, вся наша дивизия носила медные каски и латы.
Легко поверить неутомимой хозяйственной деятельности старого вдовца Бржесского, приняв в соображение данных им больших два имения в приданое: Романовой Снежково и Петкович Федоровку — и оставившего, кроме того, благоустроенную Березовку с восемью тысячами десятин земли единственному сыну Алексею. К этому надо прибавить, что Ал. Фед. получил в наследство, кроме имения, значительные деньги. О трагикомической смерти старика я не раз слышал от близких к делу людей, но, несмотря на тесную дружбу с Алексеем Федоровичем, никогда не решался его расспрашивать о подробностях. Дело сложилось из самых будничных явлений, совпавших неожиданным образом. Ехавший смотреть осенние посевы, старик поднялся на лошади верхом по откосу балки в ту минуту, когда наклевавшееся зерен стадо гусей, вытянувшись в веревочку, неслось над самой землей с равнины к родимым тростникам. Ни всадник, — ни гуси не могли видеть друг друга до последней минуты, когда передовой тяжеловесный гусак, ударившись в грудь всадника, вышиб последнего из седла и сам мертвый покатился за ним под гору. К вечеру старик Бржесский отдал богу душу.
Неудивительно, что красивый, образованный, богатый и начитавшийся Байрона юноша увлекался, как говорят, страстью порисоваться тем тоном «все нипочем», который так часто сквозит в творениях Байрона. Конечно, находились добрые приятели, которые приходили к корнету Бржесскому на квартиру и не стесняясь говорили: «Бржесский, я у тебя возьму денег». «Хорошо, — отвечал равнодушно Бржесский, — Иван, подай деньги на стол». И Иван вынимал из шкатулки отсчитанные пачки ассигнаций, из которых одну или несколько проситель небрежно клал к себе в карман и требовал у того же Ивана трубку.
Об известной в свое время красавице Ал. Льв. Бржесской я могу только сказать, что она была дочерью красивой вдовы Добровольской, у которой было два сына, служивших: один в Черноморском флоте а другой в Петербурге в министерстве народного просвещения. Полагаю, что Ал. Фед., женившись на Добровольской и получивши за нею 30 тыс. приданого, скоро вышел в отставку и уехал с женою за границу. Как молодая чета смотрела в то время на жизнь, можно судить из следующего его рассказа за послеобеденной чашкой кофе. Несмотря на то, что я ни разу не слыхал со стороны Ал. Льв. ничего похожего на жалобу, я хорошо знал и даже собственными глазами видел весьма сильную страсть Бржесского к картам.
«Поехали мы, — сказывал он, — с Саничкой (так он называл жену) за границу через Одессу, но нам пришлось два дня поджидать парохода в Вену, а от нечего делать вечером я ушел в клуб. Мне страшно не повезло, и в час ночи я вернулся в номер и разбудил жену словами: „Саничка, мы ехать за границу не можем, я все деньги проиграл“.
„Возьми ключик, отопри мой саквояж, — отвечала жена, — там пятьсот рублей, возьми их, ты отыграешься“. С этими словами она отвернулась к стене и мгновенно заснула. К четырем часам утра я вернулся в гостиницу, отыграв весь свой значительный проигрыш, присовокупив к нему пять тысяч рублей выигрышу».
* * *
Познакомившись с моими будущими друзьями, вернемся, чтобы не забегать вперед, в штаб полка к ежедневному утреннему хождению во второй взвод к вахмистру Лисицкому и в манеж, в котором я каждый день усердно отъезжал по лошади, а иногда и по две. Не знаю, для каких экспериментов взводный вахмистр стал гонять меня под открытым небом на корде, чуть ли не на такой лошади, на которой никто не ездил.
Равным образом не могу объяснить, с какою целью этот взводный мудрец, невзирая на крупную рысь, с которой я носился на корде, беспрестанно громко нахлестывал мою лошадь, порывавшуюся срывать в карьер. Я старался восстановить рысь, и вдруг лошадь, лягнувши задом, вслед за тем поднялась, как свеча, передом и оттуда с высоты, подгибая колени, упала чуть ли не грудью на песок. При этом, невзирая на все мои усилия, она убрала голову на грудь, так что я в седле очутился над пропастью. Маневр этот она повторяла с такою резкостью и силой, что я расчел, что надо мне с нее соскочить по возможности далеко, так как, упади я близко, рассвирепевшая лошадища непременно наподдала бы лежачего задними копытами. Тщетно силач Лисицкий старался ударами корды под салазки оттащить ее голову от груди, — сверкание задом и передом продолжалось. Тогда я, перенесши правую ногу как бы для слезания, уперся ею в седло и одним толчком отлетел, быть может, на сажень от разъяренного животного. Упав на песок, я ушибся не больно, но какой-то нерв или мускул правой ноги очень болезненно отозвался на мой эксперимент, и это ощущение надолго оставалось у меня и сказывалось при усталости от долгой езды.
Заговоривши о лошадях второго взвода и непостижимых выходках Лисицкого, я должен упомянуть кобылу Дашку, вершков восьми росту и широкую, как бочка. Она была чрезвычайно зла, что хорошо знали солдатики, и замечательно, чего мне не приходилось более встречать, она была плотоядна. Солдаты носили ей молодых воробьев и лягушек. На Дашке ездил сам Лисицкий, и только он, при замечательной силе своей, мог смирить ее. Но иногда и его она выводила из терпения, и я сам видел и слышал во фронте, как Лисицкий, схватив ее за ухо, наклонялся и кусал ее, ворча или, лучше сказать, рыча: «У, подлая!»
Однажды на подобной проделке эскадронный командир крикнул: «Лисицкий, что ты там, мужик, делаешь? Я тебя сейчас с коня сниму и так нафухтеляю, что ты забудешь все эти проделки!»
И на Дашку, оседланную на мундштуке, посадил меня Лисицкий и стал гонять на песке перед манежем.
Величайшего труда стоило мне заставлять эту грубую лошадь переменять по команде аллюры и ноги, но Лисицкий не переставал кричать: «Шпоры ей! Хорошенько ей!» Поневоле приходилось мне слушаться, и кончилось тем, что Дашка, рассвирепев, закусила мундштук и понесла в поле, не обращая ни малейшего внимания на мои цуки. Ничем, кроме служебного удальства, я не могу объяснить таких выходок Лисицкого, очевидно, любившего меня и даже впоследствии оставлявшего у меня на дворе рано утром свою собственную неоседланную лошадку, на которой доезжал до меня с противоположной слободы города. «Извольте, сударь, — говорил он, — доезжать на учение на моем вороненьком, а я отсюда дойду до взвода пешком». Конечно, мне было с руки быстро — доехать без седла до взвода, где вороненький оставался целый день на казенном фураже.
С окончанием полкового кампамента эскадроны расходились по постоянным квартирам, на травяное продовольствие. Что бы там ни говорили, но кавалерия на поселениях каталась как сыр в масле. В конюшни доставлялось сколько угодно превосходной июньской травы, и лошади выходили освеженные и точно смазанные маслом после месячного продовольствия. Офицеры, имевшие малейшую возможность бежать, уезжали домой чуть не на целое лето, т. е. до августа, до дивизионного кампамента, и я, несмотря на крайнее материальное стеснение, имел полную возможность предаваться охоте, примащиваясь к кому-нибудь, у кого была легавая собака, которою я еще не успел завестись
* * *
Человеку, не знакомому с построением боевых масс на маневрах, в которых он принимает личное участие, все эти движения ломаными частями, исполняемые в кавалерии большею частию в карьер, неизбежно покажутся чем-то вроде кружения, о котором Пушкин так живописно говорит в своих «Бесах»:
«Будто листья в ноябре»…Мчишься в туче пыли, нередко одними коленами да стременами чувствуя соседей и догадываясь по ритмическому сотрясению тела, что должно быть давно уже куда-то несешься, так как среди божьего дня не только не видишь переднего всадника, но даже головы собственного коня. При подобных же условиях можно только говорить о личных ощущениях, что я и делаю, так как ни о ходе маневров, ни о приезде многочисленных посетителей царского смотра не мог иметь ни малейшего понятия. Но даже в той тесной сфере наблюдения, которая выпадает на долю всякого солдатика в задней шеренге, невозможно не изумляться чудесам дисциплины, посредством которых она готовит массы людей к геройству и самоотвержению.
Не будем говорить о механическом исполнении всякого рода движений, входящих в привычку у человека, одаренного словом и разумом. В какой области, кроме кавалерии, находим мы в животных такую привычку понимания команды по одному звуку, хотя бы команда относилась не прямо к тому, кто ее понял. Старую лошадь в манеже нужно удерживать от исполнения команды по одному ее предварительному возглашению, не дождавшись исполнительного: марш! Ученья кончаются во всякие часы дня, вполне независимо от отдыхов, перед которыми кавалерии командуется отдых правой руки от держания оружия. Таких отдыхов во время жарких учений может встретиться два и более. Но чем объяснить, что сколько бы раз ни командовали: «Палаши (или сабли) в ножны, пики за плечо!» — лошади остаются безучастны к такой команде; но едва начальные слова той же команды раздадутся к концу учения перед конным фронтом, как ликующее ржание не дает дослушать слов. В качестве унтер-офицера задней шеренги мне лично довелось присутствовать в колоссальной атаке целой кавалерийской дивизии развернутым фронтом, которую угодно было произвести императору.
Принимая во внимание шестиэскадронный состав полков, следует представить себе кавалерийскую атаку фронтом, по крайней мере в 2 1/2 версты длиной. Конечно, и исполнять и наблюдать такое движение можно только на плоских возвышенностях херсонских степей, там, где они не перерезаны громадными балками. Когда по команде «Марш! марш!» мы бросились во весь дух к отдаленному холму, на котором со свитою стоял император, вся чистая степь была перед нами раскрыта, так как пыль и ископоть доставались на долю задней шеренги. Над самой моей каской что-то стремительно визгнуло, и я догадался, что это подкова, проминовавшая мой лоб. Между тем наш эскадрон налетел на поперечную дорогу, на которой ясна была воловая фура с сидящими на ней хохлом и хохлушкой. С каждым мгновением перерезающая нам дорогу фура становилась все ближе к эскадрону.
Боже, подумал я, что станется с несчастной фурой и с нами, когда придется перескакивать через это препятствие?
Но, к моему удивлению, эскадрон на всем скаку образовал прореху, в которой фура проскочила; в следующую затем секунду прореха закрылась, и непрерывность фронта восстановилась.
Рассказывали о сцене, происходившей сзади нас в одном из полков дивизии. Позади строящихся кирасиров проезжал в тележке священник на бракованном коне. Вдруг после построения фронта трубы сигналистов протрубили «карьер», и с этим вместе пыль понеслась по всей шеренге. Напрасно изумленный и встревоженный священник старался удержать своего преображенного коня: повернувши в запряжке с торной дороги, бракус понес по межам тележку во весь дух за своим бывшим полком; при страшных усилиях нагнал его и, врезавшись вместе со священником в свое прежнее место, продолжал неудержимо нестись до конца атаки…
Так как 6-месячный срок к производству в офицеры, на основании университетского диплома, кончался, то я был вытребован официальною бумагою из полкового штаба в дивизионный, в юнкерскую команду, состоявшую под ближайшим наблюдением начальника дивизии. Вместе со мною выслана была из первого эскадрона лошадь Арцибал. На этой лошади я проездил все летние кампаменты и не могу не упомянуть об ее замашках вырываться во что бы то ни стало из рук солдатика, за что последним не раз приходилось слышать ругань, а подчас и выносить подзатыльники. Что касается до меня, то я должен сказать, что никогда не встречал более ручной лошади. Бывало, слезу в разомкнутых рядах с Арцибала и положу на седло свои краги да скажу: «Ну, стой, брат», а сам ухожу полакомиться пирожками у разносчика или поболтать с приятелями, и хотя бы отдых продолжался целый час, я всетаки найду Арцибала не уронившим с седла моих перчаток.
В Новой Праге, где дивизионный штаб совмещался с полковым штабом принца Альберта Прусского полка, юнкерская команда состояла из юнкеров всех четырех полков дивизии, и командиром ее был поручик полка принца Петра Ольденбургского Крит. Немца этого нельзя было назвать иначе, как человеком хорошим и ревностным служакой. Юнкера размещались кто как мог на наемных квартирах, и через день в 8 часов утра всю зиму появлялись в манеже на учениях.
Не знаю, как теперь, но в наше время всякая команда или начальство начинало свои уроки ab ovo[137].
Следовательно, и здесь у поручика Крита нужно было заслужить маршировку с ружьем предварительно стойкой и поворотами на месте, а езду в манеже ездою на корде без стремян
* * *
Оглядываясь на свое прошлое, я не раз вынужден был признаться, что мною в большинстве случаев руководили внешние условия, которых я даже, по совершенной неопытности, не в состоянии был взвесить.
Непочатая неопытность в первые годы практической жизни представляется мне в настоящее время чем-то смешным и жалким, и объяснить ее я могу только, говоря вульгарным языком, своею врожденною ленью приняться за какое-либо новое дело.
Но, вникая глубже в сущность явления, я давно убедился, что слово «лень» следует заменить словом «неспособность». Верховая лошадь ленится в тяжелом возу, а возовик на легких аллюрах. Но в своем деле каждая лошадь является ретивой.
Почему, не будучи в состоянии справиться без репетитора с лекциями в университете, я махнул на них рукой, а через 25 лет с охотою занимался отдельными отраслями знания, даже с известным наслаждением, так как, не заваливая мозгов разнообразными предметами, совершенно ясно понимал, над чем я тружусь. Гораздо легче механически действовать в незнакомом деле по чужому указанию, чем самому добираться, основательно или нет нам указывают.
Старший адъютант дивизионного штаба, объясняя мне, что я записан на службе вольноопределяющимся действительным студентом из иностранцев, сказал, что мне нужно, в видах производства в офицеры, принять присягу на русское подданство и исполнить это в ближайшем комендантском управлении, т. е. в Киеве.
Получивши надлежащую бумагу к коменданту генералу Пенхержевскому, я отправился в Киев и остановился уже не на квартире зятя Матвеева, а на Владимирской улице в собственном его доме. Там же застал я и брата Василия, поступившего в университет и отчаянно предававшегося танцам на балах. В короткое время моего пребывания в городе я бывал на нескольких интимных балах в ученом мире, куда меня, как близкого родственника профессора, любезно приглашали. Красивая Лина играла на этих пикниках не последнюю роль, но сам Матвеев более пробавлялся за карточным столом.
Будущему офицеру Военного Ордена полка следовало запастись прежде всего хорошей гнедой лошадью[138].
Сравнивая тогдашние цены вообще с теперешними, поймешь их громадную разницу.
Однажды начальник дивизии предложил мне купить за 200 руб. из-под его седла гнедого красавца Камрада, которым мы все любовались.
Не медля ни минуты, я написал отцу об этом предложении, и через месяц получил с почты требуемые деньги.
Вспоминаю и теперь с некоторым восторгом о красавце и умнице Камраде. Не умею прибрать более верного и лестного для него сравнения, чем уподобив его с трепещущей жизнью танцовщицей, с легкостью пера повинующейся малейшему движению танцора. Сила и игривость лошади равнялись только ее кротости. Бывало, на плацу перед конюшней, давши пошалить Камраду на выводке, мы окончательно снимали с него недоуздок и пускали на волю. Видя его своевольные и высокие прыжки, можно было ожидать, что он, заносчиво налетев на какую-либо преграду, изувечится; но достаточно было крикнуть: «в свое», чтобы он тотчас же приостановился и со всех ног бросился в стойло.
Однажды, когда я утром, лежа в постели, услыхал стук открывавшегося ставня и ждал слугу с кофеем, последний на подносе с кофеем принес и казенный конверт, на котором я с восторгом прочел: «Его благородию корнету Фету»[139].
Только вновь произведенные нижние чины способны понять восторг, который в жизни уже не повторяется. Все дальнейшие чины и почести ничто в сравнении с первыми эполетами.
По вскрытии пакета я прочел следующее:
«Дежурный штаб-офицер просит вас ответить, для докладу его пр-у начальнику штаба, согласны ли вы быть прикомандированным к корпусному штабу».
Во мгновение ока я уже был одет в форменный сюртук с эполетами, с белой фуражкой с черным околышем на голове и, захвативши штабную бумагу, побежал к поручику Быльчинскому. Принявши его радушное поздравление с производством, я признался в совершенном неведении служебной карьеры и просил совета насчет того, что отвечать.
— Тут не может быть ни малейшего сомнения, — отвечал Быльчинский. — Если вы хоть малость рассчитываете на карьеру, то офицер может на нее надеяться только в штабе, а не во фронте, где при нашем тугом производстве и майора надо ожидать до седых волос. У вас, без сомнения, готова полная форма, а потому мой совет — надевайте ее, явитесь поблагодарить Ант. Ант. и немедля отвечайте дежурному штаб-офицеру о вашем согласии на прикомандирование.
* * *
К концу лета[140] в штабе открылась вакансия старшего адъютанта, и, конечно, я был уверен, что надену адъютантский мундир. Каково же было мое изумление, когда я узнал, что на это место вытребован и утвержден бывший наш юнкерский командир поручик Крит. При этой вести мне пришло в голову любимое выражение Гайли: «fur einen jungen Menschen giebt es nichts nobleres, als die Fronte»[141]. И я подал формальный рапорт об отчислении меня в полк.
— Как жаль! — сказал мне Дмитрий Ерофеевич. — Я слышал, вы оставляете наш штаб.
Я прямо указал на назначение Крита и прибавил: «Мне кажется, ваше выс. — пр-во, неудобным служить, на умея угодить ближайшему начальнику».
— Как мне ни жаль, что вы нас покидаете, но думаю, вы совершенно правы, — отвечал Сакен.
И я, раскланявшись со штабом, отправился в полк.
Задумав расстаться с городской жизнью, я успел променять свои дрожки на плетеную бричку. В южных степях, где проселочные дороги нарезаны воловыми фурами, парная плетеная бричка (нетычанка) самый легкий, вместительный и сравнительно покойный экипаж.
Проездом через Новую Прагу я застал у знакомого офицера Ольденбургского полка полковника Тимковского.
— Так вы оставили корпусный штаб? — спросил Тимковский. — Почему?
— Я убедился, что прямым путем там успеха добиться трудно.
— Отчего же вы не попробовали кривым? — сказал ничем не затрудняющийся Тимковский.
* * *
Еще из Новой Праги я имел возможность дать знать Бржесским, что дня через два непременно постараюсь побывать у них. В Крылове[142] вечно пребывающего в Одессе Энгельгардта[143] я, разумеется, не застал и легко испросил разрешения любезного Небольсина[144] уехать к Бржесским.
Надо заметить, что от нашего Крылова и до Березовки Бржесских 60 верст, и я никогда почти дорогой не кормил, а останавливался иногда на полчаса у знакомого мне 60-летнего барчука Таловой Балки. Но по большей части моя добрая пара степняков легко в 6 часов пробегала это пространство.
Несмотря на предупреждение, въезжая во двор и заворачивая к крыльцу Березовского дома, я сильно боялся не застать хозяев, которые по временам бывали у соседей, а иногда даже за Елизаветградом у матери Александры Львовны.
— Дома господа? — спросил я выбежавшего на крыльцо белокурого Нестерку в синем казакинчике с красными патронами на груди.
— Дома, — весело отвечал мальчик и, схватив в передней, в которую я вошел, щетку, начал обмахивать с меня пыль.
— Пожалуйте, — сказал он, растворяя обе половинки двери в залу, служившую вместе столовой, и глазам моим представилась следующая картина.
Прелестная Александра Львовна стоит с подносом со стаканами, а Алексей Федорович, ставши на одно колено, подымает передо мною в руке бутылку «Редерера»[145].
По одному этому дружескому фарсу можно судить о радости нашей встречи. Не знаю почему, но в этот период моей жизни моя муза упорно безмолствовала; зато мой друг Алексей Федорович кипел разными эпическими затеями и начинаниями и походил в этом отношении на всех поэтов, выше всего ставящих последнее неоконченное творение.
В то время стихотворною формою владели только немногие, а Бржесский прекрасно ею владел. У Гербеля сохранился милый перевод Бржесским стихотворения, найденного в библии Байрона.
В этот приезд он прочел мне следующее стихотворение. Не знаю, было ли оно где-нибудь напечатано:
«Как дорожу я восторгами встречи! Как мне отрадно в вечерней тиши Слушать твои вдохновенные речи, Отзвук прекрасной и чистой души. Как дорожу я подобным мгновеньем, В эти б минуты душе отлететь, Сбросив земное, к нагорним селеньям… В эти минуты легко умереть».В описываемое время мне, как строевому офицеру, кроме временного отбывания караулов, не обязанному никакою специальностью, всего свободнее было навещать моих добрых Бржесских и притом знакомиться с весьма образованным кругом зажиточных помещиков Александрийского уезда. Как ни старался Дм. Ероф. оживить общество общественными балами, но никогда Елизаветградское собрание не могло по блеску задушевной семейности и изящной свободе поспорить с Александрийским. Помещики не поскупились на постройку великолепного дома собрания. Кроме обширной залы с хорами, в собрании было несколько просторных комнат для ломберных столов и даже большая комната с прекрасным роялем. В конце анфилады находилась зала для ужинов, где в алькове за длинным прилавком торговала услужливая и ловкая еврейка, арендаторша буфета. Там в вазах со льдом торчали соблазнительные горлышки «Редерера», за который в те счастливые времена мы платили три рубля. На хорах во время балов постоянно играл превосходный домашний оркестр красавицы вдовы генерала Красовского. Конечно, я познакомился со всеми красавицами, которых перечислять было бы излишне. Но не могу не остановиться на соседнем с Бржесскими семействе Дородных[146]. Образованный и красивый муж любил хорошо пожить и умел принять гостей с достоинством, причем прелестная брюнетка жена его представляла главный магнит. Муж, вполне в ней уверенный, давал ей полную свободу, не изменяя по отношению к ней искательной любезности, с которою обращался ко всем женщинам. Не поминая никого из поклонников Варвары Андреевны, скажу только, что я никогда не был в нее серьезно влюблен, но при каждом с нею свидании мгновенно подпадал под ее неотразимую власть. В семейной среде Бржесских она играла самую значительную роль. Нельзя было не заметить, что поэт, искренне любивший красавицу жену, носил в груди горячую рану, нанесенную черными глазами Варвары Андреевны. Только на балах -
Под звуки музыки и пляски…я давал полную свободу своему ухаживанию. В гостиной в присутствии Бржесского я старался сдерживаться ради друга. До сей минуты никто никогда не догадывался, что мое стихотворение -
«Я знаю, гордая, ты любишь самовластье»…— написано к ней.
* * *
Когда переход наш из Стецовки в Красноселье был уже решен[147], Бржесский при свидании сказал мне:
— Там вы будете в недалеком соседстве от Михаила Ильича Петковича, женатого на моей родной сестре, Елизавете Федоровне. Они очень милые и радушные люди и будут сердечно вам рады.
Желая хоть сколько-нибудь избежать однообразия нашего затворничества, я на своей верной паре, расспросивши дорогу, отправился в Федоровку. Среди новороссийских степей 15-верстное расстояние считалось небольшим. В сухое время дорога разнообразилась переездом версты в четыре через казенное чернолесье, вырывавшееся из Киевской губернии длинным отрогом в херсонскую степь. По выезде из просеки проезжий натыкался на хутор, носивший название Забара и составлявший, так сказать, преддверие к Федоровской усадьбе, отстоявшей на версту далее. Бржесский был совершенно прав: Петкович, худощавый брюнет с проседью, лет 50, отставной штаб-ротмистр нашего Орденского полка, оказался радушным хозяином. Жена его, брюнетка небольшого роста, несмотря на 45 лет, все еще подвижная, занятая туалетом, и бесконечно приветливая.
— Как жаль, что вы проскучаете с нами, не застав никого из наших гостей; но позвольте считать вас в качестве друга Алексея Федоровича, за близкого нам человека. Мы ждем на днях приезда родных на продолжительное время и надеемся, что близкое соседство доставит вам возможность радовать нас своими посещениями. Уж как наши барышни-то будут рады!
В следующий раз приезд мой в Федоровку был гораздо удачнее первого: я застал там большое и любезное общество. Общедоступных парадных комнат в федоровском доме, не считая лакейской, было всего три или, лучше сказать, четыре.
В залу, с окнами с двух противоположных концов, слева выходили двое дверей от двух симметрически расположенных по углам комнат, из которых первая была кабинетом хозяина, а вторая гостиною. Между этими комнатами с левой стороны в ту же залу выходил альков без дверей. Днем он исполнен был приятного полумрака, а вечером освещался разноцветным китайским фонарем, озарявшим непрерывный по трем стенам турецкий диван.
Остальные недоступные нам комнаты по правую сторону залы были домашними. К двум-трем флигелям вели дощатые кладки, наподобие тротуара, так что гости могли во всякую погоду переходить к своему ночлегу, не загрязнив ног.
Хотя все семейство Петковичей состояло из них двух и семилетней прелестной дочери Елены, или Эли, как ее называли, но видно было, что принимать многочисленных родственников хозяина было великим наслаждением не только для него лично, но и для добрейшей Елизаветы Федоровны.
Полный иронии Михаил Ильич любил рассказывать про своего старика отца, жившего под Кременчугом в собственном имении. Однажды и мне довелось видеть этого сухого, высокого и как кол прямого старика, давным-давно вдового и застывшего, можно сказать, в своей скупости. Следует, однако, принять в соображение, что оба его сына, штаб-ротмистры в отставке — Александр и владетель Федоровки Михаил в молодости не слишком радовали отца своим поведением.
Оба брата рассказывали, как денщик привез их зимою к отцу, завернутых под полушубками в простыню за неимением другой, заложенной евреям, обмундировки.
Увидя их, искусственно поддерживавших дорогою тепло, отец будто бы сказал: «Эх-хе-хе! Еще и пьяницы».
На всякого рода намеки на денежное вспомоществование многочисленным своим потомкам жесткий старик отвечал категорически: «Имейте мя отреченна»,
Старшему сыну Александру, женившемуся против воли отца, старик ничего не давал и не принимал его. Михаила же Ильича, женившегося на богатой вдове, он считал не нуждающимся в помощи и потому тоже ничего не давал. Не давал ничего и дочери своей, выданной замуж за служащего при комиссариате отставного полковника, поляка Кварда Андреевича Префацкого. Не дал он ничего и второй своей дочери, вышедшей замуж за отставного генерала. Последняя в скором времени умерла, оставив трех дочерей генералу, который, безвыездно проживая в небольшом имении и усердно занимаясь земледелием и пчеловодством, успел при ограниченных средствах дать дочерям, по крайней мере двум первым (третьей я никогда не видал), блестящее образование.
Веселый, добродушный и шутливый Михаил Ильич представлял живую противоположность своего нелюдимого отца. Трудно представить себе кого-либо гостеприимнее федоровской четы Петковичей, и надо было только удивляться вместительности небольшой усадьбы.
Перечисляя федоровских гостей, с которыми мне впоследствии приходилось часто встречаться, начну с дам. Старики Префацкие нередко отпускали гостить к брату двух дочерей своих: старшую Камиллу, брюнетку среднего роста с замечательно черными глазами, ресницами и бровями, с золотистым загаром лица и ярким румянцем. Это была очень любезная девушка, но уступавшая младшей своей сестре Юлии, или, как ее называли, Юльце, в резвой шаловливости и необычайной грации и легкости в танцах.
Так как, начиная с самой Елизаветы Федоровны, многие дамы играли на рояли, то в просторной зале, по снятии обеденного стола, часто заводились импровизированные танцы, и вальсировать или полькировать с Юльцей было истинным наслаждением. Гостили и две дочери генерала Ларина, и притом старшая, замечательная красавица брюнетка, с мужем своим — казначеем Ольденбургского полка ротмистром Буйницким. Это был весьма красивый, находчивый и расторопный офицер, лет 35-ти. Сдержанный в обществе, он, очевидно, знал цену своей красавицы жены и не удивлялся, что она в полку представляла магнит, привлекавший молодежь.
Удивительно, что, невзирая на разнообразный состав полкового общества, каждый полк носит то, что Чацкий определяет:
…от головы до пяток
На всех московских есть особый отпечаток…
Так, при моем поступлении большинство офицеров Военного Ордена полка были богатые, охотники выпить шампанского, уехать в отпуск и просрочить в своем имении, предпочитать карты женскому обществу и, мало помышляя о щеголеватости, сорить деньгами без расчета.
Принца Ольденбургского (Стародубовский) полк представлял в этом отношении прямую противоположность с нашим. Офицеры его, большею частью из остзейских немцев, не получали из дому никакой поддержки, но умели на небольшое жалованье сводить концы с концами, отличаясь притом щегольскою обмундировкой. При крайней аккуратности не только эскадронные командиры, но даже самые младшие офицеры, будучи любителями и знатоками конского дела, с выгодою выдерживали и продавали лошадей, съезжая их парами, тройками и четверками.
Только пребыванием в Федоровке полковой красавицы Буйницкой я объяснил себе, что застал в доме и других офицеров Стародубовского полка, напр., эскадронного командира ротмистра Штерна и молодого корнета его эскадрона Бедера…
Не знаю, как при большом наплыве гостей размещались дамы. Что же касается до нас, то сборы были невелики: на время нашего пребывания в Федоровке прачки изгонялись из своих двух комнат и сверх сена по глиняным полам расстилались ковры, покрытые простынями, вдоль стен клали подушки, и ночлег был готов. По вечерам на сон грядущий долго не умолкали всякого рода рассказы и шуточные замечания, с которых затем начиналось и утро. Много веселости придавало вышучивание Буйницким стройного и красивого Бедера. Мальчик этот был представителем той особенности, которая нередко встречается между людьми: он готов был явиться резким и даже беспощадным по отношению к человеку, но питал глубокую нежность к беззащитным животным. Бедер воспитывался в Лифляндии, в Биркенруэ, и при первой резкой выходке мальчика Буйницкий не упускал воскликнуть: «Каков! Каков! Это у них в Биркенруэ этому учат! Нет, его так оставить нельзя; man muss ihn ummachen».
Однажды, когда я преднамеренно рассказывал Бедеру, что у нас при опахивании деревни от коровьей смерти зарывают в землю черную собаку и черную кошку живыми, Бедер воскликнул: «В такой деревне надо попа по шею в землю зарыть и плугом голову оторвать».
— Каков Биркенруэ! — воскликнул Буйницкий. — Nein, nein man muss ihn ummachen![148].
В отсутствие Бедера Штерн рассказал нам следующее:
«Равняя эскадрон, я заметил, что лошадь Бедера на целую голову впереди. „Корнет Бедер, соберите вашу лошадь!“ — крикнул я ему, проезжая на левый фланг. Смотрю оттуда: лошадь Бедера, как ни в чем не бывало, торчит впереди. „Вахмистр! — крикнул я, — как корнетова лошадь-то разъелась, и собраться не может. Убавить ей два гарнца.“ Проезжаю на правый фланг, смотрю, лошадь Бедера собрана в комок».
Просыпаясь гораздо раньше дам, я в халате отправлялся в пекарную избу и, садясь за безукоризненно белый стол, смотрел в устье печи, где для меня перед огнем кипели два поливенных кувшинчика: один с кофеем, а другой со сливками. Накрывала салфетку и ставила передо мною кипящие кувшинчики пожилая экономка…
Ввиду того, что настоящие воспоминания не дневник, позволю себе рассказывать о происходившем, не стесняясь последовательностью, так как федоровские гости были почти одни и те же с прибавлением разве Алекс. Ильича Петковича с женою, да одного или двух стародубовских офицеров. На Рождестве гости были в полном составе. Меньшая Ларина Елена[149], пользовавшаяся вполне заслуженною симпатией хозяев и задушевными ласками своего зятя Буйницкого, мало участвовала в шумном веселье подруг и, будучи великолепной музыкантшей, предпочитала играть на рояли для танцующих.
Большого роста, стройная брюнетка, она далеко уступала лицом своей сестре, но зато превосходила ее необычайною роскошью черных с сизым отливом волос.
Насколько Надежда Буйницкая была резва и проказлива, настолько Елена Ларина была сдержанна. Несмотря на это, Буйницкий при свидании утром в гостиной дозволял себе подтрунивать над затруднениями, составляемыми Елене чересчур пышными волосами,
— А что, птичка, — спрашивал он, — опять, небось, вырезала ножницами волосы и плакала, расчесывая их.
Стояла морозная и тихая погода. Снег по полям лежал пышной периной. Офицеры сговорились катать дам на своих лошадях. Главным возницей оказался ротмистр Штерн в своих широких санях, запряженных великолепною тройкой серых. Подпоясав енотовую шинель, он сам правил, с трудом сдерживая коней. Случайно и я попал с ним рядом на облучок. В наших санях сидели Камилла и Юльца, а на тройке Буйницкого, управляемой им самим, сидела его жена с сестрою и на козлах Бедер.
— Не обгоняйте, пожалуйста! — крикнул Буйницкому Штерн. — Насилу держу: того гляди, подхватят.
Этого было достаточно для шаловливого Буйницкого, чтобы пустить свою тройку объехать нашу. Видя, что наши лошади подхватывают, я обеими руками схватился за вожжу левой пристяжной; но тотчас же убедился, что усилия мои напрасны: лошадь, подобно остальной паре, мчала сани не постромкой, а вожжей. Чтобы утомить лошадей, мы сбили их с дороги целиком и по ровной степи помчались в снежном облаке, взметаемом напряженными копытами. Не знаю, какое именно расстояние мы проскакали; но когда лошади стали уменьшать быстроту бега, мы увидали, что были в степи одни, а Буйницкие, вероятно, повернули уже к дому. На другое утро немецкий Геркулес Штерн, прикладывая бритву к щеке, вынужден был придерживать левою рукою правую, которая со вчерашнего напряжения дрожала как осиновый лист.
Настали святки. Гостей, начиная с семейства А. И. Петковича, еще прибыло, и по вечерам с еще большим азартом танцевали. В те времена жалованье из полка получалось в бочонках золотыми и преимущественно серебряными рублями. Помнится, что казначей великой княгини Елены Павловны полка, получивший в Кременчуге полковую сумму серебром в бочонках, сбился в метель с дороги, и его солдатик, сидевший на бочонках, отморозил ноги. На просьбу нашу выдать сто рублей третнаго жалованья ассигнациями казначеи постоянно отвечали: «Господа, откуда же мы вам возьмем ассигнаций, когда получаем звонкою монетой?» Так как невозможно поместить сто серебряных рублей в кошелек, то по примеру многих я вкладывал монету в носок и завязывал его веревочкой. При подобных обстоятельствах я обыкновенно в день приезда просил Михаила Ильича припрятать от греха мои деньги, что он любезно исполнял, засовывая мое хранилище в бюро. Как-то вечером, в самый разгар веселья, Мих. Ильич, наткнувшийся, вероятно, на мое сокровище, вдруг выставился из кабинета в залу и, держа в руках мой носок, воскликнул:
— Mesdames, хотите видеть кошелек Аф. Аф.?
Какой удобный предлог для проказницы Буйницкой похохотать.
В те времена я не подвергал еще систематическому обобщению своих врожденных побуждений; но, не сознавая разумом должного, инстинктивно чувствовал, что не должно. Меня привлекало общество прелестных женщин, но я чуял границу, которую я при сближении с ними не должен был переступать; я очень хорошо понимал, что степень моей заинтересованности и ухаживания нимало не выражается большей или меньшей любезностью. Можно рассыпаться в любезностях перед женщиной, и в то же время другая, на которую вы, по-видимому, не обращаете внимания, поймет, что настоящая симпатия и стремления ваши относятся к ней, а не к предмету ваших явных любезностей. Разница большая — смущать душевное спокойствие неопытной девочки или искать сближения с женщиной, которой общество находишь обворожительным. И в то время, припоминая совет Оконора[150], я ясно понимал, что жениться офицеру, получающему 300 руб. из дому, на девушке без состояния, значит необдуманно или недобросовестно брать на себя клятвенное обещание, которого не в состоянии выполнить. Кружиться в танцах я постоянно искал с Юльцей, но тихо беседовать любил более всего с румяною Камиллой. Она так искренно искала всего благородного в людских действиях, и когда разговор касался симпатичных ей поступков, черные глаза загорались радостным блеском, и щеки озарялись еще сильнее пылающим румянцем.
В святочный вечер приходили дворовые и брызгали пшеничными зернами, приносили петуха, который спросонья вел себя чрезвычайно флегматично и не захотел ни ходить, ни клевать. Барышни затеяли гадать. В зале на стол поставили суповую чашку с водою и спиртовую кастрюлю с растопленным воском, который разом выливали в воду. Все подходили к дебелой Марье Ивановне, жившей в доме в качестве компаньонки и принявшей на этот раз роль гадалки. Весь дом, говоря о Марье Ивановне, называл ее «благодатной».
— Пожалуйста, Марья Ивановна, погадайте мне! — говорили все, но, конечно, прежде всех гадали барышни. Выходили восковые горы, кустарники, леса и даже островерхие готические здания. Все это давало повод к многоразличным толкованиям и пророчествам. Настала очередь Камиллы. Не успел воск вылиться в воду, как все, в том числе и я, единогласно воскликнули: «Звезда! звезда!» И действительно, в середине чашки плавала орденская звезда, до того правильно и рельефно отлитая, что в названии фигуры не могло быть сомнения.
На другой день гадания уже не повторялись, но вечер был оживлен не менее обыкновенного, и мы или упрашивали дам на круг легких танцев, или, расхаживая с ними по зале, старались сказать что-нибудь приятное. Вдруг слышу, кто-то вкладывает руку под мой правый локоть, оглядываюсь, — наша добрейшая хозяйка.
— Аф. Аф., - шепнула она мне на ухо, — вы не знаете нашего семейного события?
— Не имею никакого понятия.
— Сейчас вон в том алькове Штерн сделал предложение Камилле; она поблагодарила и сказала, что окончательное решение принадлежит ее родителям, и Мих. Ил. отправил уже нарочного в Кременчуг; завтра к вечеру должен быть ответ. Мих. Ил., кстати, поздравляя Илью Александровича с невестой-внучкой, выражает надежду на помощь в приданом.
Конечно, всех поразило вчерашнее пророчество, и немногого знания немецкого языка нужно, чтобы понять, что звезда по-немецки «stern»…
* * *
В Федоровке я снова встретил тех же дам, и какое-то внутреннее чувство говорило мне, что мои ухаживания за Буйницкой, искренне любящей своего мужа, всего больше напоминали риторические упражнения. Я стал оглядываться, и глаза мои невольно остановились на ее сдержанной, чтобы не сказать строгой, сестре Елене. Обращаясь к последней без всяких фраз, я скоро изумлен был ее обширным знакомством с моими любимыми поэтами. И между прочим, она первая познакомила меня с поэмой Тургенева «Параша». Помню, как она не без иронии прочла стихи:
«Стал как-то боком И начал разговор О Турции, гонимый злобным роком».Помню, как мне вдруг сделалось нежелательно стать перед нею в таком невыгодном положении.
Но главным полем сближения послужила нам Жорж Санд с ее очаровательным языком, вдохновенными описаниями природы и совершенно новыми небывалыми отношениями влюбленных.
Изложение личных впечатлений при чтении каждого нового ее романа приводило к взаимной проверке этих ощущений и к нескончаемым их объяснениям. Только после некоторого продолжительного знакомства с m-lle Helene, как я ее называл, я узнал, что она почти с детства любила мои стихотворения. Не подлежало сомнению, что она давно поняла задушевный трепет, с каким я вступал в симпатичную ее атмосферу. Понял и я, что слова и молчание в этом случае равно значительны.
— Заметили вы, — спросил я однажды, — как вскорости после свадьбы Камиллы, провожая вас и Юльцу вечером по деревянным кладкам до дверей вашего Флигеля, я желал сказать вам «bonsoir», но почему-то вдруг, выговоривши «bon», я испугался несообразности приветствия поздним временем, поправился и сказал: bonne nuit[151].
— Да, я сейчас это заметила и поняла, — сказала Елена.
Ничто не сближает людей так, как искусство, вообще — поэзия в широком смысле слова. Такое задушевное сближение само по себе поэзия. Люди становятся чутки и чувствуют и понимают то, для полного объяснения чего никаких слов недостаточно. Я уже говорил о замечательной музыкальной способности Елены. Мне отрадно было узнать, что во время пребывания в Елизаветграде Лист[152] умел оценить ее виртуозность и поэтическое настроение. Перед отъездом он написал ей в альбом прощальную музыкальную фразу необыкновенной красоты. Сколько раз просил я Елену повторить для меня на рояле эту удивительную фразу. Под влиянием последней я написал стихотворение:
Какие-то носятся звуки И льнут к моему изголовью…Оценила ли добрейшая Елизавета Федоровна из племянниц своих более всех Елену, искала ли Елена отдохновения от затворничества в доме брюзгливого отца и уроков, которые вынуждена была давать младшей сестре, на строптивость и неспособность которой по временам горько жаловалась, но только при дальнейших посещениях моих Федоровки я в числе и немногих гостей встречал Елену. Казалось, что могли бы мы приносить с собою из наших пустынь? А между тем мы не успевали наговориться. Бывало, все разойдутся по своим местам, и время уже за полночь, а мы при тусклом свете цветного фонаря продолжаем сидеть в алькове на диване. Никогда мы не проговаривались о наших взаимных чувствах. Да это было бы совершенно излишне. Мы оба были не дети: мне 28, а ей 22, и нам непростительно было совершенно отворачиваться от будничной жизни. Чтобы разом сжечь корабли наших взаимных надежд, я собрался с духом и высказал громко свои мысли касательно того, насколько считал брак для себя невозможным и эгоистичным.
— Я люблю с вами беседовать, — говорила Елена, — без всяких посягательств на вашу свободу.
Поздние беседы наши продолжались.
— Елена, — сказал я однажды, засидевшись за полночь, — завтра утром я решительно поблагодарю добрейших хозяев, дружески пожму вам руку и окончательно уеду. Так продолжать нельзя. Никто не может не видеть этого, и все осуждение падет, конечно, не на меня, а на вас.
— Мы ничего дурного не делаем, — спокойно отвечала она, — а лишать себя счастья отрадных бесед из-за суждений людей, к которым я совершенно равнодушна, я не считаю основательным.
Беседы наши по временам повторялись.
С утра иногда я читал что-либо вслух в гостиной, в то время как она что-нибудь шила.
Так однажды мы услыхали шаги проходящего по зале в красном шлафроке Мих. Ильича. Обычно потирая руки, он напевал на голос какого-то водевильного куплета:
Я только в скобках замечаю…— Каков дядя! — шепнула Елена, поднимая улыбающиеся глаза от работы.
— Видите, до какой степени я был прав, — сказал я
* * *
Подходило время к весне[153]. В полку вместе с принятием его бароном Бюлером произошли значительные перемены. Вышел в отставку полковой казначей Иосиф Безрадецкий, удержавший из первого моего офицерского жалованья деньги за юнкерскую обмундировку. Когда я ему объяснил, что заплатил закройщику Лихоте сто рублей, т. е. чуть не втрое против казенной стоимости сукна, Безрадецкий сказал, что всем юнкерам строится обмундировка в полковой швальне на их счет, а что, вероятно, я дал Лихоте сто рублей на чай.
Пришла на мое имя бумага от полкового штаба приглашением прибыть в селение Елизаветградку для занятия должности полкового квартирмейстера. Когда я явился к новому полковому командиру Карлу Федоровичу Бюлеру[154], последний сказал мне: «Я назначил вас на должность квартирмейстера, но вам известно, что Сакен получил пехотный корпус в Западном крае, а новый наш корпусный командир барон Офенберг пригласил Н. И. Небольсина к себе в адъютанты. Поэтому я вас прошу принять на время в свое ведение полковую канцелярию».
Привычный к канцелярским порядкам, я попросил было Николая Ивановича сдать мне дела, но он ответил: «Принимайте сами все, что там есть».
Знакомясь с крайне беспорядочным состоянием канцелярии, я убедился, что не канцелярский порядок, а величайший такт был причиною всеобщей любви и уважения, какими пользовался Небольсин. Еще до моего прибытия в штаб Петр Васильевич Кащенко был назначен казначеем.
По раз установленному правилу, адъютант и казначей ежедневно обедали у Карла Федоровича, — и вот причина моего сближения с Кащенко.
Весенняя вода сошла, и земля оттаяла. При этом ходить по уличному чернозему иначе не было возможности, как в болотных сапогах, в которых, однако, неловко было являться к обеду полкового командира. Поэтому, отправляясь туда, я надевал болотные сапоги и садился верхом на одну упряжную, покрытую попоной, а слуга мой с сапогами со шпорами ехал на другой упряжной. В передней я сбрасывал грязные болотные и надевал форменные, а через час слуга возвращался за мною, и я, переобувшись, ехал домой. Так продолжалось дней пять. Но вот улицы стали просыхать и вдоль стен образовались тропинки, по которым можно было сухо пробираться.
После двух недель исполнения мною должности адъютанта Бюлер, подписав доложенные ему бумаги, сказал: «Канцелярское дело у вас идет так успешно, что я думаю попросить вас остаться в этой должности».
Понимая, что военная служба представляет мне единственно доступную дорогу, я, конечно, был очень рад предложению такого любезного командира, каким был Карл Федорович. Хотя от Кащенки знал, до какой степени наша молодежь друг перед дружкой добивается предлагаемого мне места и раздражена моим назначением, тем не менее я решился принять должность на основании поговорки: «На службе ни на что не напрашивайся и ни от чего не отказывайся». Что завистники про меня распускали дурного между молодежью — я никогда не любопытствовал знать. Но что они успели вооружить против меня даже и старших офицеров, это несомненно. Многое пришлось мне в это тяжелое время передумать с подушкой. Мы оба с бароном Бюлером молча сознавали, что нам предстоит многотрудная задача добиться в полку нравственного равновесия. Блестящий период Энгельгардта невозвратно прошел: богатая молодежь, шедшая в полк для того, чтобы красиво отпраздновать молодость или перейти из армии в гвардию, миновала. Богатый и всемогущий ремонтер[155] Клевцов, водивший в полк восьми, девяти и десятивершковые фланги и даже приведший в первый эскадрон 11-ти вершкового Ринальда, оставил службу. Прошло То время, когда Энгельгардту стоило сказать: «Господа, я уверен, что вы меня поддержите», — для того, чтоб офицеры не пожалели никаких денег для блестящего представительства полка; но зато этот блеск выкупался полным отсутствием дисциплины. Богатые самонадеянные офицеры бесцеремонно по полугодиям проживали дома, и в экстренном случае, за отсутствием телеграфов, рассылались эстафеты, а немногие бедняки между тем тянули безысходную лямку. В те времена немного бы нашлось конкурентов на должность, обязывающую заботиться о делах полка и безотлучно сидеть в штабе. Теперь большинство молодежи искало служебной дороги. Амуничное хозяйство дошло до последней невозможности. Небогатый Бюлер прямо говорил, что, потерявши по болезни Клястицкий полк, он не может не принять Орденского, не рискуя остаться без полка; но что без этого обстоятельства он ни за что не принял бы полка от беспомощного Кноринга, принявшего полк от Энгельгардта. В целом полку не было сотни крепких шинелей; старые вальтрапы были в лохмотьях, а вновь построенные обрезаны до невозможности. И все в таком роде. Дельный, добросовестный и опытный барон хорошо понимал всю тяжесть предстоящей ему работы. Надо было в течение долгих лет водить солдат чуть не нагишом, чтобы собрать и восстановить все расхищенное. Если прибавить, что халатным отношением к делу среди фронтовых лошадей развели сап, то понятно, до какой степени раздумье могло овладевать полковым командиром. Но всего труднее было подтянуть окончательно расшатанную дисциплину между офицерами
* * *
В полк пришел приказ о поступлении нашем на военное положение и выступлении через неделю в поход к австрийской границе[156].
В последнее время мне не удалось побывать у Петковичей, но на походе чуть ли не всему полку пришлось проходить мимо Федоровки и притом не далее полверсты от конца липовой аллеи, выходившей в поле.
Сам Карл Федорович с нами в поход не шел, иначе, подъехав к левому его стремени, я считал бы себя безопасным от всякого рода выходок собравшейся в кучку с левой стороны походной колонны зубоскалов. Чтобы избежать заведомо враждебной среды, я безотлучно шел в голове полка, перед трубаческим хором, начинавшим по знаку штаб-трубача играть при вступлении во всякое жилое место. Мои поездки к Петковичам не могли быть неизвестны в полку; но едва ли многие знали, где именно Федоровка.
Душа во мне замирала при мысли, что может возникнуть какой-нибудь неуместный разговор об особе, защищать которую я не мог, не ставя ее в ничем не заслуженный неблагоприятный свет. Поэтому под гром марша я шел мимо далекой аллеи, даже не поворачивая головы в ту сторону. Это не мешало мне вглядываться, скосив влево глаза, и — у страха глаза велики — мне показалось в темном входе в аллею белое пятно. Тяжелое это было прощанье…
В Ново-Миргороде пришло приказание остановиться до нового приказа[157]. Нас разместили по отводу весьма широко; в большом одноэтажном доме отведена была квартира полковому командиру, и тут же с другого крыльца помещался я в двух или трех комнатах.
Однажды, когда мы шли, направляясь к главной улице, я заметил невиданное в Ново-Миргороде явление: навстречу к нам шел по тротуару ливрейный слуга и подойдя обратился ко мне со словами: «Елизавета Федоровна Петкович остановились в гостинице проездом на богомолье и просят вас пожаловать к ним, так как завтра рано утром уезжают».
— Вы встретили моего слугу, — сказала, подавая мне руку, Елизавета Федоровна. — Так как я завтра рано утром уезжаю, то он отпросился кое-что купить в городе. Здесь поблизости в монастыре чудотворная икона Божьей Матери. Так как на своих стоверстная дорога представляет целое двухсуточное путешествие, то я пригласила с собой добрую Марью Ивановну.
— Марья Ивановна, — сказала Петкович, — вы знаете, что Афанасий Афанасьевич никогда не откажется от кофею: угостите нас кофейком. — Когда кофей был подан, Марья Ивановна попросила позволения воспользоваться случаем для свидания с одной знакомой.
— Сделайте милость, — отвечала Елизавета Федоровна. И по уходе компаньонки свела речи о заметном опустении края после ухода кавалерии.
Летний вечер между тем погас, и голубая ночь вступила в свои права. Полная луна, глядя в окно, перерезала полусумрак комнаты ярким светом. Поло- са эта озаряла стоящий под окном стул. Вдруг Елизавета Федоровна с привычным проворством вскочила с дивана и, подхватив плетеный стул, поставила его рядом с освещенным луною.
— Я попрошу вас на минуту сесть сюда, — сказала она, опускаясь на освещенный стул.
Люди усланы, подумал я, и я посажен так, чтобы видно было малейшее выражение моего лица. Тут какая-то тайна, но какая, я не мог угадать.
— Я говорила вам, — начала моя собеседница, — что приехала в монастырь, но это далеко не верно. Я приехала к вам.
— Я в этом сам убедился, — сказал я, наклоняя голову.
— Я хотела спросить вас, — продолжала она, — что нам делать с Helene: она в таком отчаянии, в такой тоске, что мы сами потеряли голову. Отправить ее в таком положении к отцу мы не решаемся, и глядеть на нее тоже невыносимо.
— Я уверен, — сказал я, — что привела вас сюда ваша врожденная доброта и участие, которое вы принимаете в племяннице, но не могу поверить, чтобы это было по ее просьбе.
— О, в этом случае вы совершенно правы. Она ни о чем меня не просила; она неспособна ни на что и ни на кого жаловаться.
— Зная взаимное доверие ваше с племянницей, — сказал я, — я был уверен, что вам давно известны наши с нею взгляды на наши дружеские отношения; известно также, что я давно умолял вашу племянницу дозволить мне не являться более в Федоровке.
— Вы должны были исполнить ваше намерение, так как вы уже не мальчик, слепо увлекающийся минутой.
— Я принимаю ваш вполне заслуженный упрек. Я виноват; я не взял в расчет женской природы и полагал, что сердце женщины, так ясно понимающей неумолимые условия жизни, способно покориться обстоятельствам. Не думаю, чтобы самая томительная скорбь в настоящем давала нам право идти к неизбежному горю всей остальной жизни.
— Может быть, может быть! — воскликнула Елизавета Федоровна, — но что же нам делать? Чем помочь беде?
— Позвольте мне вручить вам письмо к ней, и я могу вас уверить, что она постарается успокоить вас насчет своего душевного состояния.
— Я вас об этом прошу.
— В таком случае, — продолжал я, — позвольте, поцеловав руку вашу, пойти к себе написать письмо к раннему вашему отъезду.
Мы уже давно были с Helene в переписке, но она с самого начала писала мне по-французски, и я даже не знаю, насколько она владела русской «почтовой прозой». Я всегда писал ей по-русски.
Через несколько дней я получил по почте самое дружеское и успокоительное письмо.
* * *
Вступая в Крылове по отводу в ту самую квартиру, в которой в день приезда моего в полк приютил меня мой И. П. Борисов, я волновался самыми разнообразными, хотя не совсем определенными чувствами[158]. Я один, Борисова, давно покинувшего полк, со мной нет, но зато, как полковой адъютант, я должен, невзирая ни на какие волнения, прочно утвердиться в своем новом положении
* * *
Среди самых непохвальных наклонностей человека в душе его могут таиться перлы, каких не найдется в душе самого строго нравственного человека. Это отчасти и понятно, так как всякий хороший или дурной порыв представляет самобытную деятельность, тогда как безупречность — условие только отрицательное.
Прибыл наконец и начальник дивизии, барон Фитингоф, на полковой кампамент и тотчас же приступил к инспекторскому смотру лошадей на выводке по годам[159].
Поставили для начальства стулья и столик, к которому явился и я с книгою полковых описей.
— Полковник, вы довольны вашим исправляющим должность адъютанта? — спросил Фитингоф.
— Доволен, ваше превосходительство, — был ответ, — и так как он произведен в поручики, то прошу ваше превосходительство об утверждении его в должности.
Чтобы не сомневаться в годе поступления лошади на службу, каждый год ремонт назывался со следующей буквы алфавита против прошлогоднего.
Название девяноста лошадей на одну и ту же букву дело далеко не легкое. А так как проводили лошадей большею частию взводные унтер-офицеры и вообще люди полированные, то, поравнявшись с лошадью против начальника дивизии, каждый считал нужным отчетливо произнести имя лошади, прибавляя: «ваше превосходительство».
Один кричит: «Дудак, ваше пр-о», другой кричит: «кобыла Душка, ваше пр-о» и наконец: «конь Дурень, ваше пр-во».
Надо было принять меры, чтобы люди, по желанию начальника дивизии, не прибавляли слов: «ваше пр-о».
— Ваше пр-о, — вполголоса сказал Карл Федорович, наклоняясь к генералу, — разрешите адъютанту исправить в описи имя коня Гротус: таково имя вашего адъютанта, и не совсем ловко будет, если в присутствии его поведут лошадь на поводу и выкрикнут: «Гротус».
— Вы можете исправить это имя в описи по желанию, — сказал генерал, — но я тут обидного ничего не вижу, и был бы рад, если бы хорошая лошадь называлась Фитингоф.
Не одно начальство испытало на этот раз некоторую неловкость от оглашения конской описи, на которую я, недавно вступив в должность, не обратил надлежащего внимания и предоставил своему гениальному старшему писарю Беликову сочинить на целый ремонт имен на букву «ж». Задавшись работой, он нашел в ней случай блеснуть сведениями по части иностранных языков и преимущественно французского. Кроме несколько загадочного Жабоклиц, появились очевидно французские: Жентабль, Жевузем, Жевузадор и другие, которых не припомню. К сожалению, унтер-офицер каждый раз порочил коня, выговаривая Живозадер вместе Жевузадор.
* * *
Вероятно, в частых разговорах с Карлом Федоровичем я проговорился о томившем меня желании издать накопившиеся в разных журналах мои стихотворения отдельным выпуском, для чего мне нужно бы недельки две пробыть в Москве.
— Вот кстати, — сказал полковник, — я вам дам поручение принять от поставщика черные кожи для крышек на потники. Вы получите от меня формальное поручение и подорожную по казенной надобности.
Я и поныне убежден, что эту командировку придумал барон, желая мне помочь.
Пробыв проездом в Новоселках самое короткое время, я прямо проехал в Москву к Григорьевым, у которых поместился наверху на старом месте, как буд. то бы ничто со времени нашей последней встречи и не случилось[160]. Аполлон после странствований вернулся из Петербурга и занимал по-прежнему комнатки налево, а я занял свои по правую сторону мезонина. С обычной чуткостью и симпатией принялся Аполлон за редакцию стихов моих. При скудных материальных средствах я не мог тратить больших денег на переписку стихотворений, подлежавших предварительной цензуре. Услыхав о моем затруднении, старик Григорьев сказал: «Да чего вам искать? Возьмите бывшего своего учителя П. П. Хилкова. Вы ему этой работой окажете великую помощь, так как он в страшной бедности».
Между прочим я нашел время забежать к давно знакомому Василию Петровичу Боткину, литературным судом которого дорожил.
Хотя дело было в дообеденную пору, я застал у него на кресле в поношенном фраке кудрявого с легкой проседью человека среднего роста.
— Василий Петрович, — сказал я, — я пришел к вам с корыстною целью воспользоваться часом вашего времени, чтобы подвергнуть мой стихотворный перевод шиллеровской «Семелы» вашему суду, если это не стеснит вас и вашего гостя.
И хозяин, и гость любезно приняли мое предложение, и, достав тетрадку из кармана, я прочел перевод. Когда я, окончив текст, прочел: «Симфония, занавес падает», — посетитель во фраке встал и сказал: «Конца-то нет, но я понимаю, предоставляется актеру сделать от себя надлежащее заключение».
С этим он пожал хозяину руку и, раскланявшись со мною, вышел.
— Кто этот чудак? — спросил я Боткина.
— Это наш знаменитый Мочалов, — не без иронии заключил Боткин.
Устроившись насчет печати с типографией Степанова и упросив Аполлона продержать корректуру, я принял кожи и через Новоселки и Киев вернулся в полк
* * *
Когда после майского сбора[161] эскадроны разошлись на травяное продовольствие, я отпросился на несколько дней и прежде всего проехал к моим Бржесским. Если я искренно жаловался своему другу Алексею Федоровичу на кого-либо, то только на себя, не находящего никакого исхода тому томлению, которое выражалось в письмах хорошо знакомой им девушки. Она не менее меня понимала безысходность нашего положения, но твердо стояла на том, что не желая ни в каком случае выходить замуж, она, насильственно порывая духовное общение, только принесет никому не нужную жертву и превратит свою жизнь в безотрадную пустыню. Не высказав никакого определенного мнения, Бржесский советовал мне съездить в Федоровку, где Елена гостит в настоящее время, и постараться общими силами развязать этот гордиев узел.
Конечно, восторженная наша встреча не повела ни к какой развязке, а только отозвалась на нас еще более тяжкою и безнадежною болью.
Так как я ездил на собственной четверке, то на половинной дороге из Федоровки пришлось кормить в Стецовке, и я заехал к новому командиру третьего эскадрона Крюднеру. Крюднер, вероятно, уже пообедал, да в тяжком расположении духа я бы отказался от всякой пищи. Но, желая быть любезным хозяином, Крюднер сказал: «Я привез с собою из Лифляндии рижского доппель-кюммелю, и мы с тобою выпьем».
Времени для угощения было довольно, так как я никогда не кормил дорогою лошадей менее 3 1/2 часов; и мы сначала довольно лениво относились к прекрасному доппель-кюммелю, но мало-помалу дело пошло успешнее. Сам Крюднер, бывший не дурак выпить, разогрелся и, взявши гитару, начал наигрывать разные вальсы, а затем, исполняя шубертовского «Лесного царя», фальцетом выводил куплеты о танцующих царских дочерях.
Стараясь заглушить раздумье и гнетущую тоску, я усердно выпивал рюмку за рюмкой, но мрачное настроение не впускало в себя опьянения. Крепко пожав руку Крюднера, я сел в нетычанку и покатил домой.
— Ты шути, — говорил впоследствии чуть ли не Рапу Крюднер, — честное слово, я стал уважать Фета с тех пор, как он заезжал ко мне в эскадрон. Я нарочно считал: он выпил двадцать рюмок кюммелю и поехал ни в одном глазе.
По прибытии в Елизаветград к царскому смотру[162], мы заранее были предупреждены о дне приезда государя и о том, что почетный караул назначен от нашего полка.
Излишне говорить, сколько ранжировки, маршировки и чистки предшествовало торжественному дню выхода караула против царского крыльца
* * *
Рассказывая о событиях моей жизни, я до сих пор руководствовался мыслью, что только правда может быть интересной как для пишущего, так и для читающего. В противном случае не стоит говорить.
При таком убеждении я не проходил молчанием значительных для меня событий, хотя бы они вели к моему осуждению или к сожалению обо мне.
Казалось, достаточно было бы безмолвно принести на трезвый алтарь жизни самые задушевные стремления и чувства. Оказалось на деле, что этот горький кубок был недостаточно отравлен.
Вскорости по возвращении в Крылов я выпросился на несколько дней в Березовку, и в самый день приезда моего к Бржесским появился Михаил Ильич Петкович и, здороваясь со мною, воскликнул:
— А Лена-то!
— Что? Что? — с испугом спросил я.
— Как! — воскликнул он, дико смотря мне в глаза. — Вы ничего не знаете?
И видя мое коснеющее недоумение, прибавил!
— Да ведь ее уже нет! Она умерла! И, боже мой, как ужасно!
Когда мы оба немного пришли в себя, он рассказал следующее:
«Гостила она у нас, но так как ко времени сенной и хлебной уборки старый генерал посылал всех дворовых людей, в том числе и кучера, в поле, то прислал за нею карету перед покосом. Пришлось снова биться над уроками упрямой сестры, после которых наставница ложилась на диван с французским романом и папироской, в уверенности, что строгий отец, строго запрещавший дочерям куренье, не войдет.
Так в последний раз легла она в белом кисейном платье и, закурив папироску, бросила, сосредоточивая внимание на книге, на пол спичку, которую считала потухшей. Но спичка, продолжавшая гореть, зажгла спустившееся на пол платье, и девушка только тогда заметила, что горит, когда вся правая сторона была в огне. Растерявшись при совершенном безлюдьи, за исключением беспомощной девочки сестры (отец находился в отдаленном кабинете), несчастная, вместо того чтобы, повалившись на пол, стараться хотя бы собственным телом затушить огонь, бросилась по комнатам к балконной двери гостиной, причем горящие куски платья, отрываясь, падали на паркет, оставляя на нем следы рокового горенья. Думая найти облегчение на чистом воздухе, девушка выбежала на балкон. Но при первом ее появлении на воздух пламя поднялось выше ее головы, и она, закрывши руками лицо и крикнув сестре: „sauvez les lettres“[163], бросилась по ступеням в сад. Там, пробежав насколько хватило сил, она упала совершенно обгоревшая, и несколько времени спустя на крики сестры прибежали люди и отнесли ее в спальню. Всякая медицинская помощь оказалась излишней, и бедняжка, протомясь четверо суток, спрашивала — можно ли на кресте страдать более, чем она?»
В течение моих рассказов мне не раз приходилось говорить о сестре А. Ф. Бржесского, Близ. Фед. Петкович. Но теперь, соблюдая последовательность, я Должен сказать несколько слов об их старшей сестре Екат. Фед. Романовой. Она была гораздо ровнее характером подвижной сестры своей. Совершенная брюнетка с правильными чертами и с восточным загаром лица, она, походящая романтизмом и нежностью на брата Алексея, вышла замуж за морского капитана Вл. Павл. Романова. Это был в свою очередь милый и благодушный человек.
Хотя вместе с Петковичами я на один день ездил из Федоровки в имение Романовых Снежково, но окончательно свела нас судьба в Крылове, куда это семейство переехало по случаю поступления нежно любимого сына Романовых Владимира в наши юнкера.
Года за четыре перед тем[164] я по рекомендательному письму Бржесского был любезно принят в Москве в доме Романовых, которые, приглашая меня к обеду на следующий день, объявили, что пригласят и моего университетского товарища Сергея Михайловича Соловьева.
Вернувшись в Елизаветград, я на вечере у полковника Мельцера узнал, что Романовы дали слово Соловьеву отдать за него дочь
* * *
…никакая школа жизни не может сравниться с военного службой, требующей одновременно строжайшей дисциплины, величайшей гибкости и твердости хорошего стального клинка в сношениях с равными и привычку к мгновенному достижению цели кратчайшим путем.
Когда я сличаю свою нравственную распущенность и лень на школьной и университетской скамьях с принужденным самонаблюдением и выдержкой во время трудной адъютантской службы, то должен сказать, что кирасирский Военного Ордена полк был для меня возбудительною школой.
Мои воспоминания
Предисловие
В наше время в гвардии рассказывали, что приезжий фотограф, владевший тогда уже искусством мгновенной съемки, уловил тот момент майского парада на Царицыном Лугу, когда вся масса находящегося в строю войска взяла на караул для встречи государя Николая Павловича. Невиданная до той поры в Петербурге фотография удостоена была внимания Августейшего Главнокомандующего Цесаревича Александра Николаевича, изрекавшего минуту представить ее государю.
— Посмотрите, Ваше Высочество, что у вас делается, когда меня встречают, — сказал государь, указывая в одном из бесконечных рядов на солдатика, который, держа левою рукою ружье в надлежащем положении на караул, — правою поправлял кивер, сбитый ему на глаза стоящим в затылок неосторожным товарищем.
Этот анекдот, по нашему мнению, годится к подтверждению двух истин. Во-первых, всякий живой предмет представляет для Наблюдателя множество разнородных сторон. Император Николай, убежденный, что красота есть признак силы, в своих поразительно дисциплинированных и обученных войсках, возбуждавших изумление европейских специалистов, добивался по преимуществу безусловной подчиненности и однообразия. И вот в картине, способной вызвать многосторонние наблюдения и чувства, его поражает слученный и как бы механический беспорядок.
Во-вторых, если минута встречи войсками императора представляет картину в настоящем, то фотографический ее снимок есть та же картина в прошедшем. Не вправе ли мы сказать, что подробности, которые легко ускользают к живом калейдоскопе жизни, ярче бросаются в глаза, перейдя в минувшее, в виде неизменного снимка в действительности.
Озирая привычно проницательным оком живую картину парада, государь не заметил неисправности, мгновенно бросившейся ему в глаза на фотографии.
Я уверен, что в моих воспоминаниях, нам и во всякой другой вещи, каждый будете видеть то, что покажется ему наиболее характерным.
При первом их появлении, кругом меня раздались вопросы, — не будут ли они последовательным раскрытием тайников, из которых появлялись мои стихотворения? Подобными надеждами затрагивался вопрос, бывший в свое время причиною стольких споров моих с Тургеневым и окончательно решенный мною для себя в том же смысле, в каком Лермонтов говорит:
«А в том, что как то чудно Лежит в сердечной глубине, — Высказываться трудно».Если не таково побуждение, заставившее меня на 67-м году оглядываться на прошлую жизнь, то нельзя ли поискать других, более существенных. На одно из них указывает Марциал.
«При Антонии, блажен на веку своем безнадежном, Прошлых пятнадцать уже Олимпиад[165] сосчитал. И на минувшие для озираясь и минувшие годы, Леты недавней уже он не пугается ведь. 5. В воспоминаньях его неприятного, тяжкого дня нет, Чтоб не хотелось о нем вспомнить, такого и нет. Добрый муж у себя бытия объем расширяет: Дважды живет, если жизнь можешь былую вкушать».Стихи эти дороги мне по своему мотиву, без всякого применения ко мне их подробностей. Жизнь моя далеко не представляет безмятежности, о которой говорит римский поэт, и мои воспоминания мне приятны скорее потому, что по словам Лермонтова:
«И как то весело и больно Тревожить язвы старых ран».Быть может, этого чувства достаточно было бы заставить меня пробегать сызнова всю жизнь. Но я еще не уверен, нашел ли бы и в нем одном выдержку, необходимую при таком труде. Когда последняя грань так недалека, то при известном духовном настроении самый главный и настойчивый вопросом является: что же значит эта долголетняя жизнь? Неужели, спускаясь с первого звена до последнего по непрерывной цепи причинности, она не приносят никакою высшего урока? Не дает ли всякая человеческая жизнь, при внимательном обзоре, наглядного ответа на один из капитальнейших вопросов — о свободе воли? — Вопрос этот связан с другим, а именно: что является почином в природе: разум или воля? Во избежание упрека в злоупотреблении отвлеченностями, придержимся выражения о главенстве воли в христианском учении, что без воли Божией волос с головы вашей не спадет. Не ясно ли из этих слов, что какова бы ни была личная воля человека, — она бессильно выступить на круг, указанный Провидением. Этот непреложный закон повторяется не только над усилием отдельного человека, но и над совокупными действиями многих людей. Сознание о высшей силе, подводящей окончательные и нередко неожиданно благоприятные итоги нашими желаниям, выражается даже в самоопределении такого отрицательного существа, как Мефистофель, который указывает на себя как на:
…Той силы часть и вид, Что вечно хочет зла и век добро творит.Удачно или нет я начал свои воспоминания со времени личного знакомства с Тургеневским и другими современными мне литераторами, — пусть судят читатели. Представляю себе, если суждено довести мой рассказ до настоящего времени, начать его уже с самого детства.
Только озирая обе половины моей жизни, можно убедиться, что в первой судьба с каждым шагом лишала меня последовательно всего, что вязалось моим неотъемлемым достоянием. В воспроизводимой мною в настоящее время половине излагаются напротив те сокровенные пути, которыми судьбе угодно было самым настойчивым и неожиданным образом привести меня не только к обладанию утраченным именем, но и связанным с ним достоянием до самых изумительных подробностей. Не мудрствуя лукаво, я строго различаю деятельность свободного человека, нашедшего после долголетних поисков в соду клад, — от свободы другого, не помышлявшего ни о каком кладе и вдруг открывшего его код корнем дерева, вывороченного бурей. Мысль, о подчиненности нашей воли другой высшей, до того мне дорога, что и не знаю духовного наслаждения превыше созерцания ее на жизненном потоке. Конечно, ничья жизнь не может быть более чем моя мне известна до мельчайших подробностей. И вот причина, побудившая меня предпринять труд, представляемый ныне на суд читателя.
Часть I
I
Вступление. — Первая встреча с И. С. Тургеневым. — Наша семья. — В полку. — Переход в гвардию. — Коренная Пустынь. — Ярмарка. — В Красном Селе. — Новые знакомства. — Панаев, Некрасов, Боткин, Дружинин. — Поход. — В Остзейском крае.
Старайся почерпать из жизни-то людской! Все ей живут, не всем она известна; А где ни оглянись, повсюду интересна. ФаустНаходясь, можно сказать, в природной вражде с хронологией, я буду выставлять годы событий только для соблюдения известной последовательности, нимало не отвечая за точность указаний, в которых руководствуюсь более соображением, чем памятью. Так, например, я знаю, что ранее 1840 г., т. е. до издания «Лирического Пантеона», я не мог быть своим человеком у московского профессора словесности С. П. Шевырева.
Во время одной из наших с ним бесед в его гостиной слуга доложил о приезде посетителя, на имя которого я не обратил внимания.
В комнату вошел высокого роста молодой человек, темно-русый, в модной тогда «листовской» прическе и в черном, до верху застегнутом, сюртуке. Так как появление его нисколько меня не интересовало, то в памяти моей не удержалось ни одного слова из их непродолжительной беседы; помню только, что молодой человек о чем-то просил профессора, и самое воспоминание об этой встрече, вероятно, совершенно изгладилось бы у меня из памяти, если бы по его уходе Степан Петрович не сказал: «какой странный этот Тургенев: на днях он явился с своей поэмой „Параша“, а сегодня хлопочет о получении кафедры философии при Московском университете». Никогда в позднейшее время мне не случалось спросить Тургенева, помнит ли он эту нашу первую встречу. Равным образом не могу утверждать, приходил ли Тургенев предварительно к Шевыреву с рукописью «Параши», или уже с напечатанной поэмой, что не могло быть раньше 1843 г. Первое предположение, по моим воспоминаниям, вероятнее. Точно так же знаю наверное, что раньше 1848 г. я не мог приехать в домовый отпуск из полка, где был утвержден в должности полкового адъютанта, хотя и тут не могу вполне точно определить года, да и не считаю, с своей точки зрения, этого важным.
Дома меня встретил самый радушный прием. Хотя старик отец по принципу никому не высказывал своих одобрений, но бывшему эскадронному командиру видимо было приятно, что я занимаю в полку видное место.
В доме я застал меньшую нашу сестру Надю, недавно кончившую учение, — смолянку, совершенно неопытную, по наружности весьма интересную, пылкую и любознательную семнадцатилетнюю девушку. Хотя стихи мои около десяти лет уже были знакомы читателям хрестоматий, Надя едва ли не одна из целого семейства знала о моем стихотворстве и искала со мною бесед. Невзирая на кратковременное пребывание дома, я, с своей стороны, старался поддерживать ее любознательные и эстетические стремления; конечно, тайком от отца, считавшего Державина великим поэтом, а Пушкина безнравственным писателем, и ревновавшего втайне свою любимую Надю ко всякого рода сторонним влияниям.
Занятый устройством своих разбросанных имений, отец сам редко выезжал в гости и только охотно отпускал Надю в Волково к однофамильцам соседям за 12 верст, т. е. версты за три за город Мценск, от которого наши Новоселки в 7-ми верстах. Владелец Волкова был худощавый, боявшийся чахотки, но чрезвычайно подвижной, сорокалетний брюнет[166]. Воспитанник юнкерской школы, он, как и все его семейство, отлично говорил по-французски, знаком был со старой и новейшей французской литературой, а равно и с корифеями русской словесности. Но насколько мало в сущности занимала его литература, настолько в душе он был прирожденным музыкантом и по целым часам фантазировал на рояле, которым прекрасно владел. Женат он был на красивой в то время Каровой, от которой имел двух девочек и мальчика. Не без основания предполагаю, что молодая женщина гораздо более чем он и с большим толком предавалась чтению французских и русских книг. Кроме того, в доме проживала и мать Шеншина, не жившая с мужем. Последний, очевидно, любя свободу, устроился так, чтобы жить одному в большом доме смоленского имения, где проводил время, между прочим, расхаживая по пустым комнатам и напевая:
Гром победы раздавайся.Отделивши двух сыновей, в том числе и волковского хозяина, старик Шеншин выдавал своей жене и двум весьма зрелым дочерям девицам по триста рублей в год, и на эти деньги все трое проживали в Волкове, внося две трети своего дохода в общее хозяйство. Обе девушки получили прекрасное светское воспитание; и о меньшой, если не говорить о ее черных волосах, широко выведенных бровях и замечательно черных и блестящих глазах, сказать более нечего, но старшая, блондинка, была явлением далеко недюжинным. Уже одно ее появление в дверях невольно кидалось в глаза. Она не входила, а, так сказать, шествовала в комнату, строго сохраняя щегольскую кавалерийскую выправку: корпус назад, затылок назад. В знакомствах она была чрезвычайно сдержанна, но познакомившись становилась разговорчива и, несмотря на природную доброту, щеголяла непрерывными французскими и русскими сарказмами в ответах собеседнику. Кроме того, подобно брату, она безукоризненно играла на рояле и читала ноты без всякой подготовки. Надо прибавить, что в доме нередко появлялись двое Каровых, родные братья хозяйки. Аркадий, губернский умница и передовой, и старший Николай, физически совершенно развинченный, так что когда он протягивал руку, она производила впечатление гуттаперчевой. Поэтому все, поминая его, говорили: «Каров мягкий», что не мешало ему с видом знатока толковать о литературе и говорить комплименты молодым женщинам.
В тогдашний приезд мой[167], раз навсегда заведенный отцом порядок в доме мало изменился. Он сам по-прежнему жил во флигеле, а в доме помещалась только Надя, а я жил в другом флигеле. Переходя в 8 часов утра в красном бухарском халате и в черной шелковой шапочке на голове с крыльца своего флигеля на крыльцо дома, он требовал, чтобы Надя была уже у своего хозяйского места перед самоваром. Завтрак строго воспрещался, обед с часу передвинулся на два, чай подавался в 7 часов, а в 9 часов — ужин с новым супом и пятью новыми блюдами, совершенно как во время обеда. Надобно прибавить, что такой ужин подавался лишь другим, а сам отец довольствовался неизменной овсяной кашей со сливочным маслом. Дочерям не позволялось гулять без вуаля и без лакея даже в саду, а выезжать не иначе, как в дормезе четверкой или шестериком с форейтором и с ливрейным лакеем. Бывшие в гостях сестры должны были возвращаться к ужину.
Однажды, за полчаса до прихода отца, прогремевшая по камням карета остановилась у крыльца, и быстро вошедшая в столовую Надя расцеловалась со мной.
— Я привезла тебе от всех поклоны, и Шеншины убедительно просят нас с тобой приехать в следующее воскресенье. Будет Тургенев, с которым я сегодня познакомилась. Он очень обрадовался, узнавши, что ты здесь. Он сказал: «ваш брат — энтузиаст, а я жажду знакомства с подобными людьми».
Конечно, я очень обрадовался предстоящей мне встрече, так как давно восхищался стихами и прозой Тургенева.
— Мне сказывали, — прибавила Надя, — что он поневоле у себя в Спасском, так как ему воспрещен въезд в столицы. Папа ничего об этом не надо говорить, а то бог знает, как он посмотрит на это знакомство; а в гости к Шеншиным он нас отпустит охотно.
На следующее воскресенье мы уже застали Тургенева у Шеншиных. Видевши его только мельком лет за пятнадцать тому назад, я, конечно бы, его не узнал. Несмотря на свежее и моложавое лицо, он за это время так поседел, что трудно было с точностью определить первоначальный цвет его волос. Мы встретились с самой искренней взаимной симпатией, которой со временем пришлось разрастись в задушевную приязнь.
Кроме обычных обитателей Волкова, было несколько сторонних гостей. Дамы окружали Тургенева и льнули к нему, как мухи к меду, так что до обеда нам не пришлось с ним серьезно поговорить. Зато после обеда он упросил меня прочесть ему на память несколько еще не напечатанных стихотворений и упрашивал побывать у него в Спасском. Оказалось, что мы оба ружейные охотники. По поводу тонких его указаний на отдельные стихи я, извиняясь, сказал, что восхищаюсь его чутьем. — «Зачем же вы извиняетесь в выражении, которое я считаю величайшею для себя похвалой?»
При прощании я дал ему слово побывать в Спасском, но к себе по какому-то (невольно скажешь) чутью его не приглашал.
В условный день приходилось просить у отца лошадей, в которых он никогда не отказывал, и кроме того сказать, куда я еду. Тайком этого сделать было невозможно, а отец, подобно мне, был заклятый враг всякой лжи. Услыхав, что я еду в Спасское, он нахмурил брови и сказал: «Ох, напрасно ты заводишь это знакомство; ведь ему запрещен въезд в столицы, и он под надзором полиции. Куда как неприглядно».
Стоило большого труда убедить отца, что эти обстоятельства до меня не касаются и что порядочное общество тем не менее его не чуждается.
«Фить, фить! — проговорил отец, щелкая пальцами (это было ему обычным обозначением легкомыслия), — а впрочем, поезжай, уж если так тебе хочется».
Счастливый, я побежал и расцеловал своего друга Надю.
Воздержусь от описания Спасской усадьбы, хорошо знакомой публике и по описаниям, и по фотографиям; скажу только раз навсегда, что план дома представлял букву «глаголь», а флигель — как бы другую ножку буквы «пе», если бы верхняя часть, «глаголя» соприкасалась с этой ножкой; но так как между домом и флигелем был перерыв, то флигель выходил единицей, подписанной под крышею «глаголя». Странно, что хотя со временем я узнал все расположение построек усадьбы Спасского, как свой собственный дом, я никак не в состоянии дать себе ясного отчета, где в первое мое посещение жил и принимал меня Тургенев, т. е. в доме или во флигеле.
Конечно, меня не могло поразить окружавшее его множество лакеев, которых и у нас в доме было едва ли не дюжина; но у нас, как и у всех остальных, они появлялись в лакейских с утра и в доме не оставались; у Тургенева же я заметил в двух-трех соседних с приемного комнатках кровати и столики, у которых стояли длиннейшие чубуки от трубок со вспухнувшей табачного золой, хотя сам Тургенев никогда не курил. В этих-то комнатах, видимо, помещались лакеи, при которых, как я узнал впоследствии, состояли казачки для набивания трубок и других послуг.
Разговор наш принял исключительно литературный характер, и, чтобы воспользоваться замечаниями знатока, я захватил все, что у меня было под руками из моих литературных трудов. Новых стихотворений в то время у меня почти не было, но Тургенев не переставал восхищаться моими переводами од Горация, так что, по просьбе его, смотревшего в оригинал, я прочел ему почти все переведенные в то время две первые книги од. Вероятно, он успел уже стороною узнать о крайней скудости моего годового бюджета и потому восклицал:
— Продолжайте, продолжайте! Как скоро окончите оды, я сочту своим долгом и заслугой перед нашей словесностью напечатать ваш перевод. С вами ничего более нет? — спросил он.
— Есть небольшая комедия.
— Читайте, еще успеем до обеда.
Когда я кончил, Тургенев дружелюбно посмотрел мне в глаза и сказал:
— Не пишите ничего драматического. В вас этой жилки совершенно нет.
Сколько раз после того приходилось мне вспоминать это верное замечание Тургенева, и ныне, положа руку на сердце, я готов прибавить: ни драматической, ни эпической.
Когда нас позвали к обеду (это уже было несомненно в доме), Тургенев познакомил меня со своими сожителями Тютчевыми — мужем и женою, и девицею-сестрою мадам Тютчевой. После обеда мы отправились пить кофе в гостиную, где стоял столь часто упоминаемый Тургеневым широкий, времен Империи, диван самосон, едва ли не единственная мебель в Спасском, с пружинным тюфяком. Тургенев тотчас же лег на самосон и только изредка слабым и шепелявым фальцетом вставлял словцо в наш разговор, ведение которого с незнакомыми дамами вполне легло на меня. Конечно, я не помню подробностей разговора; но когда, желая угодить дамам, я заявил, что по своим духовным качествам русская женщина — первая в мире, Тургенев внезапно оживился и, спустив ноги с самосона, воскликнул: «Вы тут сказали такое словечко, при котором я улежать покойно не мог». И между нами поднялся шуточный спор, первый из многочисленных последующих наших с Тургеневым споров.
Когда я вернулся домой, отец благодушно посмотрел мне в глаза и сказал:
— Так как тебе уж очень хочется бывать у него, то мешать тебе в этом не стану. Но успокой ты меня в одном: никогда ему не пиши.
Я почтительно промолчал.
Отпуск мой кончился, и я должен был вернуться в полк, а с тем вместе наступил долговременный перерыв моих сношений с Тургеневым, во время которого я действительно ни в какой переписке с ним не состоял, так как случайная встреча не успела еще развиться в душевную приязнь.
Здесь, не только по отношению к себе, но и в видах более ясного определения дальнейшего хода известных мне событий из жизни Тургенева, приходится вернуться в моих воспоминаниях за несколько лет назад.
Говоря о нашем доме, я упомянул только о своей любимице сестре Наде, так как на этот раз она одна проживала в доме с отцом; из двух же меньших братьев моих — старший Василий находился в помянутое мною время за границей, а меньшой Петр был студентом Харьковского университета и проживал у тамошнего профессора. Старшая же сестра Любовь была замужем за меньшим братом знакомого уже нам Волковского Шеншина — Александром. Любинька, как звали мы ее в семье, была прямою противоположностью Нади. Насколько та наружностью, темно-русыми волосами и стремлением к идеальному миру напоминала нашу бедную страдалицу мать, настолько светло-русая Любинька, в своем роде тоже красивая, напоминала отца и, инстинктивно отворачиваясь от всего идеального, стремилась к практической жизни, в области которой считала себя великим знатоком. Она постоянно полагала, что в состоянии уладить по желанию всякие дела и затруднения. Последними, как нарочно, жизнь ее окружила отовсюду, но улаживания ее потому уже не могли иметь успеха, что все ее уловки для всякого стороннего глаза были шиты белыми нитками. Не меньшую противоположность со старшим братом своим Николаем представлял и муж ее Александр Никитич. В отрочестве он был туп и, несмотря на частые розги отцовские, учился плохо. Когда, бывало, играя с другими детьми, он прищемит руку, то начнет кричать: «ой нога, нога», — и, невзирая на вразумления товарищей, восклицавших: «Саша, да ведь ты руку прищемил», — продолжал кричать: «ой нога, нога».
Изо всего семейства только он один плохо говорил по-французски. Выслужив два года юнкером в уланском полку, он был произведен в корнеты и в скором времени, по причине долгов, с величайшим неудовольствием заплаченных его отцом, вышел в отставку с чином поручика. Некоторое время получая тоже, подобно сестрам и матери, небольшие деньги от отца, он со всеми ими вместе на тех же основаниях проживал в Волкове у старшего брата Николая. А так как Волковский и Новосельский дома давно были между собою знакомы, то и он в числе прочих стал часто наезжать в Новоселки со времени появления там Любиньки из петербургского Екатерининского института. Насколько брат его Николай был болезнен и тщедушен, настолько Александр, при большом росте, был плотен и могуч, сохраняя более всякого другого Шеншина черты лица общего татарского родоначальника[168]: ясные, черные глаза, широкий нос и выдающиеся скулы. Как бы то ни было, ухаживания его за Любинькой увенчались успехом — он ей понравился. Но отец наш долгое время и слышать не хотел об этом браке, указывая между прочим на то, что отец А. Н. его не выделил.
Наконец и это препятствие было побеждено, и отец Александра, ввиду прежде уплаченных долгов, выделил ему десятин 400 земли на южной окраине Мценского уезда, но без малейшего признака усадьбы. Наш отец дал тоже десятин 600 населенной земли в 3-х верстах от Ивановского — Александра Никитича.
В скорости по возвращении моем в полк я узнал о назначении дорогого моего Карла Федоровича Бюлера бригадным командиром, а светлейшего князя Вл. Дм.[169] командующим нашим Военного Ордена полком, коего шефом состоял отец его. Это нежданное обстоятельство, как толчок, разбудило меня. Хорошо было служить у начальника, у которого я был не только на положении домашнего человека, но, можно сказать, сына. Оставаться при других обстоятельствах в глухом поселении значило добровольно похоронить себя. Уже однажды, соблазненный советами и обещаниями сослуживца, с успехом перешедшего в Главный Штаб, я испытал, как труден переход из армии без особой протекции. Правда, в то время отец мой снабдил меня рекомендательным письмом к товарищу министра, а мой бывший сослуживец сильно хлопотал о переводе моем в Главный Штаб; но кончилось тем, что я съел прекрасный обед у его высокопревосходительства, который между прочим сказал:
«Здесь все можно. Могут вас сделать губернатором, — переименуют штатским чином с повышением, да и назначут. Надо только взяться с надлежащей стороны».
Но видно, ни мой сослуживец, ни любезный товарищ министра не умели взяться с надлежащей стороны, и я уехал ни с чем.
Перебирая в уме всевозможные ресурсы, я вспомнил любезное изречение, сказанное мне моим бывшим начальником дивизии, генерал-лейтенантом Эссеном, когда в числе прочих сослуживцев я, с начальником штаба во главе, откланивался уезжающему генералу, получившему гвардейскую кирасирскую дивизию:
«Je vous porterai toujours dans mon coeur[170], и очень буду рад, если в состоянии буду чем-либо быть вам полезен».
Конечно, я счел эти слова за обычную светскую любезность. Такими же представлялись они мне и в минуту моего раздумья в полковой канцелярии. «Но, подумал я, утопающий хватается и за соломинку. Попытка не пытка».
Тогда еще в России не было железных дорог, кроме Николаевской. Я написал Эссену, что, соображаясь со средствами, просил бы его о переводе меня в лейб-уланский Его Высочества полк — и через три недели сам же раскрыл в канцелярии пакет из лейб-уланского полка с запросом, согласен ли я быть переведенным в этот полк для пользы службы. Конечно, на другой же день был мною отправлен утвердительный ответ, а затем последовала моя формальная прикомандировка.
Вперед уверенный, что отец, проживавший в настоящее время уже не в Новоселках, а в старинном дедовском имении Клейменове под Орлом, будет рад моему переходу в гвардию, я просил у него позволения на перепутьи заехать к нему и прислать своих лошадей, причем сильно надеялся получить от него на подъем денег. Каково же было мое удивление, когда он не только не прислал денег, но приказывал еще заехать за братом, кончающим переходный экзамен, в Харьков. Парадная верховая лошадь у меня была, но требовалось приобрести подъездка и отправить на паре лошадей телегу с вещами за 700 верст. Пришлось продавать экипажи, которых у меня было довольно, и четверку упряжных, кроме назначенных в дорогу. Случай и добрые люди, раскупившие мое добро, помогли мне, а Карл Федорович обещал уступить мне хорошую лошадь из средних эскадронов за ремонтную сумму.
Новый командующий полком не заставил себя ждать, и по приезде его я тотчас же отправился к его светлости за приказанием. Сдача полка была блистательная и, так как эскадроны были расположены по отдельным селениям на значительном друг от друга расстоянии, продолжалась целую неделю, по окончании которой князь пригласил всех офицеров к обеду запросто, причем извинялся, что примет нас по-походному, так как каменный и хрустальный сервизы его не успели еще прибыть. Действительно, превосходный обед подан был всем на серебре, начиная с суповой чашки и до бокалов. При прощании мой барон просил князя сделать ему личное одолжение, уступив мне лошадь за ремонтную сумму. Князь чрезвычайно любезно просил меня, как опытного адъютанта, не оставлять должности и при нем, но, выслушав мои основания, согласился с ними.
Отправив людей с лошадьми в дорогу, я сам на перекладной покатил в Харьков, где застал брата готовящимся еще к двум экзаменам в доме профессора Юргевича. При брате жил полуслуга и полудядька — Павел Тимофеевич, — заика, лет шестидесяти, страстный охотник выпить.
Брат со смехом рассказывал, что Павел Тимофеевич, твердя над ним: «держите, держите, батюшка, гекзамен», сам в это время, пошатываясь и заложа руки за спину, не то держался за печку, не то держал ее, чтобы, она, повалясь, не задавила брата.
Не желая с своей стороны мешать брату сосредоточиваться над работой, я остановился в гостинице поджидать окончания экзамена. Книг со мной не было, и скука нестерпимо томила меня в одиночестве.
На другое утро, едва только я напился кофею, как явился ко мне Павел Тимофеевич.
— Ну, что брат?
— Все держат гекзамен. А я к вашей милости: пожалуйте нам хоть три рубля. Верите ли, стерлиновые свечи все вышли, да и прачка… измучила, а у нас ни копеечки.
Я выдал трехрублевку.
На следующее утро тот же Павел Тимофеевич.
— Ну, что брат?
— И… и… и… гекзамен держат. Вчера один выдержали. Пожалуйте, батюшка, шесть рублей прачке отдать. Что будешь делать? У нас ни копеечки.
— Вот тебе шесть рублей, но уж я больше не дам ни копейки.
Наконец эти злополучные экзамены кончились, и брат мог с чистой совестью ехать к отцу.
Я тотчас же посадил его рядом с собою на переплет перекладной, а Павла Тимофеевича — на облучок, — и в путь. Быстрая езда на облучке под южным солнцем, видимо, разломала Павла; и уже со второй станции он подошел ко мне и стал сиротливым голосом просить:
— П… п… п… пожалуйте мне хоть что-нибудь, хоть вот такуичку, п… п… пропустить. При этом он показывал половину своего запыленного мизинца. Конечно, не желая возить пьяного, я на каждой станции до самого дома давал ему денег только на такуичку.
Ровно через двое суток мы были уже в Клейменове, где, к нашему прискорбию, никого в доме не застали: отец с Надей дня за два перед тем переехали за 30 верст в Новоселки. Так как до вечера было еще далеко, а экипажи были увезены в Новоселки, то я советовал брату отдохнуть с дороги, а сам намеревался уехать верхом в Новоселки. Брат непременно захотел также ехать со мною верхом, и я никак не мог отклонить его намерения.
Часа через полтора мы слезли с лошадей у Новосельского крыльца: я — как ни в чем не бывало, а непривычный студент — в виде заржавевшего циркуля, у которого ножки не смыкаются.
— Что ж ты его не поберег? — спросил меня отец. Но когда я рассказал ему про настойчивость брата, старик прибавил:
— Вперед наука: не спросясь броду, не суйся в воду.
Надя встретила меня с неизменною приязнью, а через несколько дней подъехала и Любинька с мужем погостить.
Наконец-то и лошади мои добрались благополучно до Новоселок, и так как парадная лошадь была отцовского завода, то ему очень хотелось видеть ее под седлом. Хотя Фелькерзам (так звали коня) еще не прошел всех тонкостей манежной езды, тем не менее я мог для всех устроить перед домом карусель, подвергаясь критике двух бывших улан (отца, не покидавшего седла до смерти, и зятя Александра Никитича). Оба восхищались ездою и ходом лошади но посадкой моею остались недовольны. Александр Никитич сказал: «сидит немудро, а рука золотая».
Отец действительно был обрадован моим прикомандированием к гвардии и, тотчас же позвавши домашних портных, лично занялся кройкою и шитьем щегольских капоров и попон для лошадей. Зная о предстоящих при переводе расходах и умеренности моих требований, он не раз с блистающими радостью глазами повторял: «нет, ты-таки меня не жалей! Нужно будет — напиши. Да, так-таки не жалей, не жалей меня!»
Александру Никитичу отец наш давно помог выстроить усадьбу, хотя и не мог ему простить, что усадьба была выстроена в его Ивановском, а не в любинькином Петровом, на что неоднократно жаловался и мне. Неудовольствие возбуждали еще и поездки Нади в гости к сестре. Старик по принципу сдерживал порывы нежности, но, очевидно, обожал и ревновал Надю ко всем.
В восьми верстах от Новоселок была деревня Фатьяново, в которой проживало некогда семейство Борисовых, роковым, можно сказать, образом связанное с нашим. У владелицы его, вдовы Марьи Петровны, было девять человек детей, над которыми отец наш был опекуном. Все дети Борисовы, за исключением среднего брата Ивана Петровича и меньшей сестры Анны, перемерли от чахотки. Иван Петрович Борисов, замечательно малого роста и далеко не красивый брюнет, выпущен из Московского кадетского корпуса в артиллерию и на первых порах служил в Москве при штабе шестого корпуса; но получивши, по достижении 21-го года, в полное распоряжение свое наследственное Фатьяново, он вдруг из артиллерии перепросился в кирасирский Военного Ордена полк корнетом, над чем покойный отец наш хохотал до слез, говоря: «Какая странная мысль! С такой фигурой перед кирасирским фронтом! Воробей на крыше».
Отец не ошибся: когда я, по вызову Борисова, в свою очередь, поступил в тот же полк, то нашел Борисова в самых дружеских отношениях со всем полком; но в течение полугода, прожитого мною с ним на одной квартире, я не видал его ни разу на лошади, и на все время лагерных сборов его отправляли в Кременчуг в инспекторский караул. Невеселая жизнь досталась на долю бедного Борисова. Хотя я его знал с малолетства и состоял с ним всегда в дружеских отношениях, тем не менее не берусь заглянуть в самую глубь души его. Далеко не дюжинного ума, он не лишен был комического таланта и умел нравиться самым разнообразным людям. Замечательно храбрый и ленивый до беспечности, он ловко умел угодить всякому нужному человеку, но — мир бедному праху его! — не буду рассуждать, а стану рассказывать все мне о нем известное, тем более, что на жизненном горизонте Тургенева он был одним из крупных созвездий[171].
Через полгода по прибытии моем в полк Борисов, запасшись крымскими борзыми, вышел в отставку и уехал к себе в деревню. Там он, конечно, являлся домашним человеком в доме бывшего опекуна, увидал Надю, и судьба его была решена навсегда. Получив на тайное от отца предложение решительный отказ Нади, он, как писал мне, с горя снова поступил на службу на Кавказ. Но, видимо, сердце не камень. Года через три он опять вышел в отставку, и вот, вспоминая это время, отец, смеясь до слез, рассказывал мне в благодушную минуту:
— Ты знаешь, Иван Петрович сватался за Наденьку!
Получив новый, не менее решительный отказ, Борисов вторично отправился на Кавказ и поступил в знаменитый Куринский полк, где все время провел з походах и экспедициях и, в качестве ротного командира, участвовал в Малоазиатской войне. Много горьких писем написал он мне и, между прочим, из-под Баш-Кадыклара, где изо всех офицеров в его роте в живых остался только он. Тела же прочих были собраны под громадное ореховое дерево, под которым он мне писал.
Но я забегаю вперед.
Время близилось к девятой пятнице, т. е. к Коренной ярмарке, составлявшей в то время самое замечальное годовое событие не для одних жителей средней России. Поэтому отец наш, забравши меня и брата Петрушу, отправился за полтораста верст в свое Землянское имение Грайворонку, чтобы отправить оттуда с завода лошадей в Коренную и ехать туда самому за ежегодными закупками.
Ехали мы, конечно, на своих, двумя экипажами. отец на шестерке гнедых в дормезе, куда брал поочередно меня и брата, а сзади на тройке вороных шел тарантас с посудой, поваром и лакеем; другой лакей помещался на козлах дормеза.
Мне было 32 года от роду, когда я во второй раз приехал в отцовскую Грайворонку, где мы с братом Петрушей поместились в трех комнатах старинного дедовского флигеля. Не думаю, чтобы девяностолетний дед, проживавший, насколько я себя помню, постоянно летом у себя в Клейменове, а зимою в собственном орловском доме, жил когда-либо в Грайвороновском флигеле.
На другой же день по приезде восьмидесятилетнему отцу подвели его верховую лошадь, и он в сопровождении приказчика и старост поехал осматривать как собственные, так и крестьянские поля, где ничто не укрывалось от его зоркого хозяйственного взгляда. Полевое хозяйство он всюду держал на примерной высоте, и его крестьяне отличались, особенно на Грайворонке, благосостоянием. При значительности по тогдашнему времени его доходов надо было предполагать у отца крупные капиталы. Но он, в видах устройства имений, всюду для сбережения труда выселял на собственный счет половину крестьян на отдаленные окраины земли, которые им приходилось обрабатывать. А так как он отрывал их при этом от рек, то принужден был рыть им пруды и копать колодцы.
Конечно, все эти поселки процветали только при его бдительном надзоре, но, когда за неприсмотром пруды и колодцы заилились, крестьянам уже добровольно пришлось тянуть к старым местам. Вследствие всех этих затей, отец, за уплатою прежних опекунских залогов, никогда не располагал большими Деньгами и нередко брал взаймы у своих же мужиков по две тысячи рублей.
Со счетом на серебро, лет пятнадцать уже установившимся в целой России, он до конца дней не мог примириться и говорил, нетерпеливо примаргивая своими прекрасными голубыми глазами.
— Это по-вашему триста рублей, и ты их тратишь как триста рублей, а я зарабатываю их как тысячу пятьдесят и потому такими считаю.
Пересмотрев продажных жеребцов, отец, отдавши подробные приказания конюхам, отправил их в Коренную, а через несколько дней мы сами пустились в путь на ярмарку описанным выше порядком.
Мне чаще брата приходилось сидеть с отцом в дормезе и читать ему «Московские Ведомости». Помню, мы проезжали вдоль громадного выгона большой однодворческой деревни, широко окаймлявшей его с трех сторон чистыми крестьянскими постройками, большею частью крытыми под глину в начес и пестревшими расписными ставнями. Все эти избы, за которыми виднелись в проулки гумна, заставленные старым хлебом, сами утопали в зелени ракит и садовых деревьев.
Был праздничный день. Мы наехали на веселые толпы молодежи вокруг качелей и нескольких палаток с так называемым бабьим товаром и разными сластями.
В то время кичка[172] царила во всем своем преемственном величии с широкою золотою «сорокою» надо лбом, пестрым «челышком» между верхними углами. крупным бисерным «подзатыльником» и обильными и разноцветными лентами, спадавшими на спину и носившими название «лопастей».
Ветер дул на нас со стороны деревни, относя пыль от экипажей в сторону и волнуя пестрые ленты женских головных уборов. Ласточки, словно принимая участие в деревенском празднестве, носились над самою землею, назойливо шныряли вокруг качелей между группами гуляющих и под самыми ногами наших лошадей. Всюду виднелись веселые улыбки с белоснежными зубами и ни одного безобразного пьяного лица. Эта сельская идиллия мгновенно возбудила во мне мысль о новом предстоящем мне поиске неверного счастья и, обращаясь к отцу, я сказал:
— Вот истинно счастливые люди. Чего еще искать человеку? Право, невольно им позавидуешь.
— Чем предаваться такому дурному чувству, — сказал отец, — от тебя вполне зависит это счастье. Не хочешь ли на этом остановиться?
Я был окончательно разбит и только подумал: «Нельзя более резкой чертой отделить идеал от действительной жизни. Жаль только, что старик никогда не поймет, что питаться поневоле приходится действительностью, но задаваться идеалами тоже значит жить».
Верст за двадцать до Коренной Пустыни нам пришлось по большой дороге проезжать лесом, и, конечно, мне не могло и присниться, что мы едем по опушке будущего моего леса, невдалеке от будущей моей усадьбы[173].
В Коренной мы заняли один из множества домиков с широкими дворами с навесами для помещения лошадей и экипажей. Дома эти, построенные на скорую руку, в большинстве случаев отличались от крестьянской избы средней руки — разве отсутствием печей и дощатыми полами. Все они вереницей тянулись с одной стороны ярмарочной площади в конном бегу и предназначались для сдачи внаймы только на две недели ярмарочной поры. В главной избе, служившей нам столовою и гостиною, за перегородкой расположился отец, а в небольшой пристройке, чрез немощеные проходные сени, поместились мы с братом.
К вечеру, в день нашего приезда, камердинер отца Иван Никифоров, растворив дверь нашей светелки, быстро проговорил: «Несут, несут», — и мы с братом выбежали на крыльцо.
Вдоль улицы показалась сплошная и бесконечная река непокрытых голов. Конные жандармы едва сдерживали приближающиеся народные волны, впереди которых шло многочисленное духовенство в блестящих ризах, а за ним на катафалке несли и самую икону. Из скольких тысяч человек состояла эта толпа, определить не могу: давно уже духовенство, с катафалком вослед, скрылось за углом по направлению к монастырю, а толпа продолжала прибывать вдоль улицы, и мы, не дождавшись ее конца, ушли к себе.
Под обширными навесами нашего двора еще не свыкшиеся с новым местом грайворонские жеребцы оглушительно ржали; такое же ржание раздавалось и на соседних дворах.
На другой день мы вместе с отцом отправились в стоящий на высоком правом берегу реки Тускари старинный монастырь к архирейскому служению, а по окончании обедни спускались по каменной Лестнице к святому колодцу, в который бросили по серебряной монете, умножая кучу медных и серебряных денег, виднеющихся на каменном дне колодца сквозь чистейшую воду. Пустынь, по преданию, получила свое название от явления образа Знамения Божией Матери на корне срубленного дерева.
В церкви я неожиданно встретил бывшего нашего полкового любимца Н. И. Небольсина, от которого я принял должность полкового адъютанта. Я встретил его уже предводителем Щигровского уезда, а в настоящее время прах этого вполне прекрасного человека покоится в ограде Коренного монастыря, в котором мы встретились последний раз.
После обедни мы с братом пустились осматривать ярмарку. Конечно, внимание наше главным образом было привлечено конною площадью, по которой тянулся ряд невысоких столбов, обозначавших отдельные станки для приводных лошадей. Бесконечный ряд лоснящихся на солнце крупов всевозможных лошадей обращен был к дороге, на которую продавцы то и дело выводили напоказ лошадей. По другую сторону дороги в громадных загородях из крепких жердей находились степные, дикие лошади. Тут зрелище было; гораздо любопытнее. Таких изгородей было немало, и покупатели то и дело подходили к продавцам.
— Какого вам?
— Вон, вон, темно-гнедого, остроухого.
— Со звездочкой во лбу?
— Нет, вон третья за тою голова, что пошла дальний угол. Мы ту себе присмотрели. Нельзя ли опять присмотреть?
— Филат, подгони вон того.
И Филат являлся с длинною и тонкою жердью, опуская которую над головами сотен толпившихся коней, он заставлял пересыпаться весь этот живой калейдоскоп, так, однако, чтобы желаемое зерно хоть минуту выступало на ближайший к покупателю край табуна. По окончании торговой сделки следовало сдать лошадь покупателю, и вот шест Филата опять наклонялся над табуном, но уже с прилаженной на тонком конце его петлею. В это время другой табунщик садился на оседланную, так называемую «икрючную», лошадь, запуская себе под ногу свободный конец аркана с противоположной табуну стороны. Через минуту петля была уже на шее желаемой лошади, которая, почуяв беду, напрасно вставала на дыбы и металась как угорелая: укрючная лошадь, видимо привыкшая к своему делу, упорно надувалась, наклоняясь прочь от пленницы и помогая седоку все гуже натягивать аркан.
Затянутая мертвою петлею лошадь, потеряв дыхание, падала на землю, и ее выволакивали из табуна. Тут уже мгновенно надевалась на нее уздечка с надежным арканом и, отпустив петлю, передавали ее с рук на руки покупщику.
Далее за табунами на прочных столбах с перекладинами висело множество колоколов, от малых до весьма значительных размеров. Так как никто не станет покупать колокола, не ознакомившись с его звоном, то всякому предоставлялось право звонить. Поэтому непрерывный звон стоял над всею площадью, заглушая весь остальной гам. Ярмарочная площадь кончалась полуверстным бегом с ярмарочным павильоном посредине. Каждый вечер здесь происходили состязания рысаков, а иногда и лошадей, возящих тяжести. На следующее утро имена победителей становились общим предметом разговоров.
Исключение из оглушающего шума представляли только каменные ряды, напоминавшие наружностью и устройством московский гостиный двор.
Не буду говорить о рыбном и бакалейном отделениях, в которых сельские хозяева закупали годовые запасы.
Зато о красных и галантерейных рядах Коренной ярмарки нельзя не упомянуть. Все переходы в них застилались ежедневно свежею травою, по которой, подъезжая в многочисленных экипажах, с утра до вечера разгуливали разодетые дамы, между которыми то и дело мелькали кавалерийские офицеры, пре имущественно гусары, в полной форме с волочащимися саблями. Словом, это была знаменитая выставка невест, подкрепляемая балами в дворянском собрании.
К вечеру ярмарка затихала, и проезд экипажей становился реже. Все покоилось сном, за исключением дома собрания, большого каменного трактира и широкой, в сторону от ярмарки протянувшейся слободы, окаймленной с двух сторон самыми лучшими иногда двухэтажными домами. Тем не менее в этих домах никто из приезжих покупателей не останавливался, и по этой слободе ни днем, ни ночью не заметно было особого движения. Но когда ярмарка темнела и засыпала, слобода озарялась яркими огнями окон, за которыми громогласно звучала музыка и велись бесконечные танцы.
Конечно, к нашему отцу, бывшему много раз предводителем и коннозаводчику, ходило много знакомых и покупателей, но чаще всех бывал небольшой седенький старичок с бельмом на левом глазу — М. Он, бывало, как раз подойдет к вечернему отцовскому чаю, наговорит ему много приятного насчет его лошадей и под конец, наклонившись ко мне, скажет вполголоса: «А что, не заглянуть ли нам в Капернаумчик?» — Он же указал мне и иллюминацию слободы, которою сам каждую ночь восхищался. Что касается до трактира, куда уводил меня М., то это был весьма хороший русский трактир, привлекавший ремонтеров и сторонних посетителей прекрасным столом и винами, а главное — замечательным цыганским хором. Положим, так называемый хор, особливо мужская его часть, не превосходил посредственности, зато примадонны были удивительные; особенно одна из них, с бархатным и выразительным контральто, ясно сохранилась в моей памяти. Она была живым портретом славной в то время в Европе красавицы Лолы Монтес.
Половина наших лошадей была распродана, надлежащие закупки сделаны, и мы тем же порядком вернулись на Грайворонку. Время было и мне явиться в лейб-уланский полк, а брату — возвратиться в Харьков. Оба мы ожидали денежной благостыни со стороны отца.
Однажды утром, в отсутствие отца по хозяйству, брат сказал мне таинственным голосом:
— Он дает тебе триста рублей, а мне — сто.
— Ты почему же это знаешь? — спросил я брата.
— Да он написал на бумажке и, порвавши ее на клочки, выбросил за окошко. Я сейчас догадался, что это про нас: сложил клочки и прочел.
Брат не ошибся в суммах, которыми мы были снабжены на дорогу. С небольшою денежною субсидией я на перекладной пустился в Москву и затем по железной дороге до станции Волховской, где, узнавши что полк уже в Красносельском лагере, продолжал свой путь до лагеря. Здесь без особого труда я разыскал своих людей, которые уже успели прибыть с лошадьми и, к крайнему изумлению, денщик моего дальнего родственника, командира шестого эскадрона, В. П. М-а, провел меня к палатке с деревянным полом, в которой я нашел свою походную кровать и слугу, поместившегося с самоваром и прочим походным скарбом между внутренней и наружной полами палатки.
— Василий Павлович, — говорил денщик, — уступили вам свою палатку, а сами перешли в барак к командиру лейб-эскадрона.
Я оказался прикомандированным к шестому эскадрону и тотчас же отправился благодарить лично незнакомого мне Василия Павловича.
Кроме своего эскадронного командира я застал и хозяев барака: молодого, красивого и любезного И. Ф. Щ…го и брата его Н. Ф. В полку было принято обзывать всех по имени и отчеству.
На следующее утро мне предстояло явиться в полной форме к командиру полка генералу Курселю и благодарить его. Хозяева просили меня, отъявившись, зайти к ним в барак, и Н. Ф. любезно вызвался проводить меня ко всем офицерам, начиная со старшего полковника и до младшего корнета. Все офицеры были чрезвычайно любезны, не исключая и корнетов, которые, как оказалось потом, сильно дулись на кирасирского штабс-ротмистра, который, переходя в полк младшим поручиком, садился им всем на шею[174].
Второй раз в жизни несчастной моей памяти предстояло непосильное испытание удержать сразу сорок имен, отчеств и фамилий.
Подъездок мой оказался злым до чрезвычайности. Когда на другой день с полком я отправился на линейное учение, он всю дорогу до места учения гор. бился и, злобно ударяя передними ногами в. землю старался выбить меня из седла, а как это не удавалось, то неожиданно звякал мундштучными дужками о стремена, стараясь захватить зубами за ногу. Конечно, я принял меры, чтобы это не повторялось, но он подкарауливал малейшее ослабление поводьев. Вернулся на нем я в лагерь после горячего учения без особых приключений. Через день после того назначен был церемониальный марш.
Мне хотелось утомить и, как говорится, обломать моего подъездка, но меня пугала мысль, что на церемониальном марше нельзя было ехать впереди фронта на произвольном расстоянии, а нужно было сохранять офицерскую линию и невозможно было поручиться, чтобы солдатик порой не наехал слегка на моего лютого зверя, а тот, начавши лягать, не искалечил бы солдата или фронтовой лошади, что было бы самым неблаговидным вступлением во фронт в глазах гвардейского полкового командира, дрожавшего по-гвардейски над каждою фронтовою лошадью.
Сказавшись больным, я попросил Василия Павловича взять моего подъездка под унтер-офицера, долженствующего стать на мое место. Не прошло и полутора часа с выхода полка на учение, как слуга доложил мне, что унтер-офицер вернулся с учения один и расседлал подъездка. Когда я спросил вернувшегося с полком Василия Павловича о причине возвращения унтер-офицера в лагерь, — М. отвечал:
— Прошли мы только Красное Село, как, взглянувши на своего взводного, я увидал, что лицо у него совсем позеленело. — Что с тобой? — спросил я его. — Всторчь бьет, ваше высокоблагородие, все печенки отбила. — Я и отправил его домой.
— А задом во фронт не лягает? — спросил я.
— Этого нет.
Только и хотелось мне знать.
Хотя погода над лагерем стояла порою ясная, тем менее по временам заходили внезапно тучи и лил дождик. Однажды получаю повестку: «Его императорское высочество главнокомандующий изволит завтрашнего числа в 10 час. утра смотреть прикомандиованных, почему ваше благородие имеете прибыть ко дворцу в полной парадной форме». Сохранить безукоризненную чистоту белого кирасирского мундира можно только с большою осторожностью, накинув на плечи коленкоровую мантию, так называемый пудроман (пудремантель). Белых мундиров было у меня три: много раз беленый для ношения под кирасами, однажды тщательно выбеленный, и — ненадеванный. В видах бережливости, я надел второй мундир и с прикомандированным же товарищем гусаром сел в наемный фаэтон, который один из полковых забавников называл купе, потому что на нем было обрезано все то, что бывает в других фаэтонах, начиная с крыльев. За полчаса до назначенного времени мы в числе прочих выстроились под деревьями у дворцового крыльца. Набежали тучи, и нас стало обсыпать водяною пылью. — «Боже, подумал я, что-то будет с моим мундиром!» — Стало накрапывать, и через несколько минут нас стало обливать косым и крупным дождем. Вышел адъютант и объявил, что его высочество изволит откладывать смотр до другого времени.
На следующем таком же смотру я стоял уже в ненадеванном колете; и на этот раз из надвинувшихся туч на меня посыпалась водяная пыль. Я чувствовал, что в финансовом отношении пропал невозвратно, но небо расчистилось, и мы благополучно отбыли смотр.
Наступили маневры в присутствии государя императора, и полили дожди. Офицеры эскадрона упросили меня быть хозяином по части артельного столового продовольствия. Закупкою в Петербурге всех припасов я заслужил всеобщее одобрение. На привалах эскадронная фура расстегивалась, и все хвалили удивительную солонину, запивая ее различными винами и портером. Но торжество мое длилось недолго. Дня через два один из наших корнетов, подъехав к перекрестку, на котором стояла наша фура, и, завидя переходивший через дорогу лейб-драгунский дивизион, пригласил всех офицеров, соседей по красносельскому лагерю, к закуске.
Конечно, мне, человеку новому, не подобало возражать против такого коммунизма. Надо было требовать новой складчины для вторичной закупки провизии, но я при таких условиях наотрез от хозяйства отказался.
Нет ничего удивительного, что в ненастную погоду по болотистым петербургским окрестностям полк выходил на маневры в самых худших мундирах. Такие мундиры и вальтрапы с заплатами офицеры называли маневристами. Конечно, и я приберегал лучшее к предстоящим смотрам, тем более что ввиду предстоящей полной экипировки через полгода нужно было сберегать прежнюю. Как везде, на каждом привале, у нас, как из земли, вырастали пирожники и булочники с запасом водки. Взводные офицеры обыкновенно угощали свои взводы булками, но давать при этом водку воспрещалось.
Однажды, когда я только что рассчитался с булочником, ко мне подъехал полковой адъютант и равнодушным голосом проговорил:
— Вы назначены ординарцем к государю императору.
Я так и вздрогнул. По моим армейским понятиям, царский ординарец был наилучший ездок, на наилучшей красавице лошади, во всем новом с головы до шпор. Я хорошо знал, что ослушание может навсегда погубить мою карьеру; но когда я подумал, в каком виде я буду произносить слова: «к вашему императорскому величеству на ординарцы наряжен», — кровь застыла у меня в жилах, и я твердым голосом проговорил:
— Доложите генералу, пусть меня отдают под суд, наряжают на какую угодно службу не в очередь, но на ординарцы к государю я в таком виде не поеду.
Выходка моя прошла безнаказанно.
Однажды, когда мы с эскадроном с ранней зари проходили часов до пяти после обеда по полям и когда эскадронный командир, поручая мне полуэскадрон, махнув рукою, сказал: «Идите по этому направлению и не давайте себя обойти», — я повел полуэскадрон по назначенному направлению с неведомою мне целью. Как ни совещался я с бывшим при мне корнетом, считавшим себя великим тактиком, но ни к какому результату мы в своих соображениях не дошли. Наконец видя, что мы рискуем заночевать без корма и без пищи неведомо где, я повернул полуэскадрон направо и пошел отыскивать другую половину в направлении, котором она ушла. Начал накрапывать дождик, и мы насилу отыскали свой эскадрон, где Василий Павлович стал уверять, что считал нас пропавшими. Он тоже не успел расседлать, как подъехал адъютант и громко объявил:
— Шестой эскадрон назначен на аванпосты.
Пришлось на тощий желудок отправляться на усталых лошадях в отдаленные кусты на всю ночь. Дождик стал поливать как из ведра. Солдатики отстегнули свои шинели и надели их в рукава, моя же шинель оставалась в куда-то запропастившейся фуре, и я в одном тонком мундире остался под холодным проливным дождем. Не только разводить огонь, но даже курить на аванпостах строго воспрещалось. Листы кустарника давно облетели, и когда я прибыл на смену нашему же офицеру, то он, указывая на темный развесистый обнаженный куст, со смехом сказал: «Оставляю вам в наследство прекрасную беседку».
Когда я, наклоняясь в эту беседку, зацепил за сучья головою, меня, среди мелкого осеннего дождя, обдало крупными, холодными каплями. Один из солдатиков, видя мое горестное положение, снял с себя шинель и подал мне ее со словами:
— Ваше благородие, накиньте шинель.
— А ты-то как же останешься?
— Да мы станем меняться, а я покуда накину на себя попонку.
Так они и делали до самой зари. Хотя я и промок до костей, но меня уже не так продувало ветром. Однако проделка эта не обошлась мне даром: мое хроническое раздражение дыхательных органов дало себя знать. Горло у меня до того распухло, что я едва мог отпроситься у генерала в петербургский военный госпиталь, откуда, по совету врача, отправился в Лопухинку в тамошнюю военную водолечебницу. Водолечебный сезон окончился, и в небольшом госпитале я не только не встретил ни одного офицера, но даже ни единого солдатика; а мне предстояло пробыть в этом уединенном замке целый месяц с инвалидом фельдшером, производившим надо мною водолечебные эксперименты, и военным медиком, ежедневно приходившим на четверть часа в мою комнату. А так как в число приемов лечения входила прогулка и питье воды из местных ключей, то я поневоле ознакомился с прекрасно содержимым парком и всею северною красотой ближайших окрестностей, начиная с прудов, каких мне до той поры видеть не приходилось.
Взойду, бывало, на высокий берег в берестовую беседку, всю исписанную карандашом, и любуюсь распростертою у ног моих зеркальною влагою вод. Глубина этой прозрачной влаги, по-видимому, превышала десять сажен, но все водяные поросли на дне были отчетливо видны, словно зеленый лес, растущий в глубокой долине, а крупные форели, неподвижно стоящие с распущенными плавниками, казались птицами, парящими над этой долиной.
Но нельзя целый день любоваться красотами природы, а в уединенной комнате ожидала непроходимая тоска. К счастию, зная свою скучливость в бездействии, я захватил с собою Горация в объяснениях Ореллия и принялся переводить самые трудные оды из второй и третьей книг. Сначала я пришел в совершенное отчаяние от возникавших на каждой строке затруднений; но с каждою новой победой я все более осваивался с атмосферою моего труда, все более и более отрадного. К величайшей радости моей, я в месяц, проведенный в Лопухинке, окончательно перевел две последние книги од, тогда как перевод первых двух тянулся в продолжение пятнадцати лет.
Полк я нашел уже на Волхове в поселенном штабе. Массивные каменные здания штаба представляли всевозможные удобства для помещения полка. Вокруг огромного остолбенного плаца громадным четвероугольником стояло несколько двухэтажных домов с офицерскими помещениями. В двух средних таких корпусах, с проходящими по ним в верхних и нижних этажах коридорами, находились квартиры холостых офицеров. Против этих зданий, с другой стороны плаца, тянулся громадный манеж, наподобие московского экзерциргауза, с полковою, как и он же, ротондою посредине, в которой помещалась полковая церковь. По обоим концам плаца тянулись такие же корпуса с помещениями для женатых офицеров, квартира полкового командира и гауптвахта; а с одной стороны за этими строениями находились просторные эскадронные казармы и конюшни. В одном из зданий было отведено место для полковой библиотеки и ресторана, где большинство молодежи могло столоваться весьма сносно и недорого.
Начались обычные манежные учения, после которых я всегда выпрашивал у любезного Василия Павловича дурноезжую лошадь, чтобы иметь возможность отъездить сверх своей еще и казенную.
Как ни осмотрителен я был в моих расходах, но и при небольшой поддержке жалованья средства мои сильно истощались. О продовольствии в ресторане не могло быть и речи, и поэтому в продолжение целого месяца я, под предлогом докторского предписания, питался тремя булками и тремя кринками молока в день. Отделенный только лестницей от милейших братьев Щ., я ежедневно заходил к ним с учения, подымаясь к себе на второй этаж. Старший из них, как я уже говорил, командовал лейб-эскадроном, и потому братья пользовались более просторной и удобной квартирой; а так как имение их было невдалеке от штаба, на противоположном левом берегу Волхова, то им высылалась оттуда всякого рода живность в большом изобилии. Беседы наши были весьма оживленные, не без примеси юмористических замечаний со стороны хозяев по отношению к некоторым сослуживцам. Меньшой, Николай, был, впрочем, молчаливее, но и тот иногда вставлял меткое словцо.
Так однажды на вопрос мой — что за женщина жена полковника, в церкви пригласившая меня к вечернему чаю, — Н. Ф. сказал: «На рогожке стоит, с ковра говорит».
Пока я проживал в Лопухинке, старый наш полковой командир успел жениться на девице графине Келлер. Генерал представил меня ей, а она стала приглашать меня к обеденному столу. Я нашел в ней, несмотря на ее тридцать лет, прелестную брюнетку и самую приветливую хозяйку.
Наступила зима, и приехал корпусный командир, старик Штрандман, производить инспекторский смотр. На следующее утро весь корпус офицеров полном составе выстроен был в манеже для одиночной езды. Нечего говорить, что я на своем Фелькерзаме старался по возможности быть безукоризненным Каков же был мой ужас, когда, только что я поравнялся, справа по одному шагом, с корпусным командиром, как услыхал его команду: «Кирасир, направо! Выезжайте ко мне. Берейтор, укоротите ему левое стремя. Поезжайте на свое место».
На одном из следующих аллюров рука Штрандмана, к моему ужасу, прямо указала на меня; но на этот раз я мог ясно расслушать слова:
— Славно ездит.
По окончании смотра корпусный командир объявил, что выслуживающие к четвертому января полугодичный срок прикомандированные могут явиться в Петербург под команду генерала Головина для приготовления к смотру его высочества. Когда мы слезли с коней, Курсель подозвал меня и, обратившись к Штрандману, сказал:
— Этому офицеру срок прикомандирования истекает пятого января, а так как смотры его высочества бывают только два раза в год, то этот один день может весьма тяжело отозваться в дальнейшем производстве по службе. Не соблаговолите ли, ваше высокопревосходительство, разрешить явиться и ему завтрашний день к генералу Головину вместе с другими?
Получив разрешение Штрандмана, Курсель, наклонясь ко мне, сказал:
— Не теряйте ни минуты, забирайте ваши вещи и скачите на железную дорогу.
Когда из манежа я с восторгом в груди переходил плац по направлению к своей квартире, радость моя была сильно смущена мыслию о возможности исполнения совета полкового командира. Вести свою лошадь в Петербург нечего было и думать, так как вся моя касса не превышала 25 рублей; но и без лошади нельзя было пускаться в Петербург, не имея 200 рублей. Конечно, моим первым движением было зайти к моим приятелям Щ-м посоветоваться. Они комично опорожнили для меня бумажники: старший предложил мне 15, а младший 5 рублей. По их совету я отправился к полковому казначею, высокому белокурому немцу, постоянно утверждавшему, что служить как честнейший и благороднейший человек невозможно, и что мамаша его вызывает из службы, что однако не мешало ему продолжать служить. И. Ф. Щ-ий говорил: «А что если он обмолвится, сказав: „как честный и благородный человек“, — и ему сказать: вы напрасно называете себя честным и благородным: мы все знаем, что вы честнейший и благороднейший человек. А ну как, — продолжал шутник, — он не дослушает объяснений?»
Я побежал к честнейшему и благороднейшему человеку, прося его доложить генералу, что без выдачи мне из казенного ящика двухсот рублей взаймы — мне ехать не с чем.
— Об этом, как честнейший и благороднейший человек, и думать нечего. Если бы инспектор обревизовал денежный ящик, дело было бы другое, а то он будет его ревизовать только завтра утром. Я сию минуту бегу с отчетами к генералу.
Весь вечер провел я в раздумье до столбняка. В 11 часов вбежал ко мне честнейший и благороднейший человек со словами: «Генеральша, узнав о вашем положении, поручила мне передать вам 200 рублей из собственной шкатулки. Вот и деньги».
Через полчаса я сидел уже в санях, и мои степные рыжаки помчали меня по вечно ненадежному льду широкого Волхова. Плохая и ухабистая дорога вдоль берега слишком задержала бы мое нетерпение. Измученный сильными ощущениями минувшего дня, я тотчас же задремал в быстро несущихся санях и просыпался только в минуты, когда громко трескавшийся лед уносил из-под саней свой замирающий грохот к противоположному берегу. На Волховской станции я приказал кучеру возвращаться домой берегом.
Явившись в Петербург к генералу Головину, я в той же парадной форме отправился благодарить Эссена.
— Очень рад, — говорил Ант. Ант., - что мог тебе быть полезным, и уверен, что и новое начальство будет так же тебе благодарно, как когда-то был я. Но тебя лично с новым местом службы поздравить не могу.
— Мне, ваше превосходительство, не привыкать к службе в поселении: я прямо из одного в другое.
— Ну, брат, этого не говори; там все-таки кругом помещики, люди, общество, а тут никого, кругом леса медведи и волки. Кроме штабных, человеческого голоса не услышишь.
Я откланялся генералу, но дня через два вынужден был явиться к нему снова. В Михайловском манеже назначена была первая езда. Брать лошадей из частных манежей я считал рискованным и потому явился к Эссену с просьбой помочь мне в этом деле.
— Ну, мой любезный, — сказал генерал, сразу изменяя тон, — в Петербурге никто не дает своей лошади, и я ни за что ее для себя ни у кого просить не стану. Но для вас, так и быть, попробую. Завтра в 12 час. я буду в манеже смотреть кавалергардов; явитесь туда, и я вас представлю командиру полка.
Никогда не забуду изысканной любезности кавалергардских офицеров, старавшихся друг перед другом помочь мне в моем деле. Все офицеры были пешком, так как Эссен проверял работу ганашей в унтер-офицерской смене на кордах и уздечках.
Когда под конец учения я подошел к генералу, то на просьбу Ант. Ант. граф Бреверн любезно разрешил мне обратиться к одному из командиров средних эскадронов. Офицеры указали на командира третьего эскадрона, а тот пригласил меня пройти к нему в казармы, куда обещал явиться тотчас же по окончании смотра.
Сидя в столовой полковника, я среди совершенной тишины внезапно услыхал из соседней комнаты, в которую дверь была раскрыта, громко и отчетливо раздававшуюся лихую команду ружейных приемов. Тихо пробираясь, заглядываю в кабинет — ни души; — и снова громко потянулось: под при… и затем коротко и отрывисто: — клад! Тут только я заметил стоящую у окна клетку и сидевшего в ней попугая, так изумительно затвердившего команду. Вошедший полковник приказал позвать вахмистра и на изъявление моей признательности сказал:
— Даю вам на выбор любую унтер-офицерскую лошадь, с тем большим удовольствием, что сам был в том же положении, в каком вы теперь, и мне никто не дал лошади.
«Вот, — подумал я, — действительно — свет не без добрых людей».
Вахмистру я сунул десять рублей и обещал поблагодарить его по окончании смотра.
На другой день солдатик в черном фраке и белом галстуке привел мне прекрасную лошадь, заседланную моим седлом.
Так как конные наши учения происходили только три раза в неделю, в течение одного часа, то свободного времени у меня оставалось много и, по склонности к литературе, мне захотелось познакомиться с Некрасовым и Панаевым, тогдашними издателями «Современника»[175].
Когда я остановил извозчика, как мне говорили, на Владимирской, в Колокольном переулке, и стал громко спрашивать городового об их квартире, у саней моих остановилась ехавшая мне навстречу красивая коляска, и сидящий в ней в щегольской шляпе брюнет сказал мне: «Я — Панаев, позвольте узнать ваше имя?» — Услыхав мое, он видимо обрадовался и, указавши дом, просил заехать к Некрасову и обождать с полчаса, так как к тому времени он сам вернется домой.
Встреча Некрасова была менее шумна, но не менее приветлива. — «Мы обедаем в пять часов; приходите, пожалуйста, запросто; вы, между прочим, встретите здесь своих приятелей: Боткина и Тургенева».
Явившись к пяти часам, я был представлен хозяйке дома Е. Я. Панаевой. Это была небольшого роста, не только безукоризненно красивая, но и привлекательная брюнетка. Ее любезность была не без оттенка кокетства. Ее темное платье отделялось от головы дорогими кружевами или гипюрами; в ушах у нее были крупные бриллианты, а бархатистый голосок звучал капризом избалованного мальчика. Она говорила, что дамское общество ее утомляет, и что у нее в гостях одни мужчины.
Тут я, после долгих лет, встретил В. П. Боткина, по-прежнему обоюдоострого, т. е. одинаково умевшего быть нестерпимо резким и елейно сладким. Познакомился с А. В. Дружининым, который стал меня расспрашивать о моих теперешних однополчанах Щ-х, с которыми он вместе воспитывался в Пажеском корпусе. С первого знакомства сошелся с веселым М. Н. Лонгиновым, сохранившим ко мне приязнь до своей смерти; с П. В. Анненковым, И. А. Гончаровым и повсегдатаем всех литературных обедов — М. А. Языковым, входившим в комнату шатаясь на своих кривых ножках и с неизменною улыбкою на лице.
Все это веселое общество в ожидании обеда усаживалось на мягкой мебели хозяйского кабинета, рассказывая друг другу забавные анекдоты. Хохот и шум на минуту только прерывались с появлением нового гостя. В остальное время нужно было близко подсесть к данной группе, чтобы расслушать слова.
— Господа, — сказал входящий в комнату хозяин, — четверть шестого, и если мы будем ждать Тургенева, то он заморит нас с голоду, и у хозяйки перейдет обед; она просит вас пожаловать к столу.
Все бросились к закуске, которой была оказана надлежащая честь. Тургеневу оставлен был прибор, и когда он во время супа вошел, извиняясь, ему подали бульон, так как он боялся всего жирного и пряного. Мы встретились с ним, как старые знакомые, и он просил меня не забывать его на его постоянной квартире, на Большой Конюшенной, в доме Вебера.
С этого дня я стал чуть не ежедневно по утрам бывать у Тургенева, к которому питал фанатическое поклонение.
По природе ли или вследствие долгого пребывания за границей Тургенев отличался наклонностью к порядку в окружающих вещах. Он не иначе садился писать самую простую записку, как окончательно прибравши бумаги на письменном столе. Между тем это же самое стремление к порядку не помогало ему в первое время нашего петербургского знакомства устроиться с холостым своим хозяйством. Правда, в то время и прислуга у него была другая: не было у него ни тонкого Захара, литературным мнением которого он далеко не пренебрегал, ни неутомимого и точного Дмитрия Кирилловича, перешедшего позднее в услужение к В. П. Боткину, которого капризам умел угождать. А это великая рекомендация. Слуги эти были несомненными питомцами Спасского при матери Тургенева, тогда как бестолковый Иван очевидный продукт позднейшей эмансипированной лакейской. Слуги прежних времен принимали молчаливо всякого рода замечания, тогда как крепостные либералы почитали нравственным долгом всякому оправданию предпосылать: «помилуйте-с, помилуйте-с».
Вертелся ли сам Тургенев слишком усердно в этот период в вихре света, отбивал ли бестолковый Иван у него охоту просидеть лишний час дома, но случалось, что усердно созванный на обед круг гостей к пяти часам соберется, бывало, под темною аркою ворот у двери тургеневской квартиры.
— Кто это? — спрашивает один другого.
— Ах, это вы, Дружинин? — восклицает другой, узнавши по голосу вопрошающего.
— Добродушный, но рассеянный человек, — говорит укоризненно Боткин, — он просто забыл, что позвал всех обедать, и я ухожу. Что же звонить понапрасну? Явно, что ни Ивана Тургенева, ни Ивана лакея нет на квартире.
Однажды перед самым обедом я забежал к Тургеневу поболтать с ним, пока он будет одеваться. В комнатах было действительно никак не более десяти градусов, которые переодевавшемуся Тургеневу были всех чувствительнее.
— Иван! — воскликнул он слезливым голосом, — ну как же мне тебя умолять? Сколько раз уже я слезно просил тебя сильнее топить в такие морозы.
— Помилуйте-с, помилуйте-с, — отвечал Иван.
— Да ведь я, — прервал его Тургенев все выше забирающим фальцетом, — и не спорю с тобою. Ну, ты умен, а я дурак. Но помилосердуй! Не до такой же степени я глуп, чтобы не мог разобрать, холодно мне или тепло.
Чтобы понять следующий небольшой случай с Иваном, не оставшийся без литературного следа, необходимо упомянуть одно литературное лицо, по временам появлявшееся в нашем кругу. Это был небольшого роста белокурый молодой немец Видерт, весьма удачно переводивший русские стихи и прозу на немецкий язык. Его переводы Кольцова пользовались в Германии заслуженным успехом. Появлялся он обыкновенно к вечернему чаю. Во время одного из таких посещений, на требование чаю со стороны Тургенева, Иван объявил, что чай весь вышел.
— Помилуй, любезный друг! — воскликнул изумленный Тургенев. — Как же мог так скоро выйти чай когда я только третьего дня принес фунт?
— Помилуйте-с, помилуйте-с, — отвечал Иван, — стаканы малы.
Ожидавший в числе прочих чаю Некрасов не преминул воспроизвести эту сцену в следующем стихотворении;
Стол накрыт, подсвечник вытерт, Самовар давно кипит, Сладковатый немчик Видерт У Тургенева сидит. По запросу господина Отвечает невзначай Крепостной его детина, Что «у нас-де вышел чай». Содрогнулся переводчик, А Тургенев возопил: «Чаю нет! Каков молодчик! Не вчера ли я купил?» Замечание услышал И ответствовал Иван: «Чай у нас так скоро вышел Оттого, что мал стакан».Так как я давно уже не писал стихов, то для журнальной печати запас их у меня оказался ничтожен; тем не менее Некрасову легко было пригласить меня, совершенного новичка в журнальном деле, по совету самого Тургенева, в исключительные сотрудники «Современника» с гонораром 25-ти рублей за каждое стихотворение.
Тургенев радовался окончанию перевода од Горация и сам вызвался проверить мой перевод вместе со мною из строки в строку. Споров и смеху по этому поводу у нас возникало немало. Между прочим в XXI оде книги первой он восстал против стиха:
«На Краге ль, по весне».Так как Горациева Крага изгнать было невозможно, то Тургенев привязался к слову — «по весне» и спрашивал, что это такое?
Напрасно я ссылался на обычное в устах каждого русского выражение: «по весне», «по зиме» — в смысле: в весеннюю или зимнюю пору; напрасно приводил я ему стих Крылова:
«Он в море корабли отправил по весне».Тургенев уверял, что ему хорошо известно, что краснокожие с перьями на голове и с поднятыми томагавками бегают по лесам Америки, восклицая: «на Краге ль по весне», причем он выговаривал «весне» так как будто в конце стояло оборотное «э».
Потому ли, что я стал окружен литературной атмосферой или уж очень скучал в моем одиноком номере гостиницы, — заехавший ко мне Иван Сергеевич застал меня с карандашом в руке. Я только что окончил стихотворение: «Днепр в половодье».
Прослушавши стихи, он сказал:
— Я боялся, что талант ваш иссяк, но его жила еще могуче бьет в вас. Пишите и пишите!
Литературный кружок, к которому принадлежал и Д. В. Григорович, и мой университетский товарищ Я. П. Полонский, и генерал-майор Е. П. Ковалевский, путешественник по Малой Азии, Египту, Нубии и Абиссинии, — собирался не у одного Некрасова.
У Тургенева был прекрасный крепостной повар, купленный им за тысячу рублей. Приглашая по временам приятелей обедать, Тургенев объявил, что не может принять более одиннадцати человек, так как столового сервиза у него только дюжина. В такие дни обед обыкновенно заказывал Боткин, и когда затем какой-либо соус выходил особенно тонок и вкусен, Тургенев спрашивал Боткина:
— А что ты скажешь об этом соусе?
— Надо, — отвечал Боткин, — непременно позвать повара: я буду плакать у него на жилетке.
Однажды Тургенев объявил мне, что Краевский[176] желает со мною познакомиться, и мы отправились в условленный день к нему.
После первых слов привета Андрей Александрович стал просить у меня стихов для «Отечественных Записок», в которых я еще во времена Белинского печатал свои стихотворения. Он порицал уловку Некрасова, заманившего меня в постоянное сотрудничество. — Это уж какая-то лавочка в литературе, говорил он.
Хотя я и разделял воззрение Краевского, но считал неловким нарушать возникшие между мною и «Современником» отношения. Вернувшись от Краевского, я высказал Тургеневу свои сомнения, но он, посоветовавший мне согласиться на предложение Некрасова, стал убеждать меня, что это нимало не помешает дать что-либо и Краевскому. К счастью, новых стихотворений у меня не оказалось, но от скуки одиночества я написал прозою небольшой рассказ «Каленик» и отдал его в «Отечественные Записки» Появившееся на страницах журнала имя мое воздвигло в Некрасове бурю негодования; он сказал, что предоставляет себе право печатать мои стихотворения не подряд, а по выбору, в ущерб моему гонорару.
Однажды, когда мы кончили пересмотр Горациевых од, Тургенев объявил мне, что Краевский просит их для «Отечественных Записок» и, кроме пятисот экземпляров отдельных оттисков, предлагает за них тысячу рублей. В то время эта сумма показалась мне огромна, и я согласился.
Приближался февраль месяц, и оканчивался срок нашего прикомандирования. Отец запрашивал меня о сумме, необходимой на новую экипировку. Добросовестно все рассчитав, я написал, что необходимо семьсот рублей, и заблаговременно к данному сроку заказал новую обмундировку.
На последнюю перед смотром его высочества репетицию добрейший Ант. Ант. Эссен сам прибыл в манеж, очевидно, с целью осмотреть меня, так как никого не знал из остальных прикомандированных. Кирасирская обмундировка моя была в исправности за исключением кирас, самой дорогой части вооружения. Во фронте мои кирасы могли быть терпимы, но для одиночного смотра они были плоховаты, и я уже заблаговременно приготовил себе на прокат хорошие из магазина.
«На смотру нужно другие кирасы, — сказал Антон Антонович, — c'est une vieille machine, mon cher!»[177]
Я его и на этот счет успокоил.
В день смотра мы выстроились посреди манежа к назначенному часу, и на левом фланге появились у нас массивные кавалергардские унтер-офицеры, готовившиеся к переходу офицерами в армию. В манеж стали прибывать генералы и великие князья, выстраиваясь в два порядка у входа, в ожидании великого князя цесаревича.
Ответив на отданную ему честь, его высочество скомандовал нам: справа по одному, — и смотр начался. Доброезжая лошадь моя была совершенно без огня, а шпорить в присутствии начальства считалось невежливым. Зато пройдя перед глазами главнокомандующего известным аллюром, я старался за спиной его надавать своему коню таких горячих шпор, от которых он снова проходил перед начальством весь кипящий жизнью. Проезжая собранной рысью, я увидал руку его высочества, указывающую на меня, и ясно услыхал его слова: «славно ездит»!
«Ну, — подумал я, — слава богу, теперь уже буду переведен».
Когда пришлось прыгать через барьер с сабельною рубкою, я вспомнил наставление Н. Ф. Щ-аго, и на скаку вышиб ударом палаша барьер из рук, его державших.
— Благодарю вас, господа, — сказал его высочество, — поздравляю с переводом в гвардию, кроме вас, — обратился он к пешему артиллеристу, — вы срам как ездите. А кавалергарды точно пни.
С неописанного радостью вернулся я в свой номер, куда, по поручению отца моего, приказчик Мценского хлебного торговца и миллионера Смирнова принес мне деньги на обмундирование. С этого времени отец стал весьма щедр на присылку денег, и я перестал в них так настоятельно нуждаться.
В это время в Петербурге умер старший полковник нашего полка, и так как можно предполагать, что шеф полка, государь наследник, будет присутствовать при отпевании, то в Петербург прибыл с женою и генерал Курсель. Конечно, первым долгом своим я счел, в новой уланской форме, отправиться к нему и с величайшею благодарностью возвратить деньги генеральше, а затем поблагодарить всех, принимавших во мне участие.
Обеды у Панаева и Тургенева повторялись с обычным шумом и веселостью, не без примеси весьма крупной аттической соли и некоторого злорадства со стороны всегда мягкого и любезного Тургенева. В веселую минуту он сам повторял свои эпиграммы, острие которых обращено было даже на его друзей, например, Кетчера и Анненкова.
Про Анненкова, в то время весьма полного, экономного и охотника покушать, Тургенев не раз, возбуждая общее веселье, повторял эпиграмму, из которой помню только последние два стиха:
«Чужим наполненным вином Виляет острым животом».И когда, бывало, Гончаров и Анненков первые подступали к муравленому горшку со свежею икрою от Елисеева, Тургенев вопил:
— Господа, не забудьте, что вы не одни здесь.
Нередко Дружинин и Лонгинов читали свои юмористические, превосходными стихами написанные, карикатурные поэмы. Забавнее всего, что в одной из таких поэм у Лонгинова в самом смешном и жалком виде человек, пробирающийся утром по петербургским улицам, был списан с Боткина. Всем хорошо был известен стих: «то Боткин был». — А между тем сам Боткин пуще других хохотал над этим стихом, в котором при нем Лонгинов подставлял другое имя.
В последнее время Тургенев стал настаивать на новом собрании моих стихотворений, так как издание пятидесятого года почти все разошлось. Он сам брался за редакцию, приглашая к себе в сотрудники весь литературный ареопаг. Конечно, мне оставалось только благодарить.
В нашем веселом кружке мне не случалось ни слова слышать об иностранной политике, которая меня в то время интересовала всего менее. Однако по переходе в гвардию пришлось прощаться со всеми и возвращаться в полк.
В полку, к немалому соревнованию остальных, требовался поручик для прикомандировки и немедленного отправления за Дунай в действующую армию. Счастливый жребий выпал Крониду Александровичу Панаеву, любимому всеми. Но недолго пришлось нам завидовать. На полковой праздник Св. Мартиниана 13 февраля собранному на молитву полку был объявлен поход[178].
Погода стояла бурная и холодная. Мороз доходил до 25-ти градусов при глубоком снеге. Садясь на коней, нельзя было не улыбнуться на предсказания солдатских жен, ютившихся около казарм и восклицавших при нашем выступлении: «Будут, будут назад! Слава богу, ветер прямо в лицо!»
Насколько в деле свободных искусств я мало ценю разум в сравнении с бессознательным инстинктом (вдохновением), пружины которого для нас скрыты (вечная тема наших горячих споров с Тургеневым), настолько в практической жизни требую разумных оснований, подкрепляемых опытом. Вот почему порою мне так приятно видеть, что много моих тезисов, казавшихся в свое время неосновательными и противными опыту, в настоящее время оправдались самим опытом.
Сколько раз я доказывал своему эскадронному командиру, с которым мы на походе квартировали и продовольствовались вместе, так как слуга мой изрядно готовил кушанье, — что существующая, в видах сбережения лошадей, система тащиться с эскадроном весь тридцативерстный и более переход в течение семи-восьми часов, по временам спешивая людей и заставляя вести лошадей в поводу, не облегчает, а, напротив, утомляет последних. Самое мучительное для кавалерийской лошади, это затянутое ее положение под тяжелым вьюком, и чем скорее вы избавите ее от последнего, тем больше ее облегчите; и, пройдя тридцать верст в четыре часа, переходя из рыси в шаг, вы как раз вдвое уменьшите ее восьмичасовое страдание. Нечего говорить, что метода водить во время зимних походов людей пешком — для последних вредоносна. Человек, несущий оружие и ведущий в поводу лошадь, вынужден утомительно ступать по глубокому снегу, взрытому копытами; при этом он неусыпно должен наблюдать, чтобы лошадь не наступила ему на шпору, не налезла на переднюю, и задний человек не навел бы на нее свою. Не явно ли, что, пройдя таким образом версту, люди согреваются до испарины, и затем команда — «садись» — поднимет их в область ничем не задерживаемого ветра. Не значит ли это напрашиваться на тиф?
В те времена разглагольствования мои оставались гласом вопиющего в пустыне, что не мешало им оправдаться уже на первом переходе. Продрогнувшие из теплой конюшни лошади на поводу по глубокому снегу только и поджидали, как бы следующая за ней насунулась так, чтобы можно было ее ударить, и по приходе полка на ночлег оказались четыре лошади с перебитыми передними ногами.
На ночлеге я узнал, что полковой казначей, «как честнейший и благороднейший человек», отправился за срочными вещами в Новгород, а я назначен исправляющим его должность и в то же время командирован отвозить в Зимний Дворец к августейшему шефу серебряные георгиевские трубы и два излишних штандарта.
На другой день прибыв ко дворцу, я повел своих штандартных унтер-офицеров на половину его высочества и должен был на пороге перешагнуть через прелестного желтого сеттера, не обратившего на нас, по-видимому, ни малейшего внимания. Мой бедный, в настоящее время из лет выживший, Трап — праправнук по прямой линии того прелестного сеттера.
Дверь отворилась, и из кабинета его высочества вышел начальник гвардейского штаба, генерал Витовтов.
— Вы привезли штандарты?
— И серебряные трубы, ваше превосходительство.
— Штандарты составьте вот сюда, а трубы сдайте в дворцовую контору. Да какие это орлы на штандартах: старые или новые?
— Старые, ваше прев-ство.
— Да что вы говорите! Боже вас сохрани сказать это его высочеству! Старые, слишком тяжелые, серебряные орлы у вас стоят в церкви и заменены новыми меньшего размера.
Слова генерала ясно указали мне, что, как новичок в полку, я на многие вопросы могу отвечать совершенно невпопад, и потому не без трепета в груди увидал вошедшего государя наследника в нашем мундире. К счастью, его высочество ограничился общими вопросами, и я подвез свой ящик к дворцовой конторе. Там мне объявили, что дворцовое ведомство с военными не имеет никакого сообщения, и что трубы я должен сдать в арсенал. В арсенале мне объявили, что это старый арсенал, и что трубы должны быть сданы в новый.
— Ну, думаю, наконец добился толку. — Но в новом арсенале мне положительно объявили, что труб не примут, так как они подлежат сдаче в старый арсенал. В старом арсенале прения поднялись снова, и я решительно объявил, что ввезу ящик на двор арсенала и, не дожидаясь квитанции, оставлю его там, о чем тотчас же донесу в корпусный штаб. Это подействовало, и я получил квитанцию.
Желая перед походом проститься с Панаевыми, я забежал к ним перед самым обедом. Хозяйка ни за что не отпускала меня без обеда. Тотчас после обеда подошли два-три молодых человека, и завязалась веселая беседа. Как я ни посматривал на часы, чтобы поспеть к последнему царскосельскому поезду навстречу полку, меня уговорили, убеждая, что я поспею и на другой день с семичасовым поездом.
«Ах, обмануть того не трудно, Кто сам обманываться рад»[179].От волнения из-за своей неисправности, я не мог затем заснуть во всю ночь и к семи часам был уже с небольшим чемоданом в царскосельском вагоне. Вдруг после второго звонка слышу вокруг себя голоса: «как же, в семь часов был смотр. Его высочество смотрел улан, которые прошли в Красное Село».
— Да так ли?
— Помилуйте, мой знакомый сейчас оттуда, и при нем уланы проходили.
В отчаянии хватаю свой чемодан, бегу на площадь и сажусь на первого парного извозчика.
Через два часа я уже был в Красном Селе на общей нашей с М-ым квартире, где слуга сказал мне, что М. у Щ-их. Я бросился туда.
— Как же это вы, Афанасий Афанасьевич, запоздали? Генерал крайне недоволен, — послышалось со всех сторон, — вашу лошадь провели за полком. Неловко, очень неловко.
— Ловко ли, неловко ли, — отвечал я, — надо явиться к генералу.
— Да, да, ступайте поскорее! Делать нечего.
Когда я стал подходить к денежному ящику, под охраною часового, то увидал шедшего мне навстречу командира полка.
— Что это у вас там такое? — еще издали воскликнул генерал.
Я, насколько было возможно, оглядел себя и нашел все в порядке.
— Что это у вас там такое? — повторил он.
Я оглянулся назад.
— Нет, — воскликнул генерал, — я вам говорю. Я понять не могу. Если бы мне сказали, что сегодня не понедельник, а пятница, и ночь, а не день, то я скорее бы этому поверил, чем тому, что вас не было на своем месте на смотру. Отдайте вашу саблю адъютанту.
Таким образом я во второй раз в моей жизни был арестован, с тою разницею, что в первый раз на четверть часа и по чужой вине, а теперь по моей собственной. В полковом штабе и в манеже все привыкли ходить без сабли, но во фронте и на походе очутиться одному без сабли ужасно неловко, точно на бале без галстука.
Рано утром полк потянулся в поход, и я в одиночку прошел целый переход за казенным ящиком, за которым водят арестантов.
Мы пришли на дневку.
После обеда казначейский писарь пронес ко мне бумаги к завтрашнему докладу, так как нам назначена была дневка, и к некоторым из них нужно было приложить полковую печать.
Я спросил свою походную шкатулку и по вскрытии, к ужасу моему, печати в ней не нашел.
Слуга объявил мне, что он не только не укладывал ее, но даже не видал. Итак, если ее нет в шкатулке — а ее там нет, — то она пропала. Однако, как же быть? Без формальной подписи полкового командира ни один резчик не станет резать печати, а как в теперешнем моем положении заявлять о ее пропаже командиру полка? Не только я сам, но и добрейший мой сожитель Василий Павлович не находил, что сказать.
— Боже, да каким же образом могла пропасть эта злополучная печать? — воскликнул я.
Машинально приподымаю кожаный чехол шкатулки, как бы в подтверждение того, что печати тут нет, и вдруг пальцы мои ткнулись позади шкатулки во что-то круглое. «Вот она!» — вскричал я громко.
Скажу откровенно, никакая улыбка фортуны не возбуждала во мне сильнейшей радости, чем эта находка.
На другой день утром, отправившись с докладом к генералу, я в первой комнате под штандартом увидал свою сиротеющую саблю.
Выслушав доклад и подписав бумаги, генерал сказал:
— Возьмите вашу саблю и приходите обедать.
Конец февраля дал себя знать. Снежные метели при жестоком морозе все подбавляли и без того глубокий снег, и хотя поход продолжался не более двух недель, он казался нам бесконечным.
На одной из станций нам приказано было на завтрашний день вернуться на предшествующую, так как послезавтра его высочество изволит смотреть полк на походе. Конечно, мы вернулись на предыдущую станцию и в ожидании утра усердно занялись чисткою амуниции. Но в день, назначенный для смотра, мы получили уведомление, что его высочество смотреть нас не будет, — и приказ продолжать поход. Не успели мы снова отойти двух станций, как буквально повторилось то же самое, и мы опять прошли станцию вспять. Не ясно ли было, что составители маршрута для его высочества два раза ошибались местопребыванием полка в данный день, хотя наш походный маршрут был у них под руками. При дальнейшем следовании нам не раз приходилось убеждаться в невообразимой путанице распоряжений тогдашнего военного министерства.
Наконец полк был осчастливлен приездом его высочества. Так как он смотрел нас на походе, то по узкости пути должен был объезжать верхом остановленный полк, растянувшийся версты на две, и по мере осмотра офицеры следовали за ним к голове колонны, т. е. к лейб-эскадрону.
Поблагодарив командира полка за хороший вид людей и лошадей, его высочество обратился к окружавшим его офицерам с такою речью:
— Поздравляю вас, господа, с походом. Государь император поручил мне приветствовать вас. Вам, быть может, первым предстоит честь встретить врага. Все вы здесь дворяне, и я уверен, что вы исполните свой долг. Прощайте, бог с вами!
В начале марта погода из снежной и морозной изменилась в теплую и дождливую, превращая путь наш в снежную кашицу по колено лошади. Конечно, для нас не стали бы церемониться, но передвигали не только нашу артиллерию, но и осадную, и потому дорога была занята тысячами чухон, расчищавших снег.
Идем и нагоняем засевший в сугробе обоз с санями, в которые запряжены по две и по три тройки, и нам приходится в один конь пробираться мимо этой кричащей и загораживающей дорогу вереницы.
— Куда это вы, братцы? — спросишь обозного солдатика.
— Осадные орудия из Свеаборга в Ригу везем. Версты через четыре обгоняем новый обоз с красными флагами.
— Куда вы?
— Из Свеаборга в Ригу порох доставляем.
Через несколько верст попадаются навстречу такие же обозы, везущие осадные орудия из Риги в Свеаборг. Ясно, что люди и лошади надрываются вследствие канцелярской неурядицы.
На предпоследнем переходе под Ревелем большинству офицеров полка отвели большой и пустой помещичий дом. На другое утро, когда полк собрался выступать, я получил предписание в качестве казначея вернуться на предыдущую станцию в имение графа Н. в дивизионный штаб и получить там высланные полку деньги.
— На чем же я поеду, — спросил я, — тут ни почтовых, ни обывательских не найдешь.
— Это ваше дело, — был ответ, — на службе нет отговорок. Да вот вам поручено на половине дороги передать этот конверт батарейному командиру.
Затем все застучали волочащимися по паркету саблями и вышли садиться верхом, а я остался один в пустом доме.
В унылом раздумье засмотрелся я в окно, выходящее на двор усадьбы, и увидал чухонца, везущего бочку с водою на санном станке. Лошадь показалась мне надежною. В минуту сборы мои были окончены; я приказал свалить бочку со станка, а чухонцу подъехать к крыльцу. Надеть в рукава солдатскую шинель, застегнуть подбородник шапки и опоясаться саблею было делом одной минуты. Чухонцу растолковали, куда меня везти и мы тронулись в путь.
Если сообразить, что на водовозном станке не было ни отводин, ни роспусков, ни подстилки и что вязки представляли неширокую лесенку, на которой по ухабам и зажорам надлежало проехать 30 верст, а всего, туда и обратно, — 60, то можно уже себе представить все удобства подобного переезда, при котором главное внимание сосредоточивалось на том, чтобы нога, соскочив на толчке с вязка, не ткнулась в землю и не была переломлена. Погода была отвратительная: то падал мелкий снег, то холодный проливной дождь; сквозь ничем не защищенные головашки саней из-под копыт погоняемой лошади обдавало чухонца и меня с ног до головы грязным снегом; местами приходилось становиться на колени, чтобы всем телом не зачерпнуть воды; нечего говорить, сколько раз наши сани опрокидывались на неровной дороге, и приходилось лететь в грязь или воду. Тогда еще не знали благодетельных высоких сапогов. При внимании, сосредоточенном единственно на сохранении ног от перелома, даже сердиться было некогда; но однажды, когда меня выбросило в воду, я услыхал громкое замечание одного из пробиравшихся сторонкой драгунских солдатиков:
— Вот и его благородие лежит!
Я невольно усмехнулся.
На половине пути в проливной дождик я наткнулся на протянувшуюся по дороге батарею. Узнавши номер батареи, я спросил:
— А где же батарейный командир?
— Там назади, пропускают орудия.
В хвосте обоза я действительно нашел полковника.
Под проливным дождем, бившим ему прямо в глаза, он сидел верхом и старался удержать на месте прекрасного вороного жеребца, так как тянущийся мимо хвост обоза еще не распутался окончательно при выезде на дорогу.
Ставши со своих дровней и взявшись под козырек, я подал пакет полковнику, прибавив, что по обстоятельствам не беспокою его распискою в получении.
— Да чего им от меня надо? — воскликнул полковник.
— Не могу доложить, — отвечал я.
Полковник, под которым нетерпеливый жеребец прядал и порою, как свеча, взвивался на дыбы, разорвал конверт и хотел прочесть бумагу, но проливной дождь мгновенно превратил ее в тряпку, которую он скомкал и засунул за борт своей солдатской шинели.
— Не могу, — воскликнул он с отчаянием, и я, еще раз взявшись под козырек, снова сел на свои дровни.
Часам к трем дня я подъехал к крыльцу великолепного графского дома. В просторной швейцарской перед широкою лестницей в бельэтаж я спросил у ливрейного в перевязи и с булавою швейцара, куда пройти к дивизионному адъютанту.
— Сюда пожалуйте, — ответил швейцар, указывая на дверь влево от входа.
Сидевший на кресле за бумагами старший адъютант обратился ко мне с изумленными глазами, но тотчас же расхохотался и едва в силах был проговорить:
— Извините ради бога, но взгляните на себя в зеркало.
Я взглянул в большое зеркало и увидел действительно престранную фигуру, с головы до ног покрытую грязью, не исключая лица, на котором резко выступали белки глаз, как у араба. Тем не менее я не без досады воскликнул:
— Хорошо вам смеяться, а я промок до костей. Нет ли у вас чего надеть, а шинель я пошлю на кухню высушить.
— Да вот надевайте пока мою красную фуфайку, а мне все равно приходится одеться и уйти.
Не успел я хотя отчасти привести себя в порядок при помощи адъютантского слуги, как дверь отворилась, и графский слуга на подносе внес и поставил передо мною изобильный завтрак с водкою, вином и пивом. Не успел я оказать завтраку долженствующую честь, как дверь снова отворилась, и в комнату вошел представительного вида пожилой мужчина с расшитою ермолкою на голове. Я с первого взгляда угадал в нем самого графа.
— Мы в пять часов обедаем, — сказал он, — и оба с женою моею просим вас пожаловать откушать.
Напрасно извинялся я невозможным состоянием своего туалета, который должен был всюду оставлять грязные следы, — ничто не помогало, и в назначенный час я, поднявшись по широкой лестнице, явился в великолепную столовую, где старшим дивизионным адъютантом был представлен любезной хозяйке и двум взрослым ее дочерям. С одною из них мне пришлось сидеть за столом, и она очаровала меня своим образованием и непринужденною любезностью. За первым блюдом она ушла и, подойдя к растворившейся в стене дверке, стала с блюдом в руках обходить обедающих. Маневр этот был для меня до того неожиданным, что не успел я прийти в себя, как она уже стояла около меня, предлагая взять кусочек чего-то… чего? не умею сказать, так как старался схватить предлагаемое, чтобы не иметь вида недоумевающего лопаря.
Но пора было думать и о возвращении в полк.
Дивизионный адъютант передал мне тысяч на сорок всевозможных видов ассигнаций и выхлопотал мне почтовую пару лошадей. На этот раз сани оказались исправными, и я не валялся уже по лужам с карманами солдатской шинели, набитыми казенными деньгами.
Так как нужно было делать уже не одну, а две станции, то я поспел к полку только утром при его выступлении, и пришлось садиться прямо верхом с карманами, набитыми деньгами, и таким образом вступать в Ревель.
Офицеры знали хорошо, что из Ревеля эскадроны будут размещены по отдельным фольваркам, и потому за получением жалованья каждому придется снова ехать в штаб полка. Поэтому встречавшиеся со мною в городе офицеры требовали немедленного удовлетворения их жалованьем. Стало быть, приходилось раздавать деньги, по точному расчету, сообразно чину каждого и без расписки в получении, сидя верхом, на ветру, могущему унесть бумажку. Но кто знает магическое слово товарищ, не удивится, что многие в тот день получили жалованье при таких условиях.
Помню ходивший между нами в тот день оригинальный рассказ.
Из страха каких-либо случайностей батарейные орудия никогда не помещаются, а тем более в походе, на дворах, а всегда на открытом поле под караулом часовых. Места на походе из предосторожности указываются учеными офицерами, знакомыми с топографиею.
За день до нашего вступления в Ревель такой ученый отвел батарее весьма гладкую снежную равнину. Каков же был переполох, когда утром зачерпнувшиеся водою берега показали, что батарея ночевала на дряблом весеннем льду озера, грозившего ежеминутно поглотить доверенные ему орудия.
В Ревеле прибыл к полку окончивший свою командировку полковой казначей, а потому, сдавши ему дела, я мог тотчас же отправиться к нашему эскадрону по дороге в Балтийский Порт.
Не могу сделать никакого сравнения между гостеприимством русских и остзейских дворян, потому что до Нарвы мы постоянно квартировали в крестьянских избах, и только с Нарвы нам приходилось переходить от помещика к помещику, и мы не могли достаточно нахвалиться их любезностью.
Одно дело — в видах всяких политических и иных соображений писать о какой-либо стране, а другое — отдавать себе отчет в произведенном ею непосредственном впечатлении. Мне представятся еще случаи то там, то сям поневоле коснуться той темы, о которой я желаю теперь сказать несколько слов вообще.
Покинул я остзейские губернии, где в пансионе Крюммера провел три года, на шестнадцатилетнем возрасте, т. е. в такие лета, когда человек удовлетворяется прямым знакомством с окружающими его предметами и не чувствует потребности сводить итоги впечатлений.
При новом вступлении в остзейский край мне было 34 года, и я не могу умолчать о произведенном на меня впечатлении культурной страны, которую глаз беспрестанно сравнивал с нашею Русью.
Я должен признаться, что сравниваю тогдашнее состояние остзейского края, которого не видал с тех пор, с теперешним положением нашего черноземного населения, близко мне знакомых. Разница выходит громадная.
Почва этого края не выдерживает никакого сравнения с нашей черноземного полосою, а между тем жители сумели воспользоваться всеми данными, чтобы добиться не только верного, но и прочного благоустройства. Поля возделаны со всевозможною тщательностью, всюду проложили не широкие, но прекрасно содержанные шоссе; леса, дичина и рыболовство не подвергнуты беспощадному расхищению; небольшие, круглые и сильные крестьянские лошади прекрасно содержаны, и вы не встретите ни тощих кляч, попадающихся у нас на каждом шагу, ни нищих.
Все дворянские дома и усадьбы, переходящие от отца к сыну, массивно сложены из гранитных камней, обильно разбросанных по полям.
Таким образом, камни сослужили две службы: сошли с полей и построили усадьбы и шоссе. Дворяне не дробят имений, а передают их одному из сыновей, помогающему братьям на избранном ими поприще государственной или частной службы. Дочери богатого графа, обносящие вокруг стола кушанья, ясно указывают на то, что дворяне полагают унижение своего достоинства не в этом акте и ему подобных, а в чем-то другом, хотя преисполнены чувством собственного достоинства никак не менее наших, и не сразу бы поняли слово «опроститься». Словом, весь жизненный строй напоминает растение, расцвет которого не мешает ему глубоко пускать корни в почву, запасаясь все новыми силами.
Наш эскадрон поместился на фольварках мызы Лец, где нам отвели небольшой флигель, в котором помещались мы с Василием Павловичем и с младшим бароном Оф-м; старший же Оф-г и Ме-ов помещались за две версты в самом городе Балтийском Порте.
Рядом с нашим флигелем в небольшом доме, обращенном задним фасадом к склоняющемуся к морю саду, проживал сам владелец, холостой стройный блондин лет сорока, вместе с пожилою, едва ли не старшею, сестрою, заправлявшею домашним хозяйством.
Рам (фамилия владельца), кончивший курс в Дерптском университете, был человек далеко не богатый, но вполне образованный и исполненный такта, облегчавшего сторонним все к нему отношения.
В первый день прямо с похода он пришел во флигель просить нас к обеду, а вслед затем самым естественным образом высказался, что хотя при флигеле и есть своя кухня, но что доставление топлива, поиски за провизией, которая в конце концов все-таки у него в руках, приводят к тому, что и нам и ему будет гораздо неудобнее, держать две стряпни, чем нам ежедневно приходить за два шага к его обычному обеду. Так мы и сделали, и все лето, за исключением утреннего и вечернего чая, уже не заботились о своем столе.
В доме любезного нашего хозяина не было и тени роскоши, но все содержалось в порядке, не оставлявшем желать ничего лучшего. Там не было, с одной стороны, ни дешевой бронзы, ни поддельного фарфора, этих признаков тщеславной бедности, но зато не было и изувеченной мебели, неопрятной посуды и т. д.
Нередко и наши эскадронные товарищи навещали нас из Балтийского Порта и были точно так же приглашаемы к столу любезными хозяевами.
На берегу моря, изобилующего рыбой, знаменитые парижские sole и turbot (два рода плоской камбалы) появлялись за столом так часто, что потеряли для нас всякую привлекательность.
В наше время взводные офицеры не допускались эскадронными командирами ни до каких хозяйственных или учебных распоряжений, и нередко случалось, что на смотрах и учениях командиру второго или третьего взвода, вследствие сторонних соображений, говорили: «Потрудитесь стать перед первый взвод».
Третий взвод, которого я был командиром, расположен был на фольварке у самого берега моря, между мызою Лец и Балтийским Портом, близ маяка, на котором жил офицер морского ведомства. Так как, по совершенной очистке рейдов от льдов, английский флот под начальством адмирала Непира показался на море, то маяк не только не зажигал наверху сигнальных огней, но был со стороны моря выкрашен серою краскою, отнимавшею у него издали всякую видимость. У маяка постоянно стоял казачий пикет, с помощью которого морской офицер давал знать о замеченном им движении прибрежным воинским начальникам.
При первом появлении флота мы сели на коней и по лесной тропинке отправились с Василием Павловичем на маяк. С верхней его площадки вид на море открывался великолепный.
Представляя сам вышину приблизительно сажен в 12, маяк стоял над отвесным каменным обрывом к равнине моря, судя по глазомеру, двойной против него высоты.
Сберегая уголь, английские фрегаты ходили под парусами и, по совершенно справедливому замечанию Василия Павловича, имели вид громадных хищных птиц, раскинувших крылья над волнами. Конечно, никто не знал замыслов неприятеля, и потому нужно было быть готовым во всякое время. Впоследствии мы убедились, что неприятель считал наше побережье гораздо сильнее укрепленным, чем это было на самом деле, и потому не решался подвергать дорогие корабли повреждениям, подводя их к нам на близкое расстояние. Быть может, первая неудачная попытка воздержала его от дальнейших.
В самом Ревеле, где стоял наш главнокомандующий гр. Берг, крепость была по возможности вооружена, и мы слышали, что когда дети графа катались в коляске, в нескольких шагах от последней упала граната, пущенная с небольшого английского брига, — но, к счастью, при падении не разорвалась. На. этот выстрел мгновенно отвечало одно из наших береговых орудий тоже разрывным снарядом, попавшим как раз в середину палубы брига. Суета, говорят, на бриге произошла страшная, и он немедля удалился на благородное расстояние.
Однажды, когда мы с Василием Павловичем заехали в третий взвод, морской офицер предложил нам взойти с ним на маяк, посмотреть английский фрегат, шедший на всех парах к берегу. Густой туман, одевавший прибрежье и море, редел по мере нашего восхождения на башню, откуда тем не менее предметы представлялись подернутыми какою-то голубоватою дымкою. Известно, как с птичьего полета все предметы уменьшаются несравненно сильнее, чем на тех же расстояниях в горизонтальном направлении. Таким образом, огромный английский фрегат, несшийся, быть может, на трехверстном расстоянии по направлению к берегу, казался синеватым пятном величиною в тарелку. Мы принялись рассматривать его в лупку, и пятно это с каждою минутою заметно разрасталось.
— Куда же, однако, — невольно спросили мы, — несется он на всех парах?
— Вероятно, — отвечал морской офицер, — пользуясь туманом, он думает промчаться через пролив Балтийского Порта, но сбился он влево. Ясно, что за туманом он не видит берега и если не изменит направления, то мы через пять минут увидим его неминуемое крушение. Они, очевидно, не знают, что тут под маяком почти на версту выбегает подводный риф, острием которого корабль будет разрезан пополам, как булка.
Конечно, эти слова удвоили наше внимание, и мы с минуты на минуту стали поджидать трагической гибели неприятеля.
— Теперь мало надежды на спасение, — прибавил моряк, — через две минуты все будет кончено.
Но в то же мгновение мы услыхали звон корабельного колокола, и фрегат, все медленнее подвигаясь, дал наконец задний ход. Кораблекрушение не состоялось.
За исключением эскадронного командира, производившего по временам учения в разбросанных взводах, мы, субалтерн-офицеры, принуждены были коротать время охотою да чтением французских романов.
В доме Рама пришлось познакомиться с навещавшей его по временам из Балтийского Порта оригинальною четою, коей фамилии в настоящее время не припомню. Мужу, небольшого роста (назовем его Мейером), могло быть 50 лет, и ему принадлежали три или четыре из наилучших домов небольшого города, в котором он сосредоточивал главнейшие виды власти и обязанностей. Так, он был градоначальником, органистом и проповедником в домовой лютеранской церкви и кроме того (если не ошибаюсь в выражении) — консулом, проверявшим путевые журналы всех приходящих на рейд кораблей; он же являлся безапелляционным судьею в возникавших на кораблях несогласиях и смутах. Человек он был скромный, положительный и неглупый.
Зато супруга его, весьма невзрачная, лет 40, никак не могла никому, начиная с мужа, простить своего умственного превосходства. Как единственное, встреченное нами в Остзейском крае, исключение, она неизгладимо запечатлелась в моей памяти. Я ни разу не беседовал с нею без того, чтобы она, в виде стрелы, направленной в русских, не заговорила о преимуществе немцев, получивших образование от римлян.
Приближались праздники пасхи, и хотя шоссейные дороги давно были чисты от снега, по сторонам было грязно от проливных дождей.
Б великую субботу мы в нашем тихом флигеле, не раздеваясь, поджидали 12-ти часов ночи, чтобы поздравить друг друга с праздником, — как вдруг с маяка приехал казак с известием, что корабли спустили шлюпки в направлении к берегу. Конечно, не прошло и четверти часа, как, невзирая на непроглядный мрак и дождь, лошади наши были подведены к крыльцу конными вестовыми, и мы в вольной походной форме отправились к своим частям. Слуги вынуждены были светить нам с порога, без чего привыкшие к свету глаза не различали бы ни лошади, ни седла. Первым дебютом моим было попасть головою в куст, осыпавший меня и лошадь дождевыми каплями. Но вот мало-помалу мы с вестовым выбрались на лесную тропинку, ведущую к третьему взводу. Ехать рысью не было никакой возможности, по пословице: «поспешишь — людей насмешишь», — и приходилось громко шлепать по грязи, пробираясь шагом. Ясно помню все мысли, теснившиеся в голове в течение переезда, показавшегося мне бесконечным.
Строго подчиняясь распоряжениям свыше, я был обстоятельствами вынужден критически отнестись к своему положению. Нельзя толково исполнять то, чего не понимаешь, а я никак не мог понять, почему в охрану береговой линии от десанта, — очевидно пехоты, вооруженной дальнострельными ружьями, — выставлена кавалерия, вооруженная пиками и саблями, так как наши карабины можно только было считать лишней обузой, но никак не вооружением. Не очевидно ли, что небольшой десант никак не отважится на далекое наступление, а будет держаться поблизости шлюпок и стрелять издали по всякому вооруженному не рискуя ни малейшим отпором.
Таким образом, если бы стрелки, вышедшие на берег, пробрались сквозь узкую кайму деревьев, отделявшую нашу тропу от моря, то могли бы в виде забавы поднять стрельбу по невидимым, но явно слышимым проезжим и, искалечив нас или наших лошадей, помешать нам с вестовым добраться до взвода, остающегося под начальством одного взводного унтер-офицера. Очевидно, что единственно благоразумной мерой в случае десанта будет возможно скорое седлание и отступление со взводом на шоссе при наблюдении за дальнейшими действиями неприятеля; но куда давать знать — в пехоту или в артиллерию, — мне тоже не было известно; на первый раз яснее всего было, что не следует подвергать взвода бесполезному истреблению. Поляна, на которой помещалась взводная конюшня, была окружена мелкими кустами; дождик перестал, тучи понемногу расходились, и на море было видно довольно хорошо. Я приказал немедля седлать, не затягивая подпруг, лично удвоил число часовых по берегу, а затем забрался в небольшую сборную избу, где единственным ложем отдохновения оказалась досчатая на колышках, постланная соломой кровать чухонца-сторожа фольварка. В теплой и далеко не благовонной хате я, с великим удовольствием севши на эту единственную мебель, закурил папироску; но теплота с холода брала свое: при бездействии сон одолевал меня, и, строго наказавши взводному проверку и смену часовых, я снял шапку и во всей амуниции повалился на привлекательную чухонскую кровать.
Часа через два, когда я очнулся, было уже совершенно светло, и английские корабли были видны в море на таком расстоянии, при котором о десанте не могло быть и речи. Я приказал расседлать лошадей, поздравил взвод с праздником и рысью вернулся домой переменить залубеневшее платье.
Наши полковые друзья не забывали нас и порою радовали своим посещением. Так на третий день святой приехали к нам два брата Щ-их. Приятно было видеть вместе этих двух рослых, красивых и любезных молодых людей. Речь обоих не лишена была юмора, который в младшем, смахивавшем на тип Аякса, нередко переходил в ребяческое своеволие; при этом старший каждый раз его останавливал. На такие замечания младший никогда не возражал, но нередко тем не менее продолжал свои дурачества.
Так случилось и на этот раз. В воздухе от утренних холодов, порою даже морозов, чувствовалась резкая свежесть, особенно в тени; зато на открытом каменистом берегу моря в полдень было совершенно тепло, так что мы с неразлучным Василием Павловичем и двумя Щ-ими отправились в сад в одних сюртуках прогуляться по взморью.
— Надо искупаться, — сказал младший Щ-ий.
— Как будто ты не знаешь, — заметил старший, — что весною на нашем полушарии вообще и в Балтийском море в особенности вода бывает самая холодная.
Но Николай снял уже сюртук. Мы думали, что он шутит, но он продолжал раздеваться и спокойным шагом отправился в море. Войдя по пояс, он умылся, окунулся с головою и через минуту тем же медленным шагом возвратился к своему платью. Когда он стал одеваться, то был красен, как вареный рак. На замечание брата, хорошо ли это, — он отвечал: «хорошо», и был прав в том смысле, что выходка его не имела никаких дурных последствий.
Между тем бездействие наше, так как субалтерн-офицеры никакой службы не несли, вело к картежной игре, к которой наши офицеры чувствовали влечение, а Василий Павлович был запасной игрок, оставивший на зеленом поле все небольшое, полученное от отца достояние.
И вот наш флигель мало-помалу превратился в клуб, в котором нередко от зари до зари раздавались технические выражения и отчаянные восклицания играющих. Хотя я и перенес свою кровать во вторую комнату, тем не менее при таких возгласах уснуть было невозможно. Но случай меня скоро выручил.
Однажды после обеда Рам объявил мне, что соседний пастор, испугавшись крейсерства англичан, продавал, за что бы ни было, свою деревянную беседку, недавно выстроенную в саду на берегу моря.
«Я, — продолжал хозяин, — купил ее за двадцать пять рублей и послал за нею волов».
На другой день хозяин пригласил меня взглянуть на его покупку и повел меня в сад, где, под навесом ветвей с одной стороны и дивным видом на море с другой, я нашел прекрасную беседку в два окна, аршин пяти в квадрате и со свежим досчатым полом. Чистосердечно раскрывши перед хозяином мои ночные страдания, я просил у него позволения переселиться в беседку, на что и получил полное согласие и через час лежал уже на своей походной кровати с французским романом в руках.
Что англичане, не решавшиеся на серьезный десант, дозволяли себе самые бесполезные выходки, мы знали, потому что между Ревелем и Нарвою высадились неприятельские стрелки, и когда единственными встреченными ими лицами оказались две бабы в поле, бросившиеся, разумеется, опрометью бежать, то стрелки сделали по ним залп и, убивши одну наповал, вернулись к своим шлюпкам.
Солдату напрашиваться на смерть — глупо, а на плен — преступно. Ночуя один на берегу моря, за пятьсот шагов от жилья, я рисковал быть захваченным первою приставшею к берегу шлюпкой. Поэтому я зарядил пару пистолетов Лепажа и повесил их над кроватью так, чтобы они были тотчас под рукою.
«Как у вас тут хорошо», — сказал зашедший ко мне на другой день Василий Павлович. И действительно было хорошо. Недаром у греков богиня красоты вышла из моря. Но красоту нельзя воспринимать по заказу с чужих слов; нужно, чтобы красота сама устранила в душе человека всякие другие соображения и побуждения и окончательно его победила.
За целое лето у меня было достаточно времени присмотреться к морю во всех его бесконечно разнообразных видах. Нередко оно, сажени на две ниже моей беседки, шагах в двадцати пяти от нее, лежало по целым дням без малейшей ряби, как отлично отполированное зеркало; затем начинало морщиться, стараясь тонкими всплесками добегать к окружающему его венку морских трав. В это время даль его уже заметно темнела и покрывалась белыми барашками. Затем волны все более принимали вид вздымающих шеи белоголовых коней Нептуна, гордо набегающих на берег, чтобы громко за каждым ударом разгребать на нем звончатый хрящ. Последняя степень гне-Нептуна выражалась ударами ветра, разбрызгивающими на лету исполинские гривы валов, и грохотом самих волн среди прибрежных каменьев, по теснинам которых они, перемежаясь, воздымались фонтанами пены. Но возможно ли не только передать, но даже намекнуть на промежуточные переходы и оттенки между указанными главнейшими состояниями? Тут и красота моря, и море красоты! Ежедневная близость моря меня победила окончательно, чему свидетельством служат все мои приморские стихотворения[180], принятые в тогдашнее время тургеневским литературным кругом так сочувственно.
Чудные дни, чудные лунные ночи! Как приятно засыпать под лепет легкого волнения, словно под неистощимые сказки всеведущей бабушки. Но когда волнение возрастало, грохот отдельных волн до того становился сложен, что в нем ясно слышался как бы удар тяжело зашуршавшего по звонкому хрящу вдвинувшегося днища судна. Сколько раз случалось мне неохотно покидать нагретую постель и смотреть на берег в небольшое окошечко. Ничего! Только белоголовые зайчики подымаются по всей дали в лунном сиянии.
В одно из утренних своих посещений Василий Павлович, которому, в свою очередь, надоели малопривлекательные, но тем не менее бессонные состязания игроков, стал со свойственной ему деликатностью просить у меня позволения поставить и свою железную кровать в занимаемой мною беседке, чему я, конечно, был очень рад, несмотря на некоторое физическое стеснение.
II
Потопление корабля. — Сооружение Балтийского мола при Екатерине Второй. — Знакомство с остзейскими помещиками. — Ужение окуней. — Палка Петра Великого. — Северное сияние. — Смерть отца и письмо Борисова. — Кубок. — Весть о десанте. — Парламентеры. — Папироска. — Теория игрока. — Барок Консул. — Тогдашний Балтийский Порт. — Покупка без мелкой монеты. — Халат, над которым пришлось штудировать. — Проводы генерала. — Каленовский. — Поручение главнокомандующего. — Семья Берга. — Город Валк. — Панаев. — Старый товарищ. — Бег на приз. — Мыза Аякар. — Семья барона Энгардта.
В одно истинно прекрасное утро, которого свежее дыхание приносилось с равнины моря в растворенное окошечко моей беседки, Василий Павлович вошел ко мне с небольшим конвертом в рунах.
— Какая странная бумага, сказал он, присаживаясь против меня на своей кровати. — Вот что пишет карандашом старший адъютант начальника дивизии: «По приказанию его превосходительства имею честь покорнейше просить ваше высокоблагородие приказать стоящий на рейде близ гавани Балтийского Порта финляндский корабль, сняв с оного мачты, реи и прочие принадлежности, потопить и об исполнении сего донести его превосходительству господину начальнику дивизии». — Что вы на это скажете?
— Я могу только по этому случаю вложить в уста перст изумления. Радуюсь, что кавалерийскому дивизионному штабу знакомы такие слова, как реи, но не знаю, как мы будем убирать корабельные принадлежности, о которых не имеем ни малейшего понятия, равно как и о процессе, каким потопляют корабли. Признаюсь, что и менее всего приготовлен к мысли превратиться в морского улана, и что мысль эта не вполне созрела и в дивизии — ясно по одной уже форме ее передачи карандашом и запискою.
— Желание начальника есть уже приказание.
— Вот, чтобы стать таким, оно должно получить нормальную ясность, которая в таком необычайном поручении необходима. На вашем месте я бы запросил дивизию, чтобы на случай беды иметь формальное приказание в руках.
— Дело подчиненного, сказал Василий Павлович, слепо исполнять волю начальства, а дело начальника защищать подчиненного, исполнившего его волю; и я сейчас же поеду в Балтийский Порт принять меры к исполнению поручения.
— От души желаю вам успеха, отвечал я.
Перед обедом Василий Павлович снова вернулся в беседку, недовольный. Он, очевидно, обращался за сведениями к знакомому уже нам Мейеру, морскому консулу в Балтийском Порте. Но Мейер, как и следовало ожидать, показал весьма мало сочувствия этому делу, хотя формально противодействовать ему не мог. В виду того, что Мейеры были давнишними знакомыми нашего любезного хозяина Рама, я вызвался сам выведать мысли Мейера по этому делу и тотчас же после обеда отправился верхом в Балтийский Порт.
— Какой прекрасный финляндский корабль! воскликнул Мейер. Он стоит хозяину по крайней мере девяносто тысяч, и я не знаю приемов дли потопления кораблей.
— Но согласитесь, заметил я, что для владельца корабль этот так или сяк пропащий. В щегольском виде, в каком он теперь, он прекрасный приз для разъезжающих по взморью англичан. А если мы его потопим, то есть надежда, что по окончании войны правительство вознаградит владельца.
— Нет, что вы ни говорите, воскликнул Василий Павлович, когда я ему передал свой разговор с Мейером, — а этот Мейер изменник и тянет руку англичан.
— Извините, добрейший Василий Павлович, но позвольте вас спросить: что все время делал Мейер на своем посту по отношению к кораблям, приходившим в Балтийский Порт? — Защищал или уничтожал он их?
— Конечно защищал, но я не вижу, как это относится к настоящему случаю.
— Почему же, добрейший Василий Павлович, вы не хотите поставить себя на место Мейера? Представьте, что квам явился бы посланный с несомненным поручением ослепить ваш эскадрон, и стал бы нас спрашивать, как это всего удобнее исполнить. Справедливо ли было бы обзывать вас изменником, если бы вы ответили: «исполняйте ваше поручение, но я никакого совета подать вам не могу».
На другой день уже приступлено было к работам. Разысканы большие лодки, на которые были посажены гребцами казаки из прикомандированной к нашему эскадрону Донской сотни, а наши уланы были посланы отламывать камни от громадного, частью уцелевшего мола, сложенного на восточной стороне бухты руками тысячей хохлов, положивших во множестве свои кости на этой работе. О ширине громадного мола можно судить по рассказу, будто бы императрица Еватерина Великая проехала шестериком в карете самого конца мола и, повернувши назад, пожаловала строителю его орден и уехала в Ревель. Прибавляют, что не успела она доехать до Екатериненталя, как прибыл курьер с известием, что бурей прорвало мол. Повторяю рассказ старожилов.
Чуть не целую неделю несколько лодок возили камень и валили его в пустой трюм корабля. Но корабль и не думал погружаться в воду. Тогда Василий Павлович решил, что надо прорубить бок. Поехали с топорами и с великим трудом пробили отверстие. На другое утро корабль погрузился до палубы в воду и, не взирая на новые подвозы камня, погружаться далее не хотел.
— Я вам не советую, сказал мне Мейер, глядя с берега на всю работу, — ездить туда на корабль. Это может кончиться весьма трагически. Никто не может определить момента, в который вся масса разом пойдет ко дну, и тогда она все лодки с людьми утянет в образованный ею водоворот.
К вечеру поднялась жестокая буря, а к утру корабль погрузился носом в воду, высоко подняв норму, да так и остался, так как люк уже был залит водою.
Эскадроны наши стояли по разным фольваркам, а офицеры размещались по помещикам, которые оказывали им самое радушное гостеприимство. Не удивительно, что, навещая товарищей, мы знакомились и с их радушными хозяевами. Так и нам пришлось познакомиться с прекрасным семейством Б-ге, состоявшим из пожилого мужа, жены и трех премилых дочерей-девиц. Большой господский дом расположен был среди леса, на берегу обширного и прелестного озера. В одном из флигелей дома помещались постояльцы-офицеры. Там же находился прекрасный биллиард. Отношения постояльцев к хозяевам были самые семейные и, за исключением часов завтрака и обеда, в семейном кругу появлялись только желающие. Конечно, за желающими дело не стояло, тем более, что старшая дочь обладала прекрасным контральто и охотно пела, не заставляя себя долго упрашивать. На озере у самого берега был довольно обширный деревянный плот с вырубленными по углам беседками, у которых в дно были вставлены садки для рыбы, так что во всякое время находящимся тут же сачком можно было достать для кухни живой рыбы. Светлое, в несколько верст поперечника, озеро было замечательно своим двойным дном. Выехав на лодке, можно было весло или шест воткнуть в желтоватый мох дна, но проткнувши это дно с некоторым усилием, рука начинала погружать длинный шест уже без всякого усилия, явно не доставая дна.
В одно из моих посещений, я соблазнился дивною равниною пустынного озера и, попросивши мальчика накопать червей, отомкнул стоявший у плота ялик и, вооружась двумя удочками и парою весел, выехал саженей на сто от берега. Повернувшись спиною к солнцу, я забросил удочки с обоих бортов. Хотя я и с малолетства знаком был с приемами ужения, но никогда не увлекался им в виду громадного терпения, необходимого при этой охоте. Зато в этот раз, представляющий исключение во всей моей жизни, я вполне блаженствовал при неслыханной удаче. Я едва успевал снимать с крючков огромных окуней, и только что оправишь и закинешь крючок, как другое удилище уже изгибается и трепещет, колеблемое могучим окунем. Часа в два я наловил штук сорок и кончил только потому, что сказал самому себе: «довольно». Приставши к плоту и поджидая мальчика, чтобы распорядиться моим уловом, я от нечего делать стал смотреть в один из садков под навесом беседки. Не шевелясь, я мог наблюдать, как по досчатому полу ипрозрачной глубине станицею расхаживали разных пород рыбы, среди которых особенное мое внимание привлекла большая щука. Более мелкие рыбы, казалось, совершенно привыкли к присутствию грозной соседки, и я подумал, что сытость щуки или же пребывание в плену делали ее такою миролюбивою. Как вдруг, словно отвечая на мою мысль, щука стрелою кинулась на довольно значительном расстояния на плотву среднего роста и замерла на месте, крепко стиснув зубами рыбу, пришедшуюся как раз поперек ее челюстей. «Что же будет дальше?» подумал я. Голова щуки дрогнула, и при этом челюсть ее переместилась на вершок ближе к голове ее жертвы. За третьим такого рода перекусыванием голова плотвы скрылась в челюстях щуки, а остальное туловище торчало из них прямо вперед. После минутного пребывания в таком положения, щука стремительно бросилась вперед, и рыба была проглочена.
Чем более приходилось мне самому проживать в сельской среде и испытывать затруднения, возникающие перед самым гостеприимным хозяином, тем более ценю я замечательную любезность остзейских дворян, проявлявшуюся постоянно во время нашего там пребывания.
Памятно мне еще одно семейство однофамильцев нашего хозяина. Одноэтажный и просторный дом, расположенный в молодом парке, выходил задним фасадом на большой пруд, а передним на разваляны католического монастыря, частию еще хорошо сохранившегося, так что на угольной его башне виднелись часы, с указанием которых сообразовалась вся усадьба. Главный корпус монастыря служил в настоящее время превосходным хлебным амбаром, а другие части развалин оставались без всякого употребления, и окружающие рвы каменными резными украшениями напоминали о былом своем великолепии.
Красивый блондин хозяин, лет тридцати пяти, представил нас своей двадцатипятилетней красавице жене, обворожившей всех непринужденною приветливостью и любезностью.
Так как мне случилось всего один раз или два побывать в этом гостеприимном доме, то не умею сказать ничего более определенного. Кажется, хозяева были бездетны, но тут были еще сторонние дамы, которым в свою очередь мы были представлены. В надежде на любезную находчивость товарищей, я не мог отказать себе в осмотре красивых монастырских развалин, но тем не менее оправлялся с часами, чтобы вовремя появиться в дамском обществе. К обеду в столовой собралось человек двадцать. Когда хозяйка попросила нас к закуске, в углу той же столовой, украшенной рядом фамильных портретов, пришлось как раз закусывать под портретом мужчины средних лет в петровском полукафтаньи. Наверху золотой рамы этого портрета кидалась в глаза большая камышовая трость. Когда я спросил хозяина дома о значении этой трости, он засмеялся и сказал: «не вы один спрашиваете, что значит это странное украшение, и мне не раз приходилось рассказывать его историю. — Во время проезда Петра Великого по нашему побережью, прадед мой, вот этот самый краснощекий мужчина в мундире, был нашим дворянским предводителем, и когда Петр, приехавши в Балтийский Порт, потребовал от моего прадеда почтовых лошадей, тот отвечал, что почтовых нет. — „Как? для меня нет?“ воскликнул Петр, и его трость уже познакомилась со спиною моего прадеда, докончившего фразу: „я приготовил собственных лошадей“. — „Ну прости великодушно, воскликнул в свою очередь Петр. — Проси у меня, чего хочешь“. — „Подарите мне эту трость на память“, сказал мой прадед. — И вот почему вы видите ее наверху его портрета».
Я уверен, что портрет и трость существуют и по сей день, и никогда не забуду, как хозяин со слезами на главах говорил про императора Николая по случаю неблагоприятных вестей из Крыма: «нет, нет, государь этого не переживет».
Когда вслед затем прелестною летнею ночью мы, возвращаясь с Василием Павловичем домой, катили по гладкому шоссе, вспоминая о любезных хозяевах, у которых провели день, темно-синее безоблачное, звездное небо стало загораться самыми яркими огнями, и мне единственный раз в жизни довелось в эту ночь в течении какого-нибудь часа видеть северное сияние в блеске, какого великолепнее едва ли может быть на полюсе. Чего тут не было, начиная с самых разноцветных радуг, огненных снопов и фонтанов. Все это, возникая на северном краю горизонта, разделилось на две половины, только в обратном смысле, как это бывает между правою и левою перчаткой, или действительным предметом и его отражением в зеркале. Конечно, всякий искусственный, людской фейерверк показался бы рядом с этою мощною картиною и бледным, и грубым. Каждый раз, когда я вспоминаю это могучее явление, я не могу отделаться от мысли, что оно своею изумительною правильностью лучше всего служить иллюстрацией мысли о мире, как нашей субъективном представлении. Ибо, предполагая на ночном горизонте причину, вызывающую в глазах световые ощущения, нельзя не признать, что вся эта волшебная картина с разделением на отдельные цвета, с огненными снопами и фонтанами, строго соответственными в обратном порядке, есть произведение пары горизонтально расположенных глаз.
Не смотря на военные действия, внутренняя жизнь страны шла своим порядком, и отец мой и на этот раз, как и в последние годы, проводил зиму в Орле, куда на праздники приезжал из своего Клейменова отделенный женатый сын Василий и харьковский студент Петр. Из доходивших ко мне писем я знал о балах, даваемых отцом. Мне писали, что одни на них он сам начинал вальсом с Надиньной, несмотря на свои 84 года.
В последнее время случилось для брата Василия весьма неприятное обстоятельство. Вызвавшись срезать отцу мозоль, он слегка зацепил за живое, так что показалась кровь. Но вместо того чтобы такой ничтожный обрез бесследно исчез, на другой день вокруг него образовалось черное пятно, заставившее, как меня уведомляли, в несколько дней слечь в постель такого могучего человека, как отец. Отец, как я узнал впоследствии, говорил брату Василию с раздражением: «спасибо! усердно поработал!» Два лучших орловских медика напрасно старались помочь беде.
По получении известия о случившемся, я тотчас же запросил своего зятя, киевского доктора Матвеева, который ответил, что это старческое умирание оконечностей, проявляющееся антоновым огнем, которого прекратить невозможно.
Отец, убедившись, что у него во всей ступне антонов огонь, решил, что надо отрезать ногу. Хотя оба лечивших его орловских медика Кортман и Майдель титуловались медико-хирургами, но когда дело дошло до операции, оба стали отказываться и решили дело жребием, по которому резать досталось Кортману. Могучий старик сам держал ногу без всякой сторонней помощи и только во время операции спросил раза два: «ну да скоро ли вы там?» После операции он некоторое время действительно чувствовал себя лучше, и рана стала подживать.
В это время высланный мне еще раннею весною грайворонский жеребчик по нерасторопности проводника, не пошедшего следом за полком, вернулся к отцу. Отец, очень гордившийся этой породистою лошадью, по имени Глазунчик, с сожалением писал мне об этой неудаче. Конечно, лежа в постели после операции, он диктовал находившемуся при нем сыну Василию, но подписался сам. Он звал меня при этом в отпуск по домашним обстоятельствам, в качестве главного поверенного, и из этого письма, в сожалению, утраченного, у меня в памяти уцелела фраза, несколько раз в нем повторенная: «жаль, Глазунчик до тебя не дошел. Но, Бог даст, поживем, другого наживем». Явно, что бедному старику сильно хотелось жит. Враг всяких столкновений из-за имущественных интересов, и благодарил отца за его ко мне доверие, но не без основания выставлял неблаговидность с моей стороны просьбы об отпуске в военное время. В скорости письма с траурным сургучом известили меня о смерти бедного отца. Рана, начинавшая понемногу заживать, так что старик по временам принимал уже сидячее положение на постели, — вдруг почернела, а в то же время почернели под шеей и железы. Почти до самой смерти он сохранил память и присутствие духа.
Думая о процессе нравственного питания человеческого сердца, невольно припоминаешь примеры кустарников, сходящих по обстоятельствам со стены к ее подножию на более питательную почву. Очевидно, у подобного растения есть момент, когда оно все еще питается прежней почвой и едва только вкореняется в новую. И у растения, и у человека в том и в другом случае вся сила связи зависят от ее, так сказать, органической искренности.
Жизненным течением и свое время унесло меня из родных Новоселок в Новороссийские степи, а затем, как бы по мановению волшебного жезла, перебросило оттуда к Балтийскому морю в совершенно новую обстановку. Но оглядываясь назад, я не могу не сознавать, что самым чувствительным нервом, охранявшим мою связь с прошлым, являлась переписка с И. П. Борисовым. Помимо братской дружбы, связывавшей нас с малолетства, как не сказать, что чувство его ко мне усиливалось отражением того рокового пламени, которым он неизменно горел к Наде, и которое его окончательно испепелило. Командуя Куринскою ротой при Ланчехуте, Чолохе и Баш-Кадыкларе, он подробно описывал мне все походы, вею бивачную жизнь и поистине геройские подвиги полка. Если бы я вздумал воспроизводить здесь интересные письма Борисова, которыми мы в свое время упивались с милыми Щ-ми, то это далеко завело бы меня в сторону от прямой дороги.
Тем не менее привожу здесь письмо Борисова, как человека, которому еще долго суждено было идти в жизни об руку со мною.
Лагерь на Цепис-Цхале.
3 июня 1334 г.
Вчера вернулся из Кутаиса, куда на минуточку съездил проведать наших раненых. Нашел их как нельзя лучше расположившимися в доме у военного губернатора князя Гагарина, и не терпи они страданий непобедимых еще для человечества, то лучше бы и жизни не надо. Вот у них-то прочел я Каленика {Мой роман в «Отечественных Записках»}, и нужно ли тебе говорят, друг мой, сколько навалилось воспоминаний прошлого. Я не знал ведь твоего гениального денщика, а все, что тебя окружает и живет с тобою, мне необходимо знать, как дополнение самого тебя, самого необходимейшего из остатков счастливых моих времен. Я люблю безгранично предаваться прошлому, когда в нем видится твоя физика. Жалею поминутно, что ты далеко, но все-таки благословляю судьбу, что ты вышел на настоящую дорогу, тут ты лучше сохранишься, и вернее обеспечены будущие твои и мои житейские помышления. Среди всех кочевьев и битв я их не откладываю совсем, — подумываю иногда, так про себя, вернусь же когда-нибудь я из Азии, увижу и тебя, а там увидим, как жить-то будет лучше. Не хотел бы видеть тебя здесь, потому что, как будто нарочно, судьба преследует меня во всем, что мне более дорого по сердцу. Были у нас дела жаркие, и без примеси грусти не могу о них вспомнить: потерял лучших моих товарищей, с которыми не то что служил, но жил вместе; заменить их нечем, а одиночество так тяжело, что начинаю впадать и прежнюю тоску, от которой не находил места. Мне делали разные предложения перейти в Штаб; тогда я отказался, теперь быть может решусь. Верно ты где-нибудь да прочтешь о делах в Гурии, о сражении при Ланчсхуте 27 мая и на р. Челохе 4 июня; и в обоях случаях был участником, и случайности боев этих доставили и мне возможность быть заметным участником. Оба дела так прославили наши Куринские батальоны, что с другими не хотелось бы и становиться в ряды. Князья Гурия задают нам пиры, угощают всем, чем богаты. Не довольно того, что приглашают к себе, но и в лагерь присылают вино, зелень, даже говядину, людям водку; видя, чувствуя в душе, что это заслужено кровью, испытываешь уважение к себе, к товарищам, и молодцам солдатам, с которыми составляешь какую-то неразделимую единицу. Вот истинная награда на все лишения и опасности. Твой Каленик верно бы отозвался на это своим: «хи, хи, хи» — а наши Ахультявцы толкуют одно: «Што турки! дрянь! стояло ли сюда за ними прибегать! Дай-ка хравцуза! Што они там в Одесту-то суются, на хохлов лезут! Мы бы их и здесь проморозили!» Получил я недавно от Ивана (прикащика) из Фатьянова письмо; оно от 8 мая, а 7-го скончался твой почтенный батюшка. По давно полученному письму от Васи {Мой брат.}, я ждал уже эту грустную весть, но получить и прочесть, что уже все кончено, было так больно, так тяжело. Я от него кроме добра во вею мою жизнь ничего не знал и искренно любил старичка со всеми его особенностями. Уезжая впоследний раз из наших краев, я не представлял себе, что не увижу его более, надеялся, что война к осени потухнет, и я опять буду травить русаков. Но видно не судьба и в этих надеждах. Прости, душа моя, и верь, что столько у меня к тебе дружбы, братской дружбы, что хотел бы бесконечно с тобою быть хотя в мыслях. Но и тут препятствие: начал это письмо несколько дней тому назад командиром первой Караб. роты, а окончил дежурным штаб-офицером Гурийского отряда; у нас 20 бат., пропасть милиции, госпиталей, транспортов и еще более бумаг. Со вчерашнего дня начались мои подвиги на этом поприще. Ты сам отъявленный писака, знаешь, что это за гиль. Нет писарей, нет нужных офицеров, но есть желание оправдать выбор начальства, назначившего меня и не по чину, и не по росту. Авось Бог поможет! Вот если бы ты-то был поближе, так бы и вцепился! Христос с тобою, друг мой.
Твой И. Борисов.
Кроме немногочисленных поездок в гости, мне, особливо к концу лета, приходилось хлопотать о ружейной окоте, которую я страстно любил всю жизнь. Но этим летом хорошо поохотится мне не удалось, так как лягавому моему понтеру, названному в честь английского адмирала Непиром, еще не было году.
Проведавши каким-то образом о предстоящей дне рождения милого хозяина, офицеры нашего эскадрона втайне приготовили к этому дню празднество, заказав серебряный кубок у Сазикова в Петербурге. Не смотря на привезенных трубачей, дорогую закуску и шампанское, празднество было самое семейное, так как, не желая беспокоить хозяина, мы не пригласили никого из сторонних. Не знаю, был ли наш сдержанный хозяин в душе доволен нашим пребыванием, но я все-таки радуюсь, что мы хотя отчасти вырезали ему вашу признательность.
Стояла тихая и ясная погода, но утренние морозы давно указывали на осень. Однажды, когда мы были в сборе в нашем флигеле, часов в десять утра, прискакал казак с маяка и передал Василию Павловичу следующую записку от маячного офицера.
«Сорокапушечный английский фрегат тихо входит в рейд Балтийского Порта».
Поднялась суматоха. Суматоха во время опасности есть следствие непривычки; но мне кажется, что она истекает из основной русской черты, с которою нам постоянно приходится считаться. Это та же черта, которая усаживает или укладывает человека в вагоне так, как будто другим места не нужно, и при входе заставляет его не затворить за собою дверь.
— А мне, Василий Павлович, куда же со взводом? спросил я.
— Конечно, вам следует седлать и, и случае надобности, отступать по шоссе и Ревелю, а никак не к Балтийскому Порту против фрегата.
Прискакавши в третий взвод, я велел седлать и, приказав взводному дожидаться моего возвращения, отправился на своем подъездке вдоль высокого, скалистого берега к Балтийскому Порту, куда с моря действительно тихо надвигался громадный фрегат, выставлявший ряды своих пушек. Василия Павловича я застал в самом Балтийском Порте на спуске в гавань. Хота до фрегата было более двух верст, но можно было и невооруженными глазами ясно видеть все крупные на нем движения и, оборотивши голому назад, я увидал, как две шлюпки спустились с корабля на море и потом, при равномерных взмахах весел, стали направляться к нашей гавани.
— Василий Павлович, спросил я, — ведь это, кажется, десант?
— Конечно, отвечал Василий Павлович. — А где же ваш взвод?
— Вы сами приказали оставить его у маяка заседланный на случай отступления.
— Помилуйте! болезненно отозвался Василий Павлович: — что же про нас скажут, если мы уйдем, а они, в числе нескольких десятков, явятся сюда хозяйничать? Скачите к маяку и сию же минуту ведите сюда взвод.
Могу с известною гордостью сказать, что ни разу не надорвал и не испортил ни одной лошади, чувствуя меру, дальше которой не следует напрягать ее сил. Я знал, что со взводом мне обратно скакать так сильно не придется я потому на эти полторы или две версты пустил резвого своего подъездка во всю прыть. По мере удаления от бухты, высокий берег все более скрывал от меня происходящее на рейде и, подскакивая к кустарнику, окружавшему взводные конюшни, и обрадовался, увидав шапки моих улан, старавшихся из кустов вглядеться в даль дороги.
— К коням! крикнул я, проносясь мимо первых, — но к ужасу услыхал слова: «кони расседланы».
— Кто приказал?
— Взводный вахмистр.
Не желал бы я переживать снова минуту этого известия. Мне уже представлялось, что десантные штуцерные, быстро наступая на нас, безнаказанно издали бьют наших лошадей и людей, пока мы возимся с седланием.
«Вот они, подумал я, дешевые отруби вместо дорогого овса! Это они боятся простоять лишний час под вьюком, а не боятся, — чуть было я не сказал, впадая в ту же самую ошибку, — подвергать подчиненного позору, — вместо того чтобы сказать: подвергать вверенную часть истреблению».
Когда наконец взвод сел на коней, я повел его справа рядами мимо смотревшего на нас в упор фрегата к Балтийскому Порту… Остановив людей в некотором углублении, я проехал в главной улице, где у углов, ближайших к пристани, нашел спешившихся казаков, держащих винтовки наготове. У самой пристани я увидал в шлюпках английских матросов с засученными рукавами и с голыми икрами. При этом виде, я должен признаться, потерял всякую сообразительность.
— Долго ли же мы буден на них глядеть? крикнул я казакам, забывая, что на одной из шлюпок колыхался белый флаг.
— Не позволяют, ваше в-дие, жалобно отозвался казак. У каждого, говорят, по двое золотых часов.
Почти на самом конце деревянного мола, четвероугольною рамою окружающего гавань, я заметил английского офицера в форменном фраке с золотыми пуговицами. Стоя саженях в пятнадцати от берега, он, очевидно, стеснялся своим одиночеством и медленно, переступая с ноги на ногу, приближался ко мне, стоявшему на берегу ближе всех к молу. Это был, как сообщили мне наши младшие офицеры, лейтенант фрегата, тогда как старший офицер ушел с Василием Павловичем и Мейером, единственно свободно владевшим английским языком, в дом последнего для каких-то переговоров. Дело, как я потом узнал от Василия Павловича, было в желании англичан, запастись пресною водою; но, очевидно, такое требование было пустым предлогом, так как по другую сторону бухты на небольшом обитаемом острове, без сомнения, была пресная вода, запасаться которою мы никаким образом фрегату помешать не могли.
Стоящий против меня рыжеватый офицер, в фуражке с кокардою, хотя и медленно, все приближался и, подойдя шагов на десять, уже взялся под козырек, на что я отвечал ему тем же. А затем, подойдя уже шага на два, он спросил по-английски, насколько и понял, о здоровьи императора Николая. Я поблагодарил и отвечал вопросом о здоровьи королевы. Но на этом разговор наш кончился на невозможностью дли меня вести его по-английски, а для англичанина — на каком-либо другом языке. Если и понимал его вопросы, например, — ловлю ли я рыбу, то «à la ligne, à l'hameèon» и «mit der Angel» — были для него одинаково непонятны.
Тем временем сидевшие в катерах, наполненных огнестрельным и холодным оружием, дюжие матросы добрались и самому берегу и вышли на него, отрезая нас таким образом от наших казаков. Но там как их старший был у нас в городе, то на подобную вольность не стоило обращать внимания. Дюжие моряки показались мне почему-то шотландцами, но спросить об этом и моего собеседника не умел. Однако, указывая на них пальцем я глядя в глаза лейтенанту, я вопросительно произнес:
— Вальтер-Скотт?
И мой собеседник догадался.
— Ес, ес, закивал он головою, ту паи, ту Вальтер-Скотт.
Считая себя в качестве поручика императорской гвардии, старшим против королевского лейтенанта, я разрешил себе закурить папироску, причем счел за безвредную любезность предложить такую же моему собеседнику. Не успели мы докурить наших папиросок, как вернулся парламентер с обещанием Василия Павловича дать на завтрашний день положительный ответ. И я был очень рад прервать успевшую мне надоесть далеко не красноречивую беседу.
Покуда я отводил взвод на ночлег, к начальнику дивизии полетела летучка с донесением о случившемся и просьбою инструкции, а на другое утро уже на пустой каменный фольварк под самым городом прибыл на подводах батальон гвардейской пехоты и конная батарея, и приготовлена была шлюпка с шестью казаками гребцами, на которой и должен был отвезти письменный ответ Василия Павловича командиру фрегата, соответственно ожидаемому распоряжению начальника дивизии. Решено было мне оставаться при этом и походной форме, т. е. в виц-шапке и сюртуке. Во втором часу дня на шоссе показалась пыль, и коляска начальника дивизии пронеслась в дом Мейера, куда поспешил и Василий Павлович. Оказалось, что англичане были уверены, что бывшая крепость, совершенно заросшая травою со времен Екатерины, подобно всему побережью, — скрытно вооружена нами. Храбрясь на словах, англичане тем не менее не решались брать воду. В действительности же мы могли только плохо мешать их высадке, защитить же город, как выражался запуганный Мейер, от окончательного разгромления мы были не в силах.
Через час начальник дивизии поручил Василию Павловичу никого не посылать на фрегат с ответом, в котором нуждается неприятель, а не мы, а в случае их запроса отвечать, что мы воды не дадим. Составленный Мейером ответ был передан прибывшему в пять часов дня новому с фрегата парламентеру, и, в ожидании фактического разрешения дела, все наши небольшие силы расположились на ночлег бивуаком под самым городом. Между прочим и я ночевал на своей железной кровати в саду, под сильно покрасневшею от утренних морозов яблонею. Слуга, принесший мне воды умыться и мою обычную утреннюю кружку кофе, сообщил, что в ночь фрегат снялся с якоря и ушел неведомо куда, и все ваши сподвижники собираются возвратиться на свои стоянки.
Между тем моя невинная папироска, предложенная англичанину, чуть не наделала мне беды. Из Петербурга последовал вопрос вследствие берлинской журнальной статьи о Bruderschaft's Pfeifchen (дружественной трубочке), выкуренной гвардейскими офицерами с англичанами. Какая, подумаешь, забота о безупречной чистоте нашего патриотического чувства! Как бы то ни было, следствием этого небольшого события было переселение нашего эскадронного штаба, в виде Василия Павловича и моем, так как мы с ним постоянно были неразлучны, — с мызы Лец в город Балтийский Порт, где нам отведена была в доме Мейера небольшая, но прекрасная квартира в бельэтаже о видом на рейд и на противоположный остров.
С этим вместе я снова поступил на должность домашней хозяйки, что при сожительстве с таким невзыскательным человеком, как Василий Павлович, было не особенно трудно. Каждое первое число я сводил месячный расход и делил его пополам. Но каков бы ни оказался итог, т. е. падал ли расход до двадцати пяти рублей, или возвышался до ста рублей на брата, отзыв Василия Павловича был неизменен.
— Ах, А. А., только вы в состоянии вести дела так экономически.
Василий Павлович был человек не получивший большого образования, но далеко не глупый, добрый и не чуждый умственных стремлений. В одиночестве безбрачной жизни он самоучкой мало-помалу прошел всю математику до интегралов включительно, а также не чуждался исторических сочинений. Юмор его даже над самим собою был неистощим. До поступления моего в уланы я его не встречал, хотя знал остальных четырех его братьев М-ых, с которыми связывало меня хотя и отдаленное, но двойное родство. Справедливо замечание, что природа не повторяется; но справедливо и то, что она держится известного типа, по которому вы с первого взгляда отличаете дубовый лист от всякого другого. В пяти братьях М-ых невозможно было не признать самою основною и роковою чертою их увлечение женщинами. Это увлечение с полною силою перелилось и в следующее поколение. У Василия Павловича к этому привзошла и страсть к картам.
Нет ничего приятнее проживания денег, но зато нет ничего тяжелее наживания их не посредством какого-нибудь удачного предприятия, а микроскопическим ежеминутным воздержанием. Представителями таких противоположных приемов являлись мы с Василием Павловичем, и он иногда указывал на это, выставляя теорию идеала игрока. Игрок, но его мнению, любит не барышническую наживу, а самую игру, трепет, который порою не имеет себе равного даже в минуту рукопашной битвы. Играя собственными чувствами, игрок стремится овладеть и душою своего противника, и поэтому в его доме должно быть под руками все могущее привлечь самые разнообразные вкусы. Там должна быть молодость, красота, изящные искусства, великолепный стол и вина, и т. д.
— Вот вы, А. А., строите вашу жизнь на том, чтобы у себя постоянно урезывать; но этим вы никогда не добьетесь больших средств. А вы, напротив, заведите большое колесо и тогда увидите, что большие средства сами хлынут на него и заставят его вертеться.
В теории я не боялся таких правил, но на практике они нередко доставались мне солоно. Бывало, чуть после двух-трех ночей, проведенных Василием Павловичем вне дома, услышу вкрадчивый голос: «а я, А. А., решаюсь беспокоить вас», и душа у меня так и замрет: знаешь, что придется дать взаймы рублей восемьсот, т. е. все накопленное с большим трудом, и затем, получая по частям долг, переживать снова те же нравственные усилия.
Потому ли, что наша Балтишпортская жизнь выходила особенно уединенною, или потому, что отдельное хозяйство требовало больших забот, Василий Павлович стал чаще отлучаться в Ревель; а я, хотя и заведовал в это время эскадроном, проезжал по старой памяти иногда к милым хозяевам в Лец.
— Василй Павлович уехал в Ревель? спросил меня однажды Рам, — он верно будет там у генерала Курселя?
— Этого я вам сказать не умею: — город невелик, и встреча их возможна. Но что вам угодно сказать?
— Ах, со вздохом отвечал Рам, — я вынужден говорить о человеке, составляющем тяжелый крест нашей фамилии. Это некто барон Кекскуль, муж сестры моей, состояние которой он промотал, и которого я стараюсь видеть как можно реже. Но сегодня он обедает у меня и собирается познакомиться с нашим эскадроном, к которому, как уверяет, причислен волонтером. Он просил меня замолвить слово Василию Павловичу, чтобы тот дал ему для езды фронтовую лошадь, на что он имеет будто бы разрешение генерала Курселя. Да вот он, легок на помине, и сам. Не могу вам предсказать большего удовольствия от этого знакомства.
В комнату, действительно, сильно стуча толстыми подошвами и звеня шпорами, вошел мужчина, на вид лет пятидесяти пяти, с седыми усами, сливающимися с такими же бакенбардами. Войдя в комнату, он снял с головы надетый набекрень гусарский виц-кивер без козырька. На нем была синяя шерстяная блуза, подпоясанная гусарскою портупеей с волочащеюся саблей; на той же портупее болталось громадное огниво на цепочке и красный кисет с торчащий из него чубучком. На правой руке висела казачья нагайка. Тело его было сверху от пояса преувеличенно откинуто назад, что при небольшом росте придавало ему комически-задорный вид.
— Честь имею рекомендоваться, сказал он, протягивая мне руку, — будущий ваш товарищ, изюмский казак Кекскуль. Я завтра явлюсь к вам в эскадрон и, надеюсь, вы меня примете по-братски.
Конечно, я по возможности старался быть любезным и объявил, что мы завтра будем поджидать его в Балтийском Порте, куда сегодня вечером и жду я эскадронного командира.
Хотя мы с Василием Павловичем обычно не употребляли крепких напитков, тем не менее у нас всегда была на всякий случай водка и вино, и на другой день нам пришлось угощать ими нового товарища, про которого все знали, что он выпить не дурах. По мере учащавшихся рюмок хересу, язык старина становился развязнее, и мы в скорости узнали главнейшие обстоятельства его жизни, которыми он только и гордился. Когда-то он бросил в Курляндии дом отца и определился в Изюмский гусарский полк, едва ли не в те времена, когда тот был еще казачьим. «Я казак», — было любимым его восклицанием, и в пылу рассказа, в подтверждение своих слов, он распахнул блузу и показал нам на груди очертание пылающего сердца и под ним крупную подпись синими пороховыми буквами: изюмский казак.
Надо сказать, что тяжеловатое это посещение, кажется, и не повторялось, и я, быть может, не упомянул бы об этой личности, не будь она в то время общеизвестной.
О самом Балтийском Порте решительно ничего сказать не умею. Не смотря на небольшую, главную улицу с прекрасными на вид каменными домами, город носил какой-то декоративный характер. Это было точно улица на картине, на которой художник забыл поместить людей, и, сколько на нее ни смотри, никогда не дождешься ни проезжего, ни прохожего. Исключение можно было видеть только с раннего утра часов до десяти на гавани, куда в ату пору съезжались лодки рыболовов, наполненных серебристою килькою ночного улова. В эти часы было изумительно видеть то множество женщин, которые с ведрами прибегали за продажною рыбой, которую они приготовляют с пряностями и рассылают по всей стране. Странно и характерно, что рыболовами оказываются не местные жители, а крестьяне берегов Ильменя, которые к осеннему лову кильки в лодках своих отправляются вниз по Волхову к Неве в открытое море, даже, очевидно, не стесняясь иностранною блокадою берегов.
Вместе с приливом по вашему побережью бумажных денег, мелкая серебряная монета совершенно исчезла из обращения. Но у военных людей всюду бывают благодетели. Таким для нас в Ревеле был магазин торговца, коего фамилии на вывеске предшествовала частица фон. Эта частица и гербы не редкость в немецких бюргерских фамилиях. Ловкий хозяин, при посещении магазина нашим братом, брал в руки аспидную доску и, глядя посетителю мягко в глаза, вопрошал:
— Чем прикажете служить, господин фон? и вслед затем на доске записывалось: говядина, табак, одеколон, персидский ковер, шпоры, эполеты, горчица и т. д.
Конечно, за всем этим рассылались мальчики в надлежащие магазины. Но вам подавался один счет и надлежащая сдача с крупной ассигнации более мелкими бумажками и даже почтовыми марками.
Не берусь объяснить, почему в те времена я любил щеголять самою плотною и дорогою шелковою материей на халате. Любезный Василий Павлович знал мою слабость и, вернувшись однажды из Ревеля, стал извиняться, что вместо необходимых десяти аршин материи, купил остаток в восемь с половиною, так как материя очень плотна и прочна. Материя действительно оказалась темно-вишневым репсом, завивающимся в трубку. Конечно, не далее как через полчаса передо мною предстал худенький местный художник портной, который в свою очередь пришел в восторг от материи, хотя признал, что восьми с половиною аршин слишком мало для халата на вате.
— Как же быть? воскликнул я.
— Тут надо штудировать, глубокомысленно и успокоительно отвечал художник. И действительно, когда он принес халат, я убедился в его глубокомыслии: косой воротник был простеган такими узорами, под которыми невозможно было заметить, что весь он составлен из микроскопических обрезков.
Около этого времени старший наш дивизионер произведен был в генералы и получил полк на западной границе. Офицеры нашего полка устроили торжественные проводы бывшему товарищу в день его отъезда к месту нового назначения. За обедом в Морском клубе кроме наших однополчан было несколько генералов из штаба главнокомандующего, так что присутствующих было человек пятьдесят, и при этом кругосветной мадере, дорогому рейнвейну и особенно Редереру была оказана должная честь. Мало-помалу гости разъехались, и оставшиеся распорядители постановили нести на руках виновника торжества через город до петербургской гостиницы, где его ожидал экипаж. Конечно, генерал протестовал против подобной демонстрации, но «один в поле не воин», — отворили двери клуба, пустили трубачей вперед, подхватили генерала и понесли по улицам, на изумление скромных обитателей города. Сходя вслед за другими по лестнице, и мимоходом спросил в буфете, сколько выпито шампанского, и получил в ответ: «семьдесят бутылок».
Так процессия дошла до обширной столовой петербургской гостиницы. Но здесь в самых дверях произошла небольшая задержка: навстречу входившим уланам, поставившим на ноги генерала, выступили несколько наших товарищей по дивизии драгун со словами:
— Господа, вы здесь в гостях у драгун, а потому просим вас не лишать нас удовольствия позаботиться о вашем угощении.
— Угощение должно быть общее, крикнул Василий Павлович, искавший во всем примирения.
— Общее, общее! громогласно подхватило лило, принимавшее живейшее участие в угощении, помимо сопряженных с ним издержек.
Возглас встречен был искренним смехом, и уланы вошли в залу. Мы, очевидно, застали конец табльдота, за которым, как оказывалось, обедали некоторые эстляндские дворяне, привезшие сыновей для определения в полки. Некоторые из приезжих еще сидели за своим кофе, и громадная, ослепительной белизны, голландская скатерть еще была не снята со стола. Если и не ошибаюсь, после новых бокалов и пожеланий, генерал вырвался от бывших товарищей к ожидавшему его экипажу. Но откупоривание шампанского все входило в силу. Не потерявший, по-видимому. времени и в Морском клубе эксцентричный Кекскуль развернулся теперь во всю ширину своего казачества, он махал плетью, уверял, что его здешние дворяне не при знают, потому что он курляндец, но ему наплевать на все, так как он казак; говорил, что полицейский на публичном гулянья требовал от него входного билета, но что он показал ему плеть и сказал: «вот мой билет». Воодушевление его все росло среди общего говора и шума; кажется, речи его мало обращали на себя внимание, хотя он ходил уже ногами по столу и вертелся на каблуках по белоснежной скатерти.
Откровенно говоря, мне в этот вечер самому пришлось пострадать в качестве улана и поэта. Между драгунами было два брата Калеповских, отца которых я знавал с Херсонской губернии. Это был добрый и толковый барин прежних времен с хорошим состоянием. С двумя его сыновьями, драгунскими офицерами, я познакомился уже в Красносельском лагере, где младший приучил свою верховую лошадь приходить в барак за сахаром. Оба они были хорошие ребята, но старший кроме того был, что и называется, поэт в душе. Хотя он никогда — читал мне свояк стихотворений, но зато видно было, что моя муза истинно пришлась ему по душе. Можно себе представить, но какой степени это чувство симпатии разыгралось в нем под влиянием первых слов драгун, принимавших на себя обязанность нас угощать. Могучий юноша решительно не выпускал меня из рук и постоянно целовал в губы мокрыми губами.
— Душенька, пойми, люблю тебя, обожаю! — Ты видишь? И с этими словами он встал на широкий подоконник громадного окна, выходившего на улицу.
Конечно, на трубные звуки, раздававшиеся из гостиницы, под окном собралась толпа народа.
— Вот, душенька, восклицал Калеповский, — видишь, как я тебя люблю! и с этим вместе он, развернувши плотный бумажник, начал разметывать ассигнации в раскрытое окно.
О том, что произошло под окном, я и поныне не могу вспомнить хладнокровно, в мне стояло неимоверных усилий оттащить от окна при посторонней помощи расходившегося поэта.
Так как после этого эпизода мне не пришлось уже встретиться с Калеповским, передаю слышанное впоследствии о дальнейшей его судьбе. По окончании войны он вышел в отставку и поселялся в доставшемся ему от отца прекрасном имении. У него была единственная сестра, воспитывавшаяся в Одессе; сестра эта вышла замуж, но, ставши матерью единственной девочки, года через три овдовела и по совету докторов должна была ехать в Крым. Полное неустройство в то время в Крыму помещений для больных не дозволило молодой женщине взять с собой ребенка. Калеповский, обожавший сестру, просил ее оставить ему девочку на лето, а самой ехал в Крым. Конечно, он всей душой привязался к ребенку, которому так привольно было играть в прекрасном саду усадьбы под присмотром старой няни. Одним из любимых мест девочки была скамья под развесистой липой на берегу пруда, на который с берега выдвигался плот. Случилось, что няня как-то отошла на минуту от игравшей на песке девочки, а та, воспользовавшись свободой, взбежала на плот, оступилась и утонула. Прибежавшая няня, конечно, сперва бросилась с воплями бросилась ее по саду, и только позднее открыта была истина. Калеповский не перенес этого: он застрелился.
Между тем зима приближалась; иностранная эскадра покинула Балтийское море, и войскам предстояло передвигаться во внутрь страны. Главнокомандующий Берг (не упомню, был ли он в то время уже графом) неожиданно потребовал меня к себе в Ревель и убедившись, что я говорю по-немецки, сказал мне: «на днях вы получите формальное предписание. Полковой штаб ваш назначен в городе Валке, но на Дерптом, по рижской дороге, живет мой брат помещик. У них в нынешнем году на корму очень мало скота, и вы можете воспользоваться превосходными их скотными дворами для размещении кавалерийских взводов».
Конечно, я воспользовался практическим советом главнокомандующего и нашел в его брате чрезвычайно любезного и толкового помощника. Ему было лет шестьдесят от роду, но женат он был на красавице лет тридцати, которая подарила его тремя прелестными детьми.
— Вот, говорил он мне, берите пример с меня: человек не должен жениться ранее пятидесяти лет.
И в этом полушутливом заявлении просвечивало довольство человека вполне заслуженным, по его мнению, успехом. Два мальчика, между семью и одиннадцатью летами от роду, напоминавшие красавицу мать, жались к отцу, сидевшему против пылавшего камина, и по временам то тот, то другой, по приглашению отца, брал из корзины несколько еловых шишек и подбрасывал в веселое пламя.
После вечернего чая, сопровождаемого, по тамошнему обычаю, холодною закускою, мне указали удобный ночлег во флигеле; а на другой день, когда хозяин на парной линейке повел меня по хуторам, чтобы убедить в пригодности последних для помещении взводов, — я едва мог отговорить его от объезд всех их, на что потребовалось бы, без всякой пользы делу, протрястись по мерзлой дороге больше половины дня.
Простившись с любезными хозяевами, снабдившими меня дальнейшими советами и рекомендациями, и осмотревши места прочих эскадронных помещений, я отправился в город Валк, чтобы устроить там полковую квартиру со всеми не тому потребными помещениями, начиная с караульного. Вечером по приезде в город я велел себя отвезти в единственную гостиницу для приезжих, и мне для ночлега указали небольшую, но весьма чистую и удобную комнату. Поутру, не успел я напиться кофе, как появился бургомистр в мундире и в треугольной шляпе, а вслед на ними другие чины города. Я обещал бургомистру сейчас же побывать у него и просил указать мне последовательно все городские помещения под штаб полка, начиная с квартиры полкового командира.
Когда часа через два я прибыл во двор бургомистра, меня поразила расхаживавшая по крыше конуры, напоминавшей собачью, громадного роста кошка. Мне случалось видать громадных сибирских кошек в мясных лавках, но эта была длиною более аршина, и кроме того на концах ее ушей волосы сбирались в виде кисточек.
— Откуда у вас такая громадная кошка? спросил я бургомистра.
— Это у меня рысь, отвечал бургомистр; — она живет у меня уже лет семь.
Утомившись порядочно, я вернулся в гостиницу, содержимую, как оказалось, вдовою, и потребовал обедать. Обед состоял из супа и жареного, весьма сносных, и стоил тридцать копеек. Убирая со стола, слуга мой передал мне, что сегодня в столовой комнате гостиницы, по случаю субботы, клуб. Конечно, это обстоятельство заставило меня еще более держаться своей комнаты, так как я никого ее знал из посетителей клуба, и потому выпросил у хозяйки какую-то книгу. Но судьба оказалась ко мне весьма благосклонна в этот вечер. Убирая вещи, слуга доложил мне: «Кронид Александрович приехали».
Выше мы упоминали о поручике, которому по жребию довелось уехать за Дунай в действующую армию, в настоящее время возвращающуюся из Турции.
— Где же он?
— Да они здесь в номере, рядом.
Через несколько минут ко мне вошел новоприезжий Панаев.
— Как вы сюда? спросил я его.
— Да я добился маршрута и увидал, что после завтра полк должен вступить сюда, и поэтому не стал нагонять его на походе.
— Сердечно рад нежданной встрече. Порасскажите о том, чему были свидетелем. А тем временем чем прикажете вас угощать?
— Да чем угощать? До вина я не охотник, зато, как вам известно, большой любитель чаю.
— Отлично, — сказал я и вышел из номера, чтобы отдать соответственные приказания.
— У нас чаю ни соринки нет, отвечал слуга.
— Как же быть? заторопился я. Сбегай в лавочку и купи хоть четверть фунта для пробы.
Минут через пять слуга принес в комнату поднос с двумя стаканами, и я, последовавши за ним в коридор, спросил: «купил?»
— Купил.
— Что стоит?
— Четверть Фунта четвертак.
Эта неслыханная дешевизна дала мне повод к ребячеству, о котором и теперь вспоминаю не без улыбки.
— Как я рад, добрейший Кронид Александровичъ, сказал я, возвращаясь в номер, что у меня как нарочно к приезду такого знатока, как вы, вышел обыкновенный расхожий чай и уцелел только остаток высокого и столь дорогого, что даже совестно говорить.
Когда я положил две ложки драгоценного чаю и обдал его из самовара, в стакан полилась совершенно черпан струя, которую пришлось разбавлять водою. Настой отзывался чаем, и сбитый с толку моею баснею знаток признал высокое достоинство чая. Видно было, что он отводит душу над драгоценным напитком, который доставлял мне не меньше удовольствия.
Перебросившись с взаимными вестями, мы улеглись спать довольно рано, тогда как в зале между тень продолжался клубный вечер. Заседание их, сопряженное с небольшими приготовлениями, происходило почти без шума. К данному часу хозяйка раскрывала два, три ломберных стола и доставала из них дешевые журналы, шашки и игранные карты, а на столы ставилось по паре свечей. Желающие получали пиво и вино, читали, курили, играли, разговаривали до двенадцати часов, а затем мирно расходились по домам. Журналы, шахматные доски и карты прятались неприметно в сдвинутые ломберные столы, и клуб бесследно исчезал до следующей субботы.
На другое утро я узнал от слуги, что в гостинице ночевал помещик Берг, у которого мы провели две ночи. Проворный старичок вошел ко мне в комнату в ту минуту, как я только что окончил бритье. Услыхавши от меня, что я бреюсь, умываюсь, меняю белье и одеваюсь в полную парадную Форму со всеми шнурами в пять минут, он пришел в большое волнение. Видно было, что гладкое бритье он, по причине молодой красавицы-жены, очень близко принимал к сердцу. Снабжая меня весьма практическим наставлением, он сопроводил его и теоретическим объяснением. — Когда вы кончили бриться, говорил он, — не довольствуйтесь тщательным вытиранием бритвы полотенцем. Вы никак при этом не сотрете легких остатков влаги с боков, образующих острие, и эта влага, превращаясь в незаметную ржавчину, тупит вашу прекрасную бритву. Кончив операцию, проведите раза два внимательно бритву по ремню, и она на следующий раз будет снова безукоризненно служить вам.
Позднее я убедился в практичности этого совета.
Не имея никого из военных нижних чинов в своем распоряжении, я поневоле должен был отправить навстречу подходящему штабу свое донесение насчет заготовленных помещений с нарочным гражданского ведомства. Когда чухонец доставил в штаб мой конверт, один из полковых остряков воскликнул: «вот и эста-Фет прислал!»
По прибытии штаба полка в Валк, мне еще довольно долгое время пришлось заведовать караульною командою, разбирать взаимные претензии обывателей с солдатами и заботиться о продовольствию последних из котла.
Случай свел меня в третий раз в жизни с отставным майором Прейрой, с которым я был школьным товарищем в Верро, а затем встречал, как адъютанта кирасирского корпусного командира барона Офберга. Узнавши, что я заведую караульной командой, старый товарищ настоял, чтобы я посетил его одинокого в наследственном его имении, отстоящем от города Валка верстах в десяти, а затем убедил меня, что мы можем оказать взаимное одолжение — он продавая, а я покупая у него продовольственные запасы.
— О говядине ее беспокойся, говорил, все еще не забывший школьных проказ, Прейра. — Пойдем, я тебе покажу на винокурне своих волов. Разочтя и, как ты прикажешь, раза два в месяц я буду сажать вола на сани и присылать его к тебе живьем.
Таким же порядком получал я картофель и кислую капусту. Вследствие всего этого, мне ее раз приходилось бывать у старого товарища и хорошо знакомой мне с отрочества усадьбе и доме, в котором. за смертью стариков, бравших меня когда-то гостить на каникулы, почти ничто не изменилось. Никогда никакая давно знакомая усадьба не производила на меня такого странного впечатления.
Возвращаясь в родимое гнездо, весьма часто испытываешь то же, что при виде знакомого щенка, превратившегося незаметно в старую собаку, или сад, который на ваших глазах оборвало бурею и засыпало снегом. Человек, живущий изо дня в день, слишком сильно ощущает постепенное давление жизни, для того чтобы изумиться, увидевши в зеркале себя вместо ребенка взрослым. Но там, где через двадцать лет внезапно вступаешь в ту же неизменную обстановку, испытываешь то, что Тютчев так образно говорит о своей родив:
…«где теперь туманными очами, При свете вечереющего дня, Мой детский возраст смотрит на меня»…По случаю глубоких снегов, мы все ездили на одиночках, и мой кучер Иван с особенным увлечением возил меня взад и вперед к моему приятелю на одном из наших рыжих, действительно замечательно резвом, Когда рыжий, выбравшись на гладкую дорогу, пускался во весь мах, Иван приходил мало-помалу в исступление, стараясь наезднически придавать ходу лошади, переходившей наконец вскачь.
— Да помилуйте, скажите! восклицал он, как будто бы я был с ним не согласен, тогда как я по временам только сдерживал его беспощадное муштрование несчастной лошади. — Да помилуйте, скажите! продолжал он с возрастающим восторгом. — Наши господа офицеры охотятся теперь вперегонки по городу, а где же им теперь супротив вашего рыжего?
Однажды, в отсутствие полкового командира, один из товарищей, зашедши ко мне, заявил, что офицеры думают устроить между собою бег на приз, для чего просят желающих принять участие в этой забаве подписать десять рублей для приобретения приза.
— Вот бы вы на своем рыжем, сказал товарищ.
— Я, господа, не прочь привить участие в вашей затеи сказал я, но мой рыжий страшно затянут на вожжах моим дураком, и ехать на нем может только сам Иван, я не берусь.
— Ну, этого общество не дозволит, так как состязаться и ехать будут офицеры, и допустить между ними кучер невозможно.
— Я, господа, отвечал я, ничего не предлагаю, а толы объясняю. Если бы состязание происходило между господам офицерами в каком-либо телесном искусстве, хотя бы в верховой езде, то, конечно, никто не имел бы права подставлять лицо из другой сферы. Но тут вопрос состоит в том, чья упряжная резвее, и я полагаю, что возбуждение такого вопроса не может быть сочтено обидным со стороны учредителей.
На другой день с хохотом разрешено было ехать Иван на рыжем, что придавало самой затее известную пикантность. Гордости и чванству Ивана не было пределов.
Так как расчищать и устраивать бег с протяжением в версту было бы слишком хлопотливо и дорого, для состязания выбрана была самая лучшая и накатанная дорога в город, благо по ней стояли уже несомненные, казенные версты. На площади от столба, долженствовавшего был флаговым, отмерены были назад пять граней по десяти сажен, на которых последовательно и были поставлен пять вех, а от предшествующего верстового столба назад — еще пять вехе в том же порядке.
Командующий полком любезно привял на себя роль суд и вместе с солдатиком, вооруженным большим колокольчиком от дуги, остановился около третьего флага, чтоб иметь возможность безошибочно заметить первую лошади дошедшую до соответственного ее месту флага, и дать тотчас же знак звонить. Пришлось мне за моего Ивана, пустить руку в фуражку, предлагаемую командующим полком для вынутия очередных жребиев. Не без сердечного волнения передавал я Ивану его третий номер с точным объяснением его места второго за первым полевым столбом и не мог ее прибавить: «ты только ничего выдумывай и лошадь понапрасну не бей, а то проскачешь более двух раз, и все твои труды пропадут».
— Помилуйте, скажите! с гордым тоном отвечал Иванытак что я махнул рукою и пошел прочь не без некоторого Фатального предчувствия. Наконец, соискатели приза, состоявшего из прекрасного ковра, расстановились по надлежащим местам, и махальные подали знак к началу бега. Конечно, все внимание мое было обращено на Ивана с его рыжим. Как и следовало ожидать, он уже два раза проскакал, и стоило ему погорячиться в третий раз и пришлось бы съехать на сторону. Но рыжий как будто успокоился и приближался к своему по счету третьему от конечного столба значку, у которого стоял между прочим, и я. Вот прошли двое передних саней, и показалось стоймя вдохновенное рыжее и рябое лицо Ивана. Будь он на паре или четверке, то по одушевлению и цвету кудрей можно бы его счесть за Аполлона.
— Звони! победоносно крикнул он, поравнявшись дугою с полковником. Звонок раздался в ту минуту, когда сани Ивана были уже против столба.
В ту же секунду и первая лошадь поручика Бл-рева дошла до столба, и, учуяв беду, я пустился бегом за тридцать сажен вперед к столбу, где, запыхавшись, застал неимоверную кутерьму. Конечно, Бл-рев, услыхавший звонок в секунду своего прибытия к Флагу, был убежден в победе своей лошади и не звал обстоятельства, что Иван пришел раньше его на целую лошадь. Тем не менее Иван, уверенный в своей правоте, ревел, как разъяренный бык:
— Давай сюда ковер! Накрывай моего рыжего!
Так как в состязание вмешалось лицо, способное на самую наивную неблагопристойность, я, во избежание последней, повелительно крикнул в свою очередь:
— Иван, отдай ковер и поезжай домой!
Покуда полковник — судья подъехал к месту распри, Бл-ревская вороная была уже покрыта призовым ковром, и полковник ее захотел перелаживать само собою удалившегося дела. Зато Иван уехал с восклицаниями: «Господи! что же это такое? Это грабеж среди белого дня!» И хотя на другой день я от себя келейным образом вознаградил Ивана, как настоящего победителя, последний все не мог утешиться.
Но командующему полком пришлось в отсутствие полкового командира разбирать не одно такое мирное дело, как бег офицерских упряжных. Случилось обстоятельство, о котором даже по прошествии стольких лет вспоминать неприятно.
В полку был небогатый корнет, австриец по происхождению.
В моем воспоминании без особой связи одного представления с другим сохранилась очень большая зала с одной стороны, и прекрасная бильярдная с другой стороны, в которой я сам был раза два, я хотя знал, что она составляет часть гостиницы, но едва ли пользовался в ней чем-либо, кроме нескольких сыгранных партий на бильярде.
В одно прекрасное или, лучше сказать, весьма скверное утро зашедший товарищ сообщил мне, что игравший на бильярде корнет австриец, толкнув нечаянно кием штатского, ее извинился, поднялась перебранка, кончившаяся тем, что корнет переломил кий на спине штатского, который ударил его в лицо. В данную минуту корнет был арестован на своей квартире, а прошение его о переводе в армию уже отправлено было по команде, и сам он считался выбывшим из полка.
Признаюсь, я сильно встосковался по моем милом Василии Павловиче и с нетерпением ожидал приезда полкового командира в штаб полка, чтобы отпроситься в свой эскадрон, расположенный по Дерптско-Рижской дороге, верстах в двух вправо от второй от Дерпта почтовой станции, — на мызе Аякар, принадлежавшей барону Энгардту.
Слугу и Ивана с лошадьми и вещами я отправил вперед в эскадрон, где все время находились мои верховья лошади, а затем и сам через Дерпт отправился к месту стоянки.
Василия Павловича я застал в отдельном Флигеле, в котором он занимал просторную комнату, служившую переднею и вместе кухнею, и затем две прекрасных комнаты рядом, из которых одну он уступил мне.
Помещение наше занимало только одну сторону флигеля; другую же, обращенную к главному дому и состоявшую из небольших двух комнат, занимал брат нашего хозяина, отставной гусарский поручик. Комната его была увешана старой гусарской амуницией. Никогда он ее хвастал своим былым гусарством и вообще, не смотря на свои сорок пять лет, никогда ее говорил о прежней своей жизни. Слышно было, что он был мастер, как говорится, выпить и закусить, и можно было догадываться, что во время гусарства он спустил, что имел, до нитки и наконец нашел тихое приставишь во флигеле своего брата. Так как этот в сущности добродушный человек, при общечеловеческом желании выдвинуть вперед свою личность, по обстоятельствам ее мог прикасаться ни к чему своему. то всем существом превратился в хвалителя своего брата. Словами, оттенками голоса, подмигиваниями, он при всяком удобном случае подчеркивал распорядительность, сметку, удаль, значение брата в дворянском кругу, красоту и любезность его женки и т. д.
В самый день моего приезда, хозяин баров Энгардт пришел во флигель познакомиться со мною. Он сообщил, что ожидает на завтрашний день приезда женки из Дерпта, где она провела некоторое время под наблюдением доктора, и что не далее как послезавтра он просит нас познакомиться с его женою, которая будет очень рада не оставаться после городской жизни в совершенном уединении.
На другое утро была порядочная метель, и мы поневоле интересовались приездом хозяйки в такую погоду. Из ваших окон видны были конюшни и пролегающая мимо их дорога в усадьбу. Часов в двенадцать дня к конюшням подскакал верховой на пристяжной. Оказалось, что это был лакей баронессы с известием, что большой возок в одном лесном сугробе завяз. Можно было полюбоваться спешностью, с какою в несколько минут человека четыре рабочих, надевши сбруи на лошадей и запастись веревками и лопатами, поскакали из усадьбы. Не прошло и часу, как в дымке метели на дороге показалось темное пятно, и через несколько минут огромный возок пятериком прокатил мимо нас к главному подъезду дома
На другой день около полудня мы отправились в дом под покровительством экс-гусара и были представлены действительно прекрасной и любезной хозяйке. Это была роскошная светло-русая женщина с прекрасными голубыми глазами и с необыкновенно нежною белизною молодого и здорового лица. Она в виде личного одолжения с нашей стороны просила нас приходить ежедневно в два часа к обеду. Конечно, гусар не упустил случая сказать нам, что его невестка прекрасно поет и, уступая нашим настоятельным просьбам, баронесса спела несколько немецких и даже русских романсов. Затем, когда барон, вернувшийся с хозяйственной прогулки, стал нам рассказывать о рыбной ловле, доставляющей ему значительный доход, баронесса встала из-за рояля и прошла в гостиную. Серые глазки экс-гусара маслянисто засверкали, и, наклонясь ко мне, он шепнул по-немецки (по-русски он говорил довольно плохо): «она сейчас будет; она все это умеет делать незаметно. От доктора она из Дерпта привезла ребенка, и вот теперь пошла его покормить и затем будет петь как ни в чем не бывало. О, это такая!» Гусар ее нашел в своем лексиконе подходящего существительного и заменил его злодейским взглядом в бок и кручением длинного рыжеватого уса с мелькающею в нем сединою.
Независимо от любезных хозяев, коих обществом мы с этих пор ежедневно пользовались, я с особенным удовольствием добрался до уединенного походного сожительства с Василием Павловичем. Не знаю как для кого, но для меня это был человек, коему хотя поздний, но самостоятельный, умственный труд сообщил значительную зрелость. Даже в дружеской беседе Василий Павлович лично никогда не жаловался на судьбу. Жаловаться значит обвинять кого-либо, а там, где начинается убеждение в неизбежной последовательности явлений, кончается и обвинение. Но люди, натерпевшиеся нужды, не прочь указывать на предпочтение, с каким удача выбирает своих триумфаторов, преимущественно между посредственностями. Не смотря на свою страстную натуру, беззаветно отдававшуюся картам и женщинам, нельзя было по наружности быть скромнее и сдержаннее Василия Павловича. Надо было хорошо его узнать, чтобы убедиться в характеристическом у него обратном отношении видимой сдержанности и стыдливости к внутреннему беззаветному увлечению, принимающему с глубочайшею искренностью то, что другие считают минутною прихотью и пустяками.
Конечно, при переходе полка в окрестности Дерпта на зимние квартиры, даже при невозможности долговременных отлучек со служебного поста, небольшой, но вполне европейский город этот своими разнообразными кругами, балами в Дворянском Собрании, знаменитой кондитерской Люксингера и прекрасным клубом Черноголовых (Schvarz-haupter), — поневоле стал сборным пунктом военной молодежи.
III
Дерпт. — Астроном Медлер. — Охота на путем. — Переписка с Тургеневым по поводу нового издания моих стихотворении. — Поездка в Петербург. — Знакомство с гр. Л. Н. Толстым. — Его первые стихотворения с Тургеневым. — Князь Вл. Ф. Одоевский. — Полковой праздник. — Кончина императора Николая Павловича.
Во время первых посещений Дерпта едва ли не все офицеры познакомились с двумя девицами полусвета: брюнеткою Мальвиной и блондинкою Розалией. Обе они не прочь были похохотать, покататься на офицерской тройке и выпить бокал, а не то и стакан шампанского. Если нравственное совершенство, как старается уверить большая часть романистов, состоит в беззаветном увлечении минутой, и если красивое и приятное и есть в жизни должное, то Мальвина и Розалия жили вполне согласно наставлению, даваемому Горацием Левконом:
«Пей, очищай вино и умеряй мечты… Пока мы говорим, уходит время злое: Лови текущие день, не веря в остальное».Ни та, ни другая не были красавицами, но обе бесспорно могли нравиться, особливо если прибавить к этому, что они, при известной элегантной обстановке и свободе в обращении, далеки были по природе от всякого корыстолюбия. Можно и должно упрекать их в том, что они, очевидно, не задумывались над последствиями своих минутных увлечений. Но мало ли людей на свете и даже семейных, заслуживающих в одинаковой мере, если не более, подобные упреки? В то время, как обе сестры еще жили вместе. Розалия постоянно бывала в разноцветных платьях и всем существом производила впечатление красивой бессодержательной куклы тогда как старшая ее сестра, брюнетка Мальвина, могла бы служить типом страстной и кокетливой натуры. Несколько худощавая и замечательно стройная, с пышными черными волосами, глазами и ресницами. она неизменно была в черном шелковом платье с высоким воротом, причем единственным украшением служила золотая брошка и дамские часы на небольшой золотой цепочке. Она любила духи, и от вея всегда сильно отдавало фиалкой.
Конечно, при своих поездках в Дерпт, Василий Павлович познакомился с этими сестрами, и то, что для других было забавой, стало для него роковым событием. Хотя я несколько раз встречал в Дерпте Розалию, дозволившую одному эскадронному командиру увезти себя в деревню, во об вей, как не представляющей особенного интереса, говорить более ее буду. О Мальвине же я вынужден говорить по случаю ее рокового влияния на Василия Павловича. Конечно, во все время нашей стоянки в Анкаре у Энгардтов, я не имел случая видеть Василия Павловича вместе с Мальвиной, так как она ее могла появляться в усадьбе баронессы, а я не только не захотел бы в присутствии Василия Павловича явиться на их дерптскую квартиру, во не позволял себе даже упоминать об этих отношениях.
Стараясь хоть сколько-нибудь понять происходившее у меня на глазах, но не желая возвращаться к характеристике Мальвины, дозволю себе небольшой анахронизм и скажу несколько слов о времени вполне независимого пребывания вашего следующею весной под Ревелем, в пустой усадьбе одного графа, которого Фамилии не упомню. Туда, в довольно просторный, занимаемый офицерами эскадрона дом, Мальвина появлялась, по выражению Некрасова, «хозяйкой полною».
Конечно, человек, под властью рокового увлечения, подобно Василию Павловичу, не мог ничего заметить в ровном и несколько скучающем поведении Мальвины в его присутствии. Она очень ловко разливала нам чай, кофе и суп, а в остальное время, с великолепно подобранным каскадом черных волос на макушке головы, сидела в кресле у окна за шитьем, напевая вполголоса легкие мотивы, или читала английский роман в немецком переводе. По-русски Мальвина говорила довольно понятно, но с сильным акцентом, почему, вероятно, Василий Павлович говорил с нею всегда по-немецки. Она, очевидно, нимало ее стеснялась лихорадочной переменчивостью своих суждений. То, например, говорила, что подобный летний вечер придает десять лет жизни одним запахом скошенного клевера, то через час утверждала, что в одну неделю можно с ума сойти в таком захолустья. При этом я ни разу ее видал, чтобы она хотя приветливо взглянула на Василия Павловича; за то, когда он по обязанности службы, отлучался на учение, она мгновенно изменялась…
* * *
Я предпочитаю оставить пробел там, где память моя уронила петлю, чем наполнять его собственным сочинением. Таким родом я никак ее могу припомнить повода, по которому вошел в дом профессора, о мировом значении которого в то время не имел надлежащего понятия. Чуть ли ее один из бывших моих туземных товарищей сообщил мне, что жена астронома Медлера, услыхав о моем деятельном знакомстве с немецкою поэзией в качестве переводчика, будучи сама ревностною поэтессой, захотела со мною познакомиться, и, вероятно, я на этом основании явился в дом профессора под предлогом найти разрешения темного для меня астрономического вопроса. Я был принят старичком небольшого роста, еще довольно свежим, который походил на брюнета, густо намылившего себе голову. До сих пор я с глубочайшим удовольствием и признательностью вспоминаю о нескольких вечерах, проведенных в доме этого во всех отношениях оригинального человека. Подобно многим немецким ученым, он обладал подавляющею массою самых разнообразных сведений, начиная с основательного знакомства с древне-классическими языками. Не менее обширны были его исторические сведения. Причем годы событий сохранились в его памяти с математическою точностью. Но во всяком случае естественные науки вообще и его специальность астрономия были его торжеством. Уверенность последней, постоянно опирающейся на математику, придает ее адептам такую простоту в отношениях к ней, какую трудно встретить в других ученых. В время долгих вечерних бесед, прерываемых с моей стороны только редкими вопросами, и все время любовался великим уменьем ученого с детскою простотой нисходить до моего низменного уровня и с вето указывать мне все дивное устройство мироздания. При всей простоте он был так наглядно красноречив, что мне каждый раз казалось, будто какой-то всемогущий волшебник мчит меня по полночному небу, указывая все его тайны. Восстановляя в воспоминании лиц, встречавшихся мне в жизни, я стараюсь о верном начертании их образов, какими они мне в свое время представлялись; но нимало ее считаю непременною обязанностью объяснять казавшиеся мне в них противоречия. Так я могу сказать, что великий астроном все время, даже за прекрасным обеденным столом, которым видимо щеголяла его супруга, не смотря на преклонные лета, держал себя по отношению ко мне, не свяжу самым скромным, но даже смиренным образом, как бы стараясь выслужиться передо мною своими достоинствами. И вот в высказывании этих то достоинств он был неистощим до детства. Надо отдать справедливость, что на этот путь его наводила уже далеко не молодая жена его, поэтесса, разыгрывавшая сама гениальную особу; считая себя первоклассным поэтом, она успела вкушать о себе и мужу такое понятие. При этом она, разумеется, относилась к нему с высоты своего величия. Так, например, рассказывая, что предоставленный даже в обществе самому себе, он, постоянно шевеля пальцами, предавался головным исчислениям посредством логарифмов, — жена заставляла его производить в голове умножение двух чисел с тремя знаками в каждом, и когда несчастный тут же разрешал задачу, она задавала ему тотчас же переумножение с четырьмя знаками, и как он ни отнекивался, а под конец вынужден бывал уступить я даже за обедом закрывал глаза на некоторое время и, пошевелив пальцами с минуту, говорил искомое произведение с восемью знаками.
— А вы, господин поручик, не поверите, какой он у меня каллиграф, говорила мадам Медлер. — Медлер, покажи свое чистописание!
И старичок с особенным хвастовством нес действительно изумительные рукописи, начиная с микроскопического «Отче Наш», написанного на кружке величиною в серебряный пятачок. Вообще, усидчивая аккуратность в рукодельях, казалось, была у него семейная. Так в гостиной под стеклом хранилась подробная рельефная карта луны из белого воска, аршина полтора в диаметре, исполненная нашею безмолвною собеседницей за столом, его пожилою сестрой девицей. Ее восковая карта, святая со знаменитой карты луны ее брата, была выставлена в Лондоне на всемирной выставке и была предметом всеобщего удивления. Когда я спросил, чем она могла произвести все эти горные хребты и углубления, она весьма скромно отвечала, что это легко исполняется посредством простой булавки и ее головки. Вслед затем выкладывались передо мною одно за другим несколько писем бывшего министра С. С. Уварова, исполненные самых дружеских сочувственных выражений по адресу знаменитого астронома.
Насколько мне известно, Медлер, зарекомендованный своим превосходным почерком и математическими способностями, поступил на частную службу к одному берлинскому банкиру, содержавшему собственную обсерваторию. Воспользовавшись этим обстоятельством, Медлер испросил позволения у хозяина заниматься в праздничное время на его обсерватории, на которой своими работами скоро приобрел всемирное имя, между прочим своею теорией — центрального солнца. Слава молодого ученого дошла до министра Уварова и, вызвав астронома в Дерпт, он сделал его директором обсерватории, при которой я застал Медлера в чине тайного советника, украшенного орденами.
«В бытность мою в Париже, рассказывал Медлер, я зашел к Леверье, которому объявил свое имя. К крайнему моему изумлению, он, глядя мне в глаза, резко сказал, что не слыхивал этого имени. Смущенный, я стал указывать на свои работы, и вдруг он спросил меня: „mais n'êtes vous pas monsieur Medlér?“ и затем любезностям знаменитого астронома не было конца».
Мадам Медлер действительно прекрасно владела немецким стихом, и, пользуясь этим обстоятельством, я силися склонить ее к переводам преимущественно русских поэтов, еще мало знакомых заграницей. Но так как гораздо труднее хорошо переводить, чем писать стихи, лишенные поэзии, то усилия мои в этом случае остались напрасными, и справедливость заставляет меня сказать, что насколько в доме любезного ученого меня привлекала астрономия, настолько пугала поэзия.
Не смотря на возвращение из-за Дуная поручика Панаева, в полк пришло новое распоряжение о высылке поручика в Севастопольскую армию. Поручики снова возгорелись надеждою, и однажды утром, когда я был в карауле, собрались ко мне с тем, чтобы вынуть жребий. Между первыми из соискателей явился Панаев.
— Помилуйте, Кронид Александрович! воскликнули было некоторые, — ведь вы же только что вернулись из действующей армии. Позвольте же и другим попытать счастья.
— А разве в циркуляре сказано, заметил Панаев, что избранный однажды тем самым лишается права на новое соискательство? — А как этого ее было, то всякий протест должен был умолкнуть понемногу. На одной бумажке из числа восьми было написано: «ехать», и затем все свертки брошены в мою виц-шапку. Стали вынимать. и Панаев снова вынул билет: «ехать». Но на этот раз отправка затянулась и затем окончательно ее состоялась.
Прохожу молчанием прекрасные балы в Дворянском Собрании. Балы эти по всей обстановке и току были безукоризненны и, вспоминая Лермонтова, надо бы проговорить:
«Мчатся пестрые уланы, Подымая пылки».Но справедливость требует сказать, что наши уланы, хотя и мчались в легких танцах, не только не подымали, но и не пускали пыли в глаза.
Публичный или общественный бал не может быть орудием тщеславия. Участвующие в нем, очевидно, ищусь развлечения, веселья, привлекающего прекрасный пол возможностью выставить свою наружность в самом выгодном свете. Но истинно вдохновительным может быть только бал в среде общества, хорошо между собою знакомого. где личный характер и обстановка каждого представляют действительную известную величину, а не безличную Формулу в бальном костюме. Для такого общества блестящий и шумный бал имеет незаменимую прелесть. Гром музыки, обязательные рукопожатия и объятия среди пестрой толпы, в которой каждый преследует свои личные интересы, заменяет собою темный лес, куда на глазах всех уходит заинтересованная пара. Не нужно быть самолюбивым, чтобы чувствовать несоизмеримую разницу между простым танцором и живым действующим лицом. Вот она, прелестная блондинка, с большими задумчивыми голубыми глазами. Подойдите к ней и она с удовольствием подаст вам руку, потому что ей хочется танцевать и слышать, что к ней очень пристал ее венок и наряд. Вот рыженькая, пикантная головка со вздернутым носиком и легкими веснушками. С каким горделивым пренебрежением смотрит она на проходящих. Ангажируйте ее, и она окажете вам милость, приняв вашу руку, но в душе будет чрезвычайно довольна. А вот и она, царица бала, предмет горячего поклонения вашего друга Вы наперед знаете вашу роль: с вами будут изысканно любезны перед глазами всего собрания; вас отыщут то здесь, то там, чтобы с вами пройтить или присесть где-нибудь. При этом вы знаете, что вы не более как ширма, за которою спрятан ваш друг. Но сегодня убегающая за розовое ушко прядь черных волос так блестяще гладка, долгий взгляд темно-карих глаз останавливается на вас с такою истомой, и оказанные слова так безумны, что в сознании вашем все мгновенно извращается, и вам кажется, что ширма — он, за которым скрываетесь вы… Конечно, трудно было ожидать чего-либо подобного на дерптских балах.
Наконец, отстоявши свой карауль, я вернулся в тишину Аякарского Флигеля, где, по случаю отъездов Василия Павловича в Дерпт, мне нередко приходилось сидеть совершенно одному. В такие дни, кроме обычного посещения хозяйских обедов я испросил у прекрасной баронессы позволения отводить душу за вечерним ее чаем.
Снег в эту зиму был необыкновенно глубокий, и барон Энгардт рассказывал мне, что серые куропатки в бурную погоду не раз ночевали у него под парадным крыльцом; а однажды утром, подавая мне кофе, слуга доложил, что куропатки целым стадом гуляют у нас под окном флигеля, в чем я лично убедился, но не захотел их стрелять, чтобы близким выстрелом не напугать баронессу и ее детей. Денщик Василия Павловича, довольно неловкий парень для услуги, но, как литвин, с наклонностью к охоте, объявил мне, что на краю усадьбы в саду много заячьих следов, и надо бы ночью покараулить зайцев. Я совершенно незнаком был с этого рода охотой и потому приказал Калиуктису (фамилия литвина) поставить на открытом месте пучек намолоченного овса.
— Ну что? спросил я на другой дев.
— Был и ел, отвечал Калиуктис.
Получив в следующие два дня такой же ответ, я, тепло одевшись, пошел с заряженным ружьем на заранее осмотренное местечко в вишняк под забором, от которого до вновь поставленного пучка было шагов тридцать или сорок. Было около одиннадцати часов; ночь была по поводу полнолуния почти светлая как день, хотя этого нельзя было сказать про место, завитое мною в вишняк. Время всегда бесконечно тянется при ожидании, и мне пришлось просидеть неподвижно, полагаю, более часа, так что я уже отчаивался в приходе зайца. Вдруг до напряженного слуха моего достигло какое-то Фырканье. Правда, за отдаленностью, звук был так слаб, что это как будто только показалось. Но вот через минуту слышу уже совершенно ясно: фрръ! Еще через минуту тот же звук раздался у меня с правой стороны так громко, как будто чья-то сильная рука выбивает дробь на барабане. Еще минута, и на белоснежную полянку, медленно кланяясь, выдвигается темноватый очерк зайца, который, производя тот же звук, в обе стороны разбрасывает струи снега, под которым ищет корма. Ждать долее было нечего; продираться на свет промежду кустов — значило бы спугнуть зайца. Но беда в том, что наводя ружье, я только гадательно мог направить цель. Убедившись, что лучше прицелиться мне не удастся, я, горя охотничьим нетерпением, победил в себе чувство страха — огласить усадьбу полночным выстрелом — и спустил курок. Когда дым рассеялся, и я выбежал из засады, заяц исчез. Пройдя несколько шагов по его пустому следу, яубедился в промахе и пошел домой. Когда на другое утро человек подал мне кофе, Калиуктис вошел в комнату держа замороженного зайца.
— Откуда ты взял его? спросил я.
— Да это ваш же, отвечал ухмыляясь Калиуктис. — Я прошел утром посмотреть и вижу заряд ваш весь унего на следу. Прошел я шагов двадцать по следу, а он как запрокинулся, так и лежит.
* * *
Около этого времени у меня завязалась оживленная переписка с Тургеневым. Он писал мне:
«Некрасов, Панаев, Дружинин, Анненков, Гончаров — словом, весь наш дружеский кружок вам усердно кланяется. А так как вы пишете о значительном Улучшении ваших финансов, чему я сердечно радуюсь, то мы предлагаем поручить нам новое издание ваших стихотворений, которые заслуживают самой ревностной очистки и красивого издания, для того чтобы им лежать на столике всякой прелестной женщины. Что вы мне пишете о Гейне? Вы выше Гейне потому что шире и свободнее его»[181].
Конечно, я усердно благодарил кружок, и дело в руках его под председательством Тургенева закипело. Почти каждую неделю стали приходить ко мне письма с подчеркнутыми стихами и требованиями их исправлений. Там, где я не согласен был с желаемыми исправлениями, я ревностно отстаивал свой текст, но по пословице: «один в поле не воин» — вынужден был соглашаться с большинством, и издание из-под редакции Тургенева вышло настолько же очищенным, насколько и изувеченным. Досаднее и смешнее всего была долгая переписка по поводу отмены стиха:
«На суку извилистом и чудном!»[182].Очень понятно, что высланные мною, скрепя сердце, три-четыре варианта оказались непригодными, и наконец Тургенев писал: «не мучьтесь более над стихом „На суку извилистом и чудном“: Дружинин растолковал нам, что фантастическая жар-птица и на плафоне, и в стихах может сидеть только на извилистом и чудном суку рококо. И мы согласились, что этого стиха трогать не надо».
Решительно не припомню, просился ли я у полкового командира в Петербург, или почему-либо выбор пал на меня для закупок вин и фруктов к полковому празднику, на который наш августейший шеф определял свой шефский оклад. Помню только, что, получив деньги с казенною подорожною, я на перекладных отправился в Петербург и заказал все нужное у Елисеева, который для вин и винограда при укупорке должен был рассчитывать на 25 градусов мороза, и, надо сказать, приготовивши для меня целый воз провизии, вышел победителем из своей задачи. Несмотря на полуторасуточное пребывание на морозе, ни одна ягодка винограда не пострадала.
Конечно, три-четыре дня моего пребывания на этот раз в Петербурге я проводил преимущественно в литературном кругу. Тургенева я нашел уже на новой и более удобной квартире в том же доме Вебера, и слугою у него был уже не Иван, а известный всему литературному кругу Захар. Тургенев вставал и пил чай (по-петербургски) весьма рано, и в короткий мой приезд я ежедневно приходил к нему к десяти часам потолковать на просторе. На другой день, когда Захар отворил мне переднюю, я в углу заметил полусаблю с анненской лентой.
— Что это за полусабля? — спросил я, направляясь в дверь гостиной.
— Сюда пожалуйте, — вполголоса сказал Захар, указывая налево в коридор.
— Это полусабля графа Толстого, и они у нас в гостиной ночуют. А Иван Сергеевич в кабинете чай кушают.
В продолжение часа, проведенного мною у Тургенева, мы говорили вполголоса из боязни разбудить спящего за дверью графа.
— Вот все время так, — говорил с усмешкой Тургенев. — Вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукою.
В этот же приезд мы и познакомились с Толстым, но знакомство это было совершенно формальное, так как я в то время еще не читал ни одной его строки и даже не слыхал о нем, как о литературном имени, хотя Тургенев толковал о его рассказах из детства. Но с первой минуты я заметил в молодом Толстом невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений. В это короткое время я только однажды видел его у Некрасова вечером в нашем холостом литературном кругу и был свидетелем того отчаяния, до которого доходил кипятящийся и задыхающийся от спора Тургенев на видимо сдержанные, но тем более язвительные возражения Толстого.
— Я не могу признать, — говорил Толстой, — чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: «пока я жив, никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждением.
— Зачем же вы к нам ходите? — задыхаясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет (при горячих спорах это постоянно бывало), говорил Тургенев. — Здесь не ваше знамя! Ступайте к княгине Б-й — Б-й!
— Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить! и праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения.
Припоминая теперь это едва ли не единственное столкновение Толстого с Тургеневым, которому я в то время был свидетелем, не могу не сказать, что хотя я понимал, что дело идет о политических убеждениях, но вопрос этот так мало интересовал меня, что я не старался вникнуть в его содержание. Скажу более. По всему, слышанному в нашем кружке, полагаю, что Толстой был прав, и что если бы люди, тяготившиеся современными порядками, были принуждены высказать свой идеал, то были бы в величайшем затруднении формулировать свои желания.
Кто из нас в те времена не знал веселого собеседника, товарища всяческих проказ и мастера рассказать смешной анекдот — Дмитрия Васильевича Григоровича, славившегося своими повестями и романами?
Вот что между прочим передавал мне Григорович о столкновениях Толстого с Тургеневым на той же квартире Некрасова: «Голубчик, голубчик», — говорил, захлебываясь и со слезами смеха на глазах, Григорович, гладя меня по плечу.
— Вы себе представить не можете, какие тут были сцены. Ах, боже мой! Тургенев пищит, пищит, зажмет рукою горло и с глазами умирающей газели прошепчет: «не могу больше! у меня бронхит!» — и громадными шагами начинает ходить вдоль трех комнат. «Бронхит, — ворчит Толстой вослед, — бронхит воображаемая болезнь. Бронхит это металл!» Конечно, у хозяина — Некрасова душа замирает: он боится упустить и Тургенева и Толстого, в котором чует капитальную опору «Современника», и приходится лавировать. Мы все взволнованы, не знаем, что говорить. Толстой в средней проходной комнате лежит на сафьянном диване и дуется, а Тургенев, раздвинув полы своего короткого пиджака, с заложенными в карманы руками, продолжает ходить взад и вперед по всем трем комнатам. В предупреждение катастрофы подхожу к дивану и говорю: «Голубчик Толстой, не волнуйтесь! Вы не знаете, как он вас ценит и любит!»
— Я не позволю ему, — говорит с раздувающимися ноздрями Толстой, — ничего делать мне назло! Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками!
Фригийская река Меандр, постоянно выставляемая древними поэтами в пример прихотливых извивов, могла служить эмблемою прямо противоположных оазисов, достигаемых человеческим миросозерцанием при поступательном движении. Это и называется развитием, но не заключает в себе непременной перемены к лучшему. Не смотря на кратковременное на этот раз пребывание мое в Петербурте, Тургенев успел, по просьбе князя Вл. Фед. Одоевского, свозить меня к нему. Помню забавную выходку Тургенева. Когда мы вечером всходили с ним по освещенной лестнице, я вдруг почувствовал, что он провел у меня рукою вдоль коленки с внутренней стороны ноги. Сделал он это так неожиданно, что я невольно крикнул: «что вы?» — «Я думал, сказал Тургенев, что ваши рейтузы подбиты кожей». Пришлось уверять его, что у офицеров рейтуз с кожею не бывает. Князь и княгиня, с которыми мне с течением времени пришлось сблизиться короче, были и при первой встрече весьма внимательны и любезны.
Но вот почтовые тройки снова на перекладной мчат меня в течении полутора суток из Петербурга в Валк к 13-му февраля, празднику св. Мартиниана. Конечно, пир был на славу, и, как помнится, присутствовали на нем одни однополчане, и притом не было ни одной дамы. Конечно все знали, что роскошно угощает нас Августейший Шеф и понятно, с каким сочувствием встречены были тосты полкового командира за здоровье Государя и Августейшего Шефа, покрываемые громогласными тушами трубачей. Обед давно кончился, и столы были убраны в просторном зале. Но музыка продолжала греметь, и шампанское лилось рекою. Конца празднества хорошенько припомнить не мог, но дело в том, что по случаю форменного марша, оставшегося в полку в виде запрещенной Варшавской мазурки, пара корнетов ловко пронеслась под ее звуки по зал. Через несколько времени я увидал старика Курселя, хохочущего до слез при виде старого обозного офицера из нижних чинов, которого шалуны уговорили пройтись русскую, и который это действительно исполнил так неловко и неуклюже, что способен был возбудить и смех, и сожаление.
— Господа! раздалось по зале: кто мастер русскую? Выходите! — Явилось несколько плясунов, и, как это обыкновенно бывает в русской пляске, возникло состязание. В то время как один из соучастников отдыхал, обошедши всю залу в присядку, другой, округливши руки и расширив пальцы, надменно выступал и кружился с глупым видом индейского петуха. Не знаю, как это случилось, но помню только яркое мерцание свечей, отчаянный треск трубачей, закатывающегося со смеху полкового командира и самого себя с корнетом Бл-ревым посредине залы, без мундира и без галстука, старающихся превзойти друг друга нелепыми выходками.
На другой день все поразъехались по своим стоянкам. Хотя до моих именин (22 февраля) осталось еще более недели, тем не менее проездом через Дерпт я постарался захватить кое-каких припасов и закусок. Что же касается до шампанского, то я знал, что станционный смотритель на шоссе, верстах в трех от Аякара, держал его в достаточном количестве для офицеров.
По близости от нас не было никого из товарищей, с кем бы мне было особенно приятно провести свой домашний праздник, за исключением Панаева, стоявшего верстах в 15-ти у хорошо мне знакомого Берга. Поэтому около 18 Февраля я отправился к Панаеву звать его погостить к нам, да кстати и на именины. Кронид Александрович был в самом хорошем настроении духа, и на другой день его отлично выкормленная пара мышастых лошадок стояла в санках у крыльца за моею рыжею одиночкой.
— Садитесь ко мне, Кронид Александрович, сказал я. Ведь мы не боимся говорить на морозе. Вы не рассердитесь, что я на минуту завезу вас на станцию Куйкац?
— Что же мне сердиться, отвечал Панаев, мы сами там получаем письма.
Смотритель, проворный брюнет лет тридцати пяти, едва ли хорошо говорил по-русски; но я помню, что разговор был на немецком языке. Я попросил его сунуть мне в сани полдюжины Редереру и достал бумажник расплатиться.
— Тут две версты каких-нибудь вам до дому, сказал смотритель: я велел бутылки сунуть в сено, довезете благополучно. Писем, продолжал он, выдвигая ящик в столе, ни вам, ни вам нет. А вы не слыхали, обратился он ко мне, император скончался?
— Что вы говорите! воскликнул я. Таких вестей легкомысленно разглашать не следует!
— Помилуйте, на что же вернее! возразил смотритель. Сегодня утром Фельдъегерь проскакал из Петербурга в Берлин с этою вестью.
Мы стояли в оцепенении.
— Что ж, поедемте! обратился я к Панаеву. Но взглянувши на него, увидал катящиеся по щекам его слезы.
— Поезжайте, голубчик, один, сказал он, махнув рукою, а я не могу. Он остался непреклонен, и мы разъехались каждый к себе домой. Через два дня мы уже ходили в трауре, и полковой наш священник объезжал эскадроны, приводя их к присяге.
В день моих именин поднялась такая метель, что мы с Василием Павловичем уже не рассчитывали на чье-либо посещение, и в час дня единственными нашими гостями оказались оба барона Энгардта: хозяин и бывший гусар.
— Кто же выедет в подобную погоду? эту Фразу повторяли мы на все лады, как вдруг послышался колокольчик, и на белой занавеси метели все с большею ясностью стала выступать приближающаяся тройка и остановилась у крыльца. Засыпанные с головы до ног снегом вошли наши милые Щ…ие. Конечно, после первых приветствий, потрясающая весть стала предметом разговора, но затем появилась кулебяка, и непосредственная жизнь вступила в свои права.
IV
Лифляндский крестьянин. — Охота на нищих. — Вальдшнепиная тяга. — Полковник С-ов. — Поездка на ферму и знакомство с ее обитателями. — Медвежья услуга. — Охота на моховом болоте. — Канонада. — Снова на мызе Аякар. — Рыбная ловля подо льдом.
Я уже говорил, что со времени перехода моего в гвардию отец сделался в отношении ко мне чрезвычайно щедр, и мне оставалось только благодарить его за высылаемые деньги, о которых я вовсе не просил. У более бережливых из нас скоплялись деньги, которые мы превращали в появившиеся тогда билеты восточного займа, которые при нашей бродячей жизни мы носили в сумочках на шее. Ипполит Федорович называл эти сумочки «восточным вопросом».
Наступили вешние оттепели, снег зачерпывался водою, и пригорки стали обнажаться. Василия Павловича не было дома, и я в отсутствие его заведовал эскадроном, конечно, неофициально, так как и он уезжал в Дерпт частным образом. Однажды ко мне прискакал верхом чухонец и весьма одушевленно на что-то жаловался. Не понимая в чем дело, я обратился к помощи отставного гусара Энгардта; последний растолковал, что солдаты самовольно надергали у этого крестьянина клеверного сена из придорожного стога. Мысль, что наши уланы могли произвести такое самоуправство на месте стоянки, меня возмутила. В несколько минут лошадь моя была оседлана, и я помчался вслед за крестьянином, указывавшим мне дорогу. Когда мы по перелеску выскочили на шоссе, крестьянин указал мне на проходящие артиллерийские орудия, у которых на передках я тотчас увидал клеверное сено.
— Кто у вас при батарее? спросил я солдатика.
Он назвал фамилию капитана.
— Где же он?
— Поехали вперед.
Я пустился вперед по шоссе и, догнав ехавшего верхом капитана, объяснил ему претензию крестьянина. Переговоривши с просителем по-чухонски, капитан уверил меня, что тотчас же удовлетворит крестьянина, и мы расстались.
На следующую зиму на одном бале в Ревеле я узнал капитана и напомнил ему о нашей встрече
— Да, сказал он, а вы и не знаете, каким честным человеком оказался этот крестьянин. Трудно было мне, не видавши всего количества похищенного, определить убыток; а потому я предложил ему помириться на двадцати рублях. «У меня взяли, отвечал крестьянин, приблизительно пудов двадцать, и мне следует всего по теперешним ценам восемь рублей».
Весна между тем открывалась все решительнее, и однажды, когда я за обедом расспрашивал у барона о вальдшнепах, он сказал, что вальдшнепов у них бывает как-то мало, но что теперь наступает самая забавная охота на рябчиков на пищик. Совершенно незнакомый с этою охотой, я спросил барона, что такое пищик?
— Я вам все это после обеда покажу и растолкую, отвечал он с обычною своей живостью. И действительно, тотчас после кофею он принес мне небольшую костяную дудочку и научил меня извлекать из нее дважды повторяемый звук. Оставшись наконец доволен моим посвистом, барон на другой день любезно прошел со мною в лес и указал место, где можно ожидать рябчиков. «Надо быть чрезвычайно осторожным с рябчиком в двух отношениях, пояснил барон. Во-первых, манить его дудкой в ту минуту, когда он сам отзывается, для того чтобы он не расслышал обмана; а во-вторых, когда он подлетит на пищик, не должно шевелить ни собственных членов, ни ружья, а приподымать последнее для прицела незаметным образом. Теперь я уже вам не нужен, продолжал барон, и скорее могу только помешать, а потому ухожу».
Было совершенно тихо и тепло в прекрасном хвойном лесу, перемешанном с неодевшимся еще чернолесьем. Согласно преподанному мне уроку, я осторожно пропищал раз, ставши под старою елью, и насторожил слухе. Минут через пять я пропищал вторично с полным недоверием к своему искусству, но тотчас же услыхал как бы отдаленное Фырканье. Я догадался, что это взлет рябчика и стал, если возможно, еще более осторожен. Через минуту я услыхал вдали писк, подобный производимому мною, и, не давая рябчику кончить его, вновь подзадорил его своим. Фырканье повторилось еще явственнее, и тот же писк послышался в более близком расстоянии. За новым моим позывом громогласно повторился Фыркающий шум крыльев, и на этот раз рябчик сел шагах в двадцати пяти передо мною на обнаженную осинку. Когда он снова стал азартно пищать, я даже видел, как вздувались белые перышки у него на горле, и на голове красиво вздымался хохольчик. Чуть заметно наводя ружье, я целил в голову, боясь на таком близком расстоянии разбить зарядом всего рябчика. Я видел, как за выстрелом рябчик покатился со своей ветки, и я бросился со всех ног подымать его. Попал я в него очень удачно, так как самая его головка была ранена, но не раздроблена. Увлеченный удачей совершенно новой для меня охоты, я расцеловал свою добычу. Часа через полтора я таким же образом еще убил трех.
На другой день за обедом баронесса благодарила меня за дичину и пояснила, что рябчикам следует полежать несколько дней, иначе они будут жестки.
В скором времени затем нас снова потребовали к Ревелю, и переход этот памятен мне только тем, что на одной из дневок мы с тем же самым эскадронным товарищем корнетом бароном Офбергом, с которым когда-то так неудачно маневрировали под Красным Селом, отправились в лес на тягу вальдшнепов, так художественно описанную гр. Толстым в «Анне Карениной». Так как никто нам не указывал места, мы остановились с бароном на длинной лужайке, тянувшейся между двумя стенами весьма высоких деревьев. По свойственному мне нетерпению, я не люблю ни охоты на крупного зверя, ни уженья, ни вальдшнепиноЙ тяги, так как во всех этих случаях зачастую приходится долго ждать и ждать понапрасну. И на этот раз мы долго стояли на нашей лужайке, лицом к закатившемуся солнцу. Было совершенно тихо, и над всем лесом возвышался прозрачный золотистый купол зари. Я хотел было уже сказать: «барон, пойдемте домой», — как вдруг вправо послышалось дорогое охотнику кряхтенье, и через полминуты я увидал высоко над деревьями несущегося через поляну вальдшнепа в значительном впереди меня расстоянии. Барон ОФберг признавался мне потом, как он в душе смеялся, увидав, что я не только поднял ружье, но и целюсь в вальдшнепа на таком, можно сказать, безумном расстоянии. Я, действительно, прицелился на целую ладонь перед головою вальдшнепа и спустил курок. Вальдшнеп мгновенно сложил крылья, как ладони, над своею головой и отвесно покатился вниз с своей высоты. Мы было тронулись подымать его, но я воскликнул: «нет, барон! надо смерить, сколько до него шагов. Такие вещи редко случаются». Мы намерили восемьдесят шагов, и предоставляю каждому, приняв во внимание по крайней мере 40 арш. высоты, на которой убит вальдшнеп, рассчитать диагональ смертоносного заряда. Вероятно, вальдшнеп был убит в голову шальною дробиной, не оставившей и следа.
На этот раз мы попали в летнюю стоянку на пустую мызу, которой имени не упомню, так как владельцев ее там не было, и мне опять пришлось вступить в должность хозяйки. Вскоре по прибытии нашем на место, прибыл и недошедший до меня гнедой жеребчик Глазунчик о котором писал покойный отец. Четырехлетняя лошадь была чрезвычайно красива, и посетивший нас соседний командир пятого эскадрона С-в, посмотревши ее, тотчас предлагал мне 700 руб. Но имея сам охотницкую жилку, я наотрез отказался от продажи лошади и усердно занялся ее выездкою, тем более, что у моего лихого подъездка оказалось от расхожего седла на хребте затвердение, признанное ветеринаром неизлечимым, и я, скрепя сердце, повернул подъездка на пристяжку. Тем не менее а продал его артиллеристу, который вылечил его и взял на нем сказовой приз в Царском Селе.
Единовременно с присылкою Глазунчика, я получил письмо от зятя моего А. Н. Ш-а, в котором он просил моего разрешения оставить у себя приходившиеся мне по расчетам с братьев четыре тысячи рублей. «Зная, что деньги могут тебе понадобиться на службе внезапно, писал он, я обязуюсь уплатить их по первому твоему требованию и буду за них платить по десяти процентов». Я отвечал, что он может их оставить у себя под вексель на законных процентах.
Стоянка этим летом не представляла никакого развлечения, и однажды от нечего делать мы с Василием Павловичем решились проехать к полковнику О-ву, стоявшему в прекрасном Флигеле, на мызе какой-то молодой вдовы — графини. Полковник был человек лет сорока пяти, недурной собою брюнет с вьющимися волосами, которых блестящим завиткам он, как оказалось, помогал искусством. Самого его мы не застали дома, но застали квартировавшего в том же Флигеле красивого корнета, блондина Халеева. Не без комизма рассказывал Халеев о неудовольствии полковника на него только потому, что он любезно раскланивался с графиней при встрече с нею в саду. Между прочим он в лицах передал свой разговор с полковником, совершенно очарованным не только стоянкой, но и всем краем.
— Я никак не ожидал, Александр Васильевич, чтобы вы так скоро забыли Россию, говорил Халеев, воспроизводя свой разговор с полковником.
— Уж это не о прелестях ли Новгородской губернии заставляете вы меня вздыхать? отвечает полковник.
— Я никак не предполагал, Александр Васильевич, что вы до такой степени космополит.
При этих словах глаза Александра Васильевича засверкали гневом.
— Я вас прошу, воскликнул он, воздерживаться от подобных замечаний! Какое вам дело, завиваю я волосы или нет? У вас тоже волосы вьются. Но я себе никогда не позволю никаких на этот счет замечаний, и хоть вы себе все космы опалите, я никогда вам не скажу, что вы космополит!
— Я, конечно, просил извинить мена в необдуманном выражении, прибавил проказник.
В конце июля я прослышал о пожилом фермере, арен дующем землю, принадлежащую городу Ревелю, верстах в 15-ти от меня по ревельской дороге. Там, по слухам, были молодые тетерева, и — сердце не камень — я, забравши своего десятимесячного Непира, отправился в походной тележке по знакомому мне ревельскому шоссе. Шоссе многократно проходило у самого моря, и слышно было громкое шуршание прибрежного хряща, когда чухонец проходил по нем с сохою, у которой сошники скорее напоминали два железных лома, чем наш широкий копьеобразный сошник.
— А что, Иван, спросил я своего кучера, стал ли бы наш воронежский мужик пахать такой хрящ?
— Помилуйте, скажите! отвечал Иван, — да наш бы и внимания не обратил на этакую дрянь; что уж тут? Живой голыш.
— А что, как ты замечаешь, подъездок — то меньше стал кашлять?
— От этого лекарства-то? Да по-моему, ни крошечки. Что было, то и есть.
— Да что же ветеринарию говорит?
— Известно интересно послушать! Что говорить! Ученый человек! А вот подошел к лошади-то — и темен!
С небольшим через час тележка наша, свернувши с главного шоссе на проселочное, въехала на небольшой двор совершенно исправной и даже красивой бермы, и мне пришлось, при незнании чухонского языка, искать кого-либо, с кем бы я мог, за отсутствием Фермера, объясниться по-немецки. На крыльце показалась миловидная брюнетка, с бархатистыми, как две черных вишни, глазами, и на объяснения мои сообщила, что отец уехал по делам в Ревель и сейчас же должен быть назад, и что если я желаю обождать его, то она просит меня войти в его кабинет. Делать было нечего. Я уселся в небольшой комнате со стенами, убранными оленьими рогами, увешанными охотничьими снарядами, и стал читать попавшийся под руку том Шиллера. Через час явился и сам фермер, седой и грузный старик, не лишенный еще известной бодрости. Узнавши в чем дело, он любезно предложил мне тотчас же пройтись к лесу в нескольких шагах от фермы, только для пробы моей собаки, так как он сам несколько раз в этом направлении, саженях во ста от двора, находил выводок тетеревов. Покуда мы шли с ним, направляясь к кустарникам, старик старался обратить мое внимание на безукоризненную обработку земли на его ферме, предмет менее всего интересовавший меня в то время. «Потрудитесь взглянуть, говорил он, вдоль всего овсяного поля, и вы не найдете ни одной сор ной травинки. На свою собаку я мало надеюсь. прибавил он: своей хорошей я лишился на днях. Интересно видеть, что будет делать ваш щенок, весьма красивый и породистый, надо сказать правду».
Пока мы шли по низкорослым кустам, собака фермера, бегавшая впереди нас, очевидно, наткнулась на тетереву, которая с клохтаньем перелетела через дорожку и тот час же села в кусте. Ничего лучшего не могло быть для пробы Непира. Дошедши до замеченного мною куста, я наладил свою собаку на несомненные следы тетерьки, но Непир скакал через них без малейшего внимания.
— Первая наша попытка, сказал фермер, неудачна. На собаку вашу надежда плохая, и потому я предлагаю вам отложить дело до другого дня. Тогда я попрошу вас прибыть к семи часам утра. Мы напьемся кофею и прямо до наступления жары попытаем счастья.
Когда на третий день, по уговору, за десять минут до семи часов, я слез с тележки посреди двора фермы, то увидал седую, коротко остриженную голову Фермера, выглянувшую из окна кабинета, и услыхал жирный его голос «покорнейше просим». Войдя в небольшую столовую, я нашел накрытый стол. Пока я ходил в кабинет поставить ружье и снять на время остальные охотничьи принадлежности, столовая оживилась. Я нашел в конце стола знакомую уже мне девушку лет семнадцати, пышные ресницы и волосы которой я только тут рассмотрел хорошенько. Человек пять опрятных мальчуганов и девочек помещались на стульях по обеим ее сторонам, а старик отец, пригласивший меня сесть рядом с собою, покойно опустился против нее на кресло.
— В прошлом году, сказал он, я имел несчастье потерять жену, и вот моя старшая Эмми, как видите, теперь мать всех этих детей.
Тою порою Эмми с необыкновенною ловкостью разливала молоко по стаканам детей, добавляя каждому кусок хлеба с маслом. Она не заставила ни отца, ни меня ждать наших порций душистого кофею с превосходными сливками и горячим печеньем. Отцу она налила кофей в кружку, превышавшую размеры обыкновенного стакана.
— Видно, что вы привыкли расточать благодеяния, сказал я, чтобы не сидеть молчком, — так свободно и легко это вас выходит.
— Всегда легко, отвечала она, делать, что нравиться.
— Конечно, Шиллер много одухотворяет ваш труд своими идеалами.
— Против этого я не спорю, ответила она, но у меня так мало времени после детских уроков, что мне некогда разбирать источники моих чувств. Мне все кажется, что любимое в жизни и есть идеальное.
В это время старик-отец налил себе вторую кружку кофею и приправил ее чудесными сливками. Девушка при поднялась, перешла на другой конец стола к отцу и тихо взяла у него приготовленную кружку. Старик схватился обеими руками за блюдечко и заворчал что-то вроде: «только на этот раз».
— Нет, нет папа! самым серьезным голосом сказала девушка. Это тебе вредно, и я положительно тебе этого не позволю. Старик выпустил блюдечко, и она унесла кофе.
Не теряя утренних часов, мы по знакомой уже мне дорожке отправились через кусты в близь лежащий лес. На этот раз мой Непир, скакнув через старый пень, вдруг загнул голову назад и с приподнятым хвостом застыл на месте. Налюбовавшись с моим хозяином первою стойкою щенка, я вспугнул и убил вылетевшего тетеревенка.
Когда впоследствии, на привале в калужских лесах, я передал этот охотничий эпизод Тургеневу, он сказал:
— Да, кажется, ничего нет необыкновенного в вашей Эмми, а между тем сколько веков культуры должны были наслоиться один на другой, чтобы такое явление стадо возможным.
Не связанные никаким присутствием владельцев, мы, как я уже выше заметил, занимали барский дом, поделивши между эскадронными товарищами комнаты, и жили, это как хотел. Мы с Василием Павловичем, как всегда, держали общий стол, а два брата бароны Офберги продовольствовались тоже вместе. Если мы и посещали взаимно друг друга, то в качестве гостей. У старшего, хорошего стрелка и охотника, желтый понтер Гектор был родной брат моего черного Непира, и, приходя иногда поболтать в комнату к барону, я постоянно изумлялся неусыпному вниманию охотника, наблюдавшего за своею, лежавшею на соломенной подушке, собакой. Выпускался красивый Гектор гулять на двор в известное время суток, но затем, едва только он поднимался с подушки и искательно подходил в хозяину или гостю, как в ту же минуту раздавалось неизменное: «geh'schalafen, geh'schalafen!» и несчастная собака снова неподвижно укладывалась на подушку.
Высокая справочная цена на овес побудила старшего барона купить рублей за пятнадцать осьминник роскошного клевера, которого солдатик барона ежедневно накашивал известное количество для его лошади. Таким образом барон достигал двух целей: освежения лошади травяным продовольствием и сокращения расхода наполовину.
Что касается до меня, то, занимаясь на досуге выездкой своих лошадей, от которых постоянно добивался успехов, я и не помышлял об уменьшении им корма, особливо налегая на своего Фелькерзама, которого почти довел до желаемой гибкости и податливости. Перед выступлением в поход, кавалергардский берейтор предлагал мне за него полторы тысячи рублей; но тогда я не решился продать его теперь же, в виду поступившего под седло Глазунчика, и был бы не прочь продать прежнего парадира за такую цену
В одно светлое, но далеко для меня не прекрасное утро в комнату ко мне вошел старший барон ОФберг.
— Здравствуйте, барон, сказал я. — Не хотите ли кофею.
— Нет, теперь девятый час, отвечал барон, и я не только напился кофею, но успел объездить свою лошадь. Я зашел спросить вас, — что такое с вашей лошадью? Я видел, солдатик выводил ее из конюшни, и она через порог спотыкается.
Я бросился в конюшню, и слова барона вполне оправдались. Лошадь, которую я день тому назад отъездил до мыла, по непонятной причине пала на ноги. Оказалось, что причиною беды была медвежья услуга. Солдатик мой откармливая несчастного Фелькерзама, от души, сверх обычной дачи, крал для него бароновский клевер. Пришлось прибегать к кровопусканиям и диете, но, не смотря на все старания, лошадь уже держалась под седлом одном школой. Весь прежний огонь погас невозвратно.
Однажды вернувшись с охоты, барон рассказал мне, что в чаще лесной нашел выводок глухарей, но цыплята так молоды, что он по них стрелять не стал. Мне захотелось натаскать своего Непира, уже показавшего блестящие способности. С этою целью я рано утром отправился на моховое болото, поросшее елками и группами невысоких кустов, представлявших зеленые острова между белыми мхами, этим любимым местопребыванием белых куропаток. На последних то рассчитывал я более всего, так как, крепкие на подъем, они всего удобнее для упражнения собаки в твердой стойке. Но как нарочно на этот раз я ничего и находил и, увлекаясь поисками, зашел далеко от своей тележки. Солнце высоко уже стояло на небе, показывая полдень; голод и жажда давали сильно себя чувствовать; в ягдташе моем, кроме случайно попавшейся пары дупелей. ничего не было, и я решился зажарить одного из них, не смотря на отсутствие соли. Ощипать его и надеть на палочку было делом нескольких минут, и затем, когда при поворотах над разведенным огнем сытый дупель стал выпускать свое сало, я вместо соли посыпал его порохом, содержащим селитру, как суррогат соли. Конечно, мое жареное оказалось совершенно черным, но съел я его с особенным аппетитом, и голодному оно казалось превосходным. Кончив импровизированный завтрак, я пустился далее и вдруг, к величайшей радости, увидал, что мой Непир вытянулся и замер, повернувшись носом к кустарнику, представлявшему зеленый продолговатый остров на чистом болоте. Долгое время стоял я над собакой, тихонько гладя ее по спине и любуясь ее раздувающимися ноздрями и горящими глазами. Но всему есть границы, и я вполголоса произнес: «allez!» Собака не двигалась. По крепкой ее стойке, я предполагал целый выводок тетеревов или белых куропаток, и стал подвигаться вдоль края острова по направленью, указываемому собакой, держа ружье наготове. Вдруг шагах в семи перед собою я услыхал в низкорослом кустарнике тот резкий трепет крыльев, который всегда так нервно действует на охотника, — и из кустов показалась краснобровая голова черныша. «Ну, думаю, дело начистоту. Торопиться некуда! Возьму повернее, и собака, так отлично державшая стойку, увидевши убитого тетерева, убедится в цели наших общих стараний». Медленно навел я ружье вдоль спины выбравшегося из кустов черныша и спустил курок. К изумлению моему, невредимый черныш, распустивши широко крылья, показался над белым комком дыма от моего выстрела. «Странно, подумал я;- но уж от второго то, совершенно хладнокровного и систематического выстрела не уйдешь». Опять белый ком дыма, и из него все выше и выше поднимается черныш и по сивому, безоблачному небу несется к отдаленной каемке лесов, окружающих моховое болото. Руки мои с дымящимися стволами опустились, и обидная неудача сразу подкосила остаток сил, возбуждавшихся недавнею надеждой. Всем моим существом я почувствовал, что в эту пору дня надо было бы уже быть дома и отдыхать от тяжелой ходьбы по болоту, в котором с каждым шагом нога глубоко уходит в мягкий мох. А тут приходится верст пять таким болотом возвращаться к лошади, таща ружье, которое тут только показалось чрезвычайно тяжелым. Солнце пекло невыносимо при совершенном безветрии. Вдруг во всеобщем молчании загрохотала близкая, оглушительная и непрерывная канонада. Не могло быть сомнения, что канонада эта производится громадными крепостными или морскими орудиями. Ясно, что англичане бомбардируют Ревель, а быть может прикрывают морскою артиллерией свой десант. В последнем случае, очевидно, завязалось генеральное сражение, на которое в числе прочих понесся и наш шестой эскадрон, в то время как я один, изнемогающий. от усталости, часа полтора еще буду тащиться по болоту. Хорош слуга отечества! Чем это все для меня разыграется? Отчаяние придало мне новые силы, и я гораздо скорее, чем можно было предполагать, дошел до ожидавшего меня кучера Ивана. Когда мы быстро докатили до дому, канонада прекратилась, и эскадрон не трогался с места, а к вечеру мы узнали, что соединенный флот праздновал день рождения Непира. Нечего было удивляться, что пальба казалась столь близкою, если припомнить, что на берегу Балтийского Порта мы совершенно ясно слышали гром бомбардирования Бомарзунда.
Не находя в моем воспоминании ничего замечательного о дальнейшем нашем пребывании на уединенной мызе, возвращаюсь с моим рассказом прямо в знакомые окрестности Дерпта на мызу Аякар к Энгардтам, куда позднею осенью мы были переведены снова.
На этот раз не упомню, почему именно я попал ночевать во флигель гостеприимных Бергов, вместе с кучером, моим Иваном, бывшим при мне в качестве прислуги. Когда, вставши поутру и напившись кофею, я отворил дверь в предшествующую комнату, то нашел Ивана стоящим против двери, и при взгляде на его рябые приподнявшиеся скулы и слегка прижмуренные, смеющиеся серенькие глазки, я тотчас увидал, что с ним случилось что-либо курьезное.
— Что ты, Иван? спросил я его.
— Ги, ги! замычал он, оскалившись. — Уж такие-то порядки тут, что только помилуйте! При этом он прибегнул к обычному своему жесту, которым выражал крайнее смущение и застенчивость: раздвинув пальцы рук, он, образуя как бы забрало, закрывал им глаза, хотя и продолжал смотреть в промежутки между пальцами.
— Помилуйте, скажите! прихожу это вечером и гляжу: что вам в той комнате, то и мне в этой. Только все попроще. А то и постель, и одеяло, и коврик, и столик, и графин с водою. Указывает человек: «вот, мол, тебе!» — и ушел. Что ж тут делаете? Я, признаться, спервоначала хотел просто лечь на пол и головою на коврик, да побоялся, что не те у них порядки. Делать нечего! разделся и тоже под одеяло. Господи! а утром-то, как вам понесли кофей, и мне тоже в глиняной желтой кружке кофей и булки здоровый ломоть. Ну, помилуйте, скажите! Что ж это за порядки?
Иван в сущности был прав, всем существом своим отшатываясь от подобных порядков, которые могут существовать только там, где одно служащее лицо, вполне заменяя двух-трех наших, имеет полное право рассчитывать на двойные или тройные удобства жизни.
В Аякаре началась наша прежняя однообразная жизнь, окруженная все тем же радушием хозяев. Всегда веселый и подвижной, барон был самым деятельным хозяином, не упускавшим случая извлечь из хозяйства возможную выгоду.
— Вы ведь знаете, сказал он однажды, что я всякую зиму торгую рыбою. Но если вы хотите видеть, как это делается, то после завтра мы поедем на рыбную ловлю, так как старообрядцы Пейпуса уже приехали и сторговались со мною. Часть большого озера, из которого вытекает река Эмбах, входить в нашу дачу, и весною, во время метания икры, рыба во множестве бьется к берегу. Поэтому я, перепрудивши у себя небольшой ручей, недалеко от берега озера устроил большую сажалку и пускаю в нее рыбу. Тут она не только сохраняется, но даже плодится, так как мелкую я никогда не выбираю. Я очень рад, господа, что это вас интересует, сказал барон, обращаясь ко мне и к Василию Павловичу, и после завтра мы поедем к сажалке, и вы сами все увидите. Я вас не задержу, у меня живо это будет сделано.
Когда в назначенный день санки подвезли нас к покрытой снегом сажалке, мы нашли на льду уже всех чухонцев, приготовлявшийся к лову, а также и русских крестьян-рыботорговцев. В руках у последних были не толстые дубинки.
Чтобы ясно понять происходившую на наших глазах операцию, надо представить себе четырехугольную и продолговатую сажалку в виде лежащей перед нами бедой страницы, на которой надо написать русскую букву «покой» так, чтобы верхняя черта буквы протянулась вдоль верхнего края листа, а две боковые ножки вдоль обоих его боков. Когда такая буква была умственно намечена на поверхности сажалки, чухонцы тотчас же с пешнями, кирками и топорами бросились прорубать лед по полоске, соответствующей верхней черте буквы П. В это же время другие стали на линиях, соответствующих обеим ножкам П, прорубать лунки, или высекать проруби аршин на десять одна от другой. Когда таковые проруби в два ряда прошли вдоль всей сажалки, кончившие первую сплошную прорубь, по верхней части буквы П, пробежали по всей сажалке и прорубили в нижнем конце ее совершенно такую же поперечную прорубь, как и в верхнем конце. Когда и эта прорубь была окончена, чухны стали прорубать еще и третью поперечную прорубь, как бы перепоясывая посредине букву П и превращая ее в букву Н. Тогда с саней растянули невод во всю ширину сажалки с привязанными к обоим крылам его длинными бечевами, свободные концы которых сейчас же прикрепили к десяти иди двенадцатиаршинным жердям. Жерди эти тотчас же запустили под лед и стали у толстого конца жерди поворачивать ее вялою до тех пор, пока тонкий конец жерди не показывался в отдушине первой очередной проруби. Тут стороживший его появление чухонец в свою очередь хватал жердь вилами и передвигал, как издержку, до следующей проруби, где такой же сторож налаживал ее до следующей, — и так далее. Когда обе жерди таким порядком достигли средней поперечной проруби, обе они были вынуты из воды и} конечно, вытащили за собою следом и веревки с прикрепленными к ним крыльями невода. Тащили невод в поперечную прорубь, по объяснению барона, из предосторожности, чтобы сажаная рыба, захваченная тоней во всю длину сажалки, своею тяжестью не прорвала сети и таким образом не обратила всех усилий в ничто. Такие опасения оказались далеко не излишними: надо было видеть горы всевозможной рыбы, наваленные по обе стороны вытащеной сети. Пока выброшенная рыба вертелась на снегу, русские торговцы подходили и быстрыми ударами дубинки убивали ее по голове. На вопрос мой, — для чего они это делают? — вопрошаемый отвечал:
— Изволите видеть, как я ударю, она жабры-то раскроет, точно живая, да с тем и застынет. В товаре-то она и красивее будет, не то что словно сонная набрана.
Когда сеть была опорожнена, жерди, исполнявшие должность вздержек, снова юркнули под лед и, проходя от лунки к лунке, в скорости достигли последней поперечной проруби, куда, вышедши из воды прежним порядком, вслед за веревками вытащили и вторую тоню. Кажется, на этот раз рыбы навалили еще большие вороха. Барон говорил нам, что тут рыбы рублей на пятьсот, по заранее условленной цене. К масляной он надеялся получить еще столько же. Вся мелкая рыба, попадавшаяся в обе тони, была на наших глазах пущена обратно в воду.
V
В Петербурге. — Встреча с друзьями. — Е. П. Ковалевский. — У министра Норова. — Вечер у певицы. — Граф Кушелев-Безбородко. М. А. Языков. — Обед в честь Тургенева. — Доктор Эрдман. — Именины. — Весенний поход на родину. — Просьба об отставке. — Некрасов игрок. — Хлопоты в Главном Штабе.
Между тем военные действия прекратились, и Тургенев писал мне, что, по мнению всех литературных друзей, новый сборник моих стихотворений получил окончательно приличный вид, в котором на днях Тургенев сдаст его в типографию; но что если я все еще желаю поднести его величеству свой перевод од Горация, то для этой цели мне необходимо воспользоваться, с наступлением мира, возможностью получить отпуск.
Вследствие этого, в первых числах января 1856 года, испросивши четырнадцатидневный отпуск, я однажды вечером растворил дверь в кабинет Некрасова и нежданно захватил здесь весь литературный кружок.
— О! а! э! и! — раздалось со всех сторон. Между прочим, и Дружинин с улыбкою, протягивая мне обе руки, громко воскликнул:
«На суку извилистом и чудном!»повторяя мой, спасенный его разъяснениями, стих.
С этих пор милый Дружинин постоянно встречал меня этим стихом, точно так же, как, в свою очередь, я постоянно встречал Полонского его стихом:
«В те дни, как я был соловьем!»И каждый раз на мое приветствие он сам разражался добродушнейшим смехом.
— Ведь вот, — продолжал я, — ты сам хохочешь над нелепостью своего же стиха. Но кому же, кроме прирожденного поэта, может прийти в голову такая нелепость и кому же другому так охотно простят ее?
Весьма забавно передавал Тургенев в лицах недоумения и споры, возникавшие в кругу моих друзей по поводу объяснений того или другого стихотворения. Всего забавнее выходило толкование стихотворения:
«О не зови! Страстей твоих так звонок Родной язык»…кончающегося стихами:
«И не зови, но песню наудачу Любви запой; На первый звук я как дитя заплачу И за тобой!»Каждый, прислушиваясь к целому стихотворению, чувствовал заключающуюся в нем поэтическую правду, и она нравилась ему, как гастроному вкусное блюдо, составных частей которого он определить не умеет.
— Ну позвольте! Не перебивайте меня! — говорит кто-либо из объясняющих.
— Дело очень просто: не зови меня, мне не следует идти за тобою, я уже испытал, как этот путь гибелен для меня, а потому оставь меня в покое и не зови.
— Прекрасно! — возражают другие, — но почему же вы не объясняете до конца? Как же связать — «о не зови»… с концом:
…«я как дитя заплачу И за тобой!»— Ясно, что эта решимость следовать за нею в противоречии со всем стихотворением.
— Да, точно! — в смущении говорит объяснитель, и всеобщий хохот заглушает слова его.
— Позвольте, господа! — восклицает гр. Л. Толстой. — Это так просто!
Но и на этот раз толкование приходит в тупик, покрываемое общим хохотом.
Как это ни невероятно, среди десятка толкователей, исключительно обладавших высшим эстетическим вкусом, не нашлось ни одного, способного самобытно разъяснить смысл стихотворения; и каждый, раскрыв издание 1856 года, может убедиться, что знатоки, не справившись со стихотворением, прибегли к ампутации и отрезали у него конец. А кажется, легко было понять, что человек влюбленный говорит не о своих намерениях следовать или не следовать за очаровательницей, а только о ее власти над ним. «О, не зови — это излишне. Я без того, заслышав песню твою, хотя бы запетую без мысли обо мне, со слезами последую за тобой».
В нашем шумном и веселом кружке особенно выдавался своею молчаливостью и бледностью, в то время уже седой, генерал-майор Егор Петрович Ковалевский. Его сдержанность равнялась только его скромности, хотя после долгого странствования по востоку и жизни в Китае ему было о чем рассказать. В более светлые минуты он с великим сочувствием отзывался о Китае, подобно всем, прожившим там известное время. Он, очевидно, мучительно хандрил, но сквозь эту хандру каждому слышалась бесконечная доброта этого человека. Тургенев не раз по уходе его говорил:
— Право, с такою хандрою, как у Ковалевского, неприлично появляться между людьми. Это просто невежливо. И что за причина такого настроения?
— Должно быть, замечал Некрасов в своем беспощадно-шуточном роде, — он какого-нибудь негра зарезал и этим мучается.
Такая мысль была, быть может, отчасти в связи с тем, что у Ковалевского действительно был слуга негр, вывезенный им из Абиссинии много лет тому назад. Он окрестил его, назвал Николаем и дал ему вольную. Но Николай был страстно предан своему господину и наотрез отказывался и от предложения вернуться на родину, и от всякой перемены своего положения.
Бывая иногда в гостинице Клея, ныне Европейской, я беседовал с Николаем, говорившим очень хорошо по-русски, и слышал, с каким участием и любовью господин и слуга отзывались друг о друге. Егор Петрович не раз говорил, что у бедного его Николая, как это нередко бывает у негров, попавших на север, сильнейшая чахотка.
— Я бы и денег ему дал, говорил Ковалевский, и отправил бы его на юг, но не могу его уговорить.
На стенах у Егора Петровича я был поражен удивительными акварельными портретами китайских красавиц, напоминавшими мягкостью и чистотой очертаний Перуджино. Ковалевский говорил, что это работа китаянок и вообще говорил о китаянках, как о первых в мире женщинах. На косвенные вопросы мои о его дурном расположении духа, он говорил, что летом его так и позывает броситься с балкона на улицу, а теперь он только по ночам старается унимать тоску карточною игрою в Английском Клубе. «Да и то, прибавил он, мало шевелит меня. Деньги есть, и выигрывать новые бесцельно».
Книжка моих стихотворений, изданная Тургеневым, вышла на другой или на третий день по приезде моем в Петербург, и я тотчас же с благодарностью уплатил ему мой долг, не забывая собственно главной цели моего приезда: посвящения Его Величеству моего перевода Горация. Недоумевая, каким путем этого достигнуть, я остановился на мысли обратиться к тогдашнему министру народного просвещения Норову.
— Вы из наших, любезно сказал Норов, узнавши, что я бывший студент Московского университета. — Я очень рад, что могу исполнить просьбу вашу и уведомить вас об ее исполнении.
Дней через десять чиновник при министерстве народного просвещения Добровольский, заставши меня у Некрасова, сообщил мне о принятии государем моего посвящения и о подарке мне рубинового перстня.
Зная мою страсть к романсам, и романсам Глинки в особенности, Тургенев однажды вечером повез меня к певице, мужу которой не без основания предсказывал блестящую будущность на дипломатическом поприще. Я был представлен трем сестрам певицам, из которых две случайно в этот вечер встретились в салоне старшей их сестры, хозяйки дома. Справедливость вынуждает сказать, что именно сама хозяйка была менее всех сестер наделена красотою. Спровадив более или менее формальных гостей, хозяйка сумела увести своих сестер и нас с Тургеневым в залу к роялю, и тут началось прелестнейшее трио. Но вот сестры хозяйки, вынужденные возвратиться домой, ушли одна за другою, и мы остались с Тургеневым у рояля, за которым хозяйка приступила к специальному исполнению романсов Глинки. Во всю жизнь я не мог забыть этого изящного и вдохновенного пения. Восторг, окрылявший певицу, сообщал обращенному к нам лицу ее духовную красоту, перед которой должна бы померкнуть заурядная, хотя бы и несомненная, красота. Душевное волнение Глинки, передаваемое нам певицею, прежде всего потрясало ее самое, и в конце романса она, закрывая лицо нотами, уходила от нас, чтобы некоторое время оправиться от осиливших ее рыданий. Минут через пять она возвращалась снова и без всяких приглашений продолжала петь. Я никогда уже не слыхивал такого исполнения Глинки.
Решительно не припомню в настоящую минуту, кто, по просьбе больного и никуда не выезжавшего графа Кушелева-Безбородко, познакомил меня с ним. Желание Кушелева познакомиться со мною я объясняю тогдашнею его фантазией издавать журнал, которому он дал название «Русское Слово»[183]. Я нашел в нем добродушного и скучающего богача, по болезненности прервавшего мало-помалу все сношения с так называемым светом, требовавшего известного напряжения. Всякое общественное положение, даже простое богатство требует от человека усилий, чтобы нести это вооружение к известной цели. Можно хорошо или плохо разыгрывать свою роль, но отказаться от нее совершенно — невозможно. Кушелев именно, как мне кажется, думал прожить одною своею великолепною обстановкою и при этом пришел к материальному и духовному банкротству. Но возвращаюсь к моим воспоминаниям.
Беломраморная лестница, ведущая в бельэтаж была уставлена прекрасными итальянскими статуями. В анфиладе комнат стены были покрыты дорогими картинами голландской школы. Не буду говорить о блестящей зале, диванной, затянутой персидскими коврами, и множестве драгоценных безделок. Угощая гостей изысканнейшим столом, мастерства крепостного повара, который мог бы поспорить с любым французом, граф говорил, что не понимает, что такое значит праздничный стол. «У меня, — говорил он, — стол всегда одинаковый, несмотря на меняющиеся блюда». Такому положению соответствовала и ежедневная сервировка и парадные ливреи многочисленной прислуги.
Я никогда не видал графини иначе, как за обедом, то есть уже при свечах, и потому не берусь говорить, в какой мере она сохранила свежесть, но на взгляд она была еще писаная красавица, если только не в буквальном значении слова. Как я слышал, граф купил ее у некоего К. за сорок тысяч рублей и, как видно, неразборчивая красавица, попавши из небогатой среды в миллионы, предалась необузданному мотовству. Говорили, что четыре раза в день модистки приезжали к графине с новыми платьями, а затем она нередко требовала то или другое платье и расстреливала его из револьвера. Все это не более как слухи. Но приведу слова самого Кушелева.
— Извините, пожалуйста, — сказал он мне однажды в своем кабинете, — что в настоящую минуту не могу вручить вам моего долга. Третьего дня я отпустил жену в Париж и был совершенно покоен, уплативши за нее в магазины сорок тысяч рублей. А сегодня утром неожиданно приносят еще счетов на семьдесят тысяч. Позвольте мне дня через три прислать вам мой долг.
Неудивительно, что при таких замашках бедный граф сначала прожил свое громадное состояние, а потом такое же, полученное по смерти брата. Хорошо, если у виденного мною семилетнего белокурого мальчика, сына графа, остался насущный кусок хлеба.
Если бы воспоминания о Кушелеве представляли одну картину материального разорения, то картина эта одними размерами отличалась бы от множества других. Но в ней проявлялась особенность, действовавшая на меня самым тяжелым образом даже на его гастрономических обедах.
Хотя во время, о котором я говорю, вся художественно-литературная сила сосредоточивалась в дворянских руках, но умственный и материальный труд издательства давно поступил в руки разночинцев, даже и там, где, как, например, у Некрасова и Дружинина, журналом заправлял сам издатель. Мы уже видели, как при тяготении нашей интеллигенции к идеям, вызвавшим освобождение крестьян, сама дворянская литература дошла в своем увлечении до оппозиции коренным дворянским интересам, против чего свежий, неизломанный инстинкт Льва Толстого так возмущался. Что же сказать о той среде, в которой возникли «Искра» и всемогущий «Свисток» «Современника», перед которым должен был замолчать сам Некрасов. Понятно, что туда, где люди этой среды, чувствуя свою силу, появлялись как домой, они вносили и свои приемы общежития. Я говорю здесь не о родословных, а о той благовоспитанности, на которую указывает французское выражение: «enfant de bonne maison»[184], рядом с его противоположностью.
В те два раза, в которые я обедал у Кушелева, я ни разу не заставал А. Ф. Писемского[185]; но знаю, что он там нередко обедал. С Писемским я встречался в нашем литературном кругу и всего чаще у Тургенева, с которым он был очень дружен. Хотя кроме Писемского в нашем кругу не было недостатка в людях, которых Тургенев обзывал толстяками, как например: Лонгинов, Гончаров, — но это были элементные толстяки, не позволявшие себе никакой распущенности, тогда как Писемский, плотно покушавши, дозволял себе громкую отрыжку, к которой так привык, что признавал ее делом безразличным. Я как раз вспомнил характеристику Писемского, придуманную Кушелевым, показывающую в то же время словесную силу издателя «Русского Слово»: «Писемский, — сказал он мне, — общественный рыгач».
Тяжело было сидеть за обедом, в котором серебряные блюда разносились ливрейною прислугою, и к которому некоторые гости уже от закуски подходили в сильно возбужденном состоянии.
— Граф! — громогласно восклицает один из подобных гостей, — я буду просто тебя называть «граф Гриша».
— Ну что же? Гриша так Гриша, — отвечает Кушелев. — Что же это доказывает?
— А я просто буду называть тебя «граф Гришка»!
— Ну, Гришка так Гришка. Что ж это доказывает? — И так далее.
Полагаю, что это коробило самую прислугу.
И вот русский барин-богач, взявшийся за неподсильную ему умственную работу, является со знаменем во всех отношениях враждебного ему лагеря. Но не наше дело спрашивать, почему всем активным русским силам надлежало стать жертвою мелодраматических фраз. Только будущее способно ответить на такой вопрос, а моя задача — рассказывать о виденном.
Приходится в числе лиц, принадлежавших к нашему литературному кружку, вспомнить о М. А. Языкове, неизменно присутствовавшем на всех наших беседах, вечерах и попойках, хотя он был человек женатый и занимал прекрасное помещение на казенном фарфоровом заводе. Он был человек весьма дельный и, помнится, избираем был Тургеневым третейским судьею в каком-то щекотливом деле. Но когда на своих хромающих и от природы кривых ножках он с улыбкою входил в комнату, каждый, протягивая ему руку, был уверен, что услышит какую-либо нелепость.
Бывало, зимою, поздно засидевшись после обеда, кто-нибудь из собеседников крикнет: «Господа! Поедемте ужинать к Языкову!» И вся ватага садилась на извозчиков и отправлялась на фарфоровый завод к несчастной жене Языкова, всегда с особенной любезностью встречавшей незваных гостей. Не знаю, как она успевала накормить всех, но часа через полтора или два являлись сытные и превосходные русские блюда, начиная с гречневой каши со сливочным маслом или со сливками и кончая великолепным поросенком, сырниками и т. д. И ватага отваливала домой, довольная хозяевами и ночною экскурсией.
Быть может, не всем известно, что Тургеневу стоило большого труда выпросить у Тютчева тетрадку его стихотворений для «Современника». Познакомившись впоследствии с Федором Ивановичем, я убедился в необыкновенной его авторской скромности, по которой он тщательно избегал не только разговоров, но даже намеков на его стихотворную деятельность. Появление небольшого собрания стихотворений Тютчева в «Современнике» было приветствовано в нашем кругу со всем восторгом, которого заслуживало это капитальное явление.
Все это приходит мне на память по случаю обеда, данного нами по подписке в честь Тургенева, нередко угощавшего нас прекрасными обедами. За обедом в зале какой-то гостиницы шампанского, а главное — дружеского единомыслия было много, а потому всем было весело. Собеседники не скупились на краткие приветствия, выставлявшие талант и литературные заслуги Тургенева.
— Господа! — воскликнул Тургенев, подымая руку: — позвольте просить вашего внимания. Вы видите, М. А. Языков желает говорить.
— Языков, Языков желает сказать спич! — раздались хихикаюшие голоса.
Языков, высоко поднимая бокал и озираясь кругом, серьезно произнес:
«Хотя мы спичем и не тычем, Но чтоб не быть разбиту параличем»….и сел. Раздался громкий смех, что и требовалось доказать. Мне стало совестно, что я ничего не приготовил и, вытащивши записную книжку, я на коленях написал и затеи громко прочел следующее четверостишие:
«Поднять бокал в честь дружного союза К Тургеневу мы нынче собрались. Надень ему венок, шалунья муза, Надень и улыбнись!»Минуты две спустя, Тургенев в свою очередь попросил слова и сказал:
«Все эти похвалы едва ль ко мне придутся, Но вы одно за мной признать должны: Я Тютчева заставил растегнуться И Фету вычистил штаны».Гомерический смех был наградою импровизатору.
Четырнадцатидневный отпуск мой кончился, и я должен был вернуться в свой флигель в Аякар, который Иван настойчиво называл «Якорь-мыза».
С самого детства желудок мой упорно отказывался от своих обязанностей, навлекая на меня целый рой недугов, начиная с горловых и главных болезней, а в последнее время недуги эти до того усилились, что я вынужден был прибегнуть к совету ученых дерптских врачей. Мне рекомендовали одного из докторов, только что вернувшегося из Севастополя, куда он был командирован в качестве одного из главных деятелей. Осмотрев меня, он нашел мое положение требующим немедленного, радикального лечения в клинике под его специальным надзором. С величайшим отчаянием в душе шел я от знаменитого профессора по площади мимо монумента Барклая-де-Толли и, случайно поднявши на углу улицы глаза, прочел надпись: доктор Эрдиан. «Дай, зайду, — подумал я, — и потолкую; хуже не будет».
Когда меня попросили в кабинет старика-доктора, и я, севши на указанное мне кресло, излил задушевные жалобы на мою болезнь, почтенный доктор спросил меня, — кто мне сказал о такой моей болезни. Я назвал доктора.
— Ни малейших признаков этой болезни в вас нет, а у вас гораздо хуже: общее расстройство дыхательных органов. Весною вам необходимо бросить все и бежать в Карлсбад. Я сам туда поеду, и мы там можем встретиться. А пока вот вам пилюли.
Я ушел от доктора в твердой решимости буквально последовать его совету; но до времени был рад вернуться к обычному течению жизни.
Помню, как нарочно, и в этом году 22-го февраля, в день моих именин, была такая же метель, как и в предшествующем году. И на этот раз, мы с Василием Павловичем никого не ждали к именинному пирогу. Но в первом часу. как и в прошлом году, послышался звон колокольчика, и в снежной пыли показалась почтовая тройка, а затем в комнату вошли засыпанные снегом Н. Ф. Щ-ий и Кр. А. Панаев.
Когда денщики сняли с приезжих шубы, я, конечно, бросился обнимать милых гостей, но Щ-ий с самым серьезным видом сделал рукою сдерживающий жест по направлению к Панаеву, проговорив:
— Кронид Александрович, стихи!
Тогда последний, приподымая оказавшийся в руке у него прекрасный граненый стакан и отступя на шаг, торжественно произнес:
«В день именин твоих прими стаканчик, Фет! Пей нектар из него, любезнейший поэт!»— А вот и курильница для фимиама, прибавил Щ-ий, подавая мне пепельницу.
Был март месяц. Стоило обождать две-три недели, и мы могли бы пуститься в обратный путь к новгородским поселениям без тех бедствий, которые в военное время составляют подвиги и потому переносятся безропотно. Но не так было решено в сухих и теплых апартаментах Главного Штаба. Нам был выслан маршрут и казначей день выступления. Ночлег первого перехода пришелся для нашего эскадрона у знакомого уже нам гостеприимного Берга. Долго вечером пришлось нам поджидать нашей Офицерской фуры, которой по расчету времени давно следовало быть на месте. Часов в десять любезный хозяин пришел к нам во флигель, приглашая успокоиться и лечь на отдыхе, так как один из наших людей приехал на пристяжной и заявил, что ось под фурой сломалась, а так как при фуре всегда есть запасная ось, которую нужно только приладить, то он и послал нашим людям на помощь своего плотника. Но не успели мы погрузиться в сладкий сон, как услыхали стук у дверей, и тот же Берг вошел к нам с огнем в комнату, с грустною улыбкой передавая о новом усложнении.
— Какие странные ваши люди, говорил он. — Они там в поле прибили моего плотника, который им помогал.
Приходилось все это улаживать посредством извинений и чаев потерпевшему.
Наступили сильные оттепели.
Зная, что ничто так не может укротить и успокоить молодую лошадь, как переходы под седлом, я пошел в поход впереди эскадрона на своем Глазунчике. Идти приходилось проселками по тесной дороге в один конь, и то не без треволнений. Дорога, при таянии снега углубленная в виде рытвины, представляла совершенный ручей, загороженный спереди крестьянскими санями, с наваленными на них запасными пиками, оборачивающими назад на вас свои острия. Молодая лошадь, наскучившая стоять по колено в холодном ручье, гребет воду и просится вперед. Но ни вперед, ни в бок в невылазные сугробы ходу нет, и приходится ждать, укрощая лошадь до тех пор, пока передние подводники вытащат сани из зажоры. Таким же порядком приходится переходить углубления и долины, в которых разыгралась весенняя вода. В особенности памятен мне один из таких переходов. Кроме ручьев, в которых пришлось оставить наши фуры с выбивающимися из сил людьми, лошадьми и помогающими им солдатиками, к вечеру нас, еще далеко от станции по маршруту, захватил проливной дождик, превративший вечер в непроглядную ночь. Добравшись до имения помещика, которого имени, к сожалению, не упомню, мы решились просить у него ночлега для себя и для эскадрона, почти уверенные в отказе, так как ночлег назначен был по маршруту верст за восемь далее. Но, к изумлению и радости нашей, помещик принял нас самым великодушным образом. Он тотчас же распорядился выгнать собственный скот из конюшен на всю ночь под проливной дождик и поместить туда наших людей и лошадей, а нас, офицеров, в числе пяти человек, провели в комнаты самого хозяина и, в виду неприбытии нашей фуры, платье наше было отдано сушить на кухню, а мы все пятеро снабжены бельем и платьем самого хозяина, так как собственное промокло все до нитки. Затем, когда из комков грязи мы, умывшись, восприняли человеческий образ, нас отлично накормили горячими кушаньями и уложили на прекрасных постелях. Не удивительно, что я через тридцать пять лет не забыл подробностей, такого приема. Опуская дальнейшие подробности возвращения полка на постоянные квартиры, скажу только, что на одной дневке, еще в пределах Лифляндской губернии, произошло следующее лично для меня неприятное событие.
На конюшне крестьянина, у которого мы дневали, все пять стойл были заняты двумя моими верховыми, верховою Василия Павловича и двумя лошадьми наших вестовых. Рано утром на другой день прибытия, вахмистр доложил Василию Павловичу, что его лошадь, скопившая с себя недоуздок, была найдена ходящею по коридору и пораненною в хрящ левого окорока, называемый сальцем. Так как на всей конюшне был только один жеребец, а именно мой Глазунчик, то сделано было предположение, правдоподобное, но не несомненное, что конь Василия Павловича со скуки стал соваться в чужие стойла и был вследствие того ударен жеребцом. Но такой ответ на непрошеную дружбу он мог получить и в другом любом стойле. Осмотревши рану и заметив капли янтарной влаги, я тотчас же объявил Василию Павловичу, что он лошади в поводу не доведет, и что надо ее оставить на месте. Не смотря на обычные в подобных случаях: «разойдется!» — Василий Павлович чрез три перехода должен был дать денег благонадежному солдатику на фураж и продовольствие и оставить с лошадью на месте. Но было уже поздно. Через месяц солдатик прибыл в штаб, притащивши с собою кожу лошади.
И вот мы снова в нашем штабе и великолепном манеже, и на широком плацу. Я, хотя с горем пополам, выдавливаю из своего Фелькерзама те контр-галопы, которые доставались мне с таким трудом. Между прочим, полк сбирается в Москву на коронацию. Но мне об этом и помышлять невозможно, в виду действительного расстройства здоровья и советов доктора Эрдмана.
— Я хотел предложить вам, сказал полковой командир на мою просьбу в одиннадцатимесячный отпуск, — идти в Москву в качестве полкового адъютанта, причем указывал в перспективе на белый плюмаж флигель-адъютанта. Но благодаря генерала за участие, я настаивал на своей просьбе.
— Признаюсь. сказал он, мне крайне неприятно, что к коронации все лучшие мои лошади разъезжаются. Да, кстати, я слыхал, вы продаете вашего Фелькерзама?
— Точно так, ваше пр-ство.
— Поручик Добленко! Передайте от меня корнету барону Гезен, чтобы не далее как завтра он принес Афанасию Афанасьевичу тысячу рублей за Фелькерзама, или подал бы в отставку. Мне безлошадные офицеры не нужны.
Я попросил у генерала позволения передать ему пару слов с глазу на глаз и, оставшись с ним один, сказал:
— Я в своем полку Фелькерзама не продам, так как он ослабел.
— А я еще вчера видел его под вами на плацу, сказал Курсель, и он ходил хорошо.
— Да, но только с моей привычкой можно вести его, а другой с этим не справится.
— В таком случае дело другое, заключил генерал.
— Что же касается до моих лошадей, прибавил я, то крошу ваше пр-ство ставить их на смотрах, куда вам будет угодно.
Так расстались мы с Курселем, которого мне уже более не пришлось видеть в жизни, и о котором я, как и о всех моих бывших начальниках, унес самое признательное воспоминание.
Падавши по команде в заграничный отпуск на одиннадцать месяцев, я должен был отправиться в Петербург для ускорения этого дела. В Петербурге, по причине летнего времени, я не застал никого уже из своих знакомых и даже Некрасов жил в Ораниенбауме. Он предложил мне остановиться в его опустевшей квартире, куда он тем не менее наезжал по делам редакции и по картежным ночам Английского клуба. Всем известно, что игроки, подобно влюбленным, видят вещи под влиянием аффекта и им, как пьяным, море по колено. Но каково трезвому соприкасаться с их фантазиями! Однажды вечером Некрасов, отправляясь в клуб играть и зная, что я со дня на день жду отъезда, тем не менее попросил у меня тысячу рублей взаймы. Я не имел духу отказать ему. К утру он выиграл и возвратил мне деньги. Об этом впоследствии Некрасов в похвалу мне не раз передавал В. П. Боткину, который, я уверен, в душе меня не похвалил.
Не знаю, какой добрый человек вразумил меня обратиться в Главный Штаб не с парадного крыльца, а из-под арки, в помещение писарей. Здесь, вызвавши надлежащего писаря, я для первого знакомства сунул ему пять рублей, обещав при успешном окончании дела десять.
— Не извольте беспокоиться, сказал писарь, через десять дней я доставлю вам отпуск. Раньше не могу и обещаю.
Через неделю однако мне захотелось узнать о движении дела, и на этот раз я пошел в Штаб с главного подъезда, переполненного после Севастополя всевозможными калеками, не только мужчинами, но и бабами. Мне указали адъютанта графа Апраксина.
— Потрудитесь справиться у старшего писаря, сказал граф, указывая глазами на противоположный конец длиннейшего стола.
— Извольте, ваше бл-дие, обратиться к старшему адъютанту, сказал писарь, не поднимая головы.
На вторичную мою просьбу, граф сказал:
— Прикажите писарю сходить справиться о движении дела.
Минут через пять вернувшийся из внутренних покоев писарь объявил, что прошение мое лежит без движения. Закипев негодованием, я снова пошел на заднее крыльцо к обманувшему меня писарю.
— Как же, братец, ты обещал через десять дней, а дело лежит без движения, как сказал мне старший писарь Апраксина?
— Да вы бы в рожу ему наплевали, отвечал писарь. Я своему слову господин. Сегодня отпуск подпишет начальник Штаба, завтра подадут подписать государю, после завтра, в четверг, поступит в типографию, а в пятницу в 8 час. утра явлюсь к вашему бл-дию с печатным приказом и поздравлю вас с отпуском.
Приходилось поневоле ждать.
Ровно в 8 часов утра в пятницу раздался звонок, и вслед затем вошедший писарь, подавая приказ, проговорил:
— Честь имею поздравить ваше бл-дие с отпуском.
VI
Карлсбад. — Встреча с Надей. — Ее роман. — Свидание с Тургеневым в Париже. — Делано.- La dame aux camelias. — Поездка в Куртавнель. — Семейство Виардо. — Дочь Тургенева. — Завтрак в Rosay. — Наша жизнь с Надей в Париже. — Ристори. — Эрбель. — Мы с Надей едем в Италию.
В пятидесятых годах заграничные поездки далеко[186] не были таким легким и будничным делом, в какое они превратились в наши дни. Поэтому очевидцу дотоле невиданного хотелось о нем рассказать, а небывалому — послушать про всякие диковинки. Неудивительно, что в 1856 и 1857 годах «Современника» появились в свое время довольно подробные записки моей поездки в Карлсбад, Париж и Италию. Но в настоящее время меня интересуют не встречавшиеся картины, а лица, посланные судьбою в русло моей жизни, без которых самая прожитая жизнь невозможна и даже немыслима, как немыслим сад без деревьев.
Как ни сильно было впечатление, произведенное Европою на меня, засидевшегося в совершенно бездорожной тогда еще России, но, минуя все эти чудеса благоустройства и художественных красот, переношусь прямо в мою скромную гостиницу в Карлсбад и к ней прикрепляю дальнейшую нить воспоминаний. Судьба поставила меня в исключительное положение к настоящим запискам. Все наиболее близкие лица, о которых придется говорить, не только вымерли, но вместе с ними вымерли и второстепенные лица, которые составляли как бы поле, где по уцелевшим отпечаткам можно бы было судить о верности рисунка исчезнувшего тела.
Я уже ранее говорил о симпатии, возникшей между мною и младшею сестрою Надей с первой встречи нашей после выхода из школ. Не странно ли, однако, что, несмотря на связующее нас чувство, у меня с сестрою Надей, так же как и с другими членами семьи, никогда не возникало непрерывной переписки? Конечно, я знал самые крупные события в жизни моей Нади со времени смерти отца. Знал, например, что она, получивши по разделу наше родовое гнездо Новоселки, отдала его в управление зятю А. Н. Шеншину, а сама, по случаю сильно пошатнувшегося здоровья, отправилась со старою девицей, Софьей Сергеевной Нязевой, за границу, где проживала уже второй год, преимущественно в Неаполе.
Несмотря на приятную встречу с доктором Эрдманом, в Карлсбаде пришлось скучать порядочно.
Однажды, воротясь в 6 часов вечера с прогулки, застаю у себя на столе пакет. Что такое? — Телеграфическая депеша:
«Я во Франценсбаде. Если можешь, приезжай немедля, или я к тебе приеду. Решайся. Жду ответа у телеграфа. Твоя Надя».
Я стремглав побежал на гору к телеграфу. Что писать? Если поеду во Франценсбад, свидание наше, по причине курса моего лечения, не может быть продолжительно, и надолго ли Надя во Франценсбаде — не знаю, а в Карлсбаде мы могли бы провести хотя несколько дней вместе. Попрошу Надю приехать сюда. Но едва депеша ушла, мне пришло на ум простое соображение: Франценсбад — такой же Баде, как и Карлсбад. Следовательно, Надя точно также может не портить своего курса, воздержавшись от поездки ко мне. Вследствие итого, новой депешей прошу разрешения вопроса о водолечении. Нет ответа.
— Вероятно гуляет, заметил чиновник на телеграфе.
— А, гуляет! стало быть, наверное пьет воды. Пишите поскорей: «дожидайся меня, я сейчас выеду. Завтра утром буду». Так, так, так…. Что?
— «Не принимают депеши». — «Почему?» — «Да верно поздно: после девяти часов нет службы».
Уж в Германии так: «Vir haben keinen Nachtdienst», — да и только, и ступай домой. Что ж теперь делать? Чего доброго, — я во Франценсбад, а Надя в Карлсбадъ. Подожду до утра: авось получу ответ.
На другой день — половина восьмого, нет ответа, а в восемь дилижанс отходит. Еду!
Во Франценсбад, т. е. за 50 верст, почтовая карета дотащилась в 4 часа пополудни. Небольшой городок напомнил бы низменными засеянными полями, его окружающими, русский уездный город, но широко разбежавшийся венец гор, синеющих на горизонте, ясно говорит, что вы все-таки не в России, а в Богемии. Бегу на квартиру Нади.
— «Дома?»
— «Нет. В два часа уехали в Карлсбад».
— Экое горе! Пожалуй, не застанет меня в Карлсбаде и проедет далее. Скорее на телеграф: «жди в Карлсбаде; я сейчас прискачу на курьерских». В коляску заложили пару больших лошадей, и почтарь, перекинув трубу через плечо, тронулся с места крупною рысью. Немецкий курьер не то, что в России носит это имя, и что Гоголь прозвал «птицей-тройкой», — а все-таки в четыре часа я проехал те же 50 верст, которые в дилижансе протащился семь.
В четверть десятого я уже был в Карлсбаде и застал у себя Надю, а на столе три утренние телеграфические депеши, — ответы на вчерашние вопросы. Ответы были переданы на телеграфе еще с вечера, но как звуки мюнхгаузенского рожка, застывшие на морозе, пролежали безгласно целую ночь и без ведома хозяина оттаяли и зазвучали в девять часов утра, когда я уже пустился в дорогу. «Vir haben keinen Nachtdienst».
Оглядываясь на пройденный мною жизненный путь, я воочию убеждаюсь в неразрывной цепи причинности, коей каждое отдельное звено в данную минуту кажется нам безразлично случайным, но которым тем не менее строго обусловлено все, нисходящее до последнего звена. В настоящую минуту мне приходится оглядываться на одно из таких роковых для меня звеньев, и я умственно гляжу на него с отрадным и в то же самое время тяжелым чувством.
У дам моих, не в первый раз посещающих воды, нашлось немало знакомых, и когда сестра Надя переходила на плацу перед кургаузом к какой-либо знакомой на скамейку, а мы со старушкой Нязевой оставались на скамье под деревом одни, последняя, выразительно усмехаясь, говорила мне:
— Посмотрите, Афанасий Афанасьевич, какой цвет лица у вашей сестрицы и какой блеск в глазах! Ах, если бы вы видели ее в Неаполе на придворных балах! Это была совершенная красавица. Я вам должна рассказать. В Неаполе она была окружена молодежью, но сердце ее похитил один. Ах! как вам рассказать? — Это совершенный Фауст! У него в Средиземном море своя яхта, на которой он устраивает дамам балы и катанья. Она вам ничего не говорила? Он просил ее руки, и она дала свое согласие. Он хотел приехать во Франценсбад, но теперь пишет, что приедет к нам в Париж, и там уже будет свадьба.
— Странно, — заметил я, — что Надя не объявила мне об этом при первом же свидании.
— Ах, поймите, что она боится сглазить свое счастье. Он такой обворожительный Фауст, что даже старуха, не в силах ему противоречить.
— Да кто же он такой?
— Русский богач — Эрбель. Он ее обожает. Она подарила ему свой чудесный портрет.
— Неужели же вы, доведя дело так далеко, не разузнали о нем никаких подробностей? Положим, такое отношение к делу простительно в двадцатидвухлетней девочке, но — извините меня, Софья Сергеевна, — вас я в этом случае не понимаю.
— Ах, право! Имейте терпение! В Париже все непременно объяснится. Он с проседью, но это придает ему особенную прелесть. Это настоящий Фауст. И он сумел оценить ее ум и грацию.
Конечно, после этого неожиданного разговора я старался узнать хотя что-либо о господине Эрбеле, и отрывочные о нем слухи были для меня мало успокоительны.
На другой день, воспользовавшись часом, когда Нязева ушла навестить свою знакомую, мы под руку с сестрою отправились по длинной аллее, ведущей мимо временных магазинов к стрельбищу из пистонных ружей. Увидав отходящую вправо в гору уединенную тропинку с возвышающейся на ней скамьей, я пригласил туда Надю, и мы, усевшись на скамье, остались совершенно одни над головами гуляющей внизу толпы.
— Признаюсь, — сказала Надя, — я очень рада, что мы, наконец, остались с тобою вдвоем.
— Ты, кажется, видишь, — отвечал я, — что и я рад не менее; хотя не ожидал, чтобы ты от меня так скрытничала.
Глаза и щеки девушки озарились одушевлением.
— Полагаю, мой дружок, что ты не в состоянии сообщить мне об этом деле более мне уже известного. Тогда как я считаю своим священным долгом сообщить тебе то, о чем едва ли кто говорил тебе.
— Например? — спросила Надя, прямо глядя мне в глаза.
— Например, я слышал, что этот, в сущности разоренный, искатель приключений не только женат, но не раз уже формально вступал в брак с неопытными девушками и затем бросал их на произвол судьбы Ты, вероятно, этого еще не слыхала?
— Нет, я сама не раз слыхала нечто в этом роде
— И это не заставило тебя очнуться, призадуматься и оглянуться?
— Ах, если бы ты знал, какой это очаровательный ум! С каким восторгом говорит он о твоих стихах!
— Еще бы! Он знает, чем скорее всего заслужить твое расположение. Но ведь это еще нисколько не обеспечивает твою будущность.
— Я не хочу верить всем низостям, которые толпа с таким восторгом распространяет про людей избранных. Что же касается до меня, моя будущность обеспечена: хоть день, да мой!
— На это, друг мой, — отвечал я полушепотом и наклонив голову, — никакого возражения быть не может.
Здесь же сестра объявила мне, что завтра же уезжает в Париж, а оттуда в Остенде, где пробудет четыре недели на морских купаньях, тогда как я должен еще две недели оканчивать свое лечение в Карлсбаде, где и буду с нетерпением поджидать ее адреса для возможности оставаться в непрерывной переписке. До высылки ей денег из Новоселок она попросила у меня взаймы тысячу рублей, которые я и вручил ей с особенным удовольствием и гордостью в виде билетов восточного займа, ходивших тогда превосходно за границей.
На другой день дилижанс увез моих дам, и я остался в одиночестве, показавшемся мне уже весьма несносным, допивать свои воды.
Но все на свете имеет конец; и в «Современнике» 1857 года, в февральской книжке, я, так сказать по горячим следам, описал мою поездку в Германию и прибытие в Париж. Но в настоящую минуту я пересматриваю этапы моей духовной жизни — то, что случилось в известном виде для меня, а не то, что — как страна или город — пребывает и поныне открыто для всякого наблюдателя. Поэтому не считаю нужным говорить о моих местных и путевых впечатлениях.
В Париже, за отсутствием сестры, уехавшей в Остенде, единственным знакомым мне человеком оказался Тургенев, которого адрес мне был известен из его письма[187].
Зная крайнюю ограниченность моих средств, я старался устроиться по возможности дешево, и действительно достиг в этом отношении некоторого совершенства, занявши на rue Helder и в hotel Helder в пятом этаже две весьма чистых даже щеголеватых комнаты за 40 Франков (10 р.) в месяц. Правда, штукатурка потолков представляла крутой перелом, снашиваясь по направлению к окнам и со общая таким образом квартире значении мансарды.
Не без душевного волнения отправился я в rue de l'Arcade отыскивать Тургенева, которого могло там не быть. Спрашиваю привратника, говорит: «здесь».
Тургенев, сидевший за рабочим столом, с первого взгляда не узнал меня в штатском, но вдруг крикнул от изумления и бросился меня обнимать, восклицая: «вот он! вот от!»
Помещение, занимаемое Тургеневым, если не принимать в расчет формы потолка и двух лишних этажей, в сущности мало отличалось от моего: тот же небольшой салон с камином и часами перед зеркалом и маленькая спальня.
Пока мы разговаривали, вошел высокого роста худощавый с проседью брюнет. Тургенев познакомил нас, назнавши мне господина Делаво. Оказалось, что г. Делаво прожил несколько лет в России, где познакомился с русской литературой и с литературным кружком раньше моего с последним знакомства. Так, знал он Панаевых Некрасова, Гончарова, Боткина, Тургенева и даже меня по имени. В настоящее время он в Париже занимался переводами с русского языка и, как сказывал мне Тургенев, должен был перебиваться весьма затруднительно в денежном отношении. Не могу не сказать несколько слов об этом, по выражению Тургенева, единственном знакомом мне французе.
Дело в том, что этот француз, получивший основательное классическое образование, настолько же отличался любознательностью, как и примерною скромностью. Так например, будучи по происхождению маркизом Делаво, он никогда не именовался и не подписывался маркизом, и однажды, на вопрос мой по этому поводу, отвечал, что находит такой титул несоответственным своему материальному положению. Для меня, совершенного новичка в Париже, милый и образованный Делаво являлся совершенным Виргилием, водившим меня по всему Парижу, начиная с Лувра и до последнего студенческого бала и поющей кофейни. При этом, к совершенному моему отчаянию, невозможно бы, уплатить за него даже двух франков, неизбежных при входе. Никто яснее его не видал того плачевного состояния в котором всякая власть во Франции находится со времен революции, будучи вынуждена заботиться не о благе, а лишь об угождении вкусам толпы. Последнюю задачу Наполеон III в то время понимал и исполнял во всем объеме.
Однажды мы с Тургеневым сидели в первом ряду кресел театра Vaudeville на представлении «La dame aux camelias». Последнюю ломала перед нами старая и чахоточная актриса, имени которой не упомню. Тургенев сообщил мне шепотом, что покрывающие ее бриллианты — русские. При ее лживых завываниях Тургенев восклицал: «Боже! что бы сказал Шекспир, глядя на все эти штуки!» А когда она бесконечно завыла перед смертью, я услыхал русский шепот: «да ну, издыхай скорей!» Между тем дамы в ложах зажимали платками глаза. При таково несообразном зрелище я не выдержал и, припав головою к рампе, затрясся неудержимым смехом. Это не мешало Тургеневу давать мне шепотом знать, что многие недовольные взоры обращены на меня, и что если я буду продолжать смеяться, грозное «à la porte!» не заставит ждать себя.
Покуда я осматривал парижские диковинки, Тургенев успел уехать, и я скова стал испытывать скуку, не взирая на любезные услуги Делаво.
Недели через две, я получил от Тургенева письмо следующего содержания: «С последнего свидания нашего в Париже я поселился у добрых приятелей и почти ежедневно таскаюсь с хозяином дома на охоту, хотя куропаток в этот год весьма мало. Не знаю, когда буду в Париже. Если вам скучно, садитесь на железную дорогу, взяв предварительно билет в дилижанс, отходящий в Rosay en Brie, куда к вам навстречу вышлют экипаж из Куртавнеля, имения г. Виардо. По крайней мере получите понятие о французской, деревенской жизни».
В самом деле, — подумал я, — отчего же не проехаться и не взглянуть? И вслед затем написал, что в будущий понедельник выеду. В понедельник, набрав небольшую лукошку персиков и Фонтенебльского винограда, до которого Тургенев был большой охотник, я рано утром отправился на железную дорогу. В вагоне места много да и ехать пришлось только полчаса, следовательно, с плодами и с зонтиком возня невелика. Зато при перемещении в дилижанс, в котором пришлось просидеть четыре часа, дело оказалось — хоть брось. В купе места заняты. Заглянул в карету — полна старухами, а небо хмурится, того и гляди- польет дождь. Кондуктор объявил, что я могу выбирать между каретой и империалом. Я подумал: «лучше вымокнуть, чем задохнуться», и полез на верхе. Но куда девать коробку с плодами, чтобы они не превратились в морс? Все уселись, а я стоял на колесе с вопросительным видом Пандоры. — «Дайте мне вашу коробку, — крикнула одна из сидящих в карете старухе, — я ее буду держать на коленях». — Ну, не вялая ли это старуха? Бич хлопнул по запыленной, но доброй белой лошади, запряженной на выносе перед парой караковых дышловых, и дилижанс покатился со скоростью 10 верст в час. На империале ожидало меня новое удобство: рядом со мною поместились какие-то мальчишки, оспаривавшие друг у друга места не без того, чтобы встреча двух отталкивающихся тел не отзывалась и на моих боках. К этому сидящий рядом со мною прибавлял огромного бумажного змея, который всю дорогу танцевал перед моим носом, заслоняя неживописную местность, вроде той, с которой я познакомился на Страсбургской железной дороге. За мной и подо мной, рядом с почтарем, сидели синие блузы. На половине дороги, около трактира или, лучше, шинка, слезли неугомонные мальчишки и унесли неукротимого змея. Я вздохнул свободнее. Дорога пошла лесами
— Вы, смею спросить, в Rosay? обратился ко мне сидевший на козлах блузник.
— Нет, далее: в Куртавнель.
— А! вы к г. Виардо?
— Да.
— Поздравляю вас! Премилые люди. Г. Виардо пользуется большим уважением в нашем околотке. У него прекрасное состояние. К нему приехал землемер разбивать леса на «лесосеки»….. и пошел, и пошел, так что я в полчаса узнал денежные обстоятельства г. Виардо гораздо лучше, чем свои собственные, с условием, надо прибавить, если в словах синей блузы была хотя половина истины. — «За вами из замка вышлют экипаж, продолжал он, но если этого не будет, позвольте, я вас довезу. Моя лошадь дожидается в Rosay, а в этом городишке экипажа нанять не найдете».
Я поблагодарил с полною уверенностью, что блуза подпускает все эти турусы с намерением взять с меня подороже за доставку в замок. Лошадей переменили, народу в дилижансе убыло, и старуха закричала из окна, чтобы и взад коробку, а то она один персик уже съела. Места опростались, нашлось и коробке местечко. Вот и небольшой городишка Rosay показался невдалеке. Блузник повторил приглашение. «Эк его хлопочет!» подумал я. — «Далеко ли от города до замка?»
— Тринадцать, четырнадцать километров (около 12 верст).
Дилижанс остановился перед мелочною лавкой, заменяющей в Rosay контору. Около дверей стояла прекрасная коляска, запряженная парою вороных, и кучер в шляпе с галуном прохаживался по мостовой. Я поспешил выпросить у кондуктора свой чемодан и сложил на него зонтик, пальто и коробку, вполне уверенный, что присланный кучер сейчас же освободит меня от этих скучных предметов. Подхожу, спрашиваю, — оказывается, что это извозчик, подряженный везти часть пассажиров в совершенно противоположную сторону той, в которую мне нужно ехать.
— А где бы нанять лошадь?
— Здесь не найдете, говорит лавочница, она же и управляющий конторою дилижансов.
— Видите, тут нет лошадей, снова заметил мой знакомый блузник. Я предлагаю свои услуги, и вам выбора ее остается. Лошадь моя ожидает недалеко отсюда у постоялого двора, и я повторяю предложение. Пойдемте! А! вас беспокоит чемодан? Позвольте, я его донесу!
И с этим словом он ловко закинул себе на плечи мой довольно увесистый чемодан. Мы тронулись в путь. Несмотря на уверение блузника, что идти несколько шагов, мы прошли около полуверсты по дурной мостовой и, наконец, добрались до небольшого трактира, далеко не блистательного ни в каком отношении. У дверей стояла рессорная одноколка, и небольшая буланая лошадка нетерпеливо помахивала головой. В кабриолете сидели мальчик лет шести и девочка помоложе.
— Это дети приехали за мною. Лошадь так смирна, что ребенок может безопасно управлять ею, сказал словоохотливый блузник, устанавливая в ноги мой чемодан. — Теперь готово, прибавил он. Неугодно ли садиться? Мы тронемся, а через час и даже менее вы будете у ворот замка.
Я заметил, что желал бы тут же на месте кончить наши расчеты.
— Какие расчеты?
— Я бы не желал остаться в долгу за причиняемое вам беспокойство, проворчал я, замечая, что дело что-то не ладно.
Черные глаза француза покрылись маслом и покосились в мою сторону.
— То есть вы хотите мне заплатить! Нет, милостивый государь, я предложил вам ехать со мною единственно из удовольствия оказать услугу вам и господину Виардо, моему соседу, которому, я уверен, особенно приятно будет ваше посещение. Моя ферма за шесть километров не доезжая до его замка, но лошадка проворна, а вам выбора нет.
Я был уничтожен. Вот тебе и синяя блуза! Нет, ни за что бы не хотел быть в таком нелепом жалком положении. Человек предложил самую любезную услугу, как поденщик тащил полверсты мой чемодан, и в награду за все я его обидел, правда, неумышленно, но от этого ему, а главное мне, ни на волос ее легче. Не помню, какой вздор ворчал я в свое извинение. Нельзя же было молча сесть в кабриолет. Бич хлопнул, и буланенькая пустилась по шоссе. Славу Богу! быстрота рысачка помогла мне переменить тему, воздавая должную дань удивления неутомимо резвой лошадке. Через три четверти часа кабриолет остановился у старинных сквозных ворот, между железных прутьев которых из-за деревьев выглядывал серый фасад древнего валенного дона.
— Позвоните! вот ваши вещи и желаю вам приятно провести время, сказал мой неизвестный благодетель, кивая головой и заворачивая буланую назад.
Через минуту кабриолет умчался из глаз под учащенные звуки проворных копыт. Позвонив и не замечая никакого движения ни перед фасадом дома, ни по дорожкам, ведущим вокруг цветочных клумб и деревьев к воротам, я стал рассматривать мое будущее пристанище. Пепельно-серый дом, или, вернее, замок с большими окнами, старой, местами мхом поросшей кровлей, глядел на меня из-за каштанов и тополей с тем сурово-насмешливым выражением старика, свойственным всем зданиям, на которых не сгладилась средневековая физиономия, — с выражением, явно говорящим: «Эх, вы, молодежь! Вам бы все покрасивее да полегче; а по-нашему попрочнее да потеплее. У вас стенки в два кирпичика, а у вас в два аршина. Посмотрите, какими широкими канавами мы себя окапываем; коли ты из наших, опустим подъемный мост, и милости просим, а то походи около каменного рва да с тем и ступай. Ведь теперь у вас, говорят, просвещение да земская полиция ее дают воли лихому человеку. А кто вас знает, оно все-таки лучше, как в канаве-то вода не переводится».
Кроме цветов, пестревших по клумбам вдоль фасада, под окнами выставлены из оранжерей цветы и деревья стран более благосклонных. Насмотревшись на эспланаду, на каменный ров, в зеленую воду которого ветерок ронял беспрестанно листы тополей и акаций, позлащенные дыханием осени, на самый фасад замка, я позвонил снова, и на этот раз навстречу мне вышел лакей.
— «Дома г. Виардо?» — «Нет». — «А Тургевев?» — «Тоже нет». — «Где же они?» — «Ha охоте». — «Когда же они вернутся?».
— Теперь час; они непременно должны быть к обеду, то есть к шести часам.
— Ну, а мадам Виардо дома?
— Мадам дома, только она еще ее выходила. Вы желаете видеть г. Тургенева? Позвольте, я снесу пока ваши вещи в его комнату. Пожалуйте!
По каменным ступеням низенькой лестницы главного входа мы вошли в высокий, светлый коридор, выходившие в приемную комнату. Здесь встретила меня женщина средних лет, но кто она — хозяйка ли дома, родственница, или знакомая хозяев? — я не имел ни малейшего понятия. Отрекомендовавшись, я намекнул на желание видеть Тургенева.
— Неугодно ли пожаловать в гостиную, пока вам при готовят комнату? Сестра еще не выходила, а брат и Тургенев на охоте.
Ну, слава Богу! по крайней мере знаю, с кем говорю. В высокой и просторной, во всю глубину дома преходящей угольной гостиной в два света, стол посредине, против камина — круглый стол, обставленный диванчиками, кушетками и креслами. В окна, противоположные главному фасаду, смотрели клены, каштаны и тополи парка. В про стенке тех же окон стоял рояль, а у стены, противоположной камину, на диване, перед которым была разложена медвежья шкура, сидели молодые девушки, вероятно, дети хозяев. Я поместился на кушетке у круглого стола и завязал один из спасительных разговоров, в продолжение которых мучит одна забота: как бы его хилой нитки хватило на возможно долгое время.
— Теперь ваша комната готова, сказала дама, взглянув на вошедшего слугу, — и если вам угодно отдохнуть или устроиться с дороги, делайте, как найдете удобным.
Я поклонился и вошел за слугою по знакомому коридору. Поднявшись по широкой лестнице во второй этаж мы снова очутились в длинном коридоре с дверями на право и налево. В конце, направо у двери, лакей остановился и отворил ее.
— Вот ваша комната. Не прикажете ли горячей воды? Мадам приказала спросить, неугодно ли вам завтракать? Здесь завтракают в 12 часов, время прошло, а до обеда еще четыре часа.
Я отказался, и лакей вышел. Взятую с собой на всякий случай книгу читать не хотелось; дай хоть рассмотрю, где я. В окно виднелся тот же парк, который я мельком заметил из гостиной. Внизу, у самой стены, светился глубокий каменный ров, огибающий весь замок. Легкие, очевидно в позднейшее время через него переброшенные, мостики вели под своды дерев парка. Тишина, не возмущаемся ничем. Я закурил сигару и отворил окно, — все та же мертвая тишина. Лягушки тихо двигались в канаве по пригретой солнцем зеленой поверхности стоячей воды. С полей, прилегающих к замку, осень давно разогнала всех рабочих. Ни звука.
— Мадам приглашает вас в гостиную, если вам угодно, проговорил лакей, не прося позволения войти в комнату.
— Слава Богу! Наконец-то! подумал я и пошел.
В гостиной, кроме знакомых уже лиц, я заметил женщину, присевшую у камина и передвигавшую бронзовую решетку. При шуме моих шагов она обернулась, встала, и по свободной грации и той любезно приветливой улыбке, которою образованные женщины умеют встречать гостя, не было сомнения, что передо мной хозяйка дома. Я извинился в хлопотах, причиненным моим приездом, на который Тургенев, без сомнения, испросил позволение хозяйки.
— Очень рада случаю с вами познакомиться, но Тургенев, по обычной рассеянности, не сказал ни слова, и вот почему вы должны были ожидать, пока приготовят вашу комнату. Но теперь все улажено, садитесь пожалуйста.
Завязался разговор, и в десять минут хозяйка вполне успела хоть на время изгладить из памяти миниатюрную Одиссею этого дня.
— Теперь обычное время наших прогулок. Не хотите ни пойти с нами?
День был прекрасный. Острые вершины тополей дремали в пригревающих лучах сентябрьского солнца, падалица пестрела вокруг толстых стволов яблонь, образующих старую аллею проселка, которою замок соединен с шоссе. Из-под скошенного жнивья начинал зеленея выступать пушистый клевер; невдалеке, в лощине около канавы, усаженной вербами, паслись мериносы; на пригорке два плуга, запряженные парами дюжих и сытых лошадей, медленно двигались друг за другом, оставляя за собою свежие, темно-бурые полосы. Когда мы обошли по полям и небольшим лескам вокруг замка, солнце уже совершенно опустилось к вершинам леса, разодевшись тем ярким осенними румянцем, которым горит лицо умирающего в чахотке.
— Как вам нравится здешняя природа? спросила меня хозяйка.
— Природа везде хороша.
— Вы снисходительнее других к нашим местам. Maдам Дюдеван, гостя у меня, постоянно находила, что здесь почти жить нельзя, — так пустынны наши окрестности.
Версты за полторы раздались выстрелы
— А! это наши охотники возвращаются. Пойдемте домой через сад, тогда вы будете иметь полное понятие о здешнем хозяйстве.
Мы подошли к лощинке, около которой паслись стаде мериносов. «Babette! Babette!» закричала одна из девочек, шедших с англичанкой. На голос малютки из стада выбежала белая коза и доверчиво подошла к своей пятилетней госпоже. Около оранжерей вся дамская компания раcсеялась вдоль шпалер, искать спелых персиков к обеду. Опять раздались выстрелы, но на этот раз ближе к дому. Уверенный, что Тургенев забыл о своем приглашении и во всяком случае не ожидает моего приезда, я предложили дамам не говорить обо мне ни слова, предоставляя ему самому найти меня у себя в кабинете. Заговор составился и, как только завидели охотников, я отправился в комнату Тургенева. Но судьба отметила этот день строгою чертою неудач. Кто-то из прислуги, не участвовавший ни заговоре, объявил о моем приезде, и Тургенев встретили меня вопросом:
— Разве вы не получали моего письма?
— Какого письма?
— Я писал, что хозяева ожидают на несколько дней приезжих дам, и в доме все лишние комнаты будут заняты. Поэтому я советовал вам приехать дней через десять.
Итак, опять неудача. Уехать сейчас же неловко, сидеть долго тоже неловко. Я решился уехать, пробыв еще день. Раздался звонок к обеду, и все общество, довольно многочисленное, собралось в угольной зале, в противоположной от гостиной конце дома. Желая сколько-нибудь оправдать в глазах хозяина свой приезд, я громко спросил: «Тургенев! неужели вы ни словом не предупредили хозяйку о моем приезде?» На это мадам Виардо шутя воскликнула: «о, он дикарь!» («Ce sont de ses tonrs de sauvage»). На что Тургенев стал трепать меня по плечу, приговаривая: «он добрый малый!» Разговор переходил от ежедневных событий собственно семейного круга к вопросам общим: политическим и литературным. Зашла речь о последних стихотворениях Гюго, и хозяин, в подтверждение своих слов касательно силы, которую поэт проявил в некоторых новых пьесах, прочел на память несколько стихов. Из-за стола все отправились в гостиную. Приехал домашний доктор, составился вист, хозяйка сена за рояль, и долго чудные звуки Моцарта и Бетховена раздавались в комнате.
Так прошел день. На другой почти то же самое; следует только прибавить утренние партии на бильярде, а к вечеру, кроме музыки и виста, серебряные голоски девиц, пропитывающих вслух роли из Мольера, приготовляемого к домашнему театру. С особенною улыбкою удовольствия Тургенев вслушивался в чтение пятнадцатилетней девушки, с которою он тотчас же познакомил меня, как с своей дочерью Полиною. Действительно, она весьма мало читала стихи Мольера; но за то, будучи молодым Иваном Сергеевичем в юбке, не могла предъявлять ни малейшей претензии на миловидность.
— Полина! спросил Тургенев девушку, — неужели ты ни слова русского не помнишь? Ну как по-русски «вода?»
— Не помню.
— А хлеб?
— Не знаю.
— Это удивительно! восклицал Тургенев.
Во взаимных отношениях совершенно седого Виардо и сильно поседевшего Тургенева, несмотря на их дружбу, ясно выражалась приветливость полноправного хозяина, с одной стороны, и благовоспитанная угодливость гостя — с другой. Спальня Тургенева помещалась за биллиардной; и, как я узнал впоследствии, запертая дверь из нее выходила в гостиную. Конечно, я только спал в отведенной мне во втором этаже комнате, стараясь, по возможности, бежать к Тургеневу и воспользоваться его беседою на чужой стороне.
На другое утро, когда я спозаранку забрался в комнату Тургенева, у нас завязалась самая оживленная беседа мало-помалу перешедшая в громогласный спор.
— Заметили ли вы, — спросил Тургенев, — что дочь моя, русская по происхождению, до того превратилась во француженку, что не помнит даже слова «хлеб», хотя она вывезена во Францию уже семи лет.
Когда я, в свою очередь изумился, нашедши русскую девушку в центре Франции, Тургенев воскликнул:
— Так вы ничего не знаете, и я должен вам все это рассказать! Начать с того, что вот этот Куртавнель, в котором мы с вами в настоящую минуту беседуем, есть, говоря цветистым слогом, колыбель моей литературной известности. Здесь, не имея средств жить в Париже, я с разрешения любезных хозяев провел зиму в одиночестве, питаясь супом из полукурицы и яичницей, приготовляемых мне старухой ключницей. Здесь, желая добыть денег, я написал большую часть своих «Записок охотника»; и сюда же, как вы видели, попала моя дочь из Спасского. Когда-то, во время моего студенчества, приехав на вакацию к матери, я сблизился с крепостною ее прачкою. Но лет через семь, вернувшись в Спасское, я узнал следующее: у прачки была девочка, которую вся дворня злорадно называла барышней, и кучера преднамеренно заставляли ее таскать непосильные ей ведра с водою. По приказанию моей матери девочку одевали на минуту в чистое платье и приводили в гостиную, а покойная мать моя спрашивала: «Скажите, на кого эта девочка похожа?» Полагаю, что вы сами убедились вчера в легкости ответа на подобный вопрос. Все это заставило меня призадуматься касательно будущей судьбы девочки; а так как я ничего важного в жизни не предпринимаю без совета мадам Виардо, то и изложил этой женщине все дело, ничего не скрывая. Справедливо указывая на то, что в России никакое образование не в силах вывести девушек из фальшивого положения, мадам Виардо предложила мне поместить девочку к ней в дом, где она будет воспитываться вместе с ее детьми. И не в одном этом отношении, — прибавил Тургенев, воодушевляясь, — я подчинен воле этой женщины. Нет! Она давно и навсегда заслонила от меня все остальное, и так мне и надо. Я только тогда блаженствую, когда женщина каблуком наступит мне на шею и вдавит мое лицо носом в грязь. Боже мой! — воскликнул он, заламывая руки над головою и шагая по комнате. — Какое счастье для женщины быть безобразной!
Мало-помалу разговор наш от частностей перешел к общему. Оказалось, что мы оба инстинктивно находились под могучим влиянием Кольцова. Меня всегда подкупало поэтическое буйство, в котором у Кольцова недостатка нет, и я тогда еще не успел рассмотреть, что Кольцов, говоря от имени крестьянина, говорит псевдокрестьянским языком, непонятным для простонародья, чем и объясняется его непопулярность. Ни один крестьянин не скажет:
«Родись терпеливым И на все готовым».Тем не менее, невзирая на несоответствие формы содержанию, в нем так много специально русского воодушевления и задора, что последний одолевал и такого западника, каким стал Тургенев под влиянием мадам Виардо. Помню, с каким воодушевлением он повторял за мною:
«И чтоб с горем в пиру Быть с веселым лицом, На погибель идти — Песни петь соловьем».Хотя мне до сих пор кажется, что такие качества менее всего у нас с Тургеневым в характере. Как бы то ни было, я вынужден не только рассказать о вечных наших с Тургеневым разногласиях, но и объяснить их источники, насколько я их в настоящее время понимаю. Ожесточенные споры наши, не раз воспроизведенные под другими именами в рассказах Тургенева, оставляли в душе его до того постоянный след, что, привезши мне в 1864 году из Баден-Бадена стихотворения Мерике, он на первом листе написал: «Врагу моему А. А. Фету на память пребывания в Петербурге в январе 1864 г.».
Недаром Фауст, объясняя Маргарите сущность мироздания, говорит: «Чувство — все». Это чувство присуще даже неодушевленным предметам. Серебро чернеет, чувствуя приближение серы; магнит чувствует близость железа и т. д. Дело непосредственного чувства угадывать строй чужой души. Дело чувства на собственный страх приходить к известному решению, но основывать его на словах похвалы или порицания известным лицом данного предмета совершенно ошибочно. Говорить, что такой-то, открывающий на каждом шагу недостатки в ребенке или в своей родине, ненавидит своего сына или свое отечество, так же мало основательно, как по ежеминутным восхвалениям и самохвальству заключать о безграничной любви. Не странно ли, что споры, которым мы с Тургеневым за тридцать пять лет безотчетно предавались с таким ожесточением, нимало не потерявши своей едкости, продолжаются между славянофилами и западниками по сей день, невзирая на многократные их обсуждения с разных сторон и указания наглядного опыта?
Никто не станет спорить, что от народного воспитания зависит и народное благосостояние, но чрезвычайно односторонне приурочивать воспитание к такому тесному кругу, какова грамотность, оставляя другие бесчисленные влияния, начиная с народной и семейной среды, поддерживаемой законным надзором религиозной, отеческой и всякой иной власти. В этом отношении нельзя не видеть, что наше народное воспитание с шестидесятых годов значительно пошло назад, а вслед за тем пошло назад и народное благосостояние. Принимая в земледельческом государстве мерилом общего благосостояния зерновой хлеб, невозможно не сознаться, что до шестидесятых годов отсутствие у крестьянина двух-трехлетнего запасного одонка[188], обеспечивающего, помимо сельского магазина, продовольствие семьи на случай неурожая, — было исключением; тогда как в настоящее время существование такого одонка представляет исключение. Но ограничимся указанием на источник постоянных наших с Тургеневым споров, при которых в запальчивости, особенно со стороны Тургенева, недостатка не было. Впоследствии мы узнали, что дамы в Куртавнеле, поневоле слыша наш оглушительный гам на непонятном и гортанном языке, наперерыв восклицали: «Боже мой! Они убьют друг друга!» И когда Тургенев, воздевши руки и внезапно воскликнув: «Батюшка! Христа ради не говорите этого!» — повалился мне в ноги, и вдруг наступило взаимное молчание, дамы воскликнули: «Вот! они убили друг друга!»
Не могу не сказать, что наш брат русский, внезапно вступающий в домашнюю жизнь немцев, а тем более французов, приходит в изумление перед малым количеством питания, представляемого их завтраками и обедами. У нас если появится наваристый борщ или щи с хорошим куском говядины, да затем гречневая каша с маслом или с подливкой, то усердно отнесшийся в этим двум блюдам не захочет ничего остального; тогда как обед в замке Куртавнель состоял из французского бульона, слабого до бесчувствия, за которым вторым блюдом являлся небольшой мясной пирожок, какие у нас подаются к супу; третьим блюдом являлись вареные бобы с художественно нарезанными ломтиками светившейся насквозь ветчины; последним блюдом являлись блинчики или яичница с вареньем на небольшом плафоне. А между тем не редкость встретить тучных, пожилых французов и француженок.
На третий день я объявил желание возвратиться в Париж, и так как нужно было поспеть в Rosay к шести часам пополудни, времени отправления дилижанса, то я должен был уехать из дому не позже четырех часов. Хозяева всхлопотались кормить меня на дорогу, но я наотрез отказался. Подали кабриолет, и через час я уже был в Rosay.
— Скоро ли пойдет дилижанс?
— Да через полчаса, а самое позднее через три четверти.
Хлопотать было нечего, любезный Виардо с утра приказал взять для меня место в купе. Теперь пять часов, дилижанс пойдет через час, будет шесть, да пройдет четыре, будет десять, да по железной дороге тридцать пять минут, следовательно мне придется обедать не раньше одиннадцати. Это что-то поздно.
— Нет ли тут гостиницы?
— Есть, отличная.
Я отправился в отличную гостиницу, и она оказалась вполне отличной от всех гостиниц в мире, исключая наших почтовых. Как я ни бился, не мог достать ни супу, ни прочего.
— «Нет ли мяса?» — «Есть». — «Что такое?» — «Голубенок».
— «Один?!» — «Один».
— Дайте пожалуйста голубенка, и с этим словом я вошел в небольшую обеденную залу.
За круглым столом сидела дама и рядом с вею пожилой господин, по осанке и щетинистым усам которого легко можно было узнать старого солдата первой империи, если бы даже в петлице не алела неизбежная розетка Почетного Легиона. Перед ними стояла бутылка красного вика и блюдо сочной телятины, а подле на стуле лежал белый хлеб, похожий на двухаршинный отрубок березового бревна. Что делать? Есть нечего. Принесенный голубенок, попахивающий пережаренным маслом, исчез, оставивши жалкие следы своего существования. Я потребовал сыру и полбутылки шампанского.
— Шампанского нет.
— Как нет? сказал обиженным тоном наполеоновский капитан. — Спросите в лавке у такого-то.
— У него нет.
— Ну так у такого-то.
— Я послала, отвечала хозяйка, да не знаю, есть ли. Ну, Rosay! В двух шагах от Шампаньи, и не достанешь полбутылки вина. Наконец явилась полбутылка сомнительного вида и хлопнула, как из ружья. Я предложил по бокалу капитану и его даме. Капитан поблагодарил и подвинул ко мне блюдо телятины, а вслед затем стал рассказывать о великой ретираде из сгоревшей Москвы, хваля русских на чем свет стоит. За что бы уже ему хвалить? — Не знаю.
Между тем кондуктор затрубил, и в купе у меня ее нашлось товарищей. Воспользовавшись простором, я закурил сигару, лег через все три или четыре места и приехал на станцию железкой дороги сонный.
На другой день, за завтраком в кофейне Пале-Ройяльской Ротонды, попался мне знакомый француз Делаво. Он уезжал на месяц в деревню, и по этому случаю мы давно не видались. Приказав поставить приборы на один столик, мы пустились во взаимные расспросы.
— Ну, теперь вы огляделись в Париже, заметил Делаво. Скажите, какое он на вас произвел впечатление. Мы, парижане, ко всему присмотрелись, интересно суждение человека свежего. Со мной можете быть совершенно откровенны, настолько вы меня знаете.
— Очень рад, что вы навели меня на эту тему, у меня самого она вертелась в голове, и я не раз припоминал ваше выражение касательно немецких книг. Вы говорили, что они непостижимо дурно сделаны (mal faits) в сравнении с французскими, из которых каждая, самая дрянная и пустая, так изложена, что читается легко — без сучка без задоринки.
— Помню, помню. У вас вообще думают плохо и трудно, а писать гладко великие мастера. Но к чему вы это вспомнили?
— К тому, что отвешу это ко всей парижской жизни, от улицы Риволи до Гипподрома, от последнего винтика в экипаже до первых бриллиантовых серег за стеклом магазина, от художественной выставки до Большой Оперы, — все гладко, ловко, блистательно (bien fait), а целое прозаично, мишурно и бессонно, как нарядный венский пирог, простоявший месяц за окном кондитерской.
Недели две пришлось мне протомиться в моем одиночестве, тоскливо посматривая на березку, со дна двора подымавшую свою макушку вровень с моим окном.
Можно себе представить мой восторг, когда единственный слуга нашей гостиницы, Люи, исполнявший и должность привратника, подал мне записку, в которой я прочел по-русски:
«Мы сейчас только остановились по соседству от тебя, — rue Taitbout, hôtel Taitbout. Заходи ждем тебя обедать» Твоя Надя.
С этого момента жизнь моя просияла под нежными лучами сердечной привязанности Нади. Она сумела до известной степени сообщить мне свое живое сочувствие к произведениям искусств, которым исполнена была сама. Обладая прекрасною историческою памятью, она сумела заинтересовать и меня своими любимыми до-Рафаэлевскими живописцами и с детским простодушием смеялась над моими coq á l'âne'ами. Зная мою слабость к обжорству и шампанскому, она ежедневно кормила меня великолепными обедами и заставляла выпивать бутылку шампанского. Нельзя не помянуть добром хозяйку ее гостиницы, которая видимо желала угодить своим постояльцам. Ее супы напоминали наши русские, а ее сочные пулярки казались подернутыми легким налетом карамели; мороженое всегда приходило в машинке от соседнего Тортони.
Весело и беспечно протекали мои дни, и так как дамы ничего не говорили о своем романе, то я и сам боялся заводить об нем речь.
Читая на афише, что заступившая место Рашели — Ристори будет играть Медею в трагедии Легуве, я взял для своих дам ложу.
Занавес поднялся, и я с ужасом услыхал итальянские legato и piccicato, из которых не понимал ни слова. В мыслях у меня промелькнуло что-то вроде «Le mariage forcé» Мольера, где во французской пьесе распеваются испанские стихи… «Ну, подумал я, делать нечего! Надо прослушать этот итальянский пролог», показавшийся мне бесконечным. Но когда с поднятием занавеса снова раздались «piccicato», я убедился, что слушаю трагедию на итальянском языке, мне непонятном — и тут же объявил дамам, что не намерен продолжать самого бессмысленного и скучного занятия, и пойду походит по бульвару, где и буду ожидать окончания представления, чтобы придти за ними. Сестра сказала, что и она уходит со мною гулять, но Софья Сергеевна, со сверкающими от волнения взорами, объявила наотрез, что «вы мол, господа, как хотите, а я ни за что не уйду от Ристори». Часа через полтора мы с сестрою, прогулявшись и освежившись мороженым, вернулись с нашими контрамарками к концу драмы за Софьей Сергеевной. Я под руку вел сестру, и когда, сойдя с лестницы, мы повернулись так, что нам стала видна вся сходящая по ней толпа, я почувствовал, что рука сестры дрогнула и продолжала трепетать на моей, и, побледнев как полотно, она, следя глазами за сходящим, коротко остриженным и с сильною проседью мужчиной, прошептала: «это он!» В ту же минуту тот же самый мужчина в небольшой серой летней шляпе проскочил мимо нас и быстрыми шагами направился к выходу. Отдаваясь первому порыву, я, оставив руку сестры, бросился к выходу и вниз по ступенькам на улицу, где при ярком свете фонарей увидел быстро уходящего человека. Я крикнул его по имени так резво, что он в минуту остановился, и я, подойдя к нему, сказал, что он, кажется, не заметил в конце лестницы девицы Ш-й.
— Боже мой! возможно ли? воскликнул он. Позвольте мне пойти и засвидетельствовать ей мое глубочайшее почтение. Какое неожиданное счастье! сказал он, снимая шляпу и низко кланяясь дамам. Смею надеяться, что вы дозволите мне явиться завтра к вам в 12 часов дня. Представьте меня вашему брату, которого, как вам известно, я давнишний поклонник.
— Мы будем вас ждать в 12 часов, тихо сказала сестра, успевшая несколько оправиться от волнения.
Еще раз поклонившись, поклонник наш исчез. Была теплая осенняя ночь, и я пошел пешком провожать дам до их отеля.
— Неужели вы, Софья Сергеевна, не жалеете о потерянном вечере в драме, в которой, разумеется, не поняли ни слова?
— Ах нет! я напротив чрезвычайно довольна. Ристори восторг что такое! Надо было видеть и слышать, как над детьми она, изображая согнутыми пальцами когти, произнесла: tigresse!
При этом я даже в полумраке видел серые перчатки Софьи Сергеевны в виде страшных когтей.
Когда мы вошли в освещенную гостиную дам, я на минутку уселся с папироскою и, не обращаясь ни к кому особенно, спросил:
— Неужели вы полагаете, что герой вашего романа завтра придет?
— Ах, Афанасий Афанасьевич! воскликнула Софья Сергеевна, — удивляюсь, как вы можете так дурно думать о людях. Приходите завтра сами, и вы убедитесь, что все дело будет положительно окончено. Он все-таки…. настоящий Фауст!
— Я приду в половине первого, когда вы сами убедитесь, что из этого, слава Богу, ничего не выйдет. А теперь покойной ночи, если это возможно.
И я побежал в свой hôtel Helder.
На другой дев в половине первого я застал дам, тщательно одетых и видимо смущенных. Бедная Надя! как она была мила в своем плохо скрываемом разочаровании. При каждом стуке останавливающегося у подъезда экипажа, Софья Сергеевна подбегала к балконному окну и, взглянув вниз, безмолвно отходила на свое место. Конечно, все ожидания, как я предвидел, были напрасны.
К счастию для нас, в скорости появился Делаво, которого я еще ранее успел представит дамам. Я навел его на любимую его тему: бессмыслие художественных требований французской публики и нелепость того, что французы выдают за философию. Он распевал, как соловей, закрывая при этом свои черные, добрые глаза и восклицая по временам: «о, le publique est absurde!»
Что происходило на душе у сестры, вследствие такого разочарования, я никогда не мог узнать, но, конечно, употреблял всевозможные предосторожности, чтобы не коснуться больного места. В образе нашей жизни, по-видимому, ничего не изменилось, исключая приезда Тургенева, оживившего наше пребывание в Париже. Услышав о том, что сестра моя в Париже, он не раз приходил к ней в Нôtel Taitbout и расхваливал наши действительно хорошие обеды. Надо ему отдать справедливость, как gourmet.
Однажды он принес мне прелестное карманное издание Горация — Дидота, напечатанное в 1855 г. по Лондонскому изданию Бонда 1606 г., подписавши на нем «Фету от Тургенева в Париже в октябре 1856 г.» Сестра тотчас же отдала это издание лучшему переплетчику, и я до сих пор храню это двойное воспоминание рядом с имеющимся у меня экземпляром настоящего Бонда. По моему мнению, не смотря на крошечный объем книги и многочисленные труды по объяснениям Горация, издание Бонда представляет наилучшее объяснение Горация.
— Ах, как у тебя милое сказала однажды сестра, взобравшись ко мне на пятый этаж и заставши меня за письменным столом. С этих пор она часто навещала меня, и я всяким театрам предпочитал проводить вечер рядом с нею, усевшись у пылающего или догорающего камина, в котором она сама любила будить огонь. Правда, мечты наши большею частью были нерадостны, но мы отлично понимали друг друга, находя один в другом нравственную опору. На вопрос сестры: отчего ты не женишься — я без малейшей аффектации отвечал, что по состоянию здоровья ожидаю скорее смерти и смотрю на брак, как на вещь для меня недостижимую.
— Знаешь ли что, друг мой, сказал я сестре в одно из таких посещений. — Мы с тобою почти неразлучны. Почему бы нам, вместо двух квартир, не занять одной общей? У вас в настоящее время с Софьей Сергеевной общая спальня, а здесь во втором этаже за 250 франков в месяц: прекрасная передняя, гостиная и две спальни, могущие служить и кабинетами. Это выйдет не дороже того, что мы платим врознь.
Сказано — сделано. Через несколько дней мы уже помещались на нашей, более удобной квартире.
Никогда быть может в жизни я так беззаветно не предавался настоящему; но не думая о будущем, мы оба сестрою чувствовали боязнь разлуки. Эта боязнь заставила наконец нас обоих придти к какому-либо решению отношению к ближайшему будущему.
В отсутствие Софьи Сергеевны, нередко уходившей в ожидании отъезда в Россию, в магазины для сформирования туалета своей племянницы, мы, сосчитавши наши небольшие средства, решили не расставаться в виду долгого времени, оставшегося до окончания моего отпуска. А так как, раньше или позднее Софью Сергеевну приходилось отвозить на родину, то было гораздо благоразумнее выдать ей деньги на путевые издержки в настоящую минуту, и таким образом вместо тройных остаться заграницей лишь при двойных расходах.
— Ты и без того собирался в Италию, сказала Надя. — Да тебе, поэту, и стыдно не побывать в этой классически стране искусства. А я с восторгом буду твоим чичероне.
Софья Сергеевна, постоянно выставлявшая свое сопутство в виде одолжения, не могла ничего возразить на предложение избавиться от дальнейшего беспокойства, а через несколько дней по ее отъезде в Россию, мы с Надей отправились через Марсель в Италию.
VII
В Италии. — Тиволи. — Встреча с Некрасовым, Панаевой и К-ими. — Ночь в дилижансе. — Неаполь. — Осмотр Сольфатары. — Неаполитанская зима. — Снова в Париже. — Пение M-me Виардо. — Возвращение в Россию. — Приезд в Новоселки. — Встреча с Борисовым и моя поездка в Фатьяново. — Болезнь Нади. — Я везу Надю в Москву к докторам. — Приезд Борисова. — Встреча с В. П. Боткиным. — Знакомство с семьею Боткиных. — Моя женитьба.
В книге Гербеля[189] «Русские поэты» упомянуто, что в «Современнике» были напечатаны три статьи мои под заглавием: «Из заграницы. Путевые впечатления. 1856, № 11, 1857, No№ 2 и 7». Последняя статья кончается выездом из Марселя, а между тем я очень хорошо помню, с каким увлечением описывал я великолепную ночь на Средиземном море, а затем все впечатления Генуи, Ливорно, Пизы, Чивита-Векии, Рима и Неаполя. Но, вероятно, все эти путевые впечатления не были напечатаны в «Современнике», куда были отправлены и где, вероятно, в редакции пропали. Хотя Италия по сей день жива в моем воображении во всю ширину пройденных мною по ней путей, но оставляя многообразное их сплетение, буду держаться лишь той стези, из которой оглядывающемуся уясняется непосредственное истечение дальнейшей жизненной судьбы, хотя в то время невозможно было этого предвидеть[190].
В настоящую минуту для меня совершенно ясно, что сестра Надя, вступивши лишь на сравнительно короткое время на мой жизненный путь, неизбежно наклонила его по новому направлению. Я охотно предоставил бы читателю самому прийти к этому убеждению, если бы не чувствовал желания извиниться в молчании, с каким намереваюсь пройти подробности моего пребывания на классической, итальянской почве. «Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом», — говорит Печорин Лермонтова. Вот разгадка многого, что со стороны может показаться во мне непростительным чудачеством и кривлянием. Стоит мне заподозрить, что меня преднамеренно наводят на красоту, перед которою я по собственному побуждению пал бы во прах, как уже сердце мое болезненно сжимается и наполняется все сильнейшею горечью по мере приближения красоты. Желая быть кратким, скажу, во-первых, что в грустной и безмолвной Ниобее — Италии, окруженной грязными и жадными нищими, я не признал красавицы царицы, гордой своими прекрасными детьми, царицы, о которой мне натвердили поэты. Болезненное чувство мое, быть может, усиливалось от желания Нади указать мне на окружавшие нас прелести. Но я должен сказать, что без настояния сестры я не увидал бы Италии и притом в таких подробностях. Нигде и никогда болезненное чувство, о котором я говорю, не овладевало мною в такой степени, как в Италии; но оно проявлялось иногда с резкостью, о которой в настоящее время мне стыдно вспоминать. Привожу один из наглядных примеров. Однажды сестра уговорила меня проехать и взглянуть на Тиволи.
Самое ненавистное для меня в жизни — это передвижение моего тела с места на место, и поэтому наиболее уныние наводящими словами для меня всегда были: гулять, кататься, ехать. Самый резвый рысак в городе и самый быстрый поезд железной дороги для меня, превращенного при передвижении в поклажу, все-таки убийственно медленны. А тут в холодный осенний день предстояло тащиться за 20 верст до Тиволи и обратно, то есть всего 40 верст, отданному на жертву римскому извозчику с его черепахой коляской. Тем не менее по дороге туда мы, свернувши версты на две в сторону, осмотрели развалины знаменитой виллы Адриана; и здесь, невзирая на забиравшуюся мне в душу хандру, я не мог не любоваться на такой амфитеатр, как Навмахия, и на художественную лепную работу потолков в термах, о которой можно бы было подумать, что она только что окончена.
Но вот мы добрались до Тиволи, где, можно сказать, на одном пункте соединилась и античная прелесть живописных остатков храма Весты, и полукруг отвесных скал, у подножия которых темная пасть, именуемая гротом Сирены, поглощает кипящую струю Анио, отвесно падающую в нее с утеса.
— Какая прелесть! — невольно воскликнула сестра, стоя на площадке спиною к единственной гостинице, примыкающей к храму Весты. — Здесь, — прибавила она, — есть ослы с проводниками, и нам необходимо заказать их, чтобы объехать прелестное ущелье Анио.
— Я нестерпимо озяб, — сказал я, — и голоден; а вид этой воды наводит на меня лихорадку. Надеюсь, что здесь найдется что-либо утолить голод.
С этим словом я вошел в гостиницу, где слуга понимал мои желания, высказанные по-французски. Через четверть часа в камине запылали громадные оливковые пни, и в комнате стало скорее жарко, чем холодно. При этом исполнено было мое требование, вероятно, немало изумившее прислугу, а именно: окна, выходящие на каскад, были тщательно завешены суконными одеялами, так что мы обедали при свечах. Нашлась и бутылка шампанского «Мума», кроме которого и в Риме не было возможности достать другой марки. Враждебно ушедши в мрачную пещеру своего недоброжелательства, я из нее ревниво наблюдал все движения сестры. Я видел, что она сначала безмолвно следовала за мною во мраке, но по мере того, как пещера моя начинала согреваться пылающим камином и шампанским, сестра все настойчивее вела меня за руку к выходу и к приготовленным для прогулки ослам. Конечно, все ее ласкательные уловки были вполне очевидны; но они были так добродушны и любовны, что упрямиться долее было бы неблаговоспитанно. Два проводника привели нам своих ослов; на переднем с дамским седлом поехала сестра по узкой тропинке, справа опоясывающей ущелье Анио; а сзади пришлось тащиться мне, чувствуя себя телесно и душевно в положении Санхо-Пансо. В одном месте мой осел, вероятно, инстинктивно сочувствуя моему упрямству, повалился подо мною на самом краю обрыва. Конечно, я в ту же минуту оперся обеими ногами о каменную дорогу, так что осел апатично лег у меня между коленями. Но и этот незначительный эпизод не ускользнул от внимания боком ехавшей передо мною сестры. Не успел я еще переступить через моего осла, как, соскочив с седла и бледная как полотно, Надя была уже подле меня. В подобном роде были все ее уловки водить меня по итальянским и вообще европейским достопримечательностям.
Откровенно упомянув о собственных странностях, не могу пройти молчанием странностей сестры, которые тогда только удивляли меня, оставаясь до времени неразрешимою загадкою.
По приезде в Рим мы заняли на вид весьма порядочную квартиру на via Carrozza, но через несколько дней пришли к убеждению, что оставаться тут долее невозможно. Рамы в окнах, как мы вынуждены были заметить, представляли широкие отверстия, в которые значительный ноябрьский холод проникал беспрепятственно; а то, что носило название каминов, только наполняло комнаты дымом, нимало их не согревая. К этому надо прибавить такое количество мучительных насекомых, которым Моисей при египетских казнях мог бы позавидовать. Между тем, не помню, каким образом, но, вероятно, за общим столом Испанской гостиницы мы неожиданно встретились с Некрасовым и Панаевой. По этому поводу, как я после узнал, Герцен сказал: «Некрасов в Риме то же, что щука в опере».
Как я ни убеждал сестру не беспокоиться разыскивать новую квартиру, говоря, что исполню это лично, — но, когда я отправлялся на поиски, она пускалась в таковые же. Не желая вдали от родины доводить нашу общую кассу до истощения, я наконец отыскал, по мнению моему, очень хорошую и удобную квартиру. Тем временем сестра отыскала другую, едва ли более удобную, но гораздо более дорогую на Duo Macelli. Когда после забраковки приисканной мною квартиры, я вернулся с новых поисков, то к удивлению моему застал сестру в слезах и в истерическом припадке, несогласном ни с ее благоразумием, ни с ничтожным поводом неудовольствия. В волнении я забежал к Панаевой и сообщил ей о происходящем у нас.
— Да наймите вы нравящуюся ей квартиру, — сказала Панаева.
Так я и поступил, и согласие наше восстановилось.
На Монте-Пинчио я встретил молодого поэта Павла Михайловича Ковалевского, племянника Егора Петровича, о котором я говорил выше. Он представил меня своей жене, а я его — сестре; и таким образом мы познакомились. Молодые Ковалевские были премилые люди; они занимали прекрасное помещение в Palazzete Borgese, и у них по вечерам можно было застать гостей из русской колонии. Иногда они, взявши четвероместную коляску, приглашали сестру и меня кататься. Таким образом у нас завязались самые дружественные и непринужденные отношения. Я заставлял иногда сестру от души смеяться, напоминая ей, как в приезд мой в сороковых годах в Петербург кирасирским адъютантом я представлялся ее начальнице, а та к вечернему чаю устроила для меня балет, в котором корифейкой предстала сестра. Не менее смеялась она, когда я вспоминал о нервной, полувоздушной дочери этой директрисы, сердечно любившей мою Надю и вышедшей замуж за старика сенатора. Не набрасывая никакой тени на эти действительно достойные всякого уважения личности, я только дозволял себе выгибать спину, как выгибал ее почтенный сенатор, напоминая венгерца, несущего за спиною свою аптеку с эликсирами; да представлять с платком в руке добрейшую его супругу Marie, как она потопляет нос свой в одеколоне. Такими глупостями я не раз уже возбуждал смех сестры. Однажды, сидя в коляске Ковалевских противу дам, я представил Marie, нюхающую одеколон. На этот раз Надя не рассмеялась, и я тотчас же умолк.
Вернувшись домой и проходя через гостиную в свою комнату, я услыхал в спальне сестры рыдания. Приотворивши дверь, я нашел ее лежащею лицом на подушке в сильнейшей истерике. Конечно, я старался сказать все возможное, чтобы ее успокоить, уверяя ее честным словом не повторять неприятной ей шутки.
Осмотрев при помощи сестры римские достопримечательности, я не без удовольствия рассчитывал в январе на более мягкую зиму Неаполя, куда настойчиво меня приглашала сестра. Услыхав о нашей поездке в назначенный день, Некрасов на тот же день взял два билета в карете нашего четвероместного дилижанса. Но перед самым выездом из Рима он прислал нам свои два билета, при сожалении, что в этот день выехать не может; и, таким образом, мы неожиданно очутились с сестрою единственными обладателями четырех мест, то есть двух банкеток по правую и по левую сторону единственной входной двери сзади. Заняв левую скамейку, я очень рад был за сестру, могущую прилечь, так как приходилось ехать целую ночь до Неаполя. В те времена порванной на клоки Италии таможенные осмотры мучили путешественников на каждом шагу. Так ночью, на границе в Террачино, нас подняли и привели в просторную, плохо освещенную комнату, где мы расселись по скамейкам вдоль стен; тогда как таможенные неторопливо вскрывали и раскрывали наши чемоданы. Пока мы терпеливо смотрели с сестрою на эти проделки, к нам два или три раза подходила, заглядывая в лица, какая-то молодая женщина в соломенной шляпке, из-под которой волнистый пук черных кудрей свисал у нее на глаза. Не понимая ее бормотания, я спросил кого-то, — что это за личность? и мне сказали, что это сумасшедшая. Когда осмотр кончился, мы вновь заняли свои места, и дилижанс покатил из Террачино. Ночь, по причине полнолуния, была светла как день. На следующей станции после перепряжки лошадей дверка в карету к нам отворилась, и кондуктор, впустив к нам какую-то женщину, запер портьерку. Не желая будить уснувшую против меня сестру шумными объяснениями, я молча указал барыне, в которой тотчас же признал виденную сумасшедшую, место около себя. Она безмолвно и покойно уселась в уголок. Тем не менее, не будучи в состоянии отвечать за фантазии незнакомой мне сумасшедшей, я решился не спать всю ночь. Луна ярко озаряла карету, и я раза уже с два ловил себя в минуту засыпания. Вдруг чувствую что-то мягкое и теплое на кисти левой руки; открываю глаза и вижу, что молодая женщина; припавши к моей руке, восторженно ее целует. Тихо высвободивши руку, я сказал своей соседке: «Dormire»[191], - и она успокоилась. Перед рассветом успокоился и я, так как кондуктор вывел довольно красивую спутницу из кареты.
Мы приближались к Неаполю, и прямо против меня, то есть по правую сторону от дилижанса, засинела морская даль. Поднялась и сестра на своей банкетке, и словно кто-нибудь стал приглашать меня любоваться всемирной красотой Неаполитанского залива. Я, как бы ничего не замечая, перешел на пустое место около сестры и таким образом очутился спиною к морю.
По мере приближения к столице все чаще попадались высокие оливы, подымавшие к небу свои зимние, безлиственные сучья.
— Должно быть, скоро приедем, — заметил я сестре, — какие попадаются прекрасные вилы.
Но вот по гололедице мы вкатили в Неаполь и тотчас же были окружены нищими всевозможных видов.
Остановившись на сутки в Hôtel de France, мы, наученные опытом, наняли понедельно прекрасное помещение на Киайе, с видом на бульвар и на залив. Нас отлично кормили из ближайшего французского ресторана. Конечно, мы ревностно принялись за осмотр всех достопримечательностей Неаполя и его окрестностей. Полагаю, что по части древней домашней утвари Неаполитанский музей не имеет себе равного. Осмотрели мы и Помпею и обедали в ее ресторане, содержимом бывшею русскою горничною, вышедшей замуж за итальянского повара, и пили знаменитое Lacrima Cristi, которое, в сущности, несравненно хуже нашего шипучего «Донского».
Словом сказать, жизнь наша в Неаполе шла не без интереса; и, даже когда по захождении солнца холодный ветер начинал проникать с залива в окна, мы ютились у единственного камина гостиной, который старались жарко растопить.
Однажды мы собрались осмотреть Сольфатару с ее серными испарениями и с этой целью наняли извозчика, который вдоль Киайи повез нас к знаменитому тоннелю, носящему название грота Позилипа. Направо от въезда в грот оказалась небольшая часовня, из которой, как бы заступая нам дорогу, вышел черный монах. Вероятно, при множестве в Италии подобных личностей я бы даже не обратил на него внимания, если бы сестра не сказала мне:
— Это геттатура (колдун-портильщик). Дай ему что-нибудь.
— Ведь умел же человек, — подумал я, — застращать людей в свою пользу. — И в доказательство свободомыслия проехал геттатуру, не раскрывая кошелька. Вскорости за Позилипом дорога к Сольфатаре подымается в гору, и коляска наша поневоле подвигалась шагом. Этим обстоятельством воспользовался многоречивый туземец, равняясь с нами по окраине дороги и объявляя, что он проводник и говорит на всех европейских языках. Несмотря на наши заявления, что нам никакого проводника не надо, болтун не переставал передавать нам о знатных путешественниках, которым он служил проводником, и при этом пояснял и нам, что вот эта дорога подымается в гору и что скоро на ней будет площадка, где можно дать вздохнуть лошадям и выйти из коляски, если угодно. Когда, выйдя из коляски, мы стали восходить на новое возвышение пешком, нестерпимый болтун продолжал трещать за нами, невзирая на многократные мои заявления, что нам никакого гида не надо.
— Боже мой, как надоел! Прогони ты его, — сказала сестра по-русски.
Чтобы избавиться от нахала, я подал два франка, прося его уйти. Он посмотрел и сказал:
— Этого мало. — Тогда уже я так крикнул на него, что он ушел.
Конечно, мы не дозволили тащить несчастную и тощую собаку на обмирание в так называемую Собачью пещеру. Чем люди не промышляют! Но нам пришлось проходить вдоль целого ряда кирпичных сараев, в отверстиях которых, как это бывает всюду, нередко в четвероугольных ящиках (творилах) распускается известь. Чтобы предохранить раствор от случайного сора, его нередко сверху густо засыпают песком, так что для неопытного глаза представляется прекрасная песчаная площадка, весьма удобная для переходов. Не успел я еще рассмотреть творила, как проворная и любопытная Надя уже на него ступила и пронзительно вскрикнула. В мгновение ока я выхватил ее, поймав за левую руку: тем не менее правый ее ботинок вместе с половиною чулка был покрыт раствором извести. К счастью, подле оказался кирпичник, который, свернув пуки соломы, тщательно отер намоченную ногу. Конечно, мы в ту же минуту, насколько было возможно спешно, воротились домой. Однако неприятное приключение это не обошлось даром. В тот же вечер, невзирая на пылающий камин, сестра почувствовала озноб и в первый раз пожаловалась на спинную боль, от которой поехала лечиться два года тому назад за границу. К утру, однако, ей стало лучше, и румянец снова заиграл на ее щеках. Опытный, однако, был человек, пустивший пословицу «пришла беда, растворяй ворота». Сколько раз приходилось мне испытывать это в жизни.
Казалось, сама неаполитанская зима, принявшая нас так благосклонно, озлобилась на нас, в свою очередь. Невыносимо холодный, чтобы не сказать бурный, ветер задул с моря в неплотные рамы балконов и в то же время не дозволял растапливать камина, наполняя комнаты дымом. Я крепился до последней возможности, видя в то же время, что и сестра геройски переносит страдания. Но, наконец, я подумал: «Всякое геройство имеет цену, лишь когда жертвой искупается нечто более высокое и ценное; но бесцельное мучение, не достигая геройства, заслуживает иного названия».
— Надя, — сказал я, едва не плача от холода, — долго ли нам так мучиться под благорастворенным небом Неаполя? Нельзя ли бежать к голландским печам в Россию?
Мы узнали, что пароход из Неаполя в Марсель уходит на другой день.
— Едем завтра! воскликнул я.
— Очень рада, — отвечала Надя, — но беда в том, что все мое белье у прачки, и едва ли оно готово.
Приказано было прачке принесть мокрое белье, и, навязавши из него в простыни узлов, мы на другой день отправились с ним на пароход, отходивший в Марсель. Несмотря на все усилия наши проветривать его, белье прибыло в Париж горячим. На этот раз мы оставались в Париже недолго. Зима гнала нас и от французских каминов, как прогнала от итальянских. Тургенева в его rue de l'Arcade я застал в не. скольких шинелях за письменным столом. Не понимаю, как возможна умственная работа в таких доспехах! Узнав от него о прибытии семейства Виардо на зиму в Париж, я отправился к ним с визитом в собственный их дом Rue de Doudi, 50. Надо отдать полную справедливость мадам Виардо по отношению к естественной простоте, с которою она умела придавать интерес самому будничному разговору, очевидно, тая в своем распоряжении огромный арсенал начитанности и вкуса.
Прочитавши объявление о концерте, в котором, кроме квартета, было несколько номеров пения мадам Виардо, мы с сестрою отправились в концерт. Не могу в настоящее время сказать, какого рода была концертная зала, но, без сомнения, она принадлежала учебному заведению, так как публика занимала скамейки с пюпитрами, восходившими амфитеатром. Мы с сестрою сидели впереди скамеек на стульях у самого концертного рояля. Во все время пения Виардо Тургенев, сидящий на передней скамье, склонялся лицом на ладони с переплетенными пальцами. Виардо пела какие-то английские молитвы и вообще пьесы, мало на меня действовавшие, как на не музыканта. Афиши у меня в руках не было, и я проскучал за непонятными квартетами и непонятным пением, которыми, видимо, упивался Тургенев. Но вдруг совершенно для меня неожиданно мадам Виардо подошла к роялю и с безукоризненно чистым выговором запела: «Соловей мой, соловей». Окружающие нас французы громко аплодировали, что же касается до меня, то это неожиданное мастерское, русское пение возбудило во мне такой восторг, что я вынужден был сдерживаться от какой-либо безумной выходки.
Но пора было нам бежать в Россию, и мы почти без оглядки проехали до Дрездена, где сестра захотела и передохнуть и походить по картинной галерее. Еще во Франкфурте я запасся для сестры меховою шубою, зная, что мы подвигаемся к нашим родимым снегам и морозам. Несмотря на сравнительно молодые лета, мы как-то чувствовали с сестрою, что песенки наши спеты. В 36 лет в чине поручика гвардии я не мог рассчитывать на блестящую служебную карьеру. Точно так же, зная образ мыслей сестры, я не мог ожидать, чтобы она скоро оправилась от испытанного потрясения. Вследствие всего этого между нами установился план недалекого будущего, где я должен был вернуться в наши родовые Новоселки и, принявши их в свое управление, присоединить к общей нашей жизни проценты с небольшого моего капитала, находившегося большею частию у братьев на руках. Мы оба не знали, что заведовавший Новоселками зять наш Александр Никитич вместе с женой своей — сестрой нашей Любинькой — оставили на эту зиму свое более отдаленное от Мценска имение Ивановское и поселились в Новоселках за 7 верст от Мценска. Конечно, в наших общих с Надею планах не было ничего блестящего или привлекательного, за исключением нашей дружбы; но если человеку суждено жить, то жить необходимо известным, определенным образом.
Накануне нашего отъезда из Дрездена сестра довольно рано ушла в свою комнату и легла в постель, ссылаясь на нестерпимую спинную боль. Через полчаса, согласно нашему общему желанию, явилась на целую ночь прекрасно одетая пожилая женщина в безукоризненно белом чепце и стала самым усердным образом растирать больную и предупреждать все ее малейшие желания. Поутру я умолял сестру отложить на несколько дней наш отъезд; но она, утверждая, что чувствует себя совершенно здоровой, настояла на отъезде. Сиделка, не смыкавшая глаз во всю ночь, вновь уложила все расстегнутые чемоданы и, получивши талер, ушла совершенно довольная.
В Варшаве мы пробыли весьма недолго; но так как внутри империи железных дорог в то время не существовало и мы кратчайшим путем вздумали пробраться через Киев, где надеялись отдохнуть у нашего родственника, ректора университета, Матвеева, то пришлось заводиться для брестского шоссе колесным экипажем. К счастью, мне пришлось купить весьма укладистый и совершенно покойный крытый тарантас. Но за Брестом начиналась уже настоящая снежная зима, и пришлось становить тарантас на полозья. Кому довелось на веку таскаться на почтовых зимою по жидовским трактирам, — поймет нетерпение, с каким я стремился довезти свою бедную Надю до Киева. Когда Матвеев узнал о нашем приезде, то тотчас настоятельно пригласил нас к себе и прислал свой экипаж.
И в Киеве, где мы пробыли три дня, окруженные самой изысканной любезностью Матвеева, Надя снова, как я впоследствии узнал, захворала, хотя и не показывала виду. Но вот опять пришлось пускаться по океану снегов и ухабов. Наконец добрались мы до родимого города Мценска, и здесь тарантас наш остановился против постоялого двора с вольными ямщиками, так как приходилось сворачивать с почтового тракта за 7 верст в Новоселки. Пошла так называемая вольная ряда; вместо даже двойных прогонов, представляющих 1 рубль 26 коп., с нас запросили 10 рублей. Вокруг тарантаса поднялся неописанный шум и перебранки; на пороге, можно сказать, собственного дома сестра, так геройски вытерпевшая все дорожные мучения в течение многих суток, наконец не выдержала.
— Боже! что же это такое? — воскликнула она, закрывая лицо руками и с истерическим рыданием бросаясь на переднюю скамейку тарантаса.
Конечно, я отдал ямщикам все, что они просили, лишь бы они тотчас запрягли.
Снега в этом году были весьма глубокие, и мы шагом протащились все 7 верст до самого леса, за которым скрывается Новосельская усадьба. Вот проехали уже и лес, и до усадьбы остается не более 80 саженей, а лошади снова остановились в ухабе.
— Не дойти ли нам до дому пешком? — сказал я.
— Конечно, всего лучше, — ответила Надя.
Я подал ей руку, и мы направились к крыльцу дома.
— Желаю тебе счастливого прибытия в Новоселки, — сказала Надя. И через пять минут мы уже всходили на крыльцо.
Можно себе представить изумление и восклицания сестры и зятя, совершенно не ожидавших нашего приезда. Когда все мало-помалу успокоилось, сестры переговорили между собою о новом плане нашего водворения. Справедливость требует сказать, что сестре Любиньке планы эти крайне не нравились, так как ей предстояло отправляться в свое Ивановское. Я, конечно, во все эти переговоры не вмешивался, зная без того, что Надя не из числа способных поддаться первым чужим убеждениям.
К неожиданностям, встретившим нас в Новоселках, присоединилось на другой день и внезапное появление И. П. Борисова, которого мы считали продолжающим службу в Куринском полку на Кавказе. Он очень исхудал и жаловался на привезенную им из Малой Азии лихорадку. Как человек, с малолетства свой в нашем доме, он был чрезвычайно естествен, несмотря на некоторую затаенную грусть. К вечеру он уехал домой, говоря, что так как он на тройке, то надо пользоваться вечерним холодком, потому что вдруг стало очень таять и днем тройкою ехать затруднительно.
На следующий день, когда мы собрались в столовой к утреннему самовару, Надя явилась с виду сок вершенно здоровая и веселая.
— Отчего бы, — сказала она мне, — тебе не навестить сего дня бедного Ивана Петровича, который так тебя любит, что, больной, невзирая на дурную дорогу, сейчас же явился.
Не берусь решить, было ли в этих словах только участие к больному Борисову, или в то же время желание удалить меня во время переговоров с зятем.
— Alexandre! — спросила Надя. — На чем же брат поедет?
— Сделайте милость, — вмешался я, — мне никого не нужно. По дурной дороге всего лучше в розвальнях, без кучера, так как я тут всякую лощинку знаю. Была бы добрая лошадь, это главное.
— На что ж тебе надежнее Звездочки, — заметил Александр Никитич.
— А, старая знакомая! — воскликнул я. — Очень рад!
Часов в одиннадцать Звездочка, запряженная в розвальни, подмощенные соломой, укрытой ковром, была у крыльца. А не прошло и часа, как я, въехав в ворота широкого фатьяновского двора и завернув налево за угол низменного пустого деревянного дома с закрытыми ставнями, остановился перед крылечком небольшого, сравнительно нового флигеля. Флигель состоял из сеней и двух комнат: первая играла роль гостиной и столовой, а вторая была кабинетом, в конце которого за перегородкой помещалась кровать Борисова.
Я застал Борисова в гостиной, сидящим в креслах перед слегка пылающим камином в старом военном пальто и в турецких туфлях. Повернувшись спиною к выходившим на двор окнам, он, по-видимому, был углублен в чтение какой-то исторической книги, до которых был большой охотник. Встретил меня и все время прислуживал нам factotum[192] Борисова — Иван Федорович, бывший все время пребывания Борисова на службе полновластным управляющим Фатьянова, а теперь с особенною ревностью следивший за тем, чтобы каждое наше желание было предупреждено. Весьма красивая и молодая жена 50-летнего Ивана Федоровича, при заметном стремлении к полноте, смахивала скорее на барыню, чем на прислугу, что не мешало ей с своей стороны ревностно стараться о комфорте Ивана Петровича. Борисов любил покушать, и внимание к столу велось еще от покойной его матери. У нашего отца в Новоселках было всегда пять-шесть поваров, готовивших поочередно; все они учились по знаменитым московским кухням, а фатьяновские повара были их учениками.
Конечно, при появлении моем историческое чтение было забыто, и мы, несмотря на мучительное желание поделиться чувствами, оба ходили долго все вокруг да около, из опасения какой-либо неуместной неловкости.
Если влюбленные, по словам Шекспира, составлены из одного воображения и их можно причислить к безумцам, то все эти качества с добавкою отчаянной ненасытности еще сильнее у несчастного влюбленного. Только этим объясняется легкость, с которою кокетка успевает заверить влюбленного в очевидно несбыточном. Надо было видеть счастье Борисова, когда я объявил ему, что сестра прислала меня его навестить. Хотя я знал, что такой отрадный глоток воды со льдом только пуще распалит жажду страждущего, но не мог удержаться не освежить его хоть на минуту этим глотком. Конечно, вслед за тем поднялись самые несбыточные мечтания и просьбы о помощи, к каким он меня давно приучил в своих письмах. Начались расспросы обо всем, касающемся материальной, а главным образом нравственной стороны жизни Нади.
Зная железную выносливость этого неустрашимого человека, я после долгого колебания решился произвести над ним вивисекцию, подрезав в сердце его любовь под самый корень.
Во время всего моего подробного рассказа про Эрбеля Борисов сидел неподвижно, глядя на догорающие в камине уголья. Когда я кончил, он поднял на меня свои черные, густые ресницы, на которых мелькали слезинки, и произнес вполголоса:
— Спасибо, брат, что ты мне об этом рассказал. Я сейчас же поеду, разыщу и убью его.
— Да я даже не знаю, где он в настоящее время, — отвечал я.
— Это уже мое дело, — отвечал Борисов, — и притом единственное, которое остается.
В расспросах и посильных ответах прошел день, и, когда в сумерки подали самовар, Борисов стал гнать меня домой.
— Как ты можешь так беззаботно оставлять ее одну? Ее надо успокоить, а ее там только больше расстроят. Поезжай, сейчас же поезжай домой!
— Нет, любезный друг, уж позволь мне переночевать у тебя. Дорога отвратительная, и ты знаешь, что Надя поместилась на антресолях, в спальной покойной матери, а я живу в старом флигеле. Поэтому, сплю ли я там, или здесь — совершенно безразлично.
Фатьяново, по случаю давнего отсутствия владельца, долее других имений сохранило предания старины. Грибки, соленья, варенья, наливки, пастилы там сохранили старинное достоинство, — и, конечно, мне для ночлега взбили такие перины, на каких давно мне спать не приходилось.
Когда я поутру проснулся, Иван Петрович давно уже в азиатских чувяках неслышно шагал по комнатам, явно поджидая моего пробуждения; и первым его словом было:
— Ну, вставай и скорее собирайся домой,
— Сейчас поеду, но дай же хоть стакан кофею выпить, благо я слышу, как в передней кипит самовар.
Умывшись и одевшись наскоро, я не успел еще налить себе стакан кофею, как Борисов, взглянув в окно, воскликнул:
— Это посланный от вас! Недаром сердце мое чуяло беду.
Через минуту прошедший через двор посланный из Новоселок передал мне в передней записку от Любиньки следующего содержания:
«С Надинькой происходит что-то необычайное. Она говорит бог знает что; мы совершенно растерялись. Приезжай поскорее».
Пожавши крепко руку Борисова, я в десятом часу утра был уже дома. В передней встретила меня плачущая Любинька словами:
— Посмотри, что с Надей: je crois, qu'elle a perdu l'esprit[193].
С самым преднамеренным равнодушием вошел я в первую комнату на антресолях, бывшую кабинетом Нади. Никогда не видал я ее более блестящей и прекрасной. Темные волосы были тщательно убраны; преувеличенные карие глаза горели фосфорическим блеском; нежный румянец играл на щеках; и в белом, широком капоте она сидела перед письменным столом, на котором лежала бумага большого формата.
— Здравствуй, Надя! — сказал я входя.
На зов мой взор ее разом сверкнул, как чаша темного вина от неосторожного толчка.
— Не мешай, не мешай мне! — воскликнула она. — Я занята.
Взглянув на крупное заглавие большого листа, я прочел: «Ариадна, драма в пяти действиях».
Это совершенно несвойственное Наде авторство необычайно яркий цвет ее лица и блеск глаз сразу высказали мне убийственную истину. Бедное дитя не выдержало всех потрясений. Передо мною сидела прелестная и безумная Надя.
— Надя! — сказал я, насколько возможно убедительно. — У тебя, дружок, лихорадка и тебе следует отдохнуть. Ляг в постель, и если хочешь, я тебе почитаю.
Долго не соглашалась она на все мои просьбы, но наконец встала и пошла в свою спальню. Минут через десять, показавшихся мне целою вечностью, я слегка приотворил половинку двери, чтобы взглянуть на происходившее в спальне. Я сделал это крайне тихо и осторожно, полагая, что больная в волнении своем и не заметит моей проделки. Но едва мой зрачок увидал ее стоящею во весь рост на постели, как, обратив глаза к двери, за которою я таился, она пронзительно взвизгнула и бросилась в постель. Видя, что мое присутствие действует на нее раздражительно, я передал Любиньке и женщинам уход за больной. Через час приехал Борисов, и, вместе с зятем моим Александром Никитичем, мы составили домашний совет и решили безотлагательно везти больную в Орел к тамошним врачам. Таким образом мой варшавский крытый тарантас опять сослужил службу и довез больную до Мценска и по шоссе до Орла. Здесь лучшим докторам города — Кортману и инспектору врачебной управы Майделю, резавшим ногу покойному отцу, — пришлось снова брать на свои руки и дочь. Месяц продолжались бесполезные попытки облегчить страдания больной. Являлся между прочим и женатый брат мой Василий, чтобы хотя глазком взглянуть за тяжелый ковер, служивший портьерой, в комнату сестры. Впоследствии я узнал, что степень ненависти душевнобольных почти всегда равняется степени их привязанности к данному лицу в здоровом их положении. Но нервная чуткость их в данном случае изумительна. Когда бы белокурый и круглолицый брат Василий одним глазом ни заглянул за портьеру сестриной комнаты, как та уже вскрикивала:
— Медуза! Медузища противная!
Инспектор врачебной управы доктор Майдель, бывший потом в Петербурге начальником Физиката, оказался моим школьным товарищем в Верро, где я просидел с ним рядом за столом три года. Однажды, захвативши меня за завтраком, он мне сказал:
— Послушайте моего совета: тратите вы здесь деньги и время, а мы этого дела совершенно не понимаем. Отвези ты больную в Москву. Там есть знаменитые психиатры, как, например, доктор Саблер.
Убежденный Майделем, я все-таки должен был отложить на несколько дней отъезд в Москву: до прибытия из Новоселок большой четвероместной кареты, без которой везти больную, при ее нервном возбуждении, было бы слишком затруднительно. Наконец карету привезли и, забравши с собою небогатую дворянку, часто проживавшую в прежнее время в Новоселках и даже мою крестницу, да на помощь ей горничную, я повез больную по открывшемуся шоссе. Как ни затруднительно было на неисправных почтовых везти до крайности буйную больную — которая, невзирая на связанные руки и ноги, лежа на заднем сиденье и упираясь ногами в стенку кареты, старалась разломить последнюю, — наконец мы добрались до переезда через Оку под Серпуховым. Тут оказалось непреодолимое препятствие. Взломанный половодьем лед стоял на реке громадной чешуею и, не трогаясь вниз, делал всякое сообщение между берегами невозможным. Не было другого средства, как, отыскав на постоялом дворе квартиру, остановиться в ней на неопределенное время. Не успели мы расположиться на ночлег, как объявилась новая беда: угар, от которого мы спаслись только благодаря нервной бессоннице сопровождавшей нас молодой девушки. Когда она разбудила меня от несомненно предсмертного сна, я и слуга наш отделались страшною головною болью, тогда как больную и горничную мы замертво вынесли в карету. На другой день, к счастью, мы узнали, что лед идет, и к обеду устроится переправа на барке. Конечно, я сделал все, что можно сделать за деньги, для ускорения переправы и любовался примерной отвагой и мастерством перевозчиков, предупреждавших удары льдин в служившую паромом барку. Люди эти, упирая в багры, стояли не на барке, а на подплывающей льдине и, проводив одну, тут же переходили постепенно на другую. И так до противоположного берега.
Но вот наконец мы в Москве на Тверской, в бывшей гостинице Шевалдышева. Знаменитый психиатр Вас. Фед. Саблер оказался по отношению к бедной Наде не только искусным врачом, но и любящим отцом. Осмотрев больную, он посоветовал сдать ее на Басманную, в заведение Вас. Ив. Красовского, обещав лично следить за ходом лечения. Поместив больную у Красовского, я тут же через два дома нанял довольно удобную квартиру, куда ко мне в скором времени приехал и Иван Петрович Борисов, продолжавший и в Москве страдать неотвязной малоазиатской лихорадкой. Посещал его и истощал над ним все свое искусство знаменитый Александр Иванович Овер. Чего-чего ни заставлял он глотать бедного Борисова, и все понапрасну. И вот, как воспитывавшиеся на той же голубятне и разогнанные житейскими бурями в разные стороны голуби, мы с помятыми крыльями снова собрались под один и тот же карниз, грустно бормоча о днях, давно минувших.
За двенадцать лет, проведенных мною вне Москвы, все мои добрые знакомые, и литературные и не литературные, из нее исчезли. Калайдовичей, Глинок, Павловых, семейства Герцена, прелестной четы Полуденских — в Москве более не было: они невозвратно исчезли. Захотелось мне наведаться, не застану ли я по-прежнему на Маросейке В. П. Боткина — во флигеле, памятном столь многим литераторам, во флигеле, куда меня ввел покойный Ник. Ант. Ратынский, когда мы оба еще были студентами, и где я в первый раз увидал Ал. Ив. Герцена. Я знал, что В. П. Боткина, живущего то в Петербурге, то за границей, застать дома трудно. Но на этот раз мне посчастливилось, и мы встретились как давнишние хорошие приятели. Во время оно я часто бывал у Василия Петровича во флигеле, но ни разу не бывал в большом боткинском доме. Будучи на этот раз в духе, Василий Петрович объяснил мне, что, согласно завещанию покойного их отца, он состоит одним из четырех членов Боткинской фирмы и таким образом одним из хозяев дома. Покойный П. К. Боткин, оставивший по смерти своей дела в порядке и далеко не огромный капитал, с необыкновенным тактом, оправдавшимся впоследствии, безобидно для всех членов семьи, из числа девяти сыновей назначил членами фирмы только четырех: двух от первого и двух от второго брака. Сочувственно выслушав и о моих семейных невзгодах, Василий Петрович, узнав, что у меня никого не осталось в Москве знакомых, пригласил меня в тот же день к семейному обеду. Изо всех членов фирмы наиболее очевидными представителями дома явились меньшой брат Петр с своею женою. Кроме этого, к столу явились: младшая сестра Боткиных Марья Петровна[194] и двоюродная их сестра, весьма характерная и красивая брюнетка. Даже самый ненаблюдательный человек не мог бы не заметить того влияния, которое Василий Петрович незримо производил на всех окружающих. Заметно было, что насколько все покорялись его нравственному авторитету, настолько же старались избежать резких его замечаний, на которые он так же мало скупился в кругу родных, как и в кругу друзей. Кроме того, все только весьма недавно испытали его педагогическое влияние, так как, влияя, в свою очередь, и на покойного отца своего, Василий Петрович младших братьев провел через университет, а сестрам нанимал на собственный счет учителей по предметам, знание которых считал необходимым. Быть может, желание угодить Василию Петровичу, представившему меня в качестве старинного своего приятеля, было отчасти причиною любезности, с которою отнеслись ко мне все члены семейства, прося меня во всякое время приходить запросто к обеденному столу.
Наступила Страстная неделя, и Боткины пригласили меня к пасхальной заутрене и к разговлению. Вследствие такого приглашения я отправился с вечера отдохнуть во флигель Василия Петровича, приказав слуге принести мне полную форму и три заказанных букета цветов. Василий Петрович, невзирая на свой скептицизм, с восторгом выстаивал торжественную службу Светлого Воскресения. Действительно, при ярком внутреннем и наружном освещении богатой московской церкви и дорогом хоре певчих служба отличалась полной торжественностью. Затем все отправились к пасхальному столу, на котором стояли перед дамами поднесенные мною букеты.
Памятна мне во всех подробностях небольшая сцена на другой или третий день праздников, о которой не могу и поныне вспомнить без улыбки. Между залой с накрытым обеденным столом и гостиной — в небольшой диванной была приготовлена закуска, к которой приглашали гостей. Помню, что через залу прошел Аполлон Григорьев в новой с иголочки черной венгерке со шнурами, басоном и костыльками, напоминавшей боярский кафтан. На ногах у него были ярко вычищенные сапоги с высокими голенищами, вырезанными под коленями сердечком. Когда Григорьев, в свою очередь, ушел в дверь диванной, чтобы раскланяться с хозяйкой, сидевшая в конце залы на паркете годовая девочка, дочь хозяйки дома, вдруг поднялась на ножки и, смотря вслед Григорьеву, закивала головой, подымая правую ручонку ко лбу.
— Посмотрите, посмотрите! — смеясь, воскликнул Василий Петрович. — Надя-то молится вслед Григорьеву, она сочла его за священника. Действительно, — продолжал Василий Петрович, — такие сапоги носит старое купечество, хотя в них, собственно, ничего нет русского. Это принадлежность костюма восемнадцатого века, и консерватизм выражается верностью старинной моде. То, что было когда-то знаменем неудержимого франтовства, стало теперь эмблемою степенства.
В подтверждение справедливого замечания Василия Петровича я вспомнил франтоватых молодых гостей, приезжавших к нам в Новоселки в двадцатых годах, именно в высоких сапогах, в каких изображают Александра Первого.
Не дожидаясь конца святой недели, Василий Петрович быстро собрался и уехал за границу, еще раз поручив меня вниманию своего семейства. «Чем в одиночестве-то скучать, — говорил он мне, — отчего вам не приходить в дом, где вам все рады».
По большому числу членов семейства, достигших зрелости, боткинский дом в ту пору можно было сравнить с большим комодом, вмещающим отдельные закоулки и ящички. Одним из таких закоулков были три комнаты на антресолях, занимаемые Марьей Петровной и ее роялем. Туда к ней собирались в известные дни знакомые ей девицы, большею частию миловидные, между которыми дочь доктора Шереметьевской больницы Ида Шлейхер, блондинка с голубыми глазами, отличалась чрезвычайно нежной красотой. Понятно, что сначала молодые братья Марии Петровны, снискав дружбу прекрасных посетительниц, проникли в гостиную молодой хозяйки, обзывая ее собрания «букетом», — а вслед за тем пробралась в эти собрания и близко знакомая в доме молодежь. Обычным угощением в этих случаях бывал чай; но иногда, когда долго засиживались, посылали в кухню за ужином, а самый пылкий из молодых братьев, оставшийся навсегда энтузиастом изящного, Дмитрий Петрович угощал ужинающих шампанским.
После одного из таких импровизированных ужинов, на котором случился и я, прелестная Идочка, как ее все называли, выразила опасение по поводу поздней поры и ночного, вешнего холода. Так как у меня была из Новоселок пролетка и знакомая уже нам Звездочка, то я и решился предложить прелестной девушке бережно доставить ее к звонку родительского крыльца. Надо было видеть, с какою ловкостью и заботой Дмитрий Петрович укутывал девушку в большой плед от ночного холода.
Бедный мой Борисов, остававшийся в одиночестве, поневоле иногда спрашивал меня, где я пропадаю, и, слыша фамилию одного и того же дома, очевидно нападал на мысли, не приходившие мне самому в голову. Однажды, увидав на мне небольшие дамские часы, он спросил:
— Откуда у тебя эти часы?
Пришлось рассказывать, как, опоздав несколькими минутами к обеду Боткиных, я вынужден был извиниться неимением часов, отданных в починку.
— У меня двое часов, — сказала Марья Петровна, — и я без малейшего затруднения могу вас снабдить одними, пока ваши не вернутся от часовщика.
Я стал отнекиваться, но скоро сообразив, что такое одолжение ни к чему не обязывает, с благодарностью его принял.
Чем более по временам я встречал сторонних гостей в доме Боткиных, тем уединеннее, то есть свободнее оказывались поневоле наши беседы с девицей Боткиной. Несмотря на то, что во внешнем нашем положении не было ни малейшего сходства, наше внутреннее заключало в себе много невольно сближающего. Покойный П. К. Боткин по принципу выдавал своим дочерям самое незначительное приданое. Тем не менее две старшие дочери от первого брака, а равно и две от второго были уже замужем, и только предпоследняя Марья оставалась в доме. Как бы чувствуя ее одиночество, строгий отец завещал ей одной, не в пример другим, несколько большее обеспечение.
Исключительное и сиротливое положение девушки вполне соответствовало моему собственному. И мои сестры и братья, за исключением бедной Нади, были пристроены и стояли на твердой почве, тогда как под моими ногами почва все ещё сильно колебалась, и в самое последнее время жизненный челнок мой, нашедший было скромный приют у родимого Новосельского берега, снова был от него отторгнут болезнью сестры.
Однажды, когда мы с Марьей Петровной взапуски жаловались на тяжесть нравственного одиночества, мне показалось, что предложение мое прекратить это одиночество не будет отвергнуто. К этому времени отыскал меня приехавший в Москву и остановившийся на Кузнецком мосту в гостинице «Россия» зять мой Александр Никитич Шеншин, который скуки ради привез с собой старуху Веру Алексеевну, носившую меня и всех моих братьев и сестер когда-то на руках. Старуха жаловалась мне, что кормивший ее всякого рода московскими сластями Александр Никитич в то же время колол ими ей глаза, на что Александр Никитич серьезно восклицал:
— Да как же мне ее не ругать? Сегодня утром полфунта колбасы и два калача съела. Этакая утроба ненасытная!
Еще не придя к окончательному, внутреннему решению, я вкратце изложил все обстоятельства моего сближения с Боткиными Александру Никитичу, не лишенному, невзирая на недостатки школьного образования, здравого смысла. Когда между прочим я спросил его. не следует ли мне списаться с родными в случае окончательного моего решения на брак, Александр Никитич сказал: «Кабы ты ожидал при этом от них какой особенной помощи, то я бы понял, почему ты ищешь их совета. А в настоящем случае ты лучше всякого знаешь, что тебе более подходяще. Тебя никто не спрашивал в подобных случаях; нечего и тебе беспокоиться».
Между тем в доме Боткиных я узнал, что Марья Петровна на днях уезжает за границу, сопровождая больную замужнюю сестру, которую московские доктора отправляли на воды. По всем обстоятельствам дальнейшее колебание становилось невозможным. И однажды, когда мы, ходя по маросейской зале, в виду ощущаемой возможности избавиться от нравственной бесприютности и одиночества, невольно стали на них жаловаться, — я решился спросить, нельзя ли нам помочь друг другу, вступая в союз, способный вполне вознаградить человека за все стороннее безучастие. Хотя такой прямой вопрос и ставил Марью Петровну, за отсутствием Василия Петровича, в очевидное затруднение, тем не менее она безотлагательно приняла мое предложение, чистосердечно объявив, что у нее ничего нет, за исключением небольшого капитала. Хотя у меня приблизительно было столько же, но так как все это было разбросано по разным рукам и, что еще хуже, по родственным, то я, во избежание могущих встретиться разочарований, объяснил наотрез, что у меня ничего нет. Таким образом, не объявляя никому ничего в доме, мы дали друг другу слово и порешили отложить свадьбу до сентября, то есть до возвращения невесты из-за границы.
По временам и грустная наша квартира с Борисовым благодушно оживала. Такому оживлению много способствовал умный, талантливый и пылкий энтузиаст, давнишний мой приятель, Ст. Ст. Громека, бывший в то время начальником жандармского дивизиона Николаевской дороги. Он сам когда-то во время оно писал стихи и был до болезненности чуток на все эстетическое. Сюда же весьма часто из-за Москвы-реки хаживал Ап. Григорьев. И когда, бывало, эти два энтузиаста — Громека и Григорьев — сойдутся за вечерним чаем, наше скромное обиталище превращается в Геликон. Григорьев, несмотря на бедный голосок, доставлял искренностью и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он, собственно, не пел, а как бы пунктиром обозначал музыкальный контур пьесы. Певал он по целым вечерам, время от времени освежаясь новым стаканом чаю, а затем, нередко около полуночи, уносил домой пешком свою гитару.
Говоря о цыганских и русских песнях вообще, Григорьев однажды с величайшим энтузиазмом стал рассказывать о двух вольноотпущенных гитаристах, играющих в одном погребке в Сокольниках. «Это несомненные таланты! — восклицал Григорьев. — И надо непременно зазвать Дмитрия Петровича Боткина, так как он в душе музыкант, и я обещаю ему величайшее наслаждение».
В назначенный день Громека, Григорьев и Боткин собрались у нас, и помнится, что и бедный Борисов, так как день был не лихорадочный, присоединился к нашей экскурсии.
К ужасу моему, я увидел, что погребок, к которому вез нас Григорьев, оказывался в переулке как раз против сада дачи, занимаемой Катковым и Леонтьевым[195], где я не раз бывал у них. Конечно, мы старались проскользнуть в погребок, о котором не имели даже определенного понятия.
Из первой комнаты с полками, установленными бутылками с винами и ликерами, мы вошли в довольно просторную и весьма чистую комнату, соединенную драпированной аркой с весьма опрятной гостиной, в которой поместились у овального стола на диване и на креслах. По распоряжению Григорьева нам подали салатник со льдом, стаканы и бутылку «Редерера»; а в комнату вошли два человека средних лет и весьма похожие друг на друга и наружностью и серенькими суконными сюртуками. Поставив рядом два табурета по правую сторону арки, они начали строить свои гитары. По одной уже чистоте звуков, которой добивались они от своих гитар, можно было ожидать от них мастерства. И действительно, трудно было с большим навыком, играя первую и вторую гитару, с большей гармонией и блеском выводить русскую песню из ее задушевного напева на свет божий. Григорьев торжествовал, чувствуя одержанную над всеми нами полную победу. Сколько раз впоследствии слушателям этого импровизированного концерта приходилось с восторгом вспомнить о нем!
Говоря о литераторах, с которыми судьба сводила меня в жизни, не могу не сказать о знакомстве с знаменитою в то время графиней Ростопчиной[196], объявившей мне через общего нашего знакомого, что она просит меня побывать у нее. Портрет, приложенный к петербургскому изданию 1856 года, весьма верно воспроизводит черты графини, какою я нашел ее в собственном ее доме на Басманной, весьма недалеко от занимаемой мною квартиры. По природе светская и приветливая, она и со мною была чрезвычайно любезна, и я раза два воспользовался ее приглашением. Так как она предполагала полное мое знакомство с ее лирическими стихотворениями, то читала мне вслух только вторую часть «Горя от ума», написанную стихами, старавшимися, очевидно, подражать грибоедовским. При этом в разговоре она говорила наизусть какой-либо стих и затем спрашивала меня: «Из какого это „Горе от ума“?: из грибоедовского или из моего?»
Позднее, в перечне сочинений гр. Ростопчиной у Гербеля, я не нашел ее «Горя от ума» и не могу сказать, было ли оно напечатано. Помню только, что острие сатиры было обращено на учителей, врывающихся в дома в качестве женихов.
Жребий был брошен, и жизнь моя круто поворачивала по новому руслу, изменяя прежнее течение. Я тотчас же подал в бессрочный отпуск и занялся приготовлением обстановки новой жизни. Зная крайнюю ограниченность совокупных наших будущих средств, я должен был разрешить трудную задачу достижения наибольшего результата при наименьших издержках. Долго искал я подходящей квартиры и, наконец, нашел за Москвою-рекою на Полянке целый просторный и, можно сказать, великолепный бельэтаж, требовавший, правда, некоторых поправок, половину которых я принял на свой счет. Вспоминаю о баснословно сходной цене найма, какой, конечно, уже не повторится. Я уверен, что в настоящее время бывшая квартира наша, с экипажным сараем и конюшней на четыре стойла и ледником, отдается не менее двух тысяч рублей, тогда как я нанимал ее за 350 рублей! К небольшой четвероместной карете я купил пару воейковских вороных лошадей, заказал мебель и завел то, что обыкновенно называют: «и ложку и плошку».
В то время как в нанятой мною квартире переламывали и переделывали печи, подновляли потолки и оклеивали стены, — в доме Боткиных, до которых из-за границы дошли положительные известия о предстоящем замужестве их сестры, тоже затевалась ломка на опустевших антресолях; и мне, не дожидаясь свадьбы, пришлось забирать и перевозить к себе рояль и мебель моей невесты.
При разнообразных и мелочных заботах устройства нового гнезда время шло незаметно. Но по мере того как все приходило к желанному окончанию, скука давала себя чувствовать.
Борисов снова уехал в свое Фатьяново, а я, чтобы находиться, так сказать, в центре дела, занял в просторной и пустынной квартире новый диван в своем кабинете.
Однажды, в минуту одолевавшей меня скуки, я отправился на Девичье поле к бывшему моему воспитателю, глубоко мною чтимому М. П. Погодину. Услыхавши от меня имя Боткиных, из которых знал только двух старших братьев: писателя Василия и красавца туриста Николая, — Михаил Петрович, зная, что оба эти Боткины в разводе с женами, усмехнувшись, сказал мне: «В добрый час! Люди хорошие, но уж по супружеской части примера с них не берите. В этом случае точно про них сказано: „живут не люди, умрут не родители“».
— Теперь, Михаил Петрович, — сказал я, — вы знаете все дело и всю материальную мою обстановку. Если частая переписка с невестой сблизила нас еще более прежнего, то понятно мое нетерпение увидеть невесту и сократить срок до свадьбы, отлагаемый только в силу окончания курса лечения больной. К этому привходит еще и то, что брачные расходы на чужой стороне можно уменьшить до того, что, сэкономив на этом предмете, можно возместить расходы заграничной поездки. В нерешительности прибегаю к вам, Михаил Петрович, и прошу дать мне совет.
— Если вы чувствуете, — отвечал Погодин, — что предстоящая поездка ваша в состоянии сдобить вашу новую жизнь, то не стесняйтесь и поезжайте с богом.
Как ни условно было одобрение моего желания, я, конечно, поспешил им воспользоваться и, написавши невесте, что остановлюсь в Луврской гостинице в Париже, просил адресовать туда письма из Диеппа с указанием тамошнего их адреса, так как я писал poste restante[197].
И на этот раз, как и в две первые мои поездки за границу, мне пришлось ехать из Петербурга морем; но не на Штетин, как прежде, а на Любек. Случайно в первом классе собралось веселое, молодое общество, которому капитан парохода старался оказывать всевозможное внимание и любезность. Конечно, хорошее расположение духа скрашивало трехдневный переезд, но и самая обстановка способствовала такому расположению. Слегка колыхавшееся при выходе из Кронштадта море следующие затем дни совершенно уподоблялось ясному зеркалу, и разверзавшаяся под носом корабля влага имела вид не воды, а масла, с усилием рассекаемого. Забавные рассказы, заведомо нелепые каламбуры и остроты сыпались со всех сторон. Но вот, говорят, показался берег Травемюнде, и капитан Крюгер, принесши большую книгу, заявил, что его пассажиры никогда не отказывались оставить в этой книге свои автографы на память.
— Вы непременно должны ему оставить на память стихи, — заговорили пассажиры, обращаясь ко мне.
Хотя я и враг всяческих стихов на заданную тему, тем не менее пришлось исполнить всеобщее желание, и я написал в книгу:
«Весь переезд забавою Казался; третьим днем И морем мы, и Травою До Любека дойдем. И как бы ветру флюгером Ни вздумалось играть, Мы с капитаном Крюгером Не будем трепетать».Не успели мы добраться до Любека, как уже в тот же день разлетелись во все стороны, как птицы, выпущенные из клетки; и я, заехав на минутку в Висбаден, чтобы свезти брату Василию с женою и сестре Любиньке деньги, покинул их с первым отходящим поездом и через Страсбург полетел в Париж. В Луврский отель попал я поздно вечером и, конечно, бросился к ящику, в котором письма были расположены по заглавным буквам. Я не верил глазам своим: по моему адресу не нашлось ни строчки. Что бы это могло значить, я никак не мог догадаться. После ряда самых задушевных и дружеских писем, на основании которых предпринято переустройство всего образа жизни и наконец самая поездка — вдруг ни строки там, куда я просил адресовать письма. Для последней мало вероятной попытки отыскать письма poste restante было слишком поздно, и приходилось отложить справку до 9-ти часов утра. Можно себе представить, под влиянием какой истомы я вошел в мою уединенную комнату. Чтобы хоть сколько-нибудь развлечься и успокоиться, я спросил журналов и газет. Но это не помогало, так как глаза останавливались на строках, а если и двигались, то не передавая воображению никакого определенного смысла.
На заре я уже был на ногах и бросился к почте, но, конечно, в такой ранний час все было заперто, и я часа два кружился по тем же улицам и переулкам. Наконец почта отперта, и я, подавая чиновнику свой паспорт, спрашиваю, — нет ли писем? Через минуту та же благодетельная рука подает три толстых конверта с знакомым почерком, и тут только с облегченным сердцем я бросился в первую еще совершенно пустую кофейню и потребовал кофею. Пробежавши письма и кончивши кофей, я на радости дал гарсону два франка, что, видимо, его даже изумило. Не выходя из кофейни, я тотчас же написал в Диепп, что завтра с экстренным поездом прибуду туда около полудня, и снова адресовал письма poste restante, так как телеграфировал бы о своем приезде, если бы знал адрес.
Имея перед собою целые сутки, я решился попробовать счастья, отыскивая Тургенева в rue de l'Arcade. На мой боязливый вопрос привратник отвечал: «Господина Тургенева нет дома».
— Где же он? — спросил я тоскливо.
— Он отправился в кофейню пить кофе.
— В какую кофейню?
— Он постоянно ходит в одну и ту же.
Привратник дал мне адрес кофейной. Вхожу, не замечая никого из посетителей, и во второй комнате вижу за столом густоволосую седую голову, заслоненную большим листом газеты.
— Pardon, monsieur, — говорю я подходя.
— Боже мой, кого я вижу! — восклицает Тургенев и бросается обнимать меня.
Мы отправились к нему в rue de l'Arcade и сговорились в этот день вместе отобедать.
— Вот, — говорил Тургенев: — обыкновенно поэтов считают сумасшедшими; а в конце концов посмотришь на их действия, и дело выходит не так безумно, как надо бы ожидать.
В голове моей промелькнуло, что никто лучше самого Тургенева не оправдывает мнения о сумасшествии поэтов. Но в данную минуту мне было вовсе не до сарказмов.
На другой день скорый поезд помчал меня в Диепп, но по мере приближения к цели мною начало овладевать раздумье. Хорошо, если невеста получила мое вчерашнее письмо и постарается предупредить меня; иначе, как отыскать мне их в значительном городе, наполненном иностранными гостями? Если бы я даже кому-либо из них попался на улице, то едва ли бы они признали гвардейского офицера в штатском платье. Однако там видно будет, что предпринять, а в настоящую минуту нужно удержать единственную, оставшуюся на дебаркадере коляску. Забравши с собою небольшой чемодан, я предался воле извозчика, пробиравшегося довольно медленно по песчаному полю, отделявшему город от дебаркадера. В поисках за каким-либо лицом, могущим оказать мне помощь, прошло столько времени, что когда я подъезжал уже к мосту через небольшую бухту, за которой начинались городские улицы, на всей площади уже не было ни души. Солнце, отражаемое белым песком, пекло невыносимо.
В это время, как я узнал потом, у Боткиных происходило следующее. Ко времени прихода поезда Василий Петрович зашел за своими сестрами, чтобы вместе с ними встретить меня. Зная его кропотливость, сестры уже дожидались одетые. Но он на этот раз, как нарочно, опоздал, и так как все извозчики уехали к поезду, то, вынужденный идти на значительном расстоянии к дебаркадеру, Боткин стал нестерпимо ворчать на сестер и таким тоном, как будто бы они были причиною замедления. Когда, выйдя за город, они перешли мост, то увидали, что все приезжие уже пешком и на извозчиках покинули дебаркадер, за исключением одного путника в сером пальто и серой пуховой шляпе, усаживавшегося в последнюю коляску.
— Вот счастливец! — воскликнула Марья Петровна. — А нам теперь опять возвращаться по жаре в такую даль!
В свою очередь и я, подъезжая к каменному мосту, увидал двух дам и мужчину, направлявшихся к городу. Невзирая на невиданную мною дотоле громадную соломенную шляпу, я под нею мало-помалу стал признавать свою невесту, и когда коляска окончательно нагнала идущих, я с восторгом остановил извозчика, чтобы принять всех в экипаж. Невеста объявила, что наняла мне квартиру, несмотря на множество купающихся, преимущественно англичан. До сих пор не могу понять, каким образом могли уступить такую прелестную квартиру за два франка в день. Помнится, внизу был ресторан с выставкою всевозможной морской добычи, начиная от превосходных устриц до всякого рода рыбы и омаров. У одной стены просторной комнаты стояла с цветным пологом кровать, а перед зеркалом, вместо обычных часов, — прекрасно набитая чайка распускала свои крылья. Почти ежедневно Боткины приходили сюда обедать за поставленным посреди комнаты столом. Вечером, чтобы не отставать от других, мне приходилось идти гулять на высокий морской берег, на котором, невзирая на знойный день, поддувало с моря нестерпимым холодом. К счастью, сезон наших дам кончался, и мы могли возвратиться в Париж и поторопиться со свадьбой.
На этот раз я нанял для всех помещения в знакомой мне улице Helder, в Бразильской гостинице; а обедать, под предводительством Василия Петровича, мы ходили в кафе, которого имени не упомню. Ходил с нами обедать и Гончаров, приехавший на другой день нашей свадьбы и поселившийся в той же гостинице как раз над нами.
Озабоченный заготовлением мелких подарков знакомым петербургским дамам, Иван Александрович нередко сопровождал наших дам в поисках по магазинам Пале-Ройяля, изобилующим подобными предметами. Досточтимый романист, без сомнения, и не подозревает, что, школьничая, я заставил заплатить его несколько франков. В присутствии дам он выбирал дутое, стеклянное, венецианское ожерелье.
— Вы не очень нажимайте зернышки, их легко раздавить, — сказал я без всякого умысла.
Желая, вероятно, показать перед дамами неосновательность моего вмешательства, Иван Александрович, сказав: «Это очень прочно», — стал видимо нажимать еще более. Заметив это, я убедился, что нужно настойчиво уговаривать его, для того чтобы он, стараясь доказать противное, стал нажимать сильнее.
— Ах! вы ломаете вещи! — воскликнула француженка, не понимавшая наших переговоров на русском языке, — в то время как из-под пальцев Ивана Александровича посыпались тонкие голубые черепки.
Так как я ничего не украшаю, а только рассказываю, то должен признаться, что в то время я еще не дошел до понимания эпического склада и его течения, и потому случилось следующее. Как-то в полуденное время И. А. Гончаров, занимавший, как я уже сказал, комнату этажом выше над нами, — пригласил Тургенева, Боткина и меня на чтение своего, только что оконченного «Обломова». В жаркий день в небольшой комнате стало нестерпимо душно, и продолжительное, хотя и прекрасное чтение наводило на меня неотразимую дремоту. По временам, готовый окончательно заснуть, я со страхом подымал глаза на Боткина и встречал раздраженный взгляд его, исполненный беспощадной укоризны. Но через десять минут сон снова заволакивал меня своею пеленою. И так до самого конца чтения, из которого я конечно не унес никакого представления.
Начались заботы о приданом и приготовлении к назначенному дню свадьбы. Случилось, как нарочно, что в Париже в это время находились многие родственники невесты. Там была одна из старших ее сестер с молоденькою дочерью и, кроме Василия Петровича, еще два брата, в том числе и красивый турист Николай Петрович, проживавший на постоянной парижской квартире большую часть года. Коротко знакомый с условиями парижской жизни, веселый Николай Петрович смотрел на деньги как на средство доставить кому-либо удовольствие. Вот он-то и помог мне в устройстве всего необходимого для свадьбы. Так, например, узнавши, что я думаю заказать свадебный обед в «Maison d'or», он объяснил мне, что это ресторан для свадьбы неприличный, а что он рекомендует меня своему знакомому Филиппу, который сделает все и сходно, и прилично. Равным образом Николай Петрович вызвался прислать нам свадебный экипаж (une remise). Пришлось мне обратиться к русскому священнику, любезному отцу Васильеву, который пояснил, что в русской посольской церкви форменных венцов нет, но что он к назначенному дню, т. е. к 16 августа (старого стиля) закажет венцы цветочницам, которые устроят их из искусственных цветов на каркасе. Оставалось заказать кольца и бонбоньерки и пригласить шаферов. Шаферами у невесты были ее братья, а у меня И. С. Тургенев.
16 августа в четыре часа карета, запряженная парою прекрасных серых лошадей, с лакеем и кучером в одинаковых ливреях, явилась к нашему подъезду. А я, не желая тратить денег на ненужный мне фрак, оделся в полную уланскую форму и отправился в церковь с Тургеневым.
«Итак, подумал я, становясь на ковер, вот он Рубикон, за которым начинается новый неведомый поворот жизненного течения»[198]. Никогда не испытывал я подобного страха, как в этот миг, и с озлоблением смотрел на Тургенева, который неудержимо хохотал, надевая на меня венец из искусственных цветов, так странно противоречивших военной форме. За обычными поздравлениями новобрачная пошла прикладываться к местным иконам, а свидетели стали расписываться в церковной книге.
Можно было предполагать, что два известных литератора не напишут в метрической книге вздору. Такое предположение не оправдалось в 1880 году, когда, с переселением в Курскую губернию, мне пришлось записаться в Курскую дворянскую книгу. Потребовали метрическое свидетельство о браке, не удовлетворяясь почему-то указом об отставке, в котором сказано: «женат на девице Боткиной». Пришлось списываться со священником парижской посольской церкви, который немедля ответил, что в книге записано: «с дочерью Петра Кононова» и опущено последнее слово Боткина. В архиве петербургской консистории, конечно, стояло то же самое, и нужно было, чтобы все оставшиеся в живых братья Боткины подали заявление, что сестра их действительно повенчана со мною в 1857 г. и что фамилия Боткина опущена по недосмотру свидетелей.
Прямо из церкви мы со всеми приглашенными отправились к Филиппу, где в двух комнатах, роскошно уставленных цветами, нас ожидал свадебный обед на двенадцать человек. Тонкий и великолепно поданный обед прошел оживленно и весело. Прекрасного вина, в том числе и шампанского, было много, и под конец обеда Тургенев громко воскликнул: «Я так пьян, что сейчас сяду на пол и буду плакать!»
Невольно припоминаешь разницу между тогдашними и нынешними ценами. Теперь за такой обед надо заплатить не менее трехсот рублей, а тогда я заплатил Филиппу триста франков.
Вернувшись от обеда, я застал дома письмо от моего московского слуги, извещавшего меня, что сестре Наде гораздо лучше и что от нее уже три раза присылали и брали, согласно моему распоряжению, лошадей для катанья.
Как нарочно, на другой день в Париж явилась сестра Любинька и брат Василий с женою. Первой я нашел комнату в нашем отеле, а вторые остановились в Hôtel Helder.
На третий день после нашей свадьбы Николай Петрович Боткин заказал точно такой же обед у Филиппа, пригласив на него и трех моих родных. А на следующий за тем день брат Василий объявил мне, что по поводу дня рождения жены своей он желает позвать Николая Петровича и всех нас, в числе двенадцати человек, к Филиппу.
В назначенный день я с утра отправился поздравить новорожденную. Но, вернувшись домой, нашел записку от Николая Петровича, в которой он просил меня извинить его перед братом моим, так как по нездоровью явиться на обед не может. Известие это привело брата в отчаяние, так что я просил его успокоиться и обещал во что бы то ни стало избежать фатального числа тринадцать, приискав четырнадцатого сотрапезника. Прежде всего я подумал о любезном отце Васильеве. Но в том и состоит характер неудачи, что все выходит невпопад. Домашние отца Васильева любезно приняли мое предложение, но наотрез объявили, что, уехав за город, отец Васильев никак не может получить приглашения вовремя. Подгоняя насколько возможно кучера посулами на водку, я бессознательно глядел из кареты по сторонам, и казалось, что судьба мне улыбается: между проходящими по улицам я узнал два или три раза спутников с парохода. Конечно, я выказывал непритворную радость встречи и просил не отказать мне откушать с нами у Филиппа. Но увы! каждый раз меня ожидал один и тот же ответ: «На сегодня я приглашен». — Что мне было делать? Я бросился к Филиппу и, объяснив ему свое горе, просил, не найдет ли он какого-либо знакомого ребенка, чтобы посадить к нам за стол четырнадцатым. Филипп отвечал, что сегодня по случаю воскресенья все дети за городом и что он рад всячески служить насчет перемены блюд, но доставить лишнего человека не берется. Проезжая по улице de l'Arbre Sec, я, снедаемый отчаянием, вспомнил, что в одном из домов на пятом этаже живут литографы, рисующие мой портрет. В один момент я уже был в их скромной мастерской и застал обоих братьев за работой. Чего же лучше? Сообщив им про отчаяние моего брата, я высказал уверенность, что они не откажут выручить меня по знакомству. Но один из них объявил, что не может выйти из мастерской, не окончив срочной работы, а другой повторил неизменное: «Je dîne en ville»[199].
Когда со скорбным чувством я спустился почти на нижний конец бесконечной спирали, образуемой лестницею, вверху я услышал громкое: «monsieur!». — Старший живописец звал меня, уверяя, что если я заметил сидящего у них на диване гостя в блузе, то он может рекомендовать мне этого образованного и приятного собеседника.
Снова пришлось взбираться по лестнице и приглашать приятного собеседника, который подал мне руку, напоминающую кузнечный терпуг.
— Постараюсь быть точным, — сказал мой будущий гость, — и я стремглав бросился успокоить брата.
Когда мы входили в обеденную залу Филиппа, мой приглашенный уже был там во фраке и в белом галстуке.
И когда после нескольких приличных возлияний Тургенев вызвал его на откровенную беседу, он стал рассказывать, как в качестве кочегара отправлялся в Индию для возбуждения сипаев против англичан, — и вообще проявлять тенденции, считавшиеся в то время в Париже небезопасными.
Повороты судьбы в ту или в другую сторону иногда невольно бросаются в глаза; даже в таких случаях, как тринадцать за столом. — Не успел я насильственным образом изменить фатальное тринадцать на четырнадцать, как в залу вошел отец Васильев и сел пятнадцатым за обед. Я не философствую, а припоминаю и рассказываю и воображаю, какую пищу доставляю сердечному убеждению многих, вынужденный присовокупить, что, смотревшие с таким ужасом на почти неизбежное тринадцать за столом в день рождения, брат мой и его жена едва дожили до следующего дня рождения и, как мы со временем увидим, скончались в один и тот же месяц.
Но всему бывает конец, и вот пришлось и нам думать о возвращении в Москву. Наши барыни, в особенности сестра жены моей, набрали столько клади, что везти ее с пассажирским поездом было бы слишком убыточно, а потому мы отправили все через комиссионера в Любек. Здесь, расставшись с сестрою жены моей, воспользовавшейся отходящим пароходом в Петербург, мы остались поджидать вещей, долженствовавших прибыть из Кёльна, где мне пришлось, при помощи наполеондоров, проводить их через неподкупные руки прусских таможенных.
Попасть из шумного и дорогого Парижа в тихий и дешевый Любек было даже как-то странно. В великолепной гостинице нам отвели за талер в день номер с салоном, аршин в тридцать длины, так что мы просили хозяина о менее обширном помещении, хотя он сообщил нам, что цена номера не зависит от его величины. По первому звонку появлялась щегольски одетая прислуга; кроме утреннего кофе в 8 часов, нам подавали к завтраку в 12 часов хорошее мясное блюдо и фрукты; затем следовали два обеденных табль-дота: в 2 и 4 часа; мы ходили к последнему, за которым во главе стола сидел сам хозяин, разливавший суп; затем следовал ряд кушаний, вполне удовлетворительных, причем к каждому куверту ставилось полбутылки довольно плохого вина. В 8 часов вечера нам подавали тульский самовар, чай с печеньем и фрукты. В такой обстановке пришлось ровно две недели поджидать прибытия вещей.
Я уверен, что Любек и до сих пор остался по характеру средневековым городом, с домами, на которых готическими, немецкими буквами начертаны разные девизы и сентенции. На досуге мы пустились осматривать старинные католические церкви, ныне превращенные в лютеранские. В одной из таких церквей красуется целый ряд картин Гольбейна, знаменитый его «Todten — Tanz» с изображением всех возрастов и положений человеческих, сопровождаемых скелетом смерти. Осматривая на чердаке собора обширную кладовую, хранящую раскрашенные статуи святых и разнообразную церковную утварь, пришлось с удивлением слышать от красивого пономаря, во фраке и в белом галстуке, про нетерпимость протестантского пастора, обзывающего все это кумирами и едва дозволяющего картинам Гольбейна оставаться на стенах храма.
Однажды афиши объявили о прибытии из Копенгагена знаменитого скрипача Олебуля, который в 7 часов вечера дает концерт в театре городского сада. По востребованию нашему нам из конторы гостиницы принесли два билета на этот концерт. В седьмом часу мы с женою пешком отправились в городской сад, до которого по прекрасному тротуару пришлось идти не менее версты. Подходим ко входу в сад, представляющему каменный свод, под которым в самый сад спускается каменная лестница. Тут же у входа в углублении происходит продажа билетов, и на стене вывешено крупное объявление: «По случаю бурной погоды, пароход, везущий г. Олебуля, к назначенному часу прибыть не может, а потому желающие могут получить за свой билет 45 копеек обратно. Желающие же провести вечер в саду получают в возврат только 30 копеек, оставляя при себе билет для входа в сад».
Когда мы сошли вниз по лестнице, нас провели по превосходно содержанным садовым дорожкам и аллеям в просторную театральную залу, освещенную газом. Там мы сели отдыхать на кресла и целый вечер слушали прекраснейший оркестр; с непродолжительными антрактами оркестр играл часа три. Затем все поднялись и стали уходить из залы. По причине позднего времени сад был роскошно иллюминован по тогдашней моде искусственными цветами, освещенными газом и испускающими тонкие каскады воды во всех направлениях. Пока мы проходили к выходу, раздавались шумные возгласы немцев, настойчиво требовавших содержателя сада по поводу каких-то упущений. «Нельзя так бессовестно грабить публику!» — восклицали возбужденные голоса.
«Вот, думалось мне, люди, способные охранять общественные интересы. Это не то, что у нас, где никто не закричит, пока его не трогают, и потому поневоле будет кричать в одиночку».
В свободное от прогулок время я вслух читал английские романы во французском переводе. Наконец, через две недели, после наших многократных запросов экспедитору, прибыли наши вещи, и в то же время на Траве грузился пароход, отходящий в Петербург.
Не могу не припомнить, что дилижанс, привезший нас в гостиницу, отвез нас и наши вещи также и на пароход, и за все это полумесячный счет наш из отеля с чаями прислуге оказался ровно в пятьдесят талеров,
На следующий день мы уже были в море, где при полном комфорте нас ожидало неудобство, состоящее в том, что, когда наш корабль забирал из реки пресную воду, в море было сильное волнение, как раз против течения Траве, так что вся запасенная вода сказалась соленой. Воздерживаясь от жидких кушаний, приходилось утолять жажду портером, легким вином и сельтерской водой.
Несмотря на продолжавшееся волнение, мы на третий день прибыли в Кронштадт. Когда бросили якорь, мы с женою были на палубе и неожиданно подверглись все более усиливающемуся качанию корабля. Дело в том, что, когда волнением стало заносить корму корабля вокруг неподвижного якоря, громадный корабль, становясь поперек волнения, подвергся такой качке, что, пропустив одну руку под солидную ручку скамьи, на которую я сел, и держа другою под руку жену, я некоторое время отвесно смотрел на подымающиеся и опускающиеся под нами волны. Когда качка стала уменьшаться, по мере того как корма корабля заходила под ветер, все бросились к лестнице каюты, но тут оказалось непреоборимое препятствие. Перед смущенным московским пастором во всю ширину лестницы лежала его жена и кричала: «ich kann nicht!»[200].
Но вот мы уже у петербургской таможни и в небольшой, но прекрасной квартире брата жены моей, художника Мих. Петр. Боткина, Этот, в то время весьма небогатый, ученик Академии, занимал квартиру вместе с двоюродным братом своим Постниковым, тоже живописцем; с ними также жил служивший в министерстве внутренних дел брат Михаила Петровича — Павел Петрович Боткин. Приятно вспомнить радушие, с каким эти юноши встретили нас, и удобства, которыми они нас окружили, начиная с прекрасного домашнего стола.
Я забыл сказать, что, истратившись по случаю свадьбы, я вынужден был при отъезде из Парижа занять у Василия Петровича две тысячи франков. Поэтому первым делом моим было поехать к Некрасову и попросить у него денег в счет должных мне редакциею двух тысяч рублей. Прием Некрасова был самый любезный, но, невзирая на сочувствие к моему положению, денег мне не дали ни копейки.
— Не беспокойтесь, — сказал мне Михаил Петрович, — вещи ваши я отправлю с товарным поездом в Москву. Но не застраховать ли их? Ведь там, пожалуй, тысячи на три товару найдется.
— Как хотите, — отвечал я. — Застрахуйте рублей в пятьсот для облегчения совести.
Дня через два, поблагодарив гостеприимных хозяев, проводивших нас на Железную дорогу, мы покатили в Москву. Здесь встретили нас треволнения, неразлучные с устройством нового хозяйства. Свою гостиную мы нашли пустою, так как немец, получивший большую половину денег за заказанную ему мебель, погорел, причем сгорела и наша мебель, вместо которой он, однако, обещал поставить новую. Приходилось ждать.
VIII
Жизнь в Москве. — Наши музыкальные вечера. — Братья Толстые. — Доктор П-н. Свадьба Борисова. — Письмо Ап. Григорьева. — Обед Кокорева. — Медвежья охота. — Сборы в Новоселки на лето. — Посещение Ясной Поляны. — Тетушка Льва Николаевича.
Вскоре после приезда нашего в Москву, я получил Василия Петровича Боткина следующее письмо.
Париж
21 сентября 1857 г.
Итак я продолжаю обитать в той же комнате, где меня оставили, и ничего вокруг меня не изменилось, с разницею, что я лежу теперь не на вашем диване, г. своем. Уехал и Гончаров, уехал и Тургенев в Кутавнель, где сидит по причине разболевшейся пятки, которая не дает ему ходить. Сегодня я получил письмо него. Затем, в виде развлечения моего одиночества, судьба послала сюда семейство Тургеневых, а именно Ольгу Aлександровну, милую во всех отношениях, отличную девушку, с которой я был знаком в Петербурге; притом она хорошо играет на фортепьяно и особенно сонаты Бетховена, которые я так люблю. Это для моих одиноких вечеров убежище необходимое. В театре после вас я был только раз — в комической опере. Смотрел Жоконду, старинную французскую оперу Nicolo — человека с большим мелодическим даром.
Свою национальную музыку французы исполняют прекрасно, так что я просидел с великим удовольствие словно окруженный простодушными, милыми детьми. Французы потеряли музыкальное чувство с тех пор, как стали забираться в чуждую, несвойственную им высшую музыкальную сферу; как противны они в своей Большой Опере, так милы в своей старой музыке, совершенно соответствующей их национальному характеру. — Познакомился я с приехавшим сюда живописцем Ивановым. — Человек он весьма умный и мыслящий, но, сколько мне кажется, более мыслящая, нежели художническая натура, и потому более ищущая, нежели производящая. Мочи нет, как хочется видеть его картину. Мне странным в некотором отношении кажется его усиленное стремление довести историческую верность своей картины до всевозможного совершенства. Для этой исторической верности в будущих своих произведениях, предпринимает он путешествие в Сирию и в Иерусалим. Такое кропотливое археологическое направление едва ли может заменить творческую производительность и ту поэтическую верность, какою увлекает нас Шекспир, при всех своих археологических ошибках, или старые итальянские живописцы. Боюсь выговорить, но творческим, поэтическим даром едва ли обладает Иванов. Все эти сомнения разрешит мне его картина, до которой считай вздором все мои о нем мнения.
В. Боткин.
Однажды утром жандарм с железной дороги, передавая мне поклон от полковника С. С. Громеки, вручил заявление от железной дороги о том, что вагон, в который в Петербурге погружен был наш товар, от зароненной искры сгорел, и мы можем получить в Москве остаток уцелевших вещей. Легко себе представить горькие слезы жены моей, оставшейся не только без сравнительно дорогого приданого, но даже без необходимого платья и белья. Между тем кое-какие вещи, как например мраморные часы, бронзовые канделябры и часть белья уцелели, и кроме того мы получили от Страхового Общества 300 р. за сгоревшее. Вот что Василий Петрович писал из Рима 1 ноября 1857 года:
Третьего дня вечером приехали мы с Тургеневым сюда, и вчера нашел я на почте письмо от тебя и Маши. Обрадовался я сначала, видя, что вы добрались благополучие, но известие о сгоревших вещах, не смотря на мою радость, даже меня сильно огорчило. Воображаю печаль и досаду Маши! Ведь надо же было так случиться — и столько изящных вещей погибло, а в Москве пожалуй и за деньги ее достанешь этого. Слава Богу, что сами вы добрались благополучно, между тем как в это же время по всем северным морям были страшные бури. По приезде сюда, у Тургенева снова началась его болезнь, от которой он так страдал прошлою зимой. Неизвестно, что будет дальше, а теперь он сильно страдает. Все планы его о работе рушились, и он думает скоро уехать отсюда. А как сладко воображали мы прожить вместе зиму, нанять вместе квартиру и прочее. Увы! все наши предположения и мечты сгорели, как ваши вещи. Из Марселя ехали мы на Ниццу и потом берегом моря до Генуи. Я с разных сторон въезжал в Италию, но ни откуда не являлась она в таком сладком чарующем виде. как с своей горной стороны.
«Все растет и рвется вон из меры!»
И рощи пальм, и огромные олеандры, и сады апельсинных деревьев, и возле всего этого голубое море. Есть места, перед которыми остаешься в немом экстазе. Так доехали мы до Генуи, где по случаю путаницы, сделанной кондуктором с чемоданом Тургенева, пробыли мы пять дней.
Что В. П. Боткин был человеком минутного впечатления и даже каприза, можно видеть из сопоставления следующих затем строк с его же словами из письма от 17-го ноября 1857 года. В настоящем письме он продолжает:
Всяческою мерзостью и гадостью охватило нас, когда мы вступили на великую землю Рима. Я думаю, на всей земле нет ничего унылее тех мест, которыми едешь от Чивита-Векии до Рима. Это какая то прокаженная, проклятая земля. И в народе, как в земле этой, все выгорело, все выродилось. Я не знаю, причиною ли тому воображение или что другое, но ни одна страна, ни один город не производит на мою душу таких впечатлений, как этот грязный, засаленный, унылый Рим. Но представь: я говорю о Риме, а у меня в голове сидят ваши сгоревшие вещи.
В. Боткин.
Между тем от 17 ноября 1857 года Боткин пишет:
Слава Богу, что у тебя есть практический смысл, и вы по возможности устроились. А я до сих пор не могу примириться с мыслию о ваших сгоревших вещах. Какую это сильную прореху должно сделать в вашем бюджете! На починку этой прорехи прошу вас употребить и те 2000 франков, которые ты взял у меня в Париже, и выкинем их из памяти. Скажу вам, что жизнь в Риме совершенно по мне, и мне здесь так хорошо, что я не вижу, как летит время. На этой римской почве все поднимает чувство на какой то важный (sic), величавый, задумчивый тон. Странно! Я кажется не грязный человек, а эта грязь и вонючие улицы Рима нисколько не мешают моему наслаждению. Напротив, есть что-то необычайное в этом соединении развалин римского мира с капуцинами и монастырями, этих монументальных зданий и фонтанов с окружающими их лохмотьями и грязью. Здесь и великое точно так же предоставлено самому себе, как и мелкое и ничтожное. Все свободно вышло из одной и той же родной почвы — и высочайшие идеалы христианского искусства, и современная грязь и лохмотья. Во всем здесь чувствуешь эту удивительную почву, начиная с этой небрежной простоты и наивности жизни. Да! до сих пор и даже в своем умирающем положении это еще удивительно одаренное племя.
В. Боткин.
Слуга передал мне, что сестра Надя, еще до нашего приезда, катаясь, заехала на нашу квартиру и, взглянув в зале на рояль, спросила: «Брат женится?» Конечно, первою заботою моею по приезде в Москву было испросить разрешения благодетельного В. Ф. Саблера на свидание с сестрою, которая с восторгом приняла наше предложение поселиться у нас вместе с женщиной, ходившей за ней во время ее болезни. Таким образом, сестра Надя, в самом скором времени дружески сблизившись с моею женой, заняла угольную комнату между большею чайной и девичьей, из которой каждую минуту могла позвать свою услужливую няньку.
Однажды вечером, во время чаю явился к нам неожиданно граф Л. Н. Толстой и сообщил, что они, Толстые, т. е. он, старший его брат Николай Николаевич и сестра, графиня Марья Николаевна[201], поселились все вместе в меблированных комнатах Варгина на Пятницкой. Мы все скоро сблизились. Не помню, при каких обстоятельствах братья Толстые — Николай и Лев — познакомились с Ст. Ст. Громекой; вероятно, это произошло у нас в доме. Все трое очень скоро сблизились между собою, так как оказались страстными охотниками.
Между тем Тургенев писал мне из Рима от 7 ноября 1857 года:
От В. Боткина получал я постоянные известия о Вас, любезнейший Афанасий Афанасьевич, и вот наконец пришло от Вас письмецо ко мне, за которое сердечное Вам спасибо. Я очень рад слухам о Вашем счастьи, и хотя искренно сожалею о потере всех парижских дорогих покупок, однако, при отсутствии большого несчастия, это еще с рук сойти может. Взгляните на этот пожар, как на перстень Поликратов, брошенный в дар завистливым богам. — А потроха {Мы с женою обещали угостить Тургенева на новоселье любимым его супом с потрохами.} не дождались меня. Что делать! Частью виновато в этом красноречие Василия Петровича, а частью мне самому не хотелось вернуться в Россию после годовой отлучки с пустыми руками. Я надеялся, что, расставшись с Парижем, я расстанусь с моею болезнью, я рассчитывал на здешний климат… Но увы! j'ai compté sans mon hôte… Болезнь поймала меня и здесь, и так больно кусается, что я пожалуй не вытерплю и уеду из Рима, как уже уехал из Парижа и других мест. Плохо мне, — да что говорить об этом. — Спасибо за известие о Толстом и его сестре. Скажите им, что очень они не худо бы сделали, если бы написали мне. — Что Вам сказать о Риме? Вы здесь были и сами знаете, какое он впечатление производит на нашего брата, северяка. Если б не гнусная моя болезнь, не выехал бы отсюда, право! — Пишите, пишите стихотворений как можно больше: у Вас из десяти всегда одно превосходно, а это огромный процент. А Бог даст в будущем году издадим еще книжечку. Поклонитесь от меня Аксаковым, в особенности Сергею Тимофеевичу. Я его адреса, не знаю, но я напишу ему на Ваше имя. Скажите Толстому, чтоб он выслал мне свой адрес и сестрин. Разве он намерен поселиться в Москве? Познакомились ли Вы с его братом Николаем? Сообщенные подробности о Писемском и Островском не слишком отрадны. Но что прикажете делать? У всякого человека своя манера блох ловить. Боюсь я, что при этаком поведенце Писемский себя ухлопает; Островский — тот здоров. Эти два весьма замечательных и чрезвычайно талантливых русских человека не брали себя в руки, ее ломали себя; а русскому человеку это совершенно необходимо. Талант их от этого может быть уцелел, да ведь он с другой стороны затрещать может. Вы пишете, что Ап. Григорьева нет в Москве, а не пишете, где же он? Может быть он где-нибудь здесь поблизости, и его можно было бы увидеть, если не залучить. Не смотря на мое калечество, я кое-как принялся за работу; но трудно и вяло подвигается она. Я разорен весь, вот как в детстве, бывало, мы разоряли муравейник. Где его справить! — Прощайте, будьте здоровы Вы по крайней мере. Дружески жму Вашу руку и остаюсь
преданный Ван Ив. Тургенев.
P. S. Кланяюсь Вашей жене и благодарю за память. Поклонитесь также Вашей сестре. Боткин здоров и весел.
Конечно, тотчас по приезде моем в Москву возобновилась самая живая переписка между мною и Борисовым, и нельзя было сомневаться в том, что после переезда сестры Нади к нам на жительство и он не замедлит явиться поздравить нас с законным браком. Действительно, в скором времени он приехал и поселился в моем кабинете, ночуя на мягком диване. Даже на этот раз Борисов явился более оживленным и избавленным от малоазиатской лихорадки. Чудо это, по его рассказам, совершил еще поныне памятный всем мценским жителям аптекарь Александр Андреевич Симон, говоривший всем своим клиентам:
— Охота вам покупать эту дрянь! Я вам дам несколько крупинок гомеопатии, и вы будете здоровы.
Так поступил он и с Борисовым, и на другой день после приема крупинок малоазиатская лихорадка уже не возвращалась.
Несмотря на братские мои отношения к Борисову, приезду которого мы с женою были сердечно рады, я стал бояться своего кабинета: стоило мне прийти и, закурив папироску, завести любой разговор, чтобы через пять минут очутиться в потоке самых убедительных просьб и воззваний о помощи, сопровождаемых отуманенными взглядами, а нередко и слезинкою, висящею на густых, черных усах. Это почти ежедневно происходило в кабинете. Но зато в комнате сестры нередко по поводу моих указаний на многолетнюю, безграничную преданность я слышал только отзывы, в безнадежности которых для Борисова сомнения быть не могло. Не доверяя моим отнекиваниям и неблагоприятным инсинуациям, Борисов, набравши духу, сам находил минуту повторить в двадцатый раз свое предложение. Тут происходил обычный электрический удар, и на другой день, едва сдерживая слезы, он уезжал в Фатьяново.
Еще до моей поездки в Париж, Ап. Григорьев познакомил меня с весьма милой девушкой, музыкантшей в душе — Екатериной Сергеевной П-й, вышедшей впоследствии замуж тоже за пианиста и композитора Бородина. В то время все увлекались Шопеном, и Екатерина Сергеевна передавала его мазурки с большим мастерством и воодушевлением. Когда я женился, Екатерина Сергеевна, полюбивши жену мою, стала часто навещать нас. В то же время Ап. Григорьев ввел к нам в дом весьма талантливого скрипача, которого имени в настоящее время не упомню, но про которого он говорил, что это «кузнечик-гуляка, друг кузнечика-музыканта»[202].
Таким образом, у нас иногда по вечерам составлялись дуэты, на которые приезжала пианистка и любительница музыки графиня М. Н. Толстая, иногда в сопровождении братьев — Николая и Льва — или же одного Николая, который говорил:
— А Левочка опять надел фрак и белый галстух и отправился на бал.
Днем я прилежно был занят переводами из Шекспира[203], стараясь в этой работе найти поддержку нашему скромному бюджету, а вечера мы почти безотлучно проводили в нашей чайной. Тут граф Ник. Ник. Толстой, бывавший у нас чуть не каждый вечер, приносил с собою нравственный интерес и оживление, которые трудно передать в немногих словах. В то время он ходил еще в своем артиллерийском сюртуке, и стоило взглянуть на его худые руки, большие, умные глаза и ввалившиеся щеки, чтобы убедиться, что неумолимая чахотка беспощадно вцепилась в грудь этого добродушно-насмешливого человека. К сожалению, этот замечательный человек, про которого мало сказать, что все знакомые его любили, а следует сказать — обожали, приобрел на Кавказе столь обычную в то время между тамошними военными привычку к горячим напиткам. Хотя я впоследствии коротко знал Николая Толстого и бывал с ним в отъезжем поле на охоте, где, конечно, ему сподручнее было выпить, чем на каком-либо вечере, тем не менее в течение трехлетнего знакомства я ни разу не замечал в Ник. Толстом даже тени опьянения. Сядет он, бывало, на кресло, придвинутое к столу, и понемножку прихлебывает чай, приправленный коньяком. Будучи от природы крайне скромен, он нуждался в расспросах со стороны слушателя. Но наведенный на какую-либо тему, он вносил в нее всю тонкость и забавность своего добродушного юмора. Он видимо обожал младшего своего брата Льва. Но надо было слышать, с какой иронией он отзывался о его великосветских похождениях. Он так ясно умел отличать действительную сущность жизни от ее эфемерной оболочки, что с одинаковою иронией смотрел и на высший, и на низший слой кавказской жизни. И знаменитый охотник, старовер, дядюшка Епишка (в «Казаках» гр. Л. Толстого — Ерошка), очевидно, подмечен и выщупан до окончательной художественности Николаем Толстым.
И. П. Борисов, бывший сам человеком недюжинным и видавший Льва Толстого еще на Кавказе, не мог, конечно, с первой встречи с ним в нашем доме не подпасть под влияние этого богатыря. Но в то время увлечение Л. Толстого щегольством бросалось в глаза, и, видя его в новой бекеше с седым бобровым воротником, с вьющимися длинными темно-русыми волосами под блестящею шляпой, надетой набекрень, и с модною тростью в руке выходящего на прогулку, Борисов говорил про него словами песни;
«Он и тросточкой подпирается, Он калиновой похваляется».В то время у светской молодежи входили в моду гимнастические упражнения, между которыми первое место занимало прыганье через деревянного коня. Бывало, если нужно захватить Льва Николаевича во втором часу дня, надо отправляться в гимнастический зал на Большой Дмитровке. Надо было видеть, с каким одушевлением он, одевшись в трико, старался перепрыгнуть через коня, не задевши кожаного, набитого шерстью конуса, поставленного на спине этого коня. Неудивительно, что подвижная, энергическая натура 29-летнего Л. Толстого требовала та. кого усиленного движения, но довольно странно было видеть рядом с юношами старцев с обнаженными черепами и выдающимися животами. Один молодой, но женатый человек, дождавшись очереди, в своем розовом трико, каждый раз с разбегу упирался грудью в круп коня и спокойно отходил в сторону, уступая место следующему.
По-прежнему я иногда забегал на часок к одному из младших соучастников боткинской фирмы, Дмитрию Петровичу, занимавшему в доме квартиру в нижнем этаже направо с первой площадки. Квартиру эту занимал прежде Тимофей Николаевич Грановский, и сюда собирался весь вдохновляемый им кружок. В настоящее время у Дмитрия Петровича в небольшой зале стоял бильярд, и мы с хозяином нередко предавались этой игре, прохлаждаясь стаканом шампанского, от которого я в то время никогда не отказывался.
Хотя Т. Н. Грановский и жена его давно уже умерли, тем не менее я еще захватил остатки его круга в доме заслуженного профессора, доктора медицины Павла Лукича Пикулина[204], женатого на младшей сестре жены моей. Впоследствии я познакомился с корифеями московской медицины, учениками Пикулина, и помню их рассказы о том, с каким благоговением студенты слушали лекции любимого профессора. Но при всем своем знании и редком отсутствии шарлатанства, приобретший большую практику Пикулин, по детской округлости лица, добродушной насмешливости и полной беспечности, всю жизнь остался милым ребенком; и при слабости характера получивши в наследство из кружка Грановского такой нетерпящий возражений экземпляр, как Н. Хр. Кетчер, Пикулин, очевидно, должен был погибнуть, что и исполнил с последовательностью, достойной лучшей доли. Бывало, сидя у Пикулина и слыша о слуге, явившемся просить доктора к больному, Кетчер, будучи сам доктором медицины, хотя и не практиковавшим, закричит: «И охота тебе, Пикулин, таскаться по больным! Наверное, какая-нибудь нервная баба, которой надо лавровишневых капель. Ха-ха-ха! А ты лучше пошли за бутылочкой „Редерера“, и мы сами с тобой полечимся, ха-ха-ха!» Конечно, получившие отказ больные не повторяли своих приглашений, а падкий и без того на всякого рода самоуслаждения Пикулин предпочитал предаваться заботам о цветочной теплице, изящном журнале садоводства и домашнем обеде, изготовляемом под личным его наблюдением по всем правилам кулинарного искусства. Таким образом, мало-помалу Пикулин впадал в то превращение дня в ночь, которое через три года после моего с ним знакомства стало его образом жизни. Началось это с привычки отправляться в пятом часу прямо из-за вкусного обеда спать в кабинет и просыпаться только в восьмом часу, когда на огонек к чаю сходился весь его кружок. Здесь являлись люди самых разнородных характеров, начиная с широко образованного и изящного Станкевича, остроумного Е. Ф. Корша и кончая далеко не изящным собирателем сказок Афанасьевым. Разнообразных членов Пикулинского кружка, видимо, привлекала не нравственная потребность высшего умственного общения, а то благодушное влечение к шутке, оставшееся в наследство от Грановского, которому нигде не было так по себе, как в кабинете добродушного Пикулина.
Позволю себе рассказать шутку Пикулина, которой мне гораздо позднее пришлось быть свидетелем.
Обычные гости его собрались на Рождестве в его кабинете в вечернему чаю. «Теперь, сказал Пикулин, пойдемте в залу!» — И когда мы вошли в нее вслед за хозяином, последний с хохотом указал на елку, убранную какими-то свертками из белой бумаги.
— Господа, прибавил Пикулин, позвольте раздать вам соответственные подарки. — При этом, развертывая бумагу, он подал еще не старому, но совершенно лысому Станкевичу банку розовой помады и венский гребень, уверяя, что первая отрастит у него такие волосы, которых обыкновенный гребень не прочешет. Захохотал, разумеется, громче всех Кетчер, и Пикулин, развернув сверток, подал ему собачий намордник. Е. Ф. Корш, вечно страдавший от холодных квартир, получил валенки и теплые рукавицы для чтения корректур. Афанасьев получил в подарок кусок мыла и банную мочалку. Не помню, кто получил косушку водки. Когда все подарки были розданы, поднялся Станкевич и сказал: «догадываясь о сюрпризе, ожидавшем нас со стороны любезного хозяина, мы с своей стороны припасли и для него подарок». И доставая из кармана детскую соску, украшенную розовым бантом, он передал ее хозяину.
— Таким образом, заметил Корш, мы, господа, кончаем «сосцеологией».
Борисов по-прежнему продолжал кататься на перекладной из Фатьянова в Москву и обратно. Сестра видимо оправлялась, но на мои вопросы касательно прочности ее выздоровления, добрейший В. Ф. Саблер многократно говорил, что рецидива может быть устранена только замужством. Собравшись с духом, я однажды, чувствуя себя вполне беспомощным, пустил в ход эту тяжелую артиллерию, прибавляя, что если это неизбежно-необходимо, то нельзя же по заказу ловить женихов на улице, в то время когда заведомо хороший человек умирает от любви. Встретив и на этот раз решительный отпор, Борисов снова уехал в Фатьяново
Однажды, когда я писал ему ответ, в кабинет вошла Надя и спросила:
— Кому ты это пишешь?
— Борисову, отвечал я.
— Быть может, сказала она, он будет настолько умен, что приедет к нам.
— Пожалуй, я передам ему настоящие твои слова.
— Как хочешь, был ответ.
Конечно, я передал ее слова в письме, и через неделю Борисов снова поместился в моем кабинете. Дела его однако же видимо стояли на точке замерзания.
Однажды, когда, кончивши наш утренний кофей, мы с женою оставили в чайной самовар в ведение Нади, выходившей несколько позднее, — сами же разошлись, в дверях моих раздался легкий стук.
— Можно к тебе взойти? спросила Надя.
— Обожди одну минуту, отвечал я.
— Нам только на одну минуту, проговорил Борисов. Конечно, когда я отворил дверь, то ожидал всего возможного вместо взявшейся за руки пары.
— Поздравь нас, сказали они, — мы дали друг другу слово.
Торжество счастья так и сияло из глаз Борисова. Надя была сдержанна.
Борисов тотчас же известил о дне свадьбы самого близкого и дорогого ему человека, рязанского губернатора П. П. Новосильцова, в доме которого он проживал в начале сороковых годов, когда Петр Петрович был московским вице-губернатором. Свадьба была отпразднована в самом скором времени у нас в доме, и холостой еще Дмитрий Петрович Боткин был шафером у невесты, а посаженным отцом у жениха — П. П. Новосильцов. При венчании меня в церкви не было, но впоследствии Дмитрий Петрович рассказывал, что когда он взял невесту за руку, чтобы вести ее на подвенечный коврик, она в первое мгновение отшатнулась и оказала сопротивление. В сущности такое сопротивление было только внешним знаком того внутреннего отпора, который не ослабел в душе и новобрачной.
Громека от 11-го января 1858 г. писал:
«Славься делом сим удачным,
Славься, нежный Фет!
Вашим милым новобрачным
Искренний привет!
Много счастья, многи лета
Бог им да пошлет!
И продлит во славу Фета
Свой Борисов род!
Я спешу. Сию минуту
Еду в град Петра
(Исполняя службу люту,
Дрыхну до утра).
Кстати: в Питере Щербатский
Ипполит, и с ним
Для Непира*) путь по-братски
Мы уж сочиним…»
*) Непир оставался в полку, во время моего пребывания заграницей.
Но не довольно ли стихами? Пора перестать подослать вам таковыми. Ипполит Федорович подал в отпуск и едет заграницу лечиться, кажется оставит полк совсем. Еще раз усерднейшие поздравляю вас с счастливым сочетанием Борисова; он, без сомнения, сумеет сделать ее счастливою. Если молодые еще у вас, то поклонитесь им хорошенько от меня. Жму вашу руку.
С. Громека.
От 4-го января 1858 г. получил я письмо от Апполона Григорьева:
Друг и брат Афанасий! Благодарю тебя и за письма, и главное за ту привязанность, которая в них видна, хотя за этакие вещи не благодарят. Все, что ты говорил тут о служении черни и проч. — это дело, да только это все стрелы, летящие мимо. Об этом или надобен толк долгий, или вовсе не нужно никакого до времени. Дело покамест не в том, — дело в том, что ты меня понимаешь, и я тебя понимаю, и что ни годы, ни мыканье по разным направлениям, ни жизнь, положительно — мечтательная у тебя, метеорски-мечтательная у меня, — не истребили душевного единства между нами. Рад твоей Маниловке, рад твоим стихам, которые прилетают ко мне —
«Как май ароматный
В дыханья весны,
Как гость благодатный
С родной стороны»…
Как гласит цыганская песня — и пожалуйста не верь ты в отношении к своим стихам никому, кроме Боткина и меня, разве только подвергай их иногда математическому анализу Эдельсона, — это для их здравого смысла, и кроме того у него есть особенное яркое чутье, или чутье на яркое, но только на яркое, редко на тонкое и музыкально-неуловимое. Вообще верь только критикам в этом деле, а не поэтам, т. е. ни Тургеневу, ни Толстому, ни даже Островскому, по той простой причине, что они всегда смотрят сквозь свою призму. Наилучшее доказательство-несчастное издание второе, Тургеневское. Толстой, вглядываясь в его натуру сквозь его произведения, — поставил себе задачею даже с некоторым насилием тать музыкально-неуловимое в жизни, нравственном мире, художестве. В этом пока его сила, в этом его и слабость. Островский шире всех, конечно, но с ним другая беда: он часто подкладывает свое и готов предобросовестно восторгаться шумихой Мея. Стихи свежи, благоуханны и по моему даже ясны.
Рад за Ивана Петровича. Но не разучился бы он понимать Венгерку, которую так тяжело и хорошо понимал он силою глубокого и долгого душевного страдания? А впрочем нет! От долгого горя есть всегда приличный осадок.
Слушай, брат, у меня к тебе опять просьба и большая. К ней неизбежны два предисловия.
1) Ты знаешь или видишь достаточно, что жизнь моя вен искалечена, запутана, перепутана во всяком отношении. Выйти из этой путаницы даже и надежды мало. Знаю, что по возврате пущусь издавать журнал напропалую, т. е. с глубокою верою в истинность своего литературного взгляда, с глубочайшим неверием в успех журнала. При этой адской запутанности дел, у меня отец, к которому я страстно привязался в последние времена, и семья… ну что тут рассказывать — сам знаешь и видишь. «Quesque Fortunae suae faber» — и я смиренно склоняю голову под топор судьбы, не отдавая ей впрочем ничего из своего заветного. Отправляясь, я обрезал себе расходы, здесь обрезал себя еще больше — до nec plus ultra, чтобы им доставалось по крайности столько, сколько бы доставалось в моем присутствии. Я оставил себе пять червонцев в месяц, и мне положительно не на что ни одеваться, ни учиться.
2) В это время написано мною много: кончена часть вещи: «К друзьям издалека» и часть, носящая название «Морен. Тут весь я, все мои вопросы — Философские, исторические, литературные. Но прежде чем отдать эту дорогую мне книгу Дружинину, хотел бы отделать седо точности, до ясности, до известной степени художества. Спаси меня теперь, или лучше спаси мою книгу и дай ей сказаться, как ей надо сказаться. Мне на все это время, т. е. до июня — на платье, ученье, галереи и Париж — нужно восемьдесят червонцев. Прошу тебя именем нашей ничем нерушимой дружбы выслать мне эту сумму через здешних банкиров, на имя какого либо Флорентийского, и главное сохранить глубочайшую тайну. Я сам обязуюсь в июне предоставить в твое полное распоряжение отделанную книгу (в ней листов 10 печатных), а в случае смерти — оставить записку, в которой бумаги должны быть предоставлены в твое распоряжение… Милый мой, ты знаешь, — я не подлец и когда что сказал кому либо из своих кровных, то это будет так. Во всяком случае: 1) об этом ни слова ни патеру, никому вообще; 2) присылай денег тотчас же по получении сего послания, или тотчас же отвечай отрицательно, ибо тогда я отправлю свое чадо в его грубом и необделанном виде к Дружинину. Главное, пришли денег или отвечай отрицательно без проповедей, в возможной скорости».
Сей неблаговидный наскок на твою дружбу делается по двум причинам: 1) потому что я в тебя верю и 2) потому что хлеб у меня есть, но я продаю его, что говорится, на корню.
Засим будь здрав, кланяйся жене, сестре и ее мужу и пиши хорошие стихи, чем много доставишь мне удовольствия.
Ап. Григорьев.
Как утопающий за прибрежные скалы, хваталась Надя руками за меня и за жену. Такое положение было для Борисова невыносимо, и он объявил, что они через неделю уезжают в Фатьяново, так как Саблер не советовал подвергать Надю впечатлению возврата в Новоселки.
В половине января я, в числе прочих, наличных, московских литераторов, получил приглашение В. А. Кокорева на обед в его собственный дом близь Маросейки. Цель этого приглашения была мне совершенно неизвестна, так как про обед 28 декабря 1857 г. в Купеческом клубе я узнал только из статьи Н. А. Любимова в сентябрьской книжке Русского Вестника 1888 года. Речь, сказанная при этом Кокоревым, тождественна по содержанию с произнесенною им в Купеческом клубе: о добровольной помощи со стороны купечества к выкупу крестьянских усадеб. Помню, с каким воодушевлением подошел ко мне М. Н. Катков и сказал: «вот бы вам вашим пером иллюстрировать это событие». Я не отвечал ни слова, не чувствуя в себе никаких сил иллюстрировать какие бы то ни было события. Я никогда не мог понять, чтобы искусство интересовалось чем либо помимо красоты. Тем не менее за столами, покрытыми драгоценным, старинным серебром: ковшами, сулеями, братиками и т. д.,- с великим сочувствием находились, начиная с покойных братьев Аксаковых и Хомякова, — наиболее выдававшиеся в литературе представители славянофилов. По причине множества речей, обед кончился не скоро. Но на другой день всех присутствующих, по распоряжению графа Закревского, пригласили к обер-полициймейстеру расписаться в непроизнесении впредь застольных речей. Помню, какгр. Н. Н. Толстой добродушно хохотал, восклицая наставление детям: «on ne parle pas à table».
Явно, что в то время правительство далеко было от мысли привлекать общество к обсуждению государственных мер.
Между тем Громека от 15 января писал:
Согласно вашей просьбе, спешу уведомить вас, милый Афанасий Афанасьевич, что на этих днях, около 18 или 20 числа, я еду на медведя. Передайте Толстому, что мною куплена медведица с двумя медвежатами (годовалыми), и что если ему угодно участвовать в нашей охоте, то благоволит к 18 или 19 числу приехать в Волочек, прямо ко мне, без всяких церемоний, и что я буду ждать его с распростертыми объятиями: для него будет приготовлена комната. Если же он не приедет, то прошу вас уведомить меня к тому же времени. Я полагаю, что охота состоится именно 19 числа. Следовательно, всего лучше и даже необходимо приехать 18-го. Если же Толстой пожелает отложить до 21-го то уведомьте; далее ждать невозможно.
Ипполит и Николай Федоровичи кланяются и поздравляют с замужеством сестры. Первый из них обещает устроить чрез Василия Павловича, которого ждет на дняхв Петербург, — доставление ко мне Непира. Обнимаю вас.
С. Громека.
P. S.
«В сердце прежнюю любовь хранит
К вам Щербатский Ипполит,
А Степан Степанов сын Громека
Будет вас любить четыре века».
Для большей убедительности известный вожак на медвежьих охотах, Осташков, явился на квартиру Толстых. Его появление в среде охотников можно только сравнить с погружением раскаленного железа в воду. Все забурлило и зашумело. В виду того, что каждому охотнику на медведя рекомендовалось иметь с собою два ружья, граф Лев Николаевич выпросил у меня мою немецкую двустволку, предназначенную для дроби. В условленный наши охотники (Лев Николаевич и Николай Николаевич) отправились на Николаевский вокзал. Добросовестно передам здесь слышанное мною от самого Льва Николаевича я сопровождавших его на медвежьей охоте товарищей.
Когда охотники, каждый с двумя заряженными ружьями, были расставлены вдоль поляны, проходившей по изборожденному в шахматном порядке просеками лесу, то им рекомендовали пошире стоптать вокруг себя глубокий снег, чтобы таким образом подучить возможно большую свободу движений. Но Лев Николаевич, становясь на указанном месте, чуть не по пояс в снег, объявил отаптывание лишним, так как дело состояло в стрелянии в медведя, и не в ратоборство с ним. В таком соображении граф ограничился поставить свое заряженное ружье к стволу дерева так, чтобы, выпустив своих два выстрела, бросить свое ружье и, протянув руку, схватить мое. Поднятая Осташковым с берлоги громадная медведица не заставила себя долго ждать. Она бросилась к долине, вдоль которой расположены были стрелки, по одной из перпендикулярных к ней продольных просек, выходивших на ближайшего справа ко Льву Николаевичу стрелка, вследствие чего граф даже не мог видеть приближения медведицы. Но зверь, быть может учуяв охотника, на которого все время шел, вдруг бросился по поперечной просеке и внезапно очутился в самой недалеком расстоянии на просеке против Толстого, на которого стремительно помчался. Спокойно прицелясь, Лев Николаевич спустил курок, но, вероятно, промахнулся, так как в клубе дыма увидал перед собою набегающую массу, по которой выстрелил почти в упор и попал пулею в зев, где она завязла между зубами. Отпрянуть в сторону граф не мог, так как неотоптанный снег не давал ему простора, а схватить мое ружье не успел, получивши в грудь сильный толчок, от которого навзничь повалился в снег. Медведица с разбега перескочила через него.
«Ну, подумал граф, — все кончено. Я дал промах и не успею выстрелить по ней другой раз». Но в ту же минуту он увидал над головою что то темное. Это была медведица, которая, мгновенно вернувшись назад, старалась прокусить череп ранившему ее охотнику. Лежащий навзничь, как связанный, в глубоком снегу Толстой мог оказывать только пассивное сопротивление, стараясь по возможности втягивать голову в плечи и подставлять лохматую шапку под зев животного. Быть может вследствие таких инстинктивных приемов, зверь, промахнувшись зубами раза с два, успел только дать одну значительную хватку, и прорвав верхними зубами щеку под левым глазом и сорвав нижними всю левую половину кожи со лба. В эту минуту случившийся по близости Осташков, с небольшой, всегда, хворостиной в руке, подбежал к медведице, и расставив руки, закричал свое обычное: «куда ты? ты»? — услыхав это восклицание, медведица бросилась прочь со всех ног, и ее, как помнится, вновь обошли и добили на другой день.
Первым словом поднявшегося на ноги Толстого с отвисшею на лицо кожею со лба, которую тут же перевязали платками, — было: «что-то скажет Фет?» — Этим словом я горжусь и поныне.
Тем временем заграничные друзья меня не забывали, и Тургенев писал:
Рим.
9 января 1858
Вы преисправный и прелюбезный корреспондент, милейший мой А. А., и Ваши письма доставляют мне всегда живейшее удовольствие, во-первых, я вижу из них, что Вы расположены ко мне — и это меня очень радует; а во-вторых, от них веет таким спокойным светлым счастьем, что и вчуже пронимает аппетит, — и это меня еще больше радует. Дай Бог Вам продолжать так же, Вы начали! — Если б я был поэт, я бы сравнил Вашесчастье с цветком, — но с каким? Держу пари, что не отгадаете — с цветом ржи. Вспомните цветущий колос на склоне холма в сияющий летний день, — и Вы останетесь довольны моим сравнением.
Вы говорите, что часто мечтаете о нашем общем житье в деревне в нынешнем году… Я мечтаю о нем даже здесь, среди величавых развалин в длинных мраморных залах Ватикана. Недаром же судьба поселила нас всех, Вас, Толстого, меня, в таком недальнем расстоянии друг от друга!
Если боги нам не позавидуют, мы проведен прелестное лето. У нас здесь стоит погода (мы в этом отношении были очень счастливы) — очень похожая на ту погоду, какая бывает в России в конце апреля, и это еще более разжигает и волнует меня. Я знаю, что в России ждут нас не одни веселые ощущения: придется много хлопотать и трудиться; но все-таки авось мы огласим те поля невольной песней — невольной и последней может быть.
Перевод Ваш из Беранже очень мил. Бороться с ним довольно трудно; благословляю Вас на борьбу гораздо труднейшую, а именно с Шекспиром. — В какой-нибудь хороший летний вечер Вы прочтете нам на моем балконе «Антония и Клеопатру».
Я рад, что Вам мое «Полесье» понравилось, хоть я писан его урывками, через силу und mitem schwerem Herzen. Я послал Современнику повесть, которую Вы может быть прочтете до получения этого письма; напишите свое мнение о ней, но постарайтесь взглянуть на меня посуровев.
Здоровье мое несколько лучше с некоторых пор, но все еще неудовлетворительно и омрачает много светлых мгновений. Я еще потому с радостью думаю о России, что мне кажется, что я там буду здоров. Но полно об этом невеселом предмете.
Я остаюсь в Риме еще недель шесть, может быть даже два месяца. — Боткин неоцененный товарищ, и мы с ним изучаем этот бесконечный и неисчерпаемый Рим, который, вяжется, не дался Вам, потому что Вы его брать не захотели. Здесь есть высочайшие вещи, которые открываешь совершенно как мореплаватель открывает неизвестные острова.
Мы написали Григорьеву во Флоренцию, но ответа еще не получали.
До свидания в наших березовых рощах! Поклонитесь от меня Вашей милой жене и всем добрым друзьям. Крепко жму Вашу руку и остаюсь
любящий Вас
Ив. Тургенев.
P. S. Поклон Толстому и его сестре; я жду от них ответа на мои письма; но они, кажется, ленятся.
А 16-го января 1858 г. он писал уже из Петербурга:
Сегодня получил Ваше письмо, любезнейший Фет, — и отвечаю по пунктам:
1) О стихах. — Справедливость требует сказать, что Вы не в счастливый час перевели эти две пьесы из Шенье; вот что я заметил:
Ст. 8. «В какой свои стада пасешь ты стороне», — уж коли подделываться под Петрова, — лучше так поставить слова:
«Пасешь в какой стада свои ты стороне».
Ст. 14. Облик вечно милый.- Une cheville.
Ст. 15. Манят — Нелединского Мелецкого.
Ст. 16. Твой деву робкую и т. д. — Петров! Петров!
Ст. 23 и 24. А детских щек… будет дар. — Эдип, разрешивший загадку Сфинкса, завыл бы от ужаса и побежал бы прочь от этих двух хаотически-мутно непостижимых стихов.
Ст. 38. Спешит и т. д. Украдено у графа Хвостова.
Ст. 44. Победу меж друзьями. — Темнота… вывих.
Ст. 49. Таким ты народиться. — Канцелярский слог времен Сильвестра Медведева.
Ст. 61. Мирры шел… — Взято из надписи на триумфальных воротах после взятия Азова.
«Уразумев его враждебный вид» — в маленьком стихотворении Шенье может тоже постоять за себя, как образчик канцелярского слога с оттенком семинарии.
Эти стихи в таком виде, по моему, печатать не следует — надо их выправить.
2) Мне Полонский сказывал, что они к Вам послали первую корректуру; но для чего за 600 верст посылать первую, а не вторую корректуру? Вероятно, они уже Вам писали об этом. Григорьев пьет без просыпу, а Полонский смотрит полевым цветком, неделю тому назад подрезанным сохою.
3) Я до сих пор еще не выехал! Вероятно, первую попытку сделаю завтра. Но я вовсе не хандрил, скажите это Толстому — и на меня можно смотреть, не чувствуя приращения неприязненных чувств, — по крайней мере мне так кажется. Посоветуйте ему приехать сюда поскорей, — он бы нас всех вообще, а Дружинина в особенности бы порадовал. По крайней мере, пусть присылает он свои Три смерти, — а лучше бы привез их сам.
4) Поклонитесь от меня пожалуйста обоим Толстым и графине Марье. Николаевне. Нельзя ли узнать ее адрес?
5) За пуговки {Выточенные мною.} благодарю душевно и ношу их каждодневно. — Также благодарю за все доброе и любезное, чем наполнено Ваше письмо. Хоть меня друзья не покидали, но мне часто не доставало Вашего симпатичного лица с прелестным цветом gourge de pigeon на носу и Вашего милейшего запинанья. Кланяйтесь от меня земно Вашей жене, сестре и Борисову.
6) Заставьте Островского прочесть Вам свою новую комедию: прелесть!
До свидания. — Не сердитесь за мои преувеличенные ругательства. Никогда сильнее не любишь приятеля, как когда тычешь ему кулаком под ребра, стараясь притом заострить сгиб третьего пальца. — Полонский на днях спрашивал меня о значении следующей Фразы Григорьева: «Каждый человек в наше время разом переживает две формулы». Я уверен, что Толстой будет уверять, что эта фраза совершенно ясна.
Преданный вам Ив. Тургенев.
В доме Толстых я познакомился с В. Н. Чичериным и Салтыковым (Щедриным), с которым после того судьба еще раз свела меня в Петербурге у Тургенева. В этом же году, если не ошибаюсь, установились у Каткова и Леонтьева, проживавших на Арбате у Николы Явленного, вечера и ужины для людей, симпатизировавших их направлению. В числе последних был и я. Чтобы доставить желающим возможность застать нас наверное дома, мы назначили четверги по вечерам.
Боткин писал из Рима от 8 января 1858 г.
С какою сердечною грустью буду я выезжать из Рима!
Да скажи пожалуйста, я слышал, что Дружинин написал обо мне статью в Библиотеке и произвел меня в великие писатели? За что это он так срамит меня? Разъясни мне это и, если можно, вырви эти листы обо мне из Библиотеки и пришли мне. Слух об этом меня глубоко обидел, хотя, Дружинин, конечно, не имел этого в виду. К Григорьеву писал во Флоренцию, и очень хочется свидеться с ним. Что дорогой и милый сердцу Толстой? Надеюсь, что он получил мое письмо. Что наша литература и в особенности Атеней?
В. Боткин.
От 6 февраля того же года он писал из Рима между прочим:
Дух захватывает, когда думаешь о том, какое великое дело делается теперь в России. С тех пор как я прочел в Nord рескрипт и распоряжение о комитетах, — в занятиях моих произошел решительный перелом, — уже ни о чем другом не думается и не читается, и постоянно переносишься мыслию в Россию. Да, и даже вечная красота Рима не устояла в душе, когда заговорило в ней чувство своей родины. Да неужели вы с Толстым не шутя затеваете журнал? Я не советую, — во-первых в настоящее время русской публике не до изящной литературы, а во-вторых, журнал есть великая обуза — и ни он, ни ты не в состоянии тащить ее. Я думаю впрочем, что вы уже оставили эту мысль. Пусть окончит Толстой свой роман: он подействует на вкус публики лучше десятка всяческих журналов.
Поверьте, высшая красота и поэзия всегда достояние только самого малого меньшинства, и стихи гр. Растопчиной гораздо понятнее для массы читателей, нежели стихи Тютчева или Пушкина. Так всегда было, так и будет, и с этим надо примириться.
В. Боткин.
Однажды, когда еще холостой Борисов стоял вместе со мною у окна залы, провожая глазами съехавшую со двора жену мою в новой карете с лакеем в гвардейской ливрее на козлах, Иван Петрович, обращаясь ко мне, сказал: «Уж и не придумаю, как ты будешь поддерживать такую жизнь». Помню, как эти слова укусили меня за сердце, но тогда иллюзия литературных заработков меня поддерживала. Но время показало, что замечание Борисова с большей справедливостью могло относиться к нему, чем ко мне. Как бы то ни было, мы решили с Борисовыми, протягивая друг другу материальную руку помощи, делить год на зиму и лето, из которых первую половину Борисовы гостили бы у нас в Москве, а вторую мы у них — в деревне.
Приближался март месяц, и надо было перебираться в Новоселки, куда Борисовы, переехавшие туда из Фатьянова, давно нас подзывали[205].
Купивши теплую и укладистую рогожинную кибитку, мы с одною горничной (опоэтизированной Толстым Марьюшкой) отправились на почтовых в Мценск. О железной дороге тогда не было еще и помину, а про поставленные вдоль шоссе телеграфные столбы говорили в народе, что тянут эту проволоку, а потом по ней и пустят из Питера волю. К этому времени мы уже настолько сошлись со Львом Ник. Толстым, что я счел бы для себя большим лишением не заехать к нему передохнуть на деньки в Ясную Поляну. Там мы с женою представились прелестной старушке тетке Толстого Татьяне Александровне, принявшей вас с тою старинкою приветливостью, которая сразу облегчает вступление в чужой дом. Татьяна Александровна не предавалась воспоминаниям о временах давно прошедших, а жила всей полнотой окружающего ее настоящего.
Она говорила о том, что на днях проехал к себе в Пирогово Сережинька Толстой, а Николинька пожалуй еще пробудет в Москве с Машенькой, но приятель Левочки Д — ъ был на днях и жаловался на нервные боли жены своей.
В затруднительных вопросах Татьяна Александровна обращалась к Левочке и окончательно успокаивалась его решением. Так, проезжая с ним осенью в Тулу, она взглянув в окно кареты, вдруг спросила:
— Mon cher Leon, как это пишут письма по телеграфу?
«Пришлось, рассказывал Толстой, с возможною простотою объяснять действие телеграфного снаряда, одинакового на обоих концах проволоки, — и под конец услыхать: „oui, oui, je comprends, mon cher!“»
Не спуская вслед затем более получаса глаз с проволоки, тетушка наконец спросила: «mon cher Leon, как же это так? — за целые полчаса я не видала ни одного письма пробежавшего по телеграфу?»
— Сидим мы иногда, рассказывал Лев Николаевич, — с тетушкою целый месяц, не видя никого, и вдруг, разливая суп, тетушка скажет: «mais saves vous, cher Leon on dit»…..
При дальнейших, многолетних посещениях Ясной Поляны, я никогда не утратил благорасположения Татьяны Александровны и под конец с прискорбием видел умственное и физическое детство, в которое она впала перед смертью.
IX
Новосельская жизнь. — Посещение Николая Толстого. — Наша поездка с Борисовым в Никольское. — Приезд брата Петра. — Федюшка. — Приезд Тургенева. — Известие о нездоровьи брата моего Василия. — Наши охоты с Тургеневым. — У Опухтиных. — Семья Тургеневых. — Студент Рабионовъ. — Перевод «Антония и Клеопатры». — Именины Е. С. Тургеневой. — Тургеневское имение Топки. — Возвращение в Москву. — Кончина брата Василия и его жены. — Рождение племянника и приезд брата Петра в Москву.
Борисовых мы нашли в Новоселках в таком сравнительно блестящем состоянии, в каком, по мнению моему, чета эта уже более никогда не находилась. Мы с женою поместились на антресолях, на которых жила когда-то наша покойная мать и на которых все мы, начиная с меня, родились. Излишне говорить об общей нашей радости при встрече с сестрою. Заметно было, что на этот раз и Борисов менее ревновал ко мне Надю.
Предавшийся в это время изучению дорафаэлевской живописи, В. Боткин писал из Флоренции от 31 марта 1858 г.
Вчера приехал я сюда, побывав в Фолиньи, Ассизи, Перуджии, Орвиетто и Сиенне. Весь этот край необыкновенно интересен по рассеянным в нем произведениям самой лучшей эпохи итальянской живописи. Но путешествие по нем сопряжено с большим неудобством; унылые, совсем обветшавшие городки и деревеньки, и так мало между ними сообщения, что в иных местах я не мог найти тележки с лошадью, чтобы доехать до следующего города. В Spello — малейшем и дряннейшем городишке, в одной ветхой церкви есть Фрески Пинтурикио: Благовещение и Поклонение волхвов. Так они написаны, столько в них разлито наивней шей грации и самой поэтической, христианской идеальности, столько чистейшей прелести в лице Мадонны, столько внутренней поэзии в этом простодушном умилении милого, простого, беззаветно любящего лица — я не мог отвести глаз от Фреска и смотрел, все смотрел на него, хотя глаза смутно видели от проступившей в них слезы. В этом же городке, но в другой церкви есть запрестольный большой образ, тоже Пинтурикио — Мадонна с Младенцем на троне и по сторонам молящиеся на них святые. Обожание Мадонны было в Италии, и именно в этой части Италии, каким то особенным исключительным религиозным чувством, и вовсе не вследствие догмы, а в силу какого-то идеала высочайшей женственности, который зародился в художественной натуре этого горного племени. Известно, что Рафаэль, который весь вышел из Умбрийской школы, с самого младенчества имел особенную набожность к Мадонне. Эта набожность, горевшая в душе величайшего художника, и создала те идеалы, на которые даже теперь невозможно смотреть без умиления. Вот оно, das ewig Weibliche, которым заключил Гёте свое воззрение на мир.
25 мая поеду в Лондон. Так как я Англию очень мало знаю и вовсе не знаю ее художественных собраний, то предполагаю остаться в ней месяца два. Потом стану брать морские ванны, вероятно в Остенде — и после них в Москву. — Ах, забыл главное: здесь увиделся с милейшим Ап. Григорьевым, которого нашел свежим и бодрым и страстно полюбившим живопись — и виделся с ним часто. Он что-то написал и сбирается мне прочесть. Тургенев уже уехал отсюда через Венецию в Вену, а потом кажется на несколько дней в Париж, на свадьбу кн. Орлова. Ася далеко не всем нравится. Мне кажется, что лицо Аси не удалось — и вообще вещь имеет прозаически придуманный вид. О прочих лицах нечего и говорить. Как лирик, Тургенев хорошо может выражать только пережитое им, во всем остальном выступают наружу одни поэтические намерения и подробности.
В. Боткин.
Однажды, когда мы после завтрака в 12 час. взошли с женою на наши антресоли, и я расположился читать что-то вслух, на камнях у подъезда раздался железный лязг, и вошедший слуга доложил, что граф Н. Н. Толстой желает нас видеть; а вслед за тем к нам наверх взошел дорогой наш московский гость, пока еще незнакомый с хозяевами дома, так как он появился зимою в Москве уже после отъезда из нее Борисовых. Конечно, через полчаса он вполне освоился со всеми и производил впечатление близкого человека, вернувшегося после долговременной отлучки. Завязались многосложные воспоминания кавказцев об этом воинственном и живописном крае. На расспросы наши о Льве Николаевиче граф с видимым наслаждением рассказывал о любимом брате: «Левочка, говорил он, усердно ищет сближения с сельским бытом и хозяйством, с которыми, как и все мы, до сих пор знаком поверхностно. Но уж не знаю, какое тут выйдет сближение: Левочка желает все захватить разом, не упуская ничего, даже гимнастики. И вот у него под окном кабинета устроен бар. Конечно, если отбросить предрассудки, с которыми он так враждует, он прав: гимнастика хозяйству не помешает; но староста смотрит на дело несколько иначе: „придешь, говорит, к барину за приказанием, а барин, зацепившись одною коленкой за жердь, висит в красной куртке головою вниз и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось, не то приказания слушать, не то на него дивиться“. Понравилось Левочке, как работник Юфан растопыривает руки при пахоте. И вот Юфан для него эмблема сельской силы, вроде Микулы Селяниновича. Он сам, широко расставляя локти, берется за соху и юфанствует».
Оказалось, что Новоселки в недальнем расстоянии от Никольского, куда, однако, надо было ехать по довольно фантастической дороге, начиная с переправы через р. Зушу вброд, бывавший большею частию по колено лошади, но доходивший иногда и до груди, а иногда и совершенно подтопленный мценскою городскою мельницей, что, впрочем, бывало редко и на короткий срок при наборе воды под барки. Как бы то ни было, но милейший Николай Николаевич, видимо, привык к нашему близкому соседству, и его желтая коляска, запряженная тройкою серых, нередко останавливалась перед нашим крыльцом.
Не могу пройти молчанием этого экипажа, которого никак не могу в воспоминании отделить от прелестной личности его владельца. Хотя мы и называли этот экипаж коляской, но это была скорее большая двухместная пролетка без верха, но с дверцами, повешенная на четырех полукруглых рессорах. Коляска эта явилась на свет в те времена, когда желто-лимонный цвет был для экипажей самый модный и когда экипажи делали так прочно, что у одного даже многолетнего поколения не хватало сил их изъездить. Блестящим примером тому могла служить наследственная Никольская коляска, у которой все четыре рессоры самым решительным образом подались вправо, так что левые колеса вертелись на виду у седоков, тогда как правые были скрыты надвинувшимся на них кузовом, и кучер сидел на козлах не против коренной, а против правой пристяжной. Раза с два приходилось мне впоследствии проехать с Н. Н. Толстым в этой коляске на почтовых под самую Тулу и обратно, и не было примера утраты малейшего винта или гайки. Я как-то заметил Н. Н., что его коляска — эмблема бессмертия души. С тех пор братья Толстые иначе ее не называли.
Следовало и нам с Иваном Петровичем отдать визит Ник. Ник. И вот мы с Борисовым — он на своем прелестном Карабахе, а я на Донце из-под борзятника — отправились в самый троицын день по дороге в Никольское. По переезде через неглубокий брод пришлось проезжать через небольшое село Хализево, находящееся, подобно самому Никольскому Толстого, в Чернском уезде Тульской губернии. Утро стояло жаркое и золотистое; жаворонки звенели над пышно разрастающею озимью и покрывшими землю овсами. И лошади и души наши скорее требовали сдерживания, чем принуждения. Так пришлось нам проезжать мимо одинокой телеги, стоящей посреди широкого выгона. Небольшая рыжая лошаденка, запряженная в повозку, чуть ли не дремала, развесивши уши, а на повозке в широкополой шляпе, на коленях, на сочной траве полусидел остроносый брюнет под сенью такого преувеличенно пышного березового венка и с таким выражением сладостного опьянения на лице, что лучшего оригинала для Сатира или Силена нельзя было и выдумать. В руках он держал шкалик и стаканчик, и когда мы поравнялись с его телегой, он с таким добродушием воскликнул: «Господа! благоволите по стаканчику! желаю вас поздравить с праздником!» — что нельзя было не почувствовать симпатии к этому человеку.
Пришлось расспрашивать у встречных дорогу на Никольское, так как места эти в Тульской губернии были нам совершенно не знакомы. Дорога повела нас через лес, принадлежавший господину Трубицыну, и тут мы наехали на свежие еще, превосходно спиленные дубовые пни. Я мельком слышал, что англичане скупали в этой местности старинные дубовые леса, и уверен, что трубицынские пни, о которых я говорю, благодаря своей громадности уцелели и по настоящий день. Правда, я не мерил их, но нарочно переезжал через них по диагонали приблизительно в пять аршин.
Наконец, проехавши еще весьма порядочный березовый и осиновый лес, мы с заднего двора наехали на небольшой флигель, очевидно, жилище владельца села Никольского.
— Хорошо, как он дома, — сказал я, обращаясь к Борисову.
— А дома нет, — отвечал он, — так мы сейчас же повернем назад домой к обеду. Благо дорога чудесная.
Проезжая мимо небольшого, очевидно, кухонного окна, я заметил на подоконнике тщательно ошпаренную и ощипанную курицу, судорожно прижимавшую крыльями собственный пупок и печенку.
— Не беспокойся, — сказал я, — барин дома.
И действительно, слуга графа, махнувши конюхам, чтобы они приняли лошадей наших, ввел нас из сеней направо в довольно просторную комнату в два света. Кругом вдоль стен тянулись ситцевые турецкие диваны вперемежку со старинными стульями и креслами. Перед диваном, направо от входа, стоял стол? а над диваном торчали оленьи и лосьи рога с развешанными на них восточными, черкесскими ружьями. Оружие это не только кидалось в глаза гостей, но и напоминало о себе сидящим на диване и забывшим об их существовании нежданными ударами по затылку. В переднем углу находился громадный образ спасителя в серебряной ризе.
Из следующей комнаты вышел к нам милый хозяин с своею добродушно-приветливою улыбкой.
— Какой день-то чудесный, — сказал он. — Я только что пришел из сада и заслушивался щебетания птичек. Точно шумный разноплеменный карнавал, — и не понимают друг друга, а всем весело. Каждому свое. Вот Левочка юфанствует, а я с удовольствием читаю Рабле.
Ясно было, что Ник. Ник., то проживавший в Москве, то у двух братьев и любимой сестры, то у нас, или на охоте смотрел на Никольский флигель не как на постоянное оседлое жилище, требующее известной поддержки, а как на временную походную квартиру, в которой пользуются чем можно, не жертвуя ничем на благоустройство. О таком временном оживлении уединенного Никольского флигеля свидетельствовали даже мухи.
Пока никто не входил в большую комнату, их там почти не было заметно; но при людском движении громаднейший рой мух, молчаливо сидящих на стенах и оленьих рогах, мало-помалу взлетал и наполнял комнату в невероятном количестве. Про это Лев Николаевич со свойственной ему зоркостью и образностью говорил: «Когда брата нет дома, во флигель не приносят ничего съестного, и мухи, покорные судьбе, безмолвно усаживаются по стенам, но едва он вернется, как самые энергические начинают понемногу заговаривать с соседками: „Вон он, вон он пришел; сейчас подойдет к шкафу и будет водку пить; сейчас принесут хлебца и закуски. Ну да, хорошо, хорошо; подымайтесь дружжжнее“». И комната наполняется мухами. «Ведь этакие мерзкие, — говорит брат, — не успел налить рюмки, а вот уже две ввалились».
Иронический тон, постоянно сквозивший в словах Николая Николаевича, невольно вызывал и во мне шуточное расположение, в котором я старался беспрестанно тащить за волосы французские и русские каламбуры. При таких поисках за ними приходилось подготовлять почву условным «если». Конечно, такие каламбуры надоели Ник. Ник., и он говорил, что каламбуры с «если» не допускаются. Зато без предварительного «если» даже самые слабые каламбуры принимались добрейшим Ник. Ник. с особенною снисходительностью. Помню, в один из моих позднейших приездов в Никольское он зазвал меня в лес послушать гончих. Хотя я никогда не мог понять, каким образом можно с удовольствием слушать собачий лай, но в обществе Ник. Ник. готов был слушать что угодно, даже скрип адских ворот. В лесу мы улеглись навзничь около мшистых корней истяжной осины, и в скором времени положение собственного тела опрокидывало всю предстоящую картину так, что высокие деревья казались чуть ли не собственной нашей бородою, опускающеюся в лазурную глубь небесного океана.
— Вот, — сказал я Толстому, — теперь таких рослых людей, какие были в старину, уже нет.
— Что вы хотите сказать? — спросил Толстой.
— Сущую правду, — отвечал я. — Возможен ли в наше время Гораций как лес (Коклес)?
Ник. Ник. рассмеялся.
— Вы должны быть постоянно веселы, — сказал я. — Изо всех кавказцев вы самый наделенный судьбою человек.
— Ну! — заметил иронически Ник. Ник. — Поддержать и доказать этот тезис довольно трудно.
— Нисколько, — отвечал я, — у заурядных счастливцев только оружие под чернью, а у вас целое имение под Чернью.
— Что правда, то правда, — отвечал расхохотавшийся до кашля Ник. Ник.
Картина Никольского быта была бы неполна без описания обеда и его сервировки. Около пяти часов слуга накрыл на столе перед диваном на три прибора, положив у каждой тарелки по старинной серебряной ложке с железной вилкою и ножом с деревянными ручками. Когда крышка была снята с суповой чашки, мы при разливании супа тотчас же узнали знакомую нам курицу, разрезанную на части. За супом явилось спасительное в помещичьих хозяйствах блюдо, над которым покойный Пикулин так издевался: шпинат с яичками и гренками. Затем на блюде появились три небольших цыпленка и салатник с молодым салатом.
— Что же ты не подал ни горчицы, ни уксусу? — спросил Ник. Ник.
И слуга тотчас же исправил свою небрежность, поставивши на стол горчицу в помадной банке и уксус в бутылке от одеколона Мусатова.
Покуда усердный хозяин на отдельной тарелке мешал железным лезвием ножа составленную им подливку для салата, уксус, окисляя железо, успел сильно подчернить соус; но затем когда теми же ножом и вилкою хозяин стал мешать салат, последний вышел совершенно под чернью.
Л. Н. Толстой писал мне:
Драгоценный дяденька! пишу два слова только чтобы сказать, что обнимаю вас изо всех сил, что письмо ваше получил, что М. П. целую руки, всем вашим кланяюсь. Тетенька очень благодарна за память и кланяется; и сестра кланяется. Что за весна была и есть чудная! Я в одиночестве смаковал ее чудесно. Брат Николай должен быть в Никольском (Вяземском); поймайте его и не пускайте, я в этом месяце хочу придти к, вам. Тургенев поехал в Винциг до августа, лечить свой пузырь. Черт его возьми! Надоело любить его. Пузыря не вылечит, а нас лишит. Затем прощайте, любезный друг, ежели до моего прихода не будет стихотворенья, уж я из вас его выжму.
Ваш гр. Л. Толстой.
Какой Троицын день был вчера! Какая обедня, с вянущей черемухой, седыми волосами и ярко-красным кумачом и горячее солнце.
А затем он же:
Ау! Дяденька! Ауу! Во-первых, сами не отзоветесь ничем, когда весна, и знаете, что все о вас думают, и что я, как Прометей, прицеплен к скале и все-таки алкаю вас видеть и слышать. Или бы приехали, или хоть позвали бы к себе хорошенько. А во-вторых, зажилили брата, и очень хорошего брата, по прозвищу Фирдуси. Главная тут преступница, я думаю, Марья Петровна, которой очень кланяюсь и прошу возвратить собственного нашего брата. Без шуток, он велел сказать, что на той неделе будет; Дружинин тоже будет, приезжайте и вы, голубчик дяденька. Право, а потом уж и в Козюлькино (Новоселки). Ив. П. и Над. Аф. душевный поклон и до свиданья.
Ваш Л. Толстой
16 мая.
1 июля 1858 г. Боткин писал уже из Лондона. Англия, по словам его, превзошла все его ожидания, не только известного рода совершенством своего исторического склада, во и множеством темных сторон, вызванных этим складом, которых между прочим там никто не скрывает. Переходя от области политической к театру, он пишет:
Уж как обставлен «Венецианский купец»! Полное возрождение Венеции старой, роскошной, блестящей. Господи! что за поэзия льется из этой пьесы! Я видел ее два раза и пойду еще и не насыщусь. Эта угрюмая драма, переплетенная с самой ясной нежнейшей поэзией сердца, — под конец сливается в какие то задушевные аккорды, составленные из цветов и звуков, благоуханий и мелодий. В последний раз я вышел из театра охваченный какою то безымянною силой и с тем неизъяснимым блаженным ощущением в душе, какое дает только одна поэзия. Я не в состоянии был идти домой и долго бродил по тихому, пустому Лондону. Как я благословлял и эту кроткую, миловидную луну, и это звездное, темно-синее небо, и эту святую тишину ночи. И так душа была полна необъятным и блаженным, что я даже не вспомнил о том, кому обязан я был таким счастьем. В Вестминстере стоит его монумент, но никто не знает похож ли он. Нынешние англичане утратили смысл играть Шекспира: для этого надо вознестись над национальным в общечеловеческое, — а этому теперь мешают им тысячи препятствий: и их узкая национальность, и их пуританизм, и формальная религиозность, и их мелкая, сухая мораль. Представь себе Диккенса с Шекспировским воззрением на человеческую природу. Но Диккенс остался в морали своей узким и мелким англичанином, и через несколько лет будет забыт.
В. Боткин.
Настоящее лето было, можно сказать, самым удачные в Новоселках. Подъехал с своей Грайворонки и гостил у нас брат Петруша, возбуждавший к себе во всех своею задушевною услужливостью живейшую симпатию. Милейший Ник. Ник. весьма часто гостил у нас по два и по три дня. Останавливался он всегда в старом флигеле окруженном густыми кустами сирени. Все мы заботились о его удобствах.
Помню, однажды утром я пошел его проведать и узнав, что он уже проснулся, спросил его, — покойно ли было ему на новом месте и хорошо ли спалось?
— Совершенно покойно, отвечал он. Но я всю ночь не смыкал глаз: раскрыл окно и все слушал птицу. Ну уж птица! восклицал Ник. Ник., смеясь до слез, проступавших на глазах. Я таки, продолжал он, знаком с птичьими напевами, но такой птицы в жизнь мою не слыхивал: и щеглом, и соловьем, и синицей, и малиновкой и черным дроздом.
— Птица эта, отвечал я, по справедливости называете пересмешником, и мне раза с два только приходилось слышать по нескольку отрывочных ее колен. Но слышать ее продолжительно, как вам, не доводилось.
— Ну, уж птица, продолжал с восторгом восклицая Ник. Ник.
К этому надо прибавить, что Ник. Толстой и Борисов оба были шахматными игроками; и бывало, как сцепятся то их и водой не разольешь. Что касается до меня, то никогда не мог себя принудить обдумывать весь ход этой игры, которой правила мне известны.
Но вот приехал к нам и давно ожидаемый Лев Ник. Он был в духе, а потому веселил и оживлял всех.
На Зуше, отыскав поглубже место у нашего левого берега, Борисов устроил прекрасную купальню, до которой однако-же приходилось проходить по жаре около версты. Дамам и гостям поэтому закладывали экипаж. Конечно, Лев Никол. доказывал, что экипаж — только стеснение, и что ходить гораздо приятнее.
Помню, что мы с Борисовым были дома. Стол был накрыт, а братьев Толстых все еще поджидали из купальни. Наконец появился сперва пешком Лев Никол., а затем на дрожках — Ник. Ник. с братом Петрушей.
— Что вы так долго? — спросил я брата.
— Да искали золотые запонки, которые потерял Ник. Ник. Должно быть он нечаянно вытряхнул их в речку.
— Постойте, господа! воскликнул Иван Петр. Я сейчас только видел прошедшего по двору Фатьяновского мальчишку Федюшку. Там он прославился своею глазастостью; попробуем его наладить в купальню. Хуже от этого не будет, а быть может он и разыщет запонки.
Крикнули мальчика лет 12-и; растолковали ему, в чем дело, а сами сели обедать. В конце обеда слуга, подавая дутый пирог из земляники, сказал вполголоса Борисову:
— Федюшка пришел и запонки принес.
— Где ты их нашел? спросили мы Федюшку все в один голос, вышедши к нему в переднюю.
— Да около самой купальни в реке. Я тихонько опустился на дно, да и стал глядеть вокруг себя. Смотрю, а они так то направо от меня блестят на дне. Я их и выхватил.
Федюшка, получивший в поощрение своего таланта два двугривенных, был конечно более хозяина вещи рад своей находке.
В непродолжительном времени Федюшке довелось снова блеснуть своим талантом.
У меня была кожаная папиросочница, купленная, мною в Ревеле и чрезвычайно удобная, растворялась она на две стороны и с каждой — стальной ободок запирался небольшим крючком. Проходя целиком по лесу, я вздумал прилечь отдохнуть и выкурить папироску. Пришедши домой, я заметил, что у вместилища папирос потерян крючок, и таким образом любимую папиросочницу приходилось бросить. Видя, как мне жаль папиросочницы, Борисов тихонько и наскоро послал в Фатьяново за ФедюшкоЙ. Но когда мальчик предстал передо мною, я почти не решался к нему обращаться уже, во-первых, потому, что мог только приблизительно указать на место моего отдыха, и к тому же не надеялся на возможность отыскать небольшую застежку, утратившую от долгого употребления свой стальной блеск.
— Делать нечего, Федюшка, сказал я, уводя мальчика в лес и довольно широко обводя рукою. Поищи вот такую застежку, пояснил я, указывая на другую половинку папиросницы.
Не прошло и часа, как мне пришлось с восхищением вручить Федюшке полтинник за принесенную застежку.
Подвиги Федюшки на этом однако не кончились.
В то время от Новосельской усадьбы по склону к г. Мценску на расстоянии версты тянулся прекрасный черный лес из всевозможных деревьев, начиная от дуба и клена до березы, осины и черемухи включительно. По верхней опушке тянулся проселок в город, а в конце леса его огибала полевая дорога, довольно круто спускавшаяся по каменным плитам к берегу р. Зуши. Продолжением этого спуска была тропинка через лес, по которой снова можно было достигнуть Новосельской усадьбы, но, конечно, с двойным усилием; ибо по верхней опушке дорога шла с небольшим уклоном к городу, а по нижней приходилось круто спускаться и затем так же круто подыматься на эспланаду усадьбы.
Сестра, ожидавшая к зиме прибавления семейства, должна была ежедневно гулять. Хотя от природы враг всякого бесцельного передвижения, я тем не менее с удовольствием участвовал в общих прогулках, на которых веселое оживление сестры было еще заметнее.
Есть два типа людей и хозяев. Один готов на всевозможные лишения, жертвы, в видах усовершенствования хозяйства. Таким типом был несомненно наш покойный отец. Пшеница в нашей местности без сильного удобрения не родит; но зато в дождливое время по такому удобрению может поваляться. Когда это случалось у отца, я не раз слыхал от него: «убыточно, а уж по моему лучше пусть поваляется, чем свидетельствует о моей лени».
Противоположным этому типом был Борисов. Он не раз выставлял своим идеалом какого-то кавказского солдатика пьяницу и балагура, говорившего, что хорошему человеку нечего хлопотать о пустом, а следует проснуться, пропустить рюмочку, а затем позавтракать, а тут, глядя по делу, пофриштикать, закусить и отдохнуть, а тут уж и пообедать и т. д. Зато едва ли кто-либо мог бы поспорить с Борисовым в умении высосать наибольших удобств из наличных вещей. Конечно, Надя не хуже его могла расчесть потребность оборотного капитала, но в то же самое время она всем существом инстинктивно чувствовала, что ее одушевленной, темно-русой головке необходим характерный фон древесных листов, а не безразличие степи. И вот почему она не могла помириться в душе с запродажей Иваном Петровичем Новосельских и Фатьяновских лесов мценскому купцу, и каждый раз, подходя на прогулке к лесу, она во услышание мужа восклицала: «уже секира у корня древа лежит».
Был чудесный летний день, когда Борисов, брат Петруша и я пустились провожать наших дам вдоль верхней опушки по направлению к городу.
Но не дошли мы до конца леса, как за спиною у нас на западе показалась темно-серая туча, и из под нее стало потягивать едва заметным холодком. Брат в восхищении от прекрасной прогулки предлагал обогнуть весь лес; я же советовал возвратиться тем же следом домой, во избежание дождя. После небольшого колебания, совет мой был принят, и не успели мы добежать до крыльца, как шумящие и косые нити дождя задрожали по окнам.
При виде желобов, успевших наполнить подставленные под ними кадки, и вспомнив о брате Петруше, поставившем на своем и ушедшем от нас под гору, я кликнул:
— Вот когда проймет нашего упрямца!
Действительно, минут через пять я увидал проносящегося по грязи мимо окон к крыльцу человека, в котором узнал брата.
— Иди, иди переодеваться! кричали мы ему в передней.
— Переодеваться то я пойду, отвечал Петруша. — Это не беда, а беда та, что я пропал. Что же я теперь буду делать без очков? (По крайней близорукости, он постоянно носил очки). Как захватил меня ливень на нижней дорожке, я прямо бросился целиком по кустам в гору. Только выбежав из кустов на верхнюю дорогу, я почувствовал, что очков-то нет. А где они, и сам не знаю.
Брат ушел переодеваться в свой флигель, и ливень стал быстро утихать.
— Вели-ка запречь бегунки да сбегать в Фатьяново за Федькой, сказал Ив. Петр. слуге.
— Да Федька здесь, отвечал слуга. Я сейчас видел, что он нес ягоды на ледник.
— Тем лучше. Скажите, чтобы он обождал уходить домой.
Когда брат, знакомый уже с подвигами Федьки сводил последнего в лес, то вернувшись выразил полную безнадежность на отыскание очков.
— Что же, говорил брат, мог я ему указать, кроме приблизительного направления, по которому бежал в гору по высокому кустарнику на точку, которой тоже определить безошибочно не в состоянии. Это только для очищения совести. Федька, так Федька! А затем приходится ехать в Орел за новыми очками.
Когда мы собирались уже садиться за стол, и подойдя к окну, я увидал проносимую из кухни суповую чашку, то заметил следом идущего Федюшку, а в руках у него что-то сверкнуло.
— А ведь Федюшка очки-то нашел, крикнул я.
И действительно, вошедший в переднюю мальчик держал в руках невредимые очки.
— Как ты их нашел?
— Да как мне Петр Афан. показали, так я и сбежал под гору; а оттуда тем же следом и пошел в гору, да все смотрю вокруг себя; глядь, а они на кусте на ветке и сверкают.
Наступал сенокос, и брат уехал в свою Грайворонку.
Однажды, когда мы только что вернулись от реки, до которой доходили по березовой аллее, У крыльца раздался грохот подъехавшего экипажа.
— Кого это бог дает? — сказал Ив. Петрович.
Полюбопытствовал и я — и увидал вылезшую из тарантаса плечистую, рослую фигуру в серой широкополой шляпе.
— Вон он! Вон он! — воскликнул Тургенев, с лицом, совершенно почерневшим от пыли.
— Вот они где! — восклицал он, когда мы все четверо вышли к нему навстречу на крыльцо.
— Идите вон на то крыльцо, в уборную Ивана Петровича, умыться и почиститься от пыли.
Через полчаса Тургенев сидел уже в гостиной и говорил о совершенном переустройстве своей жизни в Спасском, со времени последнего моего там появления. Он сам в первый раз приехал в Новоселки и познакомился с Ив. Петровичем, с женою которого был уже давно знаком. Он говорил, что во главе всего его хозяйства стоит теперь 65-летний дядя его Николай Николаевич, кавалергардский корнет 1814 г., проживающий в настоящее время в Спасском с молодою женою и свояченицей. Он рассказывал, как дядя его, человек старого покроя, никак не мог в прошлом году помириться с шутовскими проделками Дружинина, Боткина, Григоровича, Колбасина и самого Ивана Сергеевича, сочинивших и поставивших на домашнюю сцену смехотворную пьесу, оканчивающуюся смертью всех действующих лиц, тут же падающих на пол.
— Мы сами слышали, говорил Ив. Серг., как дядя, шагая под окнами залы вдоль крытой галереи, невольно восклицал: «оголтелые! оголтелые».
Передавая мне поклон от мадам Виардо, Тургенев сообщил, что она положила несколько моих стихотворений на музыку, которую прелестно поет, правильно выговаривая русские слова и говорит про меня: «c'est mon poète».
Неистощим он был в повествованиях о сожительстве и встречах с В. Боткиным.
«Так, между прочим рассказывал Тургенев; сошлись мы с ним за обедом в большом Берлинском отеле. Заговоривши с сидевшим против меня гостем, я упомянул о необычайном приросте городского населения, и заметил, что давно ли мы учили по географии, что в Берлине 400,000 жителей, а вот их уже 700 т.
— Это несколько преувеличено, сказал мой собеседник, так как их всего неполных шестьсот тысяч.
При этом возражавший ссылался на то, что ему, как здешнему жителю, это должно быть хорошо известно.
Я не уступал, и завязалось пари на два золотых, которое немец взялся немедля разрешить, сходивши в свой номер за гидом. Когда он вышел из-за стола, Боткин, сидевший рядом со мною, излил на меня всю желчь, вероятно, возбужденную в нем необычным эпизодом во время методического трапезования.
— Вот это чисто русское растрепанное многознайство! Вот такте мы по всему свету развозим свое невежество! Мне стыдно подле тебя сидеть. Нашел с кем спорить! С туземцем! Я очень рад, что он тебя оштрафует за твое позорное русское хвастовство!
Я уткнулся носом в тарелку и замер под его беспощадными упреками. Вдруг чувствую руку на своем правом плече, и споривший со мною немец, шепнувши мне на ухо: „извините, я проиграл“, — положил около моей тарелки два наполеона.
— Кельнер, сказал я, — бутылку шампанского!
Надо было видеть сладчайший мед, которым мгновенно засияло лицо Боткина. „Молодец, молодец!“ воскликнул он, гладя меня по правому рукаву».
Я забыл сказать, что одним из видимых знаков нового веяния в Новоселках было превращение одного из окон гостиной в дверь на вновь пристроенную террасу. (Покойный отец наш был враг всяких террас и балконов). В хорошие дни мы обедали на террасе. Так было и в этот раз; и хотя Надя с любопытством слушала интересные подробности о Тургеневском путешествии, тем не менее сумела улучить минуту переговорить с поваром, для того чтобы обед вышел, по ее выражению, — «с крыльями». Она еще из Парижа помнила, что Тургенев умел отличать старательно приготовленный обед от безразличного.
После обеда, едва только Тургенев узнал в Борисове шахматного игрока, как они уже сцепились до самого вечернего чая; и Тургенев с удовольствием принял предложение переночевать в новом Флигеле, где ему приготовили, по возможности, удобный ночлег.
На другой день он пришел к нам утром в дом пить чай и приказал запрягать своих лошадей.
— Ну, господа, сказал он, обращаясь ко мне и к Борисову, — надеюсь, что вы, не считаясь визитами, приедете запросто к нам в Спасское. С вами я не первый год знаком, обратился он к Наде, и вы еще в Париже приучили меня к вашему любезному гостеприимству. Что же касается до вас, сказал он жене моей, то я ваш шафер. Тем не менее я не решился бы приглашать к себе дам, если бы не жена и свояченица дяди, которые будут очень рады встретить соседок, о которых я много им говорил.
Как я уже упоминал, от Новоселок до Мценска считалось 7 верст, а от Мценска до Спасского — 10. Свидания наши с Тургеневым стали с этого дня весьма частыми. Несколько раз и дамы обменялись визитами, и даже сам старик Ник. Ник. приезжал с своими барынями в Новоселки, где, между прочим, застал Льва Ник. Толстого. Указываю на моменты, ярко сохранившиеся в моей памяти, но не в состоянии сказать, сколько раз Тургеневы и Толстые сходились с нами в Новоселках или в Спасском. Помню только, что свидания эти были задушевны и веселы.
В середине лета приятная и беззаботная жизнь наша была смущена приездом в Новоселки из Клейменова жены брата моего Василия. Она жаловалась на ежеминутный упадок сил брата и говорила: «Вас. Аф. тает как свечка», и на то, что, находясь в интересном положении, — не в состоянии сама отвезти больного в Москву для совета с докторами.
О материальной и всякой другой беспомощности нашей деревенской среды даже и в те времена, могут свидетельствовать следующие обстоятельства. Как нарочно, все члены немногочисленной нашей семьи оказались в сборе, так как даже брат Петр подъехал из своей Грайворноки. Вдруг по всем нашим домам, т. е. у Александра Никитича и у тестя брата Василия, ближайшего нашего соседа Мансурова, внезапно пронеслась весть о сильном нездоровье брата Василия, требующем немедленного совета с московскими докторами. Требовалось немедля решить, кто, за болезнью жены его, должен везти больного в Москву, и откуда должны были поступить деньги на эту поездку. Все мы съехались в Орле и в номере гостиницы приступили к совещанию по этому предмету. Тесть Мансуров отказался от сопровождения больного под предлогом старческого бессилия; Алекс. Никит. — по невозможности оставить хлопоты по хозяйству, Борисов — по невозможности бросить жену; а брат Петруша прямо объявил что он с этим делом не в состоянии управиться. При таких обстоятельствах все обратились ко мне с просьбою взять дело на свои руки, а Мансуров обещал, доставивши больного к моему отъезду во Мценск, вручить мне на первый случай 300 руб., а затем в самом непродолжительном времени выслать денег, необходимых для лечения.
Я говорил уже о покупке мною год тому назад перед свадьбою пары вороных. У одной из этих лошадей оказалась дурнокачественная опухоль венца, вследствие чего я в Новоселках же продал лошадь, заплаченную 200 руб., за 60 руб., так как не надеялся на нее зимою. Когда я вернулся с орловского совещания, явился из Клейменова бывший отцовский наездник Никифор и передал мне, что завтра же ему приказано вести в Коренную на продажу серого пятилетнего жеребца «Мужика», подаренного братом Петром брату Василию, и приказано отдать жеребца за 300 руб.
— Не упускайте, батюшка Аф. Аф., этой лошади. Я сам ее выезжал и знаю, насколько она добра, резва и умна. Забельшат лошадь, а другой не скоро наживут.
Я велел приводить лошадь в Новоселки, а Мансурову написал, что 300 руб. на проезд получил.
— Действительно хороша лошадь, воскликнул брат Петруша, увидав приведенного Мужика. Как приеду на Грайворонку, сейчас пришлю Марье Петровне к нему пару. Только надо вам его самим объездить. А пара выйдет неплохая!
В назначенный день я подвез во Мценск свою карету к постоялому двору, в который привезли брата, и, немедленно принявши больного, отправился на почтовых в Москву. Там, посоветовавшись с докторами, я поместил его в частную лечебницу. Тем временем жена брата, остававшаяся в Клейменове, 14 июня разрешилась от бремени дочерью Ольгой. Не получая успокоительных известий от мужа, бедная женщина в скором времени после родов сама отправилась в Москву, поручив двух старших дочерей 7 и 8-ми лет и новорожденную Олю — отцу своему Мансурову в селе Подбелевецъ, отстоящем от Новоселок в 4-х верстах. Но так как и она тотчас по приезде в Москву сильно занемогла, то и отец ее уехал к ней в Москву.
Однажды, по возвращении моем в Новоселки, сестра, жена и я поехали навестить бедных племянниц, оставшихся на руках прислуги. К нам вывели в залу двух миловидных девочек и вынесли третью черноглазенькую, едва держащую крошечную головку. Подумаешь, как причудливо жизнь вышивает свои узоры. Могли ли мы в то время предвидеть важную роль, которую эта крошка предназначена сыграть и по отношению к Тургеневу, и, главное, по отношению ко мне. О роли ребенка по отношению ко мне говорить слишком преждевременно; но по отношению к Тургеневу скажу несколько слов, чтобы к этому уже не возвращаться. Известно, что Тургенев вытащил своего дядю Ник. Ник. из его Карачевской деревни Юшково, указывал на то, что дядя выиграет гораздо более против того, что потеряет при заглазном управлении Юшковымъ. Если я неоднократно слыхал фразу Тургенева, обращенную к дяде: «не беспокойся, твои дети — мои дети, и мое состояние — их состояние», то понятно, с каким убеждением говорились эти слова вначале переезда дяди из Юшкова в Спасское. Тут и выдан был, как видимый знак обеспечения, вексель в 20000 р. на имя дяди. Но нет ни малейшего сомнения в том, что Тургенев не только никогда не думал о прочном устройстве своих материальных дел, но, был совершенно неспособен обсудить их. Как иначе совместить приведенную фразу с другою, которую мне в ту же пору нередко приходилось слышать: «а моим наследничкам после моей смерти копеечки получить не придется». Что он даже в последние часы жизни инстинктивно, чтобы не сказать стихийно, стремился к осуществлению последней фразы, явно из неоднократных слов, сказанных мне бывшим московским городским головою С. М. Третьяковым о предсмертных, письменных просьбах, обращенных к нему Тургеневым из Буживаля, чтобы он, Третьяков, поскорее продал Спасское. Как продавать недвижимость без формальной на то доверенности да еще скорее? Тургенев, как известно, придавал большое значение фамилии Лутовиновых и не без основания. Все громадное имение Лутовинова разделилось между единственными его двумя дочерьми: Тургеневой и Сергеевой. А так как и оба Тургенева были бездетны, то имения их должны были возвратиться в род Лутовинова и его представителей, т. е. Сергеевых, у которых детей мужского пола не было, и у одной только дочери Мансуровой были две дочери Клеопатра С-на и Екатерина Ш-на. Таким образом черноглазая малютка на руках кормилицы являлась одной из прямых наследниц Тургенева.
Приближался июль месяц, около десятого числа которого молодые тетерева не только уже превосходно летают, но начинают выпускать перья, отличающие рябку от черныша. 8-го июля мы с женою приехали в Спасское, где все приготовления к охоте уже были окончены. На передней тройке за день до нашего отъезда отправлялся знаменитый Афанасий с поваренком, еще с другим охотником и с собаками, а на другой тройке в крытом тарантасе следовали мы с Тургеневым днем позднее. Направлялись мы в полесье Жиздринского уезда, Калужской губернии, через Волхов, до которого от Спасского верст пятьдесят. Не бывавший в этой стороне ни разу, я вполне подчинялся распоряжениям Тургенева, ехавшего в знакомые ему места. Отправившись из Спасского около полудня, мы прибыли весьма рано на ночлег в Волхов, откуда передовая наша подвода уже выехала на дальнейшую станцию.
В отведенных нам комнатах, с целыми восходящими рядами сияющих образов по углам, Тургенева встретило препятствие, причинившее ему немало волнения: неразлучную его белую с желтоватыми ушами Бубульку ни за что не хотели впускать в комнату, так как она пес. Над необыкновенною привязанностью Тургенева к этой собаке в свое время достаточно издевался неумолимый Лев Толстой, но со стороны Тургенева такая нежность к Бубульке была извинительна. Когда собака была еще щенком, мадам Виардо, лаская ее, говорила: «бубуль, бубуль». Это имя за нею и осталось. Со скорым, верным и в то же время осторожным поиском эта превосходная собака соединяла рассудок, граничащий с умозаключениями. Вот один образчик ее соображения, которого я был очевидцем. Привела она нас по чистому полю к оврагу, поросшему кустарником, вела она так осторожно и решительно, что нельзя было сомневаться, что перед нами большой выводок куропаток. Дело выходило крайне неудобное.
Взлетевшие в кустах куропатки непременно бросятся к самому дну оврага и защищенные кустарником незаметно пронесутся вдоль оврага, избегнув выстрела. Но делать было нечего: собака стояла как мраморная перед нами, обращая раздувающиеся ноздри к кустам. «Бибиль, але»! вполголоса командовал Тургенев. Собака оставалась не подвижна. После нескольких тщетных понуканий, собака бросилась, но только не в кусты, а по опушке далеко в обход и в порядочном расстоянии уже исчезла в кустах. «Что за притча»? вполголоса говорил Тургенев. Я тоже ничего не мог понять. «Надо обождать», шептал Тургенев. Но в ту же минуту большое стадо куропаток, как лопнувшая бомба, с треском и пиликаньем взлетело. нашими головами. Последовало четыре выстрела, и четыре убитых куропатки покатились в кусты.
— Ведь это плакать надо от умиления! воскликнул Тургенев. Умнейший человек не мог бы ничего лучшего придумать, как, спустившись на дно оврага, гнать куропаток на нас из густоты на чистое поле.
Бубулька всегда спала в спальне Тургенева, на тюфячке, покрытая от мух и холода фланелевым одеялом. И когда по какому либо случаю одеяло с нее сползало, она шла и бесцеремонно толкала лапой Тургенева. «Вишь ты какая избалованная собака», говорил он вставая и накрывая ее снова.
С большим трудом удалось нам убедить толстую хозяйку с огненного цвета волосами, выбивающимися из и шелковой повязки, что Бубулька представляет исключение изо всех собак, и что поэтому несправедливо считать ее псом. «Пес лает и неопрятен, а она никогда».
На другой день, покормив в дороге, мы к вечеру отправились по заблаговременному плану Тургенева ночевать в усадьбу знакомых ему помещиков Опухтиных.
Когда мы въехали в лесную область, направляясь к северо-западу, сзади нас, т. е. с юго-востока стал подувать ветер, и на горизонте показалась темная туча. «Пошел!» кричал Тургенев, в то время как ветер усиливаясь уносил из под нас целую тучу пыли. — «Ох, захватит нас гроза! восклицал Тургенев. — Давайте, батюшка, остановимся да подымем верх у таравтаса».
— Да как по вашему, спрашивал я, далеко ли до ваших Опухтиныхъ?
— Да пожалуй верст 15 еще будет, и я вам говорю, мы попадем под самую страшную грозу.
Действительно, вечер начинал все хмуриться, так как только полнеба перед нами еще было чисто и сине, а полнеба за нами представляло сплошной черный зонт, все далее над нами надвигавшийся. Мы даже пустили пристяжных вскачь, стараясь уехать от грозы, так пугавшей Тургенева. Но ничто не помогало. Черный зонт окончательно закрыл небосклон, засверкала почти непрерывная молния, освещавшая нам дорогу, раздались раскаты грома и полился крупный дождик, скоро превративший пыльную дорогу в липкую грязь, прорезаемую бегущими ручьями. Пришлось поневоле ехать шагом. Так довелось ехать под непрерывным дождем и грозою часа два, показавшиеся нам вечностью.
Наконец, при блеске молнии, влево от дороги показался огонек, подавший нам надежду добраться до ночлега. «Тут влево ворота, говорил Тургенев кучеру, — не зацепи и подъезжай к крыльцу».
Когда вышедший из тарантаса на крыльцо барского дома Тургенев сказал встретившему нас слуге свою фамилию и спросил молодого барина, слуга пояснил, что молодой барин у соседей в гостях, но что он сейчас доложит старым господам.
Любезные хозяева тотчас же предложили нам оправиться с дороги в мезонине, в комнатах их отсутствующего сына, которому послали дать знать о нашем приезде, не взирая на страшную темень и продолжающийся ливень.
Когда мы оправились с дороги, и Тургенев около дивана уложил свою Бубульку, он сказал, что нам следует испросить позволения хозяев явиться в ним вниз и извиниться в нежданном приезде. Хозяин оказался человеком среднего роста с сильною проседью, типом помещика средней руки, желавшим и умевшим держать хозяйство и дом на подобающей высоте. Предупредительности и любезности хозяйки не было конца. Иван Серг. стал расспрашивать их об их сыне, воспитывавшемся в школе правоведения и нередко посещавшем Тургенева в Петербурге. Так как молодой Опухтин был в гостях в самом близком соседстве, то не успели мы кончить чая, как он появился в гостиной и, поздоровавшись с Тургеневым, объявил мне, что давно знаком со мною по литературе. Тургенев как это нередко случалось, был в духе и очень любезен; посмотрев тихонько на часы, я заметил, что уже одиннадцатый час. Догадался и Тургенев, что нам пора освободить любезных хозяев, и мы было поднялись прощаться, но хозяйка объявила, что без ужина никак невозможно. Мы все отправились в столовую, где поместились: Тургенев по левую, а я по правую руку хозяйки. Здесь совершенно так же, как у нас при отце в Новоселках, нас ожидал тот же обеденный стол в пять блюд начиная с супа. Проголодавшись за дорогу, я не заставлял себя просить; но Тургенев, весьма редко ужинавший, брал кушанья более для вида. В конце ужина появилось освещенное из середины желе. С меня начали обносить блюдо, и я тотчас же увидал, что доморощенный Ватель произвел освещение своего прозрачного Колизея посредством мужского наперстка, прилепленного желтком в середине блюда, со вставленным восковым огарком. Измерив глазами всю опасность предстоящей задачи, я запустил ложку с толстого наружного основания желейного венца и торжественно положил свою добычу на тарелку. Затем слуга, обойдя хозяйку, поднес блюдо Тургеневу, за манипуляциями которого я стал смотреть во все глаза, простодушно неосторожный человек, не боясь, вероятно обременять желудок желеем, смело рассек ложкою венец и положил себе порядочный кусок на тарелку. Но в тот же миг концы, подходящие в бреши, дрожа повалились на огарок, затрещавший и пустивший струйку копоти. При этом Тургенев так жалобно посмотрел на меня, что только при помощи энергических усилий я воздержался от душившего меня смеха. Молодой Опухтин проводил нас в свои комнаты и долго еще расточал нам свои любезности.
— А вы, батюшка, сказал Тургенев, обращаясь ко мне после ухода молодого хозяина, — целый вечер без галстука.
Оказалось, что, меняя белье, я второпях забыл надеть галстук.
После сладкого отдыха, нам прислали наверх чаю и кофею, и мы собирались уже поблагодарить хозяев и отправиться в дальний путь, но молодой хозяин объявил, что мамаша и слышать не хочет о том, чтобы мы уехали без завтракая. Делать нечего, приходилось скрепя сердце ждать. Должно быть, в виду нашего нетерпения поторопились с завтраком, и в 11 час. мы сошли в гостиную к круглому столу перед диваном, покрытому всевозможными яствами, начиная с превосходных пикулей и грибков до жареной печенки в сметане, молодого рассыпчатого картофеля и большого блюда с телячьими котлетами, плавающими в сочном бульоне. В те времена я редко отказывался от съестного. Когда я добирался до котлет, в комнату вошел слуга с раскупоренной бутылкой Редерера и стал налипать бокалы.
— Господа, пью за ваше здоровье и благодарю за доставленное мне удовольствие вашим посещением, сказала хозяйка, подымая бокал. Стоящий тут же у стола семи или восьмилетний мальчик в туго накрахмаленной, колокольчиком торчащей рубашке, тоже высоко поднял свой бокал и воскликнул.
— Иван Сергеевич, честь имею вас поздравить.
Я видел, как родительница дернула его сзади за торчащую рубашечку, и сообразив, что попал не туда, мальчик на некоторое время остался с поднятым бокалом, в виде неуместного знака восклицания.
Колокольчик нашей коренной побрякивал уже у крыльца.
— Позвольте вас поблагодарить, заговорили мы.
— Ах, нет, нет! возразила хозяйка:- надо прежде уложить с вами закуску.
— Ради Бога этого не делайте, говорили мы с Тургеневым в один голос, в то время как лакей убирал кушанье.
— Нет, нет! Это одна минута.
Твердо уверенные, что доводы наши одержали верх, мы, простясь с любезными хозяевами, пустились в путь.
— Господи! восклицал Тургенев, когда тарантас наш покатил по песчаной дороге, закрепленной вчерашним дождем. — Чего только не делает наше русское гостеприимство? Ну мыслимо ли, чтобы в нормальном состоянии я, с моим вечным страхом перед холерой, пил в 11 час. утра шампанское? И все это Тургенев восклицал таким тоном, как будто все это гибельное для его желудка русское гостеприимство не только находило себе усердную защиту в моем старообрядства, но даже как бы исходило из меня.
Хотел было уже я для сравнения с нашими обильными яствами сопоставить скудное убожество немецкой, франузской и итальянской кухни с ее прозрачными листиками ветчины, но в это время тарантас наш стал так круто спускаться в долинку, за которою начинался красный лес, что было не до споров, а нужно было упираться ногами чтобы не скатиться с своего места. Упираться приходилось в довольно обширный сундучок в кожаном чехле. Без этого сундучка, содержавшего домашнюю аптеку, Тургенев никуда не выезжал, видя в нем талисман от холеры. Толкаемый на корявом спуске Тургеневым и толкая его в свою очередь, вдруг слышу пронзительный его фальцет.
— Боже мой! что же тут такое?
Тогда только, откинув совершенно фартук и взглянув себе под ноги, я увидал следующее зрелище: услужливый и сообразительный слуга, получивший на чаек, завязал все блюдо с котлетами в салфетку и поставил на аптечку. При утраченном тарантасом равновесии, вся обильная подливка сквозь салфетку облила драгоценный ящик.
— Стой! Стой! Стой! кричал Тургенев кучеру, спустившемуся уже в долинку. Развязавши узлы пропитанной жиром салфетки, я увидал на блюде сбившиеся в кучку котлеты. Хотя от смеха я едва владел руками, тем не менее воспользовался кусочком газет, которыми Тургенев стал усердно вытирать драгоценную аптеку, и прикрывши этой бумажкой свое левое колено, прижал на нем пальцами котлеты и держал их на весу до тех пор, пока Тургкнев, вылезши из тарантаса, не стал согнувшись таскать сначала блюдо, а затем салфетку по обильной росе, промывая таким образом то и другое. Во время всей этой, весьма искусно им выполняемой, операции, при которой ему приходилось сильно изгибаться, он не переставал кряхтеть и повторять одну и ту же Фразу: «Господи! проклятое русское гостеприимство!»
Наконец блюдо и салфетка были по возможности вымыты: я положил и завязал спасенные мною котлеты, и мы тронулись в путь. К вечеру мы приехали в окруженное лесами селение Щигровку, где остановились во дворе давно знакомого Тургеневу охотника. Помещение, невзирая на местную дешевизну строевого леса, было самое заурядное в крестьянском быту и состояло из довольно просторной избы направо и так называемой чистой горницы налево, которую хозяева уступили нам. Не помню даже, была ли эта горница с мощеным полом или с земляным, наподобие избы, находящейся через сени. Рассматривая от скуки по моему обыкновению лубочные картины и стены, я нашел на правой дверной притолоке в нашей горнице четко написанное хорошо знакомым мне почерком: «Тургенев». Если эта изба цела, то я уверен, что и эта ясная надпись карандашом сохранилась.
Хозяин Григорий и брат его Иван, конечно, оба превосходно знали окрестное полесье и попеременно служили нам проводниками, — иногда единовременно оба, разводя нас группами в разные стороны. Конечно, Тургенев еще с вечера сделал все распоряжения, и я заранее объявил, что, стараясь ни в каком случае не мешать Тургеневу, буду тем не менее держаться того же вожака, что и он.
Когда Тургенев объяснял строгому своему Афанасию, смотревшему на ружейную охоту как на дело далеко не шуточное, — что Григорий и Иван оба обещают много тетеревиных выводков, Афанасий скептически повторял свою обычную фразу: «Не верьте вы мужику! Ну что мужик понимает!»
На другое утро часов в пять, напившись чаю и кофею и сунувши в ягдташи съестного и, между прочим, спасенные мною котлетки, мы на двух тройках отправились по указанию наших вожаков по лесным дорожкам и перелескам.
— Стой! — крикнул наконец нашему кучеру Григорий, и мы с Тургеневым вылезли из тарантаса, забирая тщательно приготовленные ружья и снаряды, и пустились за Григорием в кусты, разбросанные по заросшим травою так называемым гарям (прежним лесным пожарищам). Расходясь в разные стороны, мы должны были, чтобы окончательно не потерять проводника, от времени до времени кричать ему; «Гоп! гоп!» — не слишком отдаляясь от его отклика. С Непиром моим, пересланным мне в Москву любезным Громекою с Волховской станции, мне не удавалось до сих пор охотиться в течение двух лет, и я боялся, зная горячность собаки, помешать Тургеневу. Несмотря на мои свистки, Непир носился как угорелый. Но вот на большом кругу он вдруг остановился и замер. Конечно, я не заставил себя ждать и прямо пошел к остановившейся собаке. Вдоволь нагладившись по его блестящей черной спине, я, приготовивши ружье, стал подвигаться по направлению его носа, и вдруг с шумным хлопаньем из росной травы поднялся черныш. Грянул мой первый выстрел, и черныш покатился в траву. Конечно, я был в восторге от своего почина.
Не берусь день за день и удар за ударом описывать наших более или менее удачных полеваний, ограничиваясь воспоминаниями о моментах более мне памятных.
В то время еще не было в употреблении ружей, заряжающихся с казенной части, и Тургенев, конечно, был прав, пользуясь патронташем с набитыми заранее патронами; тогда как я заряжал свое ружье из пороховницы с меркою и мешка-дробовика, называемого у немцев Schrot-Beutel, причем заряды приходилось забивать или нарубленными из шляпы кружками, или просто войлоком, припасенным в ягдташе. У меня не было, как у Тургенева, с собою охотников, заранее изготовляющих патроны; а когда при отъезде на охоту необходимо запасаться, сверх переменного белья, всеми ружейными принадлежностями, то отыскивать что-либо в небольшом мешке весьма хлопотливо и неудобно, и Борисов очень метко обозвал это занятие словами: «тыкаться зусенцами». Конечно, такое заряжение шло медленнее, и когда Тургеневу приходилось поджидать меня, он всегда обзывал мои снаряды «сатанинскими». Помню однажды, как собака его подняла выводок тетеревей, по которому он дал два промаха и который затем налетел на меня. Два моих выстрела были также неудачны навстречу летящему выводку, который расселся по низкому можжевельнику, между Тургеневым и мною. Что могло быть удачнее такой неудачи? Можно ли было выдумать что-либо великолепнее предстоящего поля? Стоило только поодиночке выбирать рассеявшихся тетеревей. Тургенев поспешно зарядил свое ружье, подозвав к ногам Бубульку, и кричал издали мне, торопливо заряжавшему ружье: «Опять эти сатанинские снаряды! Да не отпускайте свою собаку! Не давайте ей слоняться! Ведь она может наткнуться на тетеревей, и тогда придется себе опять кишки рвать».
Помню случай, о котором мне до сих пор совестно вспоминать.
Угомонившийся Непир стал необыкновенно крепко держать стойку. Право, казалось, что если его не посылать, он полчаса и более, не тронувшись с места, простоит над выводком. Давно уже не приходилось мне ни самому стрелять, ни слышать за собою выстрелов Тургенева. Жара стояла сильная, и утомление при долгой неудаче давало себя чувствовать. Вдруг, гляжу, шагах в пятидесяти передо мною на чистом прогалке между кустами стоит мой Непир, а в то же самое время слышу за спиною в лощине, заросшей молодою березовой и еловою порослью, голос Тургенева, кричащего: «Гоп! Гоп!» Бросивши собаку, я иду на край ложбины и кричу в ее глубь: «Гоп, гоп! Иван Сергеевич!» Через несколько минут слышу близкое: «Гоп, гоп!» и крик Тургенева: «Что такое?»
— Идите стрелять тетеревей! — кричал я. — Моя собака стоит.
Когда Тургенев вышел из чащи, мы оба отправились к черневшемуся вдали Непиру.
— Идите поправее от собаки, а я пойду полевее, — сказал я. Так мы и сделали.
Умница Бубулька по окрику Тургенева пошла за его пятой. Когда мы с обеих сторон стали опережать собаку, из лежащего между нами куста с хлопаньем поднялся старый черныш, и Тургенев стал в него целить. Поднял ружье и я; и мне почему-то показалось, что Тургенев упускает его из выстрела. Этого истинного или подложного мотива было достаточно, чтобы я нажал спуск. Грянул выстрел, и черныш упал.
— А еще вызывал стрелять, — сказал Тургенев, — да сам и убил!
Приводите какие хотите объяснения: поступок остается все тот же.
Помню, что в первый день мы охотились в два приема, т. е. вернулись к часу, на время самой жары, домой к обеду, а в 5 час. отправились снова на вечернее поле. В первый день я, к величайшей гордости, обстрелял всех, начиная с Тургенева, стрелявшего гораздо лучше меня. Помнится, я убил двенадцать тетеревей в утреннее и четырех — в вечернее поле. Чтобы облегчить дичь, которую мы для ношения отдавали проводникам, мы потрошили ее на привале и набивали хвоей. А на квартире поваренок немедля обжаривал ее и клал в заранее приготовленный уксус. Иначе не было возможности привезти домой дичины.
Нельзя не вспомнить о наших привалах в лесу. В знойный, июльский день при совершенном безветрии, открытые гари, на которых преимущественно держатся тетерева, напоминают своею температурой раскаленную печь. Но вот проводник ведет нас на дно изложины, заросшей и отененной крупным лесом. Там между извивающимися корнями столетних елей зеленеет сплошной ковер круглых листьев, и когда вы раздвинете их прикладом или веткою, перед вами чернеет влага, блестящая, как полированная сталь. Это лесной ручей. Вода его так холодна, что зубы начинают ныть, и можно себе представить, как отрадна ее чистая струя изнеможенному жаждой охотнику. Если кто-либо усомнится в том, как трусивший холеры Тургенев упивался такою водою, то я могу рассказать о привале в этом смысле гораздо более изумительном.
После знойного утра, в течение которого неудачная охота заставляла еще сильнее чувствовать истому, небо вдруг заволокло, листья, как кипящий котел, зашумели под порывистым ветром, и косыми нитями полился ледяной, чисто осенний дождик. Случайно мы были с Тургеневым недалеко друг от друга и потому сошлись и сели под навесом молодой березы. При утомительной ходьбе по мхам и валежнику мы, конечно, старались одеваться как можно легче, и понятно, что наши парусинные сюртучки через минуту прилипли к телу. Но делать было нечего. Мы достали из ягдташей хлеба, соли, жареных цыплят и свежих огурцов и, предварительно пропустив по серебряному стаканчику хереса, принялись закусывать под проливным дождем. Снявши с себя фуражку, я с величайшим трудом ухитрился закурить папироску, охраняя ее в пригоршне от дождя. Некурящий Тургенев был лишен и этой отрады. Мокрые на мокрой земле сидели мы под проливным дождем.
— Боже мой! — воскликнул Тургенев. — Что бы сказали наши дамы, видя нас в таком положении!
Через час дождик перестал, и мы, потянувши к нашим лошадям, вскорости обсохли.
Нельзя не вспомнить с удовольствием о наших обедах и отдыхах после утомительной ходьбы. С каким удовольствием садились мы за стол и лакомились наваристым супом из курицы, столь любимым Тургеневым, предпочитавшим ему только суп из потрохов. Молодых тетеревов с белым еще мясом справедливо можно назвать лакомством; а затем Тургенев не мог без смеха смотреть, как усердно я поглощал полные тарелки спелой и крупной земляники. Он говорил, что рот мой раскрывается при этом «галчатообразно».
После обеда мы обыкновенно завешивали окна до совершенной темноты, без чего мухи не дали бы нам успокоиться. Непривычные спать днем, мы обыкновенно предавались болтовне. В этом случае известные стихи «Домика в Коломне» можно пародировать таким образом:
…много вздору Приходит нам на ум, когда лежим Одни, или с товарищем иным.— А что, — говорит, например, Тургенев, — если бы дверь отворилась, и вместо Афанасия вошел бы Шекспир? Что бы вы сделали?
— Я старался бы рассмотреть и запомнить его черты.
— А я, — восклицает Тургенев, — упал бы ничком да так бы на полу и лежал.
Зато как сладко спалось нам ночью после вечернего поля, и нужно было употребить над собою некоторое усилие, чтобы подняться в 5 ч. утра, умываясь холодной, как лед, водою, только что принесенной из колодца. Тургенев, видя мои нерешительные плескания, сопровождаемые болезненным гоготаньем, утверждал, что видит на носу моем неотмытые следы вчерашних мух.
Здесь позволю себе небольшое отступление, могущее, по мнению моему, объяснить в глазах читателя ту двойственность в воззрении на предметы, которую я иногда сам в себе подмечаю и которая происходит из того, что я теперь рассказываю о том, что происходило тогда.
В те времена еще все вещи были единичны и просты.
Жареный поросенок был простым поросенком и не был, как во времена римских императоров, начинен сюрпризами в виде воробьев или дроздов. Правда, я был страстным поклонником Тургенева, но меня приводили в восторг «Певцы» или раздающийся по заре крик: «Антропка! а-а-а! Поди сюда, черт, леший!» — А ко всем возможным направлениям я был совершенно равнодушен, и меня крайне изумляло несогласие проповедей с делом. Так помню, проезжая однажды вдоль Спасской деревни с Тургеневым и спросивши Тургенева о благосостоянии крестьян, я был крайне удивлен не столько сообщением о их недостаточности, сколько французской фразой Тургенева: «faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais»[206].
Не менее поражала меня совершенная неспособность Тургенева понимать самые простые практические вещи, между тем как он видимо принадлежал к числу людей, добивавшихся практических изменений и устройств.
Однажды проснувшись оба в ночной темноте, мы как-то разболтались, и, вероятно, вследствие вопроса: «который час?» — Тургенев вдруг стал экзаменовать меня насчет причины, заставляющей двигаться часовые механизмы. На ответ мой, что в часах с гирями движущей силой является тяготение, а в карманных — стремление насильно закрученной пружины развернуться до прежнего нестесненного сложения, — Тургенев с хохотом воскликнул:
— Ах какой он вздор говорит! Раскройте, батюшка, любые часы, и вы увидите прыгающий маятник, движимый волоском. Этот-то волосок посредством маятника и заставляет двигаться часы.
Напрасно старался я доказывать Тургеневу, что его волосок выходит причиною самого себя. На это он возражал, что такою же причиною самого себя является и моя пружина; и я только тогда успел заставить его замолчать, когда обратил внимание на то, что незаведенные ключом часы продолжают упорно стоять, не взирая ни на какое раскачивание маятника.
Наконец, окончив полевание, мы без всяких задержек направились в Спасское, даже принанимая лошадей там, где это было возможно.
Конечно, сравнивая свои тогдашние средства со средствами Тургенева, владевшего в то время еще всеми своими имениями, я должен был считать его богачом. Но когда об этом заходила между нами речь, Тургенев обыкновенно говорил, что он о материальных средствах и не думает, уверенный, что у него их на всю жизнь хватит, хотя в то время он, очевидно, не имел в виду огромных сумм, полученных им впоследствии за сочинения.
По этим словам следовало заключить, что и он смотрит на себя как на богатого человека, а между тем дорогой из полесья он по поводу этой темы внезапно самым внушительным образом пропищал:
— Да вы дайте мне за все мои имения 70 тысяч, и я сейчас же вылезу из тарантаса и стану у вас пыли у ног валяться.
— Иван Серг., вам не придется валяться в пыли потому уже, что, пользуясь вашим преувеличением, чтобы не сказать преуменьшением, я не соглашусь покупать за ничто ваше состояние.
— Ах, какие фразы! восклицал Тургенев. — Я никого не прошу себе в опекуны.
— Кроме того, продолжал я, вы знаете, что у меня таких и денег нет.
— Просите у Боткиных, они вам не откажут.
Подобный разговор не раз между нами возобновлялся, и притом с тем же знанием дела и определений душевно радуюсь, что сохранившиеся в значительном количестве письма Боткина, Тургенева и Толстого помогут мне воспроизвести нравственные очерки этих писателей с гораздо большею точностью оттенков, чем воспроизведение былых наших разговоров, причем могут вкрасться оттенки, и не вполне верные действительности.
Говоря о Спасском, я принужден говорить и о всех его тогдашних обитателях, во главе которых стоит глубоко мною уважаемый старик, дядя Ивана Сергеевича — Н. Н. Тургенев.
Еще с первого знакомства, даже шуточные выходки Л. Н. Толстого постоянно поражали меня своею оригинальность. Так когда-то общие впечатления, производимые отдельным писателем нашего тогдашнего круга, он приравнивал к впечатлениям, производимым известными цветами. В настоящее время не могу припомнить цвет каждого из нас, но про меня, кажется, он говорил, что я светло-голубой. Так однажды, когда мы встали из-за стола в Новоселках, и я стал рассыпаться в похвалах только что уехавшему домой Ник. Ник. Тургеневу, Л. Н. Толстой тоже воскликнул: «он прелесть!» и схвативши у кого-то зубочистку-перо в бисерном чехольчике, прибавил:
— В своем пышном белом галстуке и шелковой муаровой жилетке песочного цвета он вот что!
Если вспомнить моду двадцатых годов на бисерные, часовые цепочки, кошельки, то лучше нельзя было выразить всего общего тона Никол. Никол., что не мешало ему быть вполне хорошим, добрым и толковым человеком.
В четырнадцатом году, 16-и лет от роду, только что произведенныЙ в корнеты, он повел эскадрон кавалергардских рекрут на молодых лошадях в Париж, и, конечно, за такой долгий поход эскадрон пришел обученным полевой езде. В Париже, в числе прочей молодежи, познакомился он и с англичанами, сильно тогда нахлынувшими в столицу мира. Уже в то время Тургенев отличался той физической силой, которую сохранил до старости.
Посещая залу гимнастики, он в свою очередь стал вытягивать из стены машину, указывавшую по градусам силу каждого. Тургенев не токмо вытащил машину до последнего градуса, но совсем вырвал ее из стены. Англичане подхватили его на руки и понесли с триумфом.
Никогда не видав матери Тургенева, не стану воспроизводить о ней рассказов едва ли в этом случае беспристрастного Ивана Сергеевича. Повторю только слышанное мною от Ник. Ник., заведовавшего при покойной Тургеневой всем ее домом. При этом перескажу лишь то, что, по моему, находится в прямой связи с дальнейшею судьбою ее семьи. Независимо от какого-то кресла в виде трона, она содержала при себе целый штат компаньонок и гофмейстерин. При поездках в другие свои имения и в Москву, она кроме экипажей высылала целый гардеробный фургон, часть которого была занята дворецким со столовыми принадлежностями. Изба, предназначавшаяся для ее обеденного стола или ночлега, предварительно завешивалась вся свежими простынями, расстилались ковры, раскладывался я накрывался походный стол, и сопровождавшие ее девицы обязательно должны были являться к обеду в вырезных платьях с короткими рукавами.
Если при такой домашней обстановке принять во внимание безотлучное пребывание в этой среде холостяков, то нечему удивляться, что Никол. Никол. и старший брат Ивана Сергеевича женились на камеристках Варвары Петровны, тогда как последствием сближения Ив. Серг. с крепостною прачкой была та, чрезвычайно на него похожая, 15-и летняя дочь, с которою мы познакомились в Куртавнеле. Кто были те Белокопытовы, из коих на младшей женат был шестидесятилетний Ник. Ник. Тургенев, и от которой у него были две девочки, я сказать не умею. Знаю только, что Ив. Серг. постоянно относился к ним весьма любезно и родственно, и фразу: «дядя, ты не беспокойся: твои дети мои дети» — я нередко слыхал из уст Ив. Серг.
Дамы эти иногда не только играли в зале на подаренном им Тургеневым пианино, но даже пели.
Однажды, когда Тургенев лежал в гостиной на самосоне, а я сидел подле него, в разговор наш врывалось из третьей комнаты довольно безыскусственное пение.
— Ведь вот, проговорил кисленьким голоском Тургенев, — если бы ваши родственницы так пели, то вас бы это коробило. А меня это нисколько не трогает.
Я сейчас же подумал: «меня это не трогает, так и об этом и не говорю». Что же касается до жены брата Ник. Серг., то И. С. ее терпеть не мог и часто вспоминал про нее, не стесняясь в выражениях. Это была немка из Риги, не признаваемая покойной Варв. Петр. в качестве невестки, и в мое время проживавшая верстах в 10-и от Спасского в селе Тургеневе.
Чета эта представляла одну из тех психологических загадок, которыми жизнь так любит испещрять свою ткань. Ник. Серг. в совершенстве владел французским, немецким, английским и итальянским языками. В салоне бывал неистощим, и я не раз слыхал мнение светских людей, говоривших, что в сущности Ник. Сергеевич был гораздо умнее Ив. Серг. Я даже передавал эти слухи самому Ив. Серг., понимавшему вместе со мною их нравственное убожество. У Ивана Сергеевича были большие изъяны; у него, как мы видели, не хватало формальнаго математического и философского ума. Однажды он говорил мне: «на днях я просматривал свои берлинские, философские записки. Боже мой! неужели же это я когда-то писал и составлял? Пусть меня убьют, если я в состоянии понять хотя одно слово».
Вспомним, что он добивался кафедры философии при московском университете. Но за то Ив. Серг. был, как выражался про себя И. И. Панаев, «человек со вздохом». Не взирая на внешнее сходство двух братьев, они в сущности были прямою противоположностью друг друга. Насколько Ив. Серг. был беззаботным бессребреником, настолько Николай мог служить типом стяжательного скупца. Известно, что после смерти Варв. Петр Николай приехал в Спасское и забрал всю бронзу, серебро и бриллианты, и все это они с женою берегли в Тургеневской кладовой. Если справедливо, что Ник. Серг. в душе презирал поэзию, то нельзя сказать, чтобы он не чувствовал ее окраски, чему доказательством может служить переданный мне Ив. Сергеевичем разговор его с братом.
— Стоит ли, говорил Ник. Серг. заниматься таким пустым делом, которое всякий ленивый на гулянках может исполнить.
— Вот ты и не ленив, отвечал Ив. С., - но даже одного стиха не напишешь, как Жуковский.
— Ничего нет легче, отвечал Николай:
«Дышет чистый фимиам урною святою».— А ведь похоже, говорил хохочущий Ив. Серг.
— Разгадайте, нередко восклицал И. С.,- каким образом брат мог привязаться к этой женщине? Что она чудовищно безобразна, в этом вы могли сами убедиться в нашем доме; прибавьте к этому, что она нестерпимо жестока, капризна и неразвита, и крайне развратна. Достаточно сказать, что, ложась ночью в постель при лампе, она требует, чтобы горничная, раскрахмаленная и разодетая, всю ночь стояла посреди комнаты, но чтобы не произвести стука, босая. Вот и подивитесь! Ведь он ее до сих пор обожает и целует у нее ноги.
Когда я отправлялся в Спасское один, то ездил туда верхом вброд через Зушу, значительно сокращая дорогу, и приезд мой в Спасском сделался самым обычным явлением. Однажды, всходя на балкон, слышу усиленный, мелко дребезжащий звук, похожий на фырканье, и вступая в гостиную, вижу, что дамы усердно надрезают и рвут на клоки темно-серый кусок нанки.
— Над чем это вы так трудитесь? спросил я.
— Да вот Ив. Серг. выписал из Петербурга больного студента для поправки на деревенском воздухе. Оказывается, что этот гость совершенно разут и раздет, и мы послали во Мценск взять нанки, чтобы у нашего деревенского портного заказать приезжему костюм.
Вернувшийся с прогулки Ив. Серг. подтвердил известие, пояснив при этом, что он предназначает студента учителем сельской школы и переписчиком своих рассказов.
В последующие разы я увидал студента в нанковой паре уже за семейным столом, и любивший подшутить Ник. Ник. говорил:
— Право, наш молодец-то таки очень посмелел. Бывало, ждет, покуда скажут: «не хотите ли вина?» А нынче рука-то сама далеко достает бутылку. Не знаю. какой толк из итого всего выйдет.
Как то проходя через небольшую комнату, я увидал жену Ник. Серг. Тургенева лежащею на диване с далеко выставленными ботинками, а нанкового студента сидящего на табурете и растирающего ей ноги. Однажды осенью, зайдя во флигель к Ив. Серг., я застал его в волнении.
— Я, — сказал он, — решился просить дядю, чтобы он выпроводил этого Рабионова, который мне опротивел своим нахальством. Мне он ничего не переписывает. В школьниках видит эклогу Вергилия, и приходил мне жаловаться на жену моего брата, будто бы разрушившую его нравственный мир.
Конечно, и Ник. Ник., говоря на ту же тему, воскликнул: «вот, Иван, всегда так! Сам невесть кого затащил в дом, а теперь дядя выгоняй! Что я за палач такой?»
Не знаю, как это случилось, так как я в скорости за тем уехал в Москву, куда вслед за мною приехав Ив. Сергеевич. Но для бедного Ник. Ник. штука эта разыгралась не без убытка. Не знаю, по болезни или иной причине Рабионов продержался в Спасском до зимы и когда пришлось отправлять его, стал просить у Н. Н. шубу, клятвенно заверяя, что доедет в ней только до Москвы, а затем прямо доставит ее в наш дом. Добросердечный старик согласился на просьбу, но пропавшая шуба дала повод Ив. Серг. к следующему куплету:
«Рабионов! Рабионов! Вор и варвар без сомненья, Redde mees legiones! Возврати чужую шубу!»Впрочем И. С. Тургенев предлагал и следующий вариант:
«Рабионов! Рабионов! Вор и варвар без изъятья Redde mees legiones, Возврати чужое платье!»Воспроизведение в данное время Спасского персонала было бы далеко не полно без домашнего доктора Порфирия Тимофеевича, правильнее — без вывезенного, еще при жизни матери, Тургеневым, в Берлин крепостного Фельдшера Порфирия, отпущенного на волю и получившего по возвращении в Россию патент зубного врача При помощи этого патента он пользовался известной практикой в округе и благосклонно принимаем был в Спасском, семейством Тургеневых. Толстый и отяжелевший, он иногда сопутствовал И. С. в ближайших охотах и в случае надобности мог составить желающему партию на биллиарде или в шахматы. Наивное вранье и попрошайство указывали в нем на бывшего дворового.
Боткин писал из Лондона от 22 августа 1858 г.:
Какой свой роман читал тебе Тургенев? Если прежний, то он в целом вовсе не удался, да я думаю, что никакой роман не удался ему. Сила его в очерке и в подробностях…. Смерть бедного Иванова ужасно поразила меня. Я его глубоко уважал, как за его великий характер, так и за его сведения в искусствах, — и потом какая ужасная ирония судьбы! Даже не успокоился от своего долгого труда! Это был человек таких понятий об искусстве, какие нынче, между художниками, почти не встречаются. Но я думаю, однако же, что это был человек более труда, нежели творчества. В последние же годы он до такой степени вдался в книги, что живопись оставалась почти в стороне, и от этого техника его начала сильно ослабевать и, пожалуй, даже уж и ослабела. Я не столько художника оплакиваю в нем, но человека, в душе которого были высочайшие идеалы. Об его других сторонах вам, вероятно. Тургенев рассказывал, равно как и об его пункте помешательства. Я думаю, что этот пункт произошел у него вследствие чтения биографий художников 16 и 17 века, между которыми, особенно в Неаполитанской школе, отравление было в большом употреблении ради соперничества.
В. Боткин.
Тургенев был прав, предсказывая мне из Рима прелестное деревенское лето. Действительно, лето пролетало в частых дружеских и совершенно безоблачных сближениях. С шахматным игроком и предупредительно любезным Борисовым Тургенев сблизился дружески и весьма часто день и два оставался ночевать в Новоселках.
Однажды вечером, сидя на новой террасе перед вновь устроенной Борисовым цветочною клумбою, обведенною песчаной дорожкой, Тургенев стал смеяться над моей неспособностью к ходьбе.
— Где ж ему, несчастному толстяку, — говорил он, — с его мелкой кавалерийской походочкой сойти со мною. Это я могу сейчас же доказать на деле. Вот если десять раз обойти по дорожке вокруг клумбы, то выйдет полверсты, и если мы пойдем каждый своим естественным шагом, то я уверен, что кавалерийский толстяк значительно от меня отстанет.
Хотя я и до состязания готов был уступить Тургеневу пальму, но ему так хотелось явиться на глазах всех победителем, что мы пустились кружить по дорожке: он впереди, а я сзади. До сих пор помню перед собою рослую фигуру Тургенева, старающегося увеличить свой и без того широкий шаг; я же, вызванный на некоторого рода маршировку в пешем фронте, вследствие долголетнего обучения, конечно, делал шаг в аршин. Через несколько кругов Тургенев стал видимо отдаляться от меня, как я заметил, к общему удовольствию зрителей. Где источник этого удовольствия? Под конец состязания я на десятом кругу отстал на полкруга, что в целой версте представляло бы от 20 до 25-ти сажен. Явно, что Тургенев делал шаги более чем в аршин.
Но не одними подобными затеями наполняли мы с ним в Новоселках день. Окончив вчерне перевод «Антония и Клеопатры», я просил Тургенева прослушать мой перевод, с английским текстом в руках. Дамы ушли с работами в кабинет Борисова и заперли за собою дверь в гостиную, чтобы не мешать своим разговором нашему чтению. Ив. Серг. сидел на диване к концу овального стола, а я на кресле уселся спиною к свету. На этот раз мы прочитывали пятый акт и дошли до того места, где Клеопатра, припустив к груди аспида, называет его младенцем, засасывающим насмерть кормилицу.
На это Хармион, кончая стих, два раза восклицает: «О, break! О, break!» — которое Кетчер справедливо, согласно смыслу, переводит:
«О, разорвись, разорвись, сердце!»Приняв во внимание неизменный мой обычай сохранять в переводах число строк оригинала, легко понять затруднение, возникающее на этом выдающемся месте. Помнится, у меня стояло: «О, разорвись!» Тургенев справедливо заметил, что по-русски это невозможно. Загнанный в неисходный угол, я вполголоса рискнул: «О, лопни!» Заливаясь со смеху, Тургенев указал мне, что я и этим не помогаю делу, так как не связываю глагола ни с каким существительным. Тогда, как заяц, с криком прыгающий над головами налетевших борзых, я рискнул воскликнуть: «Я лопну!» С этим словом Тургенев, разразившись смехом, сопровождаемым криком, прямо с дивана бросился на пол, принимая позу начинающего ползать ребенка. Дамы, слыша отчаянный крик Тургенева, отворили дверь, и уже не знаю, что подумали в первую минуту.
О зимних планах Борисовых, ожидавших прибавления семейства, мы по молчаливому соглашению не заговаривали. Но мне, собиравшемуся в Москву в начале октября, следовало заблаговременно принять меры к нашему возвращению. Приехали мы в зимней повозке, а возвращаться приходилось на летнем ходу. И вот, соображаясь со средствами я заблаговременно заказал во Мценске четвероместную карету-тарантас, которая при постоянных моих понуканиях, как раз была готова к началу июня.
Пятого сентября в именины жены Н. Н. Тургенева Елизаветы Семеновны, точно так же как 9 мая в день именин самого старика, в Спасском постоянно бывал пир горою.
Положим, такое выражение несколько преувеличенно, так как накануне приезжали только мы с женою да гр. Н. Н. Толстой, да иногда родной брат Н. Н. Тургенева — Петр Никол. с дочерью; а в самый день именин — Борисовы, еще два три ближайших соседа да Н. С. Тургенев с женою. Часам к 12-ти во флигеле Ивана Сергеевича подавался завтрак, которого бы хватило заграницей на целый ресторан, а, за невозможностью добыть во Мценске свежих стерлядей, к обеду, кроме прохладительной ботвиньи, непременно являлась уха из крупных налимов. Дядя в новой, черной муаровой ермолке, могучий и веселый, всегда сам становился у верхнего конца стола, ловко разсылая уху гостям. Ив. Серг. садился всегда с одной стороны посередине стола, а мы с Ник. Ник. Толстым усаживались по правую и по левую его сторону. Зная нашу слабость и разделяя ее сам, Иван Серг. все время не забывал подливать нам в стаканы Редереру.
— Странное дело, сказал однажды при подобном случае Тургенев, — никогда я не замечал, чтобы Фет отказался от Редерера. Ну а вы, граф, как? расположены ли к нему по временам или всегда?
С секунду промедлив ответом, Ник. Ник. самым добросовестным тоном ответил:
— Скорее всегда.
Сопоставление этих двух определений окончательно срезало Тургенева. С неудержимым хохотом повторяя: «скорее всегда», — он со стула повалился на пол и некоторое время, стоя на четвереньках, продолжал хохотать и трястись всем телом.
Дворовые Спасского, по старой памяти, оканчивали вечер фейерверком на лужайке перед балконом.
Однажды, когда мы без наших дам приехали верхом с Борисовым в Спасское обедать, я невольно развеселил публику на свой счет. Конечно, к вечеру стали нас упрашивать остаться ночевать. Получив мое согласие, Тургеневы хором пристали к Ивану Петровичу. стараясь удержать и его. Зная постоянный страхе Борисова за жену, я был до крайности смущен настойчивыми просьбами Тургеневых, от которых Борисову стало тяжело обороняться. Желая ему помочь, я убедительным голосом воскликнул:
— Господа! вы видите, я остался; но его не держите: он женатый человек.
Поднялся гомерический смех, среди которого слышен был голос Ивана Сергеевича:
«Каков! забыл даже, что он женат».
Чужднясь всяких выдумок и прикрас, я вынужден разъяснить недоразумение, в которое впал по следующим обстоятельствам.
В те времена Малоархангельский уезд еще славился изобилием болотной дичины, и если мы с Тургеневым ездили в его Малоархангельское имение Топки, впоследствии им проданное, то, конечно, главною целью Тургенева было удобно поохотиться, а никак не разбирать какие либо свои экономические дела. Пролет болотной дичи почти совпадает с лучшим временем охоты на молодых тетеревей, с которой, как я рассказал, мы только что вернулись. Вследствие этого и зная достоверно, что действие романа «Дворянское гнездо» перенесено Тургеневым в Топки. я до сего времени думал, что поездка в Малоархангельск совершена нами гораздо позднее; но увы! — развертывая сочинения Тургенева, я увидал пометку «Дворянского гнезда» — 1858 годом, вследствие чего не может быть ни малейшего сомнения, что в скорости после охоты на тетеревей, мы с Тургеневым отправились в Топки. Описание старого флигеля, в котором мы останавливались, верное в тоне, весьма преувеличено пером романиста. По раскрытии ставней, мухи действительно оказались напудренными мелом, но никаких штофных диванов, высоких кресел и портретов я не видал. А в одной из пустых комнат, вместо упоминаемой кровати под пологом, я увидал ткацкий станок, на котором крепостной ткач работал прекрасную пестрядь. Правда, что, худо ли хорошо ли, нам приготовили обед, и старый слуга Антон, принарядившись в серый сюртучок, надел белые вязаные перчатки. После отмены даже крепостного права граф Л. Толстой говаривал: «едете в заглазное имение, ни о чем не хлопочете. Садитесь только за стол в ваш определенный час, и вам подадут ваших обычных пять блюд». Действительно так и было во время крепостного права. В заглазное имение обыкновенно отправлялись на покой заслуженные старики — слуги, повара и т. д. Приезд господ, как звук трубы для бракованной лошади, был призывом к старинной деятельности и случаем отличиться.
На другой день нашего приезда в Топки, Тургенев, предчувствуя, что к нему придут крестьяне, мучительно томился предстоящею необходимостью выйти к ним на крыльцо. Сетования эти до того мне надоели, что я вызвался выйти вместо него к крестьянам; и полагаю, что исполнил бы это, хоть не с большею пользой, но с большим достоинством. Я из овна смотрел на эту сцену. Красивые и видимо зажиточные крестьяне без шапок окружали крыльцо, на котором стоял Тургенев и, отчасти повернувшись к стенке, царапал ее ногтем. Какой то мужик ловко подвел Ивану Сергеевичу о недостаче у него тягольной земли и просил о прибавке таковой. Не успел Ив. Серг. обещать мужику просяную землю, как подобные настоятельные нужды явились у всех, и дело кончилось раздачею всей барской земли крестьянам. Само собою разумеется, что дело это оставалось на этом основании до отъезда Ив. Серг. заграницу и приезда Ник. Ник. Тургенева в Топки. С каким добросердечным хохотом говорил он мне впоследствии: неужели, господа-писатели, все вы такие бестолковые? Вы же с Иваном ездили в Топки и роздали там мужикам всю землю, а теперь тот же Иван пишет мне: «дядя, как бы продать Топки?» Ну что же бы там продавать, когда бы вся земля осталась розданною крестьянам? Спрашиваю двух мужиков богачей, у которых своей покупной земли помногу: «как же ты, Ефим, не постыдился просить?» — «Чего ж мне не просить? Слышу, — другим дают, чем же я то хуже?»
Не стану утомлять читателя описанием охот за куропатками и с 8-го сентября за вальдшнепами, которым мы предавались с Тургеневым в окрестностях Спасскаго.
Время подходило к октябрю, и мы стали собираться в Москву, куда Борисовы однако с нами не поехали. По приезде в Москву я встретился с самыми неутешительными событиями. Бедная невестка моя Екат. Дмитр. лежала в горячке на квартире на Мясницкой, тогда как отец ее Мансуров проживал отдельно в одном из ближайших переулков. Доктор, у которого я поместил больного брата, рассказывал, что брату советовали ежедневные прогулки, и что он, по-видимому, стал укрепляться в силах; но однажды доктор заметил у него значительную опухоль груди, которая еще прибавилась на следующий день, а на третий утром его нашли в постели скончавшимся от водяной в груди. Об этом конечно умолчали перед больной его женою, до собственной кончины не знавшей о смерти мужа, за которым последовала в самом непродолжительном времени. Поклонившись ей в ее глазетовом гробу, я невольно припомнил, как за год с небольшим они оба с мужем волновались по случаю тринадцати за столом в день ее рождения.
Со времени нашего с женою отъезда в Москву, Лев Никол. Толстой успел, как видно из следующего его письма, присланного мне в Москву из Новоселок, поохотиться с Борисовым, который и сдал ему на время своего доезжачего Прокофия с лошадью и с гончими.
24 октября граф писал мне в Москву:
Душенька дяденька Фетинька! Ей — Богу душенька, и я вас ужасно, ужасно люблю. Вот-те и все. Повести писать глупо, стыдно. Стихи писать… Пожалуй пишите; но любить хорошего человека очень приятно. А может быть против моей воли и сознания не я, а сидящая во мне еще не назревшая повесть заставляет любить вас. Что то иногда так кажется. Что ни делай, а между навозом и коростой нет-нет да возьмешь и сочинишь. Спасибо, что еще писать себе не позволяю и не позволю. Изо всех сил благодарю вас за хлопоты о ветеринаре и пр. Нашел я тульского и начал леченье. Что будет — не знаю. Да и черт с ними со всеми. Дружинин просит по дружбе сочинить повесть. Я право хочу сочинить. Такую сочиню, что уж ничего не будет. Шах персидский курит табак, а я тебя люблю. Вот она штука то. Без шуток, что ваш Гафиз? Ведь как ни вертись, а верх мудрости и твердости для меня, это только радоваться чужою поэзиею, а свою собственную не пускать в люди в уродливом наряде, а самому есть с хлебом насущным. А иногда так вдруг захочется быть великим человеком и так досадно, что сих пор еще это не сделалось. Даже поскорее торопишься вставать или доедать обед, чтобы начинать. Всех так называемых глупостей не переговоришь, но приятно хоть одну сказать такому дяденьке, как вы, который живет только одними так называемыми глупостями «закурдалами». Пришлите мне одно самое здоровое переведенное вами с творение Гафиза me faire venire à la bouche, а я вам пришлю образчик пшеницы. Охота надоела смерть. Погода стоит прелестная, но я один не езжу. Гончие ваши, Иван Петрович, живы и здоровы, равно Прокофий и серый мерин. Очень благодарю вас за разрешенье и воспользуюсь им до порош. Тогда отправлю Прокофия с гончими. Еще красного зверя, с тех пор как с вами расстался, травил и затравил одну лисицу около себя в полях и сам. На днях напишу вам, а теперь только благодарю за хлопоты и крепко обнимаю. Энциклопедию пришлите. Тетенька очень благодарит за память; и это не фраза, а всякий раз как я ей прочту вашу приписку, она улыбнется, наклонит голову и скажет: «однако (почему однако?) какой славный человек этот Фет». А я знаю за что славный — зато, что она думает, что он меня очень любит. — Ну-с прощайте. Пописывайте мне иногда без возбудителя ветеринара
Л. Толстой.
30-го октября Тургенев писал из Спасского:
Пишу к вам две строки, чтобы, во-первых, попросить позволения поставить у вас на дворе на несколько дней мой тарантас, а во-вторых, чтобы предуведомить вас о моем приезде в Москву не ранее 5-го или 6-го ноября. До скорого свидания.
Ваш Ив. Тургенев.
Действительно, 5 ноября не успели мы окончить кофею как у нашего крыльца прогремел знакомый мне тарантас, и в дверях передней я встретил взошедшего по лестнице Тургенева. Входя в отведенный ему кабинет мой, он сказал, что, оправившись с дороги, выйдет пить чай к хозяйке.
За чаем он был, чувствуя себя здоровым, весел и сказал, что сегодня никуда не поедет со двора, а усядется писать письма и будет обедать дома и разве вечером куда-нибудь сбегает. Когда через несколько времени я вошел к нему, то не узнал своего рабочего стола.
— Как можете вы работать при таком беспорядке? говорил Ив. Серг., аккуратно подбирая и складывая бумаги, книги и даже самые письменные принадлежности.
В 5 час. он нашел на столе суп-потрох, о котором с любовью вспоминал и заграницей.
За исключением С. Т. Аксакова, не выезжавшего из дому по причине мучительной болезни, кто только не перебывал из московской интеллигенции у Тургенева за три дня, которые провел он в нашем доме.
Между тем 14 ноября сестра Надя благополучно разрешилась от бремени сыном, названным в честь деда и заочного восприемника П. П. Новосильцова — Петром. По настоянию родительницы, как я узнал впоследствии, крестной матерью была избрана сестра Любинька, во все продолжительное время сватовства Борисова относившая к нему свысока и громко повторявшая, что брак с Борисовым есть прямое дело рук моих, чего я в свое время не скрывал от самой Нади.
Люди в большинстве случаев действуют по тайному инстинкту, не взирая на явный вред, происходящий для них от их действий.
Любинька, например, всю жизнь истерически рыдала от самой обидной брани мужа за ее невозмутимое упрямство и все-таки продолжала упрямиться.
Приехавши в Новоселки в качестве восприемницы, не могла же она не чувствовать, что дальнейшая ее оппозиция тяжело отзовется на ней же самой.
Тем не менее она неуклонно продолжала к ней стремиться, как магнит к полюсу. Зная, что Иван Петрович по-французски не говорит, она у постели больной упорно говорила при нем на этом языке, а по-русски выражала только радость, что новорожденный похож на красивую мать. Подобный тон, разумеется, не послужил к улучшению отношений Любиньки к Борисову.
Между тем из своей воронежской деревни приехал к нам брат Петруша на зиму и поместился в прежней комнате Нади. В свое время он в Харькове курса не кончил, но теперь ему припала охота к гуманиора. От души желая быть ему полезным, я принялся с ним за чтение хорошо мне знакомого Горация и заставлял брата с моих слов составлять теорию искусств, начиная с пластических до тонических включительно. Я старался выставить скелет эстетики в самых кратких и очевидных его сочленениях.
Однажды гостивший у нас С. С. Громека прочел эту небольшую тетрадку и просил ее списать для руководства его детям. Я должен признаться, что труды наши оказались безуспешны, если не принять в соображение, что они помешали брату соскучиться в Москве; но в скорости явились неоцененные братья Толстые и, захватив в свою охотничью среду задушевного и добродушного брата Петрушу, одушевили его окончательно. Из Парижа, куда за два года перед тем, в 1856 г. Петруша провожал брата Василия с женою, он вывез дорогое ружье де-Вима, с которым с тех пор не расставался, хотя с ним и не охотился, говоря, что его лягавые не заслуживают чести, чтобы с ними охотились с таким ружьем. Брат был величайший чистюля, но щеголем никогда не был и, вероятно, более инстинктивно вывез из Парижа наполеоновские усы и эспаньолку.
Наши музыкальные вечера установились снова, и графиня М. Н. Толстая нередко на них присутствовала. Помню, как однажды брат, увлекшись похвалами своему де-Виму перед находившимся в музыкальной зале Н. Н. Толстым, не вытерпел и побежал в свою комнату за любимым ружьем, чтобы убедить графа в совершенстве оружия. Пронося ружье через домашние комнаты, брат вошел с ним в залу в ту минуту, когда раздался первый музыкальный аккорд. Приходилось обождать, и брат, опустивши ружье к ноге, остановился как раз за креслом графини Толстой.
— Посмотрите, обратился ко мне со смехом Ник. Ник.,- сестра сидит охраняемая зуавом на часах.
Тем временем Тургенев из Петербурга писал от 27 декабря 1858 г.
«Amicus Fethus, — sed magis amica veritas». — Я выправил ваши стихи, любезнейший друг, и отдал их сегодня Дружинину, но пускай меня «на площади трехвостником дерут» — не могу признать хорошими стихов вроде:
«Иль тот, кто зародясь пленять богинь собою
Из недра Мирры шел, одетого корою», —
и предлагаю уже кстати прибавить к ним следующие два, в том же роде:
«В чей, приосанясь, зрак, — вид уст приняв живой.
Прелестниц, — взор полн нег — игрив вперяет рой».
Что же касается до вашего спора о Тютчеве с М. Н., — о Тютчеве не спорят; кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии — und damit Punctum.
Я начал выезжать и, после долгого затворничества и поста, — веду жизнь рассеянную, и, кажется, опять простудился. Писать много некогда. Что это Толстой не едет? Дружинин его ждет с тоскливым нетерпением. Уж не съели ли его медведи?
Все здешние здоровы. — На днях Боткин, который весь сладок, как аттический мед, дал нам лукулловский обед с трюфелями и т. д.
Кланяюсь вашей жене и всем вашим. Жму вам руку.
Преданный вам
Ив. Тургенев.
X
Концерт Бозие. — Покупка Сиопса. — Брат Петруша. — Юлия Пострана. — Свадьба Дм. П. Боткина. — Снова сборы в Новоселки. — Дорожные приключения. — Пирогово. — Странный монах. — Граф С. Н. Толстой. — Охота в Щигровке. — Приезд Тургенева. — Возвращение в Москву. — Снова болезнь Нади. — Мысли о покупке имения. — Опять в Новоселках. — Отъезд заграницу графа Николая Толстого и его письма. — Письма Тургенева и Боткина.
Навещавший нас по временам веселый Дмитрий Петрович Боткин однажды сообщил, что он хочет у одной опекунши бабушки просить руки воспитываемой ею шестнадцатилетней внучки.
Зная участие, которое мы принимаем в его судьбе, — он предложил нам побывать на предстоящем концерте итальянцев в Дворянском Собрании, в котором главную роль должна была играть Бозио, про которую шутники говорили: «да не будет тебе бозии иние разве менее», где, как он узнал, будет избираемая им девушка с своею замужнею сестрою. Во время первого антракта нам указали входившую красивую блондинку с роскошными волосами, что и требовалось доказать. Меломаном я никогда не был, но иногда самая простая и задушевная мелодия в состоянии подействовать на меня потрясающим образом. Доказательством того и другого мог бы послужить концерт мадам Виардо, прослушанный мною в Париже. К несчастию, во время настоящего концерта Бозио, у меня закралась мысль, что добровольно на этом вечере я смотрел невесту, а обязательно должен восхищаться концертом. Эта мысль с каждым тактом все более отравляла музыкальные звуки, так что подстрекаемая возрастающими фиоритурами предстала в виде единственного вопроса: «что же обязывает меня долее терпеть эту несносную пытку, от которой я сейчас избавлюсь за подъездом Собрания, где меня ожидает собственная карета и слуга, который объяснит жене моей, что я уехал провести вечер к Пикулину, квартировавшему невдалеке на Петровке?» Чтобы не мешать другим, отправляясь с объяснениями к жене, я, взявши стоявшую возле моего стула уланскую шапку, направился к лестнице, ведущей из Собрания, но и там нестерпимые рулады все еще меня преследовали. Спрашиваю слугу, — слуги нет. Я не знал, что, по случаю большого съезда, жандармы многих согнали в отдаленные залы сеней. После тщетных поисков слуги, я вышел в одном мундире при 25-и градусном морозе на крыльцо и, прошедши до Собрания, взял первого извозчика с полостью и, завернувшись в его попонку, приказал гнать на Петровку к Пикулину, которого квартира тем не менее была не ближе версты от Дворянского Собрания. Узнавши в чем дело, Пикулин расхохотался и принялся отпаивать меня чаем с коньяком. Через час в передней раздался звонок, а затем рыдающая жена моя рассказала, что после тщетных поисков за мною со стороны ее знакомых по всем боковым залам Собрания, слуга, подававший ей шубу, объявил, доставая из простыни и мою шубу и калоши, что он не знает куда я девался, и что она наугад велела ехать к Пикулину. Эта безобразная с моей стороны проделка имела одно хорошее последствие: жена дала слово не возить меня ни в какие концерты, — и сдержала его.
Я забыл сказать, что, еще до приезда к нам в Москву Тургенева, Борисовы писали мне, что оставленный на их попечение прелестный мой Непир кончился от душившей его горловой жабы. Таким образом еще в ту же осень я остался без собаки. Зайдя в писчебумажный магазин на Воздвиженке, я был поражен красотою белого понтера с коричневыми ушами. Понтер этот принадлежал самому хозяину магазина, страстному охотнику, вероятно из вольноотпущенных. Понтера звали Снопсом, и хозяин просил за него сто рублей. Не взирая на то, что истратить в то время на свою прихоть сто рублей было с моей стороны почти непростительно, я спал и видел пред собою красавца Снопса и упросил рассказывавшего о его способностях чудеса хозяина показать его в поле. Осенний пролет вальдшнепов еще не кончился, и мы, нанявши извозчика, отправились за город с охотником, уснащавшим обильно весь разговор свой фразою: «по-французски». Так на постоялом дворе, наливая себе в стаканчик водки из объемистой фляжки, он, выпивши и закусивши куском хлеба, сказал: «по-французски». Затем, подвязав калоши брюк сверх голенищев желтыми бумажными фитилями из своего магазина, он не преминул сказать: «по-французски». Почему он предполагал, что французы так собираются на охоту — дело его. Только однажды видел я короткую стойку Снопса, так как вероятно напуганный вальдшнеп не выдержал, но тем не менее красота собаки меня победила, и я ее купил. Тургеневу Снопс тоже очень понравился; разохотился и брат Петруша, глядя на красивую собаку, и с тем большим рвением стал искать для себя породистой собаки, что ходить за нею специально было кому, так как из деревни он выписал себе кучера с рысистою лошадью и слугу Антона. Навестивши бывшего хозяина Снопса, брат высказал свое желание иметь белую без отмет самку сеттера, и, конечно, желаемая собака нашлась у приятеля магазинщика, или была им нарочно приискана для брата. Тут с страстным увлечением, отличавшим все действия брата, начались самые оригинальные с его стороны проделки. Предлагаемая самка должна была в скорости принести щенят знаменитой породы; поэтому, чтобы окружить должным попечением ожидаемых щенят, брат нанял отдельное помещение, из двух комнат в нижнем этаже флигеля, в котором проживала сама хозяйка дома. Казалось бы, этого было довольно: но брату вздумалось в новом своем помещении устроить угощение продавцам охотникам. Для этого, кроме всяких дорогих закусок, были нашему повару заказаны майонез и разного рода блюда. Но что всего было для меня страннее, это то, что брат умолял меня придти на эту закуску. Ничего не могло быть нелепее этого завтрака, пожираемого стоя, так как оба гостя, не взирая ни на какие просьбы, не решились сесть; и я, пришедши к самому жареному, тоже стоя, со стаканом шампанского в руке, поздравлял брата с покупкою, а их с продажею. Антон ежедневно и нескольку раз в день выводил Бланку на сворке гулять по двору, и однажды я узнал, что Бланка принесла двенадцать щенят. Щенки подрастали, а тем временем подошла и масленица, после которой брат собирался отправиться в далекую Грайворонку.
Чтобы доставить удовольствие своим степным служителям, брат отпустил их на гулянье под Новинское, и насладиться всевозможными балаганными диковинками.
Как одностороння, а потому несправедлива мысль, будто простая грамотность или так называемая натертость развивает в человеке нравственность, — вся Москва в то время могла убедиться из следующего факта.
Проезжая по Подновинскому, я сам зашел в балаган, где показывали Юлию Пострану. Едва ли в продолжение многих веков придется увидать что либо более необычное, неприятное и грустное.
На сцену, в коротких юбках танцовщицы, вышла мулатка с черною кудрявою головою и большой, широкой, черной бородой. Не смотря на худощавость ее рук и ног и общее выражение лица, это была несомненная женщина, а не обезьяна. Рядом с нею на сцене стоял во фраке и в белом галстуке красавец брюнет американец, под руководством которого она танцевала балет, не смотря на очевидные признаки последней степени беременности. В доказательство неподдельности своей особы, она переходила через оркестр и жала руки зрителям первых рядов, в том числе и мою. Через неделю в газетах было напечатано, что несчастная женщина умерла родами, произведя на свет подобную себе дочь, и американец будто бы, набальзамировав родильницу и собственную дочь свою продал их в музей.
Неужели безграмотный древний патриарх, воспитанный в чувствах гостеприимства и покровительства слабому, должен уступить в деле нравственности этому цинически бессердечному американцу?
Вечером брат со смехом рассказывал о возвращении своего Антона с гулянья. Довольный своим днем, Антон говорил, что они «до Юлии Пространной не дошли». — «Но до кабака, прибавил брат от себя, они, видимо, добрались».
По получении Дм. П. Боткиным согласия на брак, в доме их тотчас же приступлено было к отделке прежней квартиры Грановских, а на 16-е января был назначен день свадьбы. На помолвке, в великолепном доме невесты, я сидел рядом с Василием Боткиным, старавшимся в глазах бабушки заслужить наилучшее мнение. В воспоминании моем об этом дне ярко сохранились два пункта.
В гостиной бабушки я залюбовался великолепными на стенах гобеленами, между прочим с одной стороны:- Похищение Прозерпины, а с другой — Юпитера в виде белого быка, уносящею по морю Европу.
Об этих коврах я впоследствии так часто напоминал молодой Боткиной, что она по смерти бабушки упросила братьев уступить ей эти ковры, и поныне украшающие лестницу Дм. Петровича.
Второй момент, сохранившийся в моей памяти, был тот, когда к церковной паперти подкатило новое с иголочки ландо, привезшее невесту в церковь; — соскочивший с козел слуга напрасно силился отворить дверцу кареты, дверца не отворялась, а невесту невозможно было выпустить. Тогда экипажный мастер Ильин, пришедший на паперть полюбоваться эффектом своей кареты, подскочил к дверке и, убедившись в невозможности отпереть ее, сдернул и подогнул правый рукав своей шубы и, защитив таким образом кулак, вышиб им зеркальное стекло кареты. Раскидав осколки стекла, он мгновенно запустил руку по внутренней стороне дверки, отпер ее и принял под руку невесту. Все это исполнено было так быстро и ловко, что невеста едва ли обратила внимание на это маленькое происшествие.
Зато между каретниками оно долго было памятно, я мой старик Пирогов, много лет спустя, говаривал: «хорошо так это случилось у Ильина, так и сошло благополучно, а случись у нашего брата, — ну и запирай заведение».
Между тем Тургенев писал из Петербурга от 7 января 1859 г.
Любезный Афанасий Афанасьевич, посылаю вам оттиск моей повести и прошу судить о ней строго и даже сурово, — и напишите мне ваше мнение. Тотчас по прочтении прошу передать экземпляр Аксаковым с прилагаемым письмом к Сергею Тимофеевичу. — Ну прощайте, обнимаю вас и кланяюсь вашей жене.
Ив. Тургенев.
P. S. Не замешкайте передачей повести.
10 января он писал:
Любезнейший Фет, пишу вам два слова впопыхах: угол разумеется у меня вам всегда готов — приезжайте и погостите. Вы пишете, что Л. Толстой сюда поехал — здесь он никому не показался, должно быть в Бологове опять схватился с медведем.
Кланяюсь вашей жене и жду вас. Получили ли вы мою повесть.
Vale et me ama.
Ив. Тургенев.
Отправляясь на свою Грайворонку, брат нанял долгого извозчика с закрытой кругом повозкой. Снега, в этом году были громадны, и к тому же, как нарочно, со дня выезда брата из Москвы, поднялись метели. Легко себе представить бесконечное ныряние по ухабам с плетушкой, наполненной щенками, с ночлегами, при которых щенки вносились в избу и откармливались молоком.
Наступал март месяц, и, приказавши поставить карету-тарантас на полозья, я ежедневно стал торопить наш отъезд в Новоселки, зная, что по обтаявшему шоссе никакие ямщики не возьмутся везти большого санного экипажа. Опасения мои оправдались, и мы с величайшим трудом протащились две первых станции. Ночью прибыли мы в Серпухов и, переменив лошадей, спустились к переправе через Оку. Береговой сторож с палочкой в руках остановил нас и объявил, что переезд стал очень опасен, а тем более для тяжелого экипажа, что и легкие сани с трудом пробираются между открывшимися справа и слева полыньями.
— Ну, любезный друг, сказал я, выпроводи нас на тот берег в получишь рубль на чай. Сторож, видимо, отставной солдатик, сказал ямщику: «ну, друг, я стану указывать тебе дорогу, а ты уж валяй во весь дух». При этом он стал на левую отводину кареты и действительно все время кричал: «правей! левей!» покуда мы во весь дух неслись через широкую Оку. При лунном свете то справа, то слева чернели полыньи, у краев которых вода слегка всплескивала при нашем проезде. Но вот мы уже на правом берегу Оки и, поблагодарив проводника, пускаемся в дальнейший путь.
В тот же день, узнав в Туле от Ясенковских ямщиков, что граф Л. Н. Толстой дома, мы рады быль заехать в Ясную Поляну и передохнуть в дороге у гостеприимных хозяев.
Граф встретил нас радушно и особенно любезна была его тетенька Т. А. На другой день перед нашим отъездом граф подарил мне двух легавых щенков, и пришлось вспомнить любимую поговорку Тургенева: «чему посмеешься, тому и поработаешь». Давно ли я трунил над плетушкой со щенятами, повезенной братом Петрушей в Землянский уезд? А теперь самому пришлось забирать плетушку, правда, с двумя щенками, к себе в карету. Ехать оставалось уже не слишком далеко, и поздно ночью мы добрались до Мценска.
Так как пришлось в деревню ехать на вольных, то я приказал ямщику везти нас не на станцию, а на постоялый двор. Говорят: — до рассвета никто не повезет, так как вода залила лед на Зуше, а в тяжелой карете и по проселку не проедешь. Надо ночевать.
Отворяю дверь в комнаты постоялого двора и меня поражает невыносимый запах угара.
— Помилуйте! восклицаю я, — да у вас в комнатах угар!
— У нас всегда так, отвечает хладнокровно хозяин.
Тем не менее ночевать при таком угаре невозможно и надо «хоть плыть да быть». После долгих совещаний решено было ехать в крытой кругом повозке, в которую влезать можно только было в боковое отверстие, завешанное циновкой. Повара мы оставили ночевать во Мценске с тем, чтобы на другой день, забравши с собою поклажу, он оставил карету до просухи на постоялом дворе. Конечно, ямщика пришлось соблазнить тройными прогонами. Лошади готовы и в отверстие кибитки полезли мы с женою, горничная Марьюшка, и затем подали нам туда же во тьму и плетушку со щенками. Когда мы приехали к месту летнего парома, то увидали шумящие струи реки, по которым никто ее мог бы догадаться, что они несутся сверху льда. Подъехав к воде, ямщик остановил лошадей, сказавши: «воля ваша, я не поеду, я боюсь». Я вспомнил, что шагах во ста, тут же на правом берегу Зуши, стояла изба перевозчика Федота. Не пускаясь в дальнейшие рассуждения, я поднялся в гору и стал стучать в его окно. Наконец, я услыхал что дверь отперли, и я впотьмах вошел избу.
— Федот! крикнул я перевозчику.
— Ах, батюшка Афан. Афан.! Это вы? вскрикнул Федот, узнавши меня по голосу.
— Можно тройкой переехать на Новосельскую сторону?
— Можно.
— Ну так собирайся и проводи нас до самых Новоселок.
— Сейчас, батюшка!
И точно, минут через пять, не зажигая огня, Федот собрался в дорогу и пошел со мною к кибитке.
— Боюсь! продолжал вопить ямщик. — Тройку потопишь.
— Отвечаю тебе за тройку, сказал я.
— Эх, ты! воскликнул Федот, — а еще ямщик! Давай сюда визжи!
— Боюсь! сказал ямщик, слезая с козел и подавая вожжи Федоту.
Видя, что это лишь проба для возбуждения смелости ямщика, я пригласил моих спутниц выйти из повозки, и Федот, разогнавши с берега лошадей, проехал до половины реки и, описавши круг по воде, стоявшей по крайней мере на четверть сверху льда, поставил снова повозку на старое место и сказал: «видишь»! Только тут набравшийся смелости ямщик сел на козлы, а мы снова забрались в повозку. Шлепающая и брызжущая вода, слава Богу, в повозку не дохватила, и мы благополучно выскочили на противоположный берег. Не успели мы выбраться на знакомый Новосельский проселок, как повалил снег, скоро превратившийся в сильную метель. Зная, что нам придется подыматься наизволок по занесенной снегом дороге, я помирился с мыслию, что долго придется тащиться все в том же направлении, воображаясь с бьющей с правой стороны метелью. Но наконец терпение вое истощилось, тем более что по расчету моему три версты, которые приходилось нам проехать в одном направлении, должны были быть пройдены в течении часа в дороге. Явно, что нам следовало поворачивать налево к мостику через р. Ядрину, впадающую в Зушу. Это я объяснил Федоту, конечно, в виде предположения, так как заметенной дороги различить было невозможно. Но на это Федот упорно возражал, что мы едем как следует. Видя, что он уведет нас Бог знает куда, ибо метель все под тем же углом била в рогожку нашего входа, я настойчиво крикнул: «вороти налево»! Ветер тотчас же стал дуть нам в тыл, а через четверть часа Федот закричал: «а ведь и точно ваша правда! Никак перед нами чернеет мост»! Оба подъезда к мосту были затоплены Ядриной, и только самый горб моста чернел посередине речки
— Федот! сказал я, — надо дорогу верхом испробовать!
— Сейчас! сказал Федот и, отложив левую пристяжную, поехал к мосту в нескольких шагах перед нами. Но не успел он добраться до открытого течения, как лошадь его по самый хомут провалилась в воду, и был момент, когда я за него не на шутку струхнул. Лошадь однако стала под ним усиленно выбиваться к берегу и наконец выскочила на снег. Положение было критическое. Переехать по мосту нечего было и думать, и пришлось бы скова тащиться к городу.
— Тут, сказал Федот, у самого устья Ядрины есть переход по льду. Да до него лугом с полверсты пожалуй будет. Может его и совсем сломало, а может и цел еще.
Не доверяя проводникам, я отправился пешком вдоль зачерпнувшегося водою луга, причем конечно высокие калоши мои тотчас валились водою.
— Вот он, переход то! крикнул Федот, — и я увидал две треугольные льдины, упирающиеся своими основаниями в берега и вершинами друг в друга. Конечно, ледяной этот свод висел на воздухе, и под ним клокотала вешняя вода. Проехать тройкой тут было немыслимо, и на самой вершине свода повозка могла пройти только одним полозом. Первым по своду перешел Федот, за ним последовал я, и он по одной подводил моих спутниц, которых я за руку перехватывал через клокочущую бездну. Отпрягли лошадей, и добрые животные скоком перебрались ко мне, одно за другим. Оставалось самое трудное: переправить повозку. Левый полоз прочно стоял на воздушном своде, во правый приходилось, передвигая по льду легкую повозку, поддерживать на мгновение совершенно на воздухе, так как полоз был ее довольно длинен, чтобы, теряя опору на одном берегу, опереться на другом. В этот момент Федот и ямщик дали повозке совершенно опуститься правым боком к бездне, и, ее взирая на сложность нашего положения, я услыхал восклицание женки моей: «щенята, щенята попадают в воду!»
Наконец повозка перешла на правый берег, запряжена, и мы забрались в свои места. Но тут новое затруднение. Так как мы переправились ее по торной дороге, а целиком, то и в лежащее перед вами село Ядрино приходилось пробираться целиком, объезжая неведомые рвы околицы. Едва только я втягивал голову в повозку, прячась во мрак от бьющего в лицо снега, как возницы наши сбивались с настоящего направления. Это наконец вывело меня, до волен промокшего, из терпения, и я раза с два крикнул: «да куда ж вы опять к черту вправо-то забрали?»
— О Госьподи! раздалось во мраке шепелявое восклицание Марьюшки: — сто это они нечистого поминают, который нас и так всю ночь водит?
Выбрались наконец на выгон перед церковью, и до Новоселок осталось в гору версты четыре, и стало быть простое дело терпения. Наконец в три часа утра мы добрались до Новосельского крыльца, протащившись часов шесть на расстоянии, которое следовало бы проехать в полчаса. Отправляясь на родной свой мезонин, я предварительно подошел к буфетному шкафу и налил себе целый стакан травнику, разделся и лег спать тепло укрывшись.
Поутру мы проснулись без всяких дурных последствий.
В Новоселках встретили мы нового жильца: маленького Петрушу Борисова[207], отличавшегося необыкновенным размером головы для такого малого ребенка. Сестра Надя совершенно оправилась, и прошлогодняя жизнь наша вошла в свою обычную колею. И так как Тургенева не было в Спасском, то граф Ник. Ник. Толстой еще чаще стал посещать нас на своем «бессмертии души».
— Завтра, — сказал он однажды, — я поеду отсюда во Мценск и, взявши почтовую пару в «бессмертие души», покачу по шоссе сперва к брату Сергею в Пирогово[208], а затем к Левочке в Ясную Поляну. Поедемте вместе! Они очень будут рады увидать вас.
На другой день неизменные желтые дрожки покойно донесли нас по шоссе и в сторону до села Пирогова. Ник. Ник. ушел от меня вперед во внутренние покои, вероятно, чтобы предупредить о моем приезде, и я один поднялся в переднюю. Единственным встреченным мною здесь лицом был стоявший во весь рост красивый старик с белыми, как лунь, вьющимися волосами и такою же бородою пышным веером, одетый в безукоризненно белую парусинную рясу.
Я раньше слыхал от Толстых курьезные рассказы о помешанном монахе В-ве, давно оставившем монастырь и проживавшем у знакомых. Белый старик держал в руке какую-то склянку, в которой взбалтывал белую микстуру.
Поклонившись ему, я спросил, не может ли он указать мне место, где бы я мог умыться и избавиться от покрывавшей меня пыли?
— Позвольте, — сказал незнакомец, взбалтывая микстуру. — Вам надо прежде всего очистить вот этим глаза.
— Покорно вас благодарю, — сказал я. — Я предпочитаю умыться водою.
— Нет, этого нельзя. Я сейчас пущу вам этого в глаза.
Но тут на выручку мою явился хозяин дома и избавил меня от непрошеного благодеяния.
Со времени этого первого моего знакомства с графом Сергеем Николаевичем судьба впоследствии сводила нас довольно часто, и наши характеры оказались до того сходны, что я не помню никакого между нами спора, а напротив, мнение, высказанное одним, казалось другому у него подслушанным. Однако этого обстоятельства достаточно, чтобы удержать меня от всяких похвал или порицаний по адресу графа. Тем не менее я убежден, что основной тип всех трех братьев Толстых тождествен, как тождествен тип кленовых листьев, невзирая на все разнообразие их очертаний. И если бы я задался развить эту мысль, то показал бы, в какой степени у всех трех братьев присуще то страстное увлечение, без которого в одном из них не мог бы проявиться поэт Л. Толстой. Разница их отношений к жизни состоит в том, с чем каждый из них отходил от неудавшейся мечты. Николай охлаждал свои порывы скептической насмешкой, Лев уходил от несбывшейся мечты с безмолвным укором, а Сергей — с болезненной мизантропией. Чем более у подобных характеров первоначальной любви, тем сильнее хотя на время сходство с Тимоном Афинским[209].
В доме графа я с удовольствием встретил графиню Марью Никол., которой имение примыкает к Пирогову, составляя отдельную его часть. Погода стояла прекрасная, и графиня скоро повела нас в обширный сад с широко расчищенными дорожками и рассказывала мне о недавнем веселом празднике в Пирогове по случаю чьих-то именин. «Ночь была прекрасная, — говорила она, — и мы за полночь прогуляли в саду. Вот этот самый мостик через канаву был ветх, и, не зная чем иллюминировать веселый праздник, монах В. поджег мостик, и когда тот в темноте распылался, стал через него прыгать. Фантастически ненаглядна, — продолжала графиня, — была его белая фигура, озаренная снизу пылающим огнем».
За обедом мне пришлось сидеть около красивого старца монаха, и он не заставлял вызывать себя на разговоры, оказавшись неисчерпаемо красноречивым. Служивши при Александре в гусарах, он не допускал никакого сравнения своего времени с настоящим и говорил: «Вы, николаиты, об александровцах судить не можете».
— Почему вы так думаете?
— Я вам это докажу логически, исторически, философически, географически, математически, политически…
— Да верю, верю.
— Да нет-с, позвольте! — Грамматически, драматически, критически и т. д.
К вечеру этот же самый ex-монах взял гитару и подсел к графине Марье Никол. С большим вкусом он стал подыгрывать известную песню:
«Полоса ль моя полосынька»и когда графиня вполголоса ее запела, он тоже вполголоса стал вторить ей приятным тенором.
Прогостив дня два в Пирогове, мы с Ник. Ник. побывали и в Ясной Поляне, и затем он тем же порядком доставил меня в Новоселки.
От 17 июня В. Боткин писал из Кунцева:
10 июня брат Петенька и все семейство отправились Петербург, и сегодня они оттуда уезжают в Ревель, проведя неделю в Петербурге. Кажется, что он произвел на них большое впечатление: да это так и быть должно, когда подумаешь, что они до сих пор почти не выезжали из Москвы. А Петербург хотя по виду все-таки город европейский; для русского же человека все европейское имеет таинственное обаяние. Так и быть должно, иначе мы были бы осуждены вечно коснеть, подобно <срезаны две-три буквы>нам и другим низшим племенам, в нашем — не скажу варварстве — а в тупости и младенчестве. Собственно говоря, всякий народ, все равно европейский или азиатский туп и младенец. Последняя война сняла плеву с наших глаз; она показала, что с тупостью и младенчеством народа в наше время далеко не уедешь. Назвавшись европейским государством, надо идти сообразно с европейским духом, или потерять всякое значение. Мы тридцать лет боролись с европейским духом и опомнились, очутившись у бездны. Мы только теперь начинаем понимать, что мы государство бедное, истощенное всяческой неурядицею, что мы не по одежке протягивали ножки, что мы почти накануне нового банкротства, что наша полицейская роль в Европе была безумством. Да и многие ли понимают это теперь? Но великое счастье в том, что наконец это поняло правительство. Винить тут некого: виновата та же тупость и младенчество;- ведь они ходят не в армяке только, но и в шитых золотом мундирах. Мы действительно самое еще младенческое государство в Европе и наши так называемые «образованные» напрасно с таким презрением смотрят на «необразованных». Тут оная разница в одном только платье и внешности; внутри же та же самая дичь, только под другими формами.
В. Боткин.
Вначале июня по предварительному соглашению в Новоселки приехал с поваром и с легавою собакою брат Петр Афан. В то время как мы сговаривались с гр. Н. Толстым об отъезде из Новоселок на тетеревей в Щигровку, И. Тургенев просил из заграницы дядю отправить единовременно с нами туда же знаменитого Афанасия и еще другого охотника, при котором состояла легавая собака Веска, на которую И. С, после устарелой Бубульки, возлагал большие надежды.
Во Мценске наняли мы поденно ямщика с хорошею тройкой и пузатейшим хотя и легким тарантасом. Всем трем нам рядом было совершенно просторно, так же как и нашим собакам на сене под высокими козлами. Благодаря прелестной погоде и еще более прелестному нраву Н. Толстого, умевшего так естественно, как никто, ехать на этой тройке, в этом тарантасе и по этой земле, — поездка наша была действительным праздником, которому недаром издали завидовал Тургенев. Конечно, и на этот раз нам пришлось ночевать в Болхове на постоялом дворе, откуда на другой день мы отправились в дальнейший путь. Когда мы отъехали верст за 30, стало невыносимо жарко. По дороге ни ручья, ни колодца.
— Должно быть это кабак, сказал Ник. Ник., указывая на стеснявшиеся перед нами подводы у дверей одинокой придорожной избы. — У них иногда бывает лед и пиво. Хорошо бы теперь выпить по стаканчику!
Пока слезший с козел повар пошел расспрашивать о пиве, мы были свидетелями следующей сцены. Кругом небольшой площадки перед дверью кабака сдвинуты были большие ломовые телеги с сильными и рослыми лошадьми, обращенными головами к площадке. Два громадных ломовых извозчика, чернявый и рыжий, плясали перед порогом кабака, не взирая на пекущее солнце. Оба были в лаптях и в синих пестрядинных рубахах. Чернявый, пускаясь в пляс, старался на гармонике подыгрывать барыню, причем музыка и пляска разом придавали его лицу под шляпой, торчащей грешневиком, какой-то озабоченный вид. Зато рыжий, как видно, дошел до самого края восторга: с расстегнутым воротом на загорелой труди, он выкидывал своими лаптями самые округлые, хотя и рискованные па, и при этом раскачивал на правой ладони свою шляпу грешневиком, полную самой свежей земляники. Обходя круг, он внезапно остановился против доброй, рыжей лошади и, прижимая в груди левой рукою и целуя ее голову, воскликнул: «Васька! вот люблю тебя! Поди-ж ты!» и затем, продолжая плясать, ласково крикнул Толстому: «барин, землянички неугодно ли?» и затем, ударяя себя в грудь: «ведь как у кого, а в нас не молчит она, эта самая водка!»
Давши им двугривенный на стаканчик, мы тронулись в дальнейший путь.
Чтобы не утомить читателя новым описанием тетеревиной охоты в Щигровке, скажу только, что в первые дни мы старались оставлять Ник. Ник. с опытными Тургеневскими охотниками. Но в следующие дни, не знаю почему, он стал от них отбиваться. Позволю себе только рассказать эпизод, способный, по моему мнению, всего более уяснить наши взаимные роли. Шел я долгое время за своей собакой, не находя ничего и не слыша никакой стрельбы. Вдруг в недальнем расстоянии слышу два выстрела, а минут через пять еще два, очевидно на том же месте. Откликнув к себе собаку, подвигаюсь вперед и выхожу на большое открытое поле, в которое острым мысом врезается густой, молодой лес. Заметив на ближайшей ко мне опушке брата Петра Афанасьевича, слышу в то же время отчаянные его вопли: «да ведь я Христом да Богом прошу!»
— Чего ты кричишь? спрашиваю я, подходя к брату, торопливо заряжающему ружье.
— Да ведь вот они, тетерева-то! Целый выводок! Кушь ты, проклятая! Николай Николаевич! ради Бога, свою-то подзовите собаку! Ведь я Христом да Богом прошу!
— Погоди! сказал я. — Итожь ты делаешь? Ты сперва заряжаешь дробью, а потом порохом, да и рассыпаешь заряды безбожно. Куда ты торопишься? Давай сюда ружье, я тебе заряжу.
Пришлось разряжать и продувать превратно заряженное ружье. Мое спешное занятие не мешало брату восклицать: «да ведь я Христом да Богом прошу!»
Вдруг явственно слышу издали голос Ник. Ник.: «Господи! чего он там орет? Я давно сижу на земле, и собака лежит около меня».
Можно себе представить, какова была стрельба брата после такой горячки. Вылетел молодой тетерев вдоль опушки, брат дал промаха, а я убил тетеревенка.
— Чего ты горячишься? говорил я брату; и, вероятно, чтобы вполне последовать моему совету, брат достал из ягташа кусок черного хлеба и стал его жевать. В это время собака моя твердо остановилась у густой древесной стенки, куда трудно было ожидать чтобы бросилась поднятая птица.
— Ступай, сказал я брату, к опушке с левой стороны собаки, а я пойду с правой. Уж на кого либо из нас тетерев налетит. — Когда мы почти сошлись справа и слева над собакою, молодой тетерев, поднявшись вверх, бросился в тесный промежуток между стенкою зелени и братом. Брат, держа приготовленное в левой руке ружье и боясь, чтобы тетерев не сбил с его носа очков, инстинктивно выставил правую руку, придерживая корку хлеба перед лицом. По невероятной случайности, тетерев краем левого крыла попал между трех больших пальцев брата, которые он точно также инстинктивно сжал. К удивлению моему, я увидал, что затрепетавший при взлете тетерев продолжает трепетать на одном месте, перед самым лицом брата. Оказалось, что брат совершенно неожиданно и неправдоподобно рукою, держащею кусок хлеба, поймал налету тетерева.
По возвращении в Новоселки я застал следующее письмо Тургенева из Виши от 18 июня 1859:
Любезнейший Фет, сколько раз я собирался писать к вам, и все не «вытанцовывалось». Сегодня кажется наконец удастся. Я нахожусь в городишке Виши, в средней Франции, не в дальнем расстоянии от Клермона, пью воду и купаюсь от своей болезни, и до сих пор пользы никакой не ощущаю. Народу здесь много, но все французики; русских мало и неинтересные. Я не жалуюсь: это дает мне возможность работать, но до сих пор моя Муза, как застоявшаяся лошадь, семенит ногами и плохо подвигается вперед. По страничке в день. Часто думаю о России, о русских друзьях, о вас, о наших прошлогодних поездках, о наших спорах. Что-то вы поделываете? Чай поглощаете землянику возами с каким-то религиозно-почтительным расширением ноздрей при безмолвно-медлительном вкладывании нагруженной верхом ложки в галчатообразно раскрытый рот. А Муза? А Шекспир? А охота? Письмо это отыщет вас вероятно по возвращении из Щигровки, куда вы вероятно ездили с Афанасием. Известите, Бога ради, как вы охотились? Много ли было тетеревей? Как действовали собаки, в особенности Весна, дочь Ночки? Подает ли она надежду? Все это меня крайне интересует. Вы не поверите, как мне хотелось бы теперь быть с вами: все земное идет мимо, все прах и суета, кроме охоты:
Wie des Rauches Säule weht,
Schwindet jedes Erdenleben,
Nur die Schenpfen, Hasen, Birk-,
Reb-, Hasel- und andere Hühner;
die Hasen, Enten, Becassinen,
Doppel- und Waldschnepfen bleiben stets.
Известите меня обо всем на свете: о вашей жене, о вашей сестре, о Борисове, о его сыне, о крестьянском вопросе, о литературе, о Современнике и Временнике, о журналах, о моем дяде и его семействе (надеюсь, что вы их видаете), о Толстом и Толстой, о купальне на Зуше, о березовой аллее, о том, загорели ли вы, умываетесь ли вы, о Мценском соборе, о количестве грачей, о том, продолжают ли они играть над кручею Веселой Горы, о засухе, которая нас здесь пугает, о пароме на Зуше, об огрызенных ракитах по дорогам, о кабаках и трезвости, о том, изменился ли запах в избах, о Некрасове и ваших с ним счетах, о москвичах, о наидрагоценнейшем и наивозлюбленнейшем мудреце и перипатетике Николае Толстом, о брюхе Порфирия и о бильярдной игре с ним, о заусенцах, о носе, засиженном мухами двух поколений, — словом, обо всем. Я же с своей стороны ни о чем вас не извещаю, ибо знаю, что для вас все западное, все европейское есть нечто вроде мерзости…. Я, кажется, заврался.
Пишите мне в Париж, poste restante à M. Ivan T. — Тургеневых вдруг в Париже расплодилось как мух. Я по-прежнему твердо надеюсь быть дома в августе месяце: постреляем еще вместе куропаток и вальдшнепов.
Прощайте, любезнейший поэт! Дружески кланяюсь всем вашим и жму вам руку.
Преданный вам Ив. Тургенев.
P. S. Я забыл главное: об Аполлоне Григорьеве, об Аполлоне, об Аполлоне!!!
Надо прибавить, что, в видах избавления дома от детских криков, сестра с ребенком и кормилицей переселилась в исконное женское и детское помещение на мезонине; а мы с женой перебрались в так называемый и действительно новый флигель между домом и кухней. Эта перемена привела нас к какому-то физическому и отчасти духовному особняку. Борисов, любивший исторические сочинения, выписывал их и читал вслух своей жене («Русский Архив», «Историю Петра Великого» — Устрялова), которая, видимо, очень ими интересовалась. Что же касается до меня, то, оставаясь во флигеле, когда жена моя уходила в дом играть на рояле, я впадал в тяжкую скуку. Жить в чужой деревне вне сельских интересов было для меня всегда невыносимо, подобно всякому безделью, а усердно работать я могу, только попав в капкан какого-либо определенного, долгосрочного труда; и при этом нужно мне находить точку опоры в привычной обстановке, подобно танцору, уверявшему, что он может танцевать только от печки, около которой всегда стоял в танцклассе. Чтобы не отставать от других, я приходил в дом читать вслух «Илиаду» Гнедича. Чтобы не заснуть над перечислениями кораблей, я читал ходя по комнате, но и это не помогало: я продолжал громко и внятно читать в то время, как уже совершенно спал на ходу. Нашим дамам стоило большого труда изредка вечером вызывать меня на прогулку.
Между тем Тургенев писал из Куртавнеля от 16 июля 1859:
Бесценный Фет, мудрец и стихотворец!
Я получил любезное письмо,
Направленное вами из «Поляны», —
В том замке, где вы некогда со мною
Так спорили жестоко, и где я
У вас в ногах валялся униженно.
В нем ничего не изменилось, только
Тот ров, который, помните, струился
Пред вашими смущенными глазами, —
Теперь порос густой травой и высох;
И дети выросли… Что ж делать детям,
Как не расти? Один я изменился
К гораздо худшему. Я всякий раз
Как к зеркалу приближусь, с омерзеньем
На пухлое, носастое, седое
Лицо свое взираю… Что же делать?
Жизнь нас торопит, гонит нас как стадо…
А смерть, мясник проворный, ждет да режет…
Сравнение достойное Шекспира!
(Не новое, однако, к сожаленью!)
Я к вам писал из города Виши
Недавно; стало быть не нужно боле
Мне говорить о личности своей.
Скажу одно: в начале сентября
Я в Спасском, если шар земной не лопнет, —
И вместе вальдшнепов мы постреляем.
Об вас я говорке хочу: я вами
Ужасно недоволен; берегитесь!
Скучливый человек, вы на стезю
Опасную ступили, не свалитесь
В болото злой зевающей хандры,
Слезливого тупого равнодушья!
Иллюзии, вы говорите, нет…
Иллюзия приходит не извне, —
Она живет в самой душе поэта.
Конечно, в сорок лет уж не летают
Над нами в романтическом эфире
Обсыпанные золотом и светом
Те бабочки с лазурными крылами,
Которые чаруют ваши взоры
В дни юности, но есть мечты другие,
Другие благородные виденья,
Одетые в белеющие ризы,
Обвитые немеркнущим сияньем. —
Поэт, иди за ними и не хнычь!
(Фу, батюшки! какой высокий слог!)
А на земле коль есть покойный угол,
Да добрый человек с тобой живет,
Да не грозит тебе недуг упорный, —
Доволен будь, — «большàго» не желай,
Не бейся, не томись, не злись, не кисни,
Не унывай, не охай, не канючь,
Не требуй ничего и не скули…
Живи смиренно, как живут коровы,
И мирной жуй воспоминанья жвачку.
Вот мой совет, а впрочем как угодно!
Увидимся и больше потолкуем…
Ведь вы меня дождетесь в сентябре?
Пожалуйста поклон мой передайте
Супруге вашей и сестре; скажите
Борисову, что я люблю и помню
Его; Толстого Николая поцелуйте
И Льву Толстому поклонитесь, — также
Сестре его. Он прав в своей приписке:
Мне не за что к нему писать. Я знаю,
Меня он любит мало, и его
Люблю я пало. Слишком в нас различны
Стихии; но дорог на свете много:
Друг другу мы мешать не захотим.
Прощайте, милый Фет; я обнимаю
Вас крепко. Здешняя хозяйка вам
Велела помолиться. Будьте здравы
Душой и телом, Музу посещайте
И не забудьте нас.
Иван Тургенев.
22 июля Тургенев писал из Бельфонтеня (возле Фонтенебля):
Любезный Фет, я не могу понять, отчего вы не получаете моих писем? Я вам их написал уже три. Мне было бы очень досадно, если б они пропали, не потому, что содержание их очень важно, а потому, что вы пожалуй можете подумать, что я забываю своих друзей. Последнее мое письмо (в белых стихах) было, как говорится, пущено много из известного вам Куртавнеля, куда я возвращаюсь через неделю; а теперь я живу у князя Трубецкого, в доме, окруженном прекрасным садом и великолепным Фонтенебльским лесом. Вы, счастливец, охотитесь, а здесь охота начнется не раньше, как через четыре недели. Я буду присутствовать при ее открытии, поколочу куропаток, зайцев и может быть фазанов, а там — марш домой. Пока я занимаюсь своим романом, который подвигается понемногу и, надеюсь, будет кончен к половине ноября.
Много вы мне говорите любезностей в вашем письме; желал бы я, чтобы все мои читатели были так снисходительны, как вы, и умели читать между строчками недосказанное и недодуманное мною. Посмотрю, понравится ли вам мой новый труд: это было бы большим для меня ручательством за его дельность. Я с вами часто спорю и не соглашаюсь, но питаю большое уважение к вашему художническому вкусу.
Стихотворение, присланное вами, очень мило и безукоризненно. Жаль, что находятся два и: «И негой» «И всеобъемлющий». Но это мелочная придирка d'un blasé.
Жду описания вашей охоты в Щигровке. Как-то понравилась она Николаю Толстому? У меня слюни текли при мысли, что я мог быть с обоими вами там… Что делать? Во время вальдшнепов он уедет за своими зайцами да лисицами… Вот горе! Хотел бы я посмотреть на него в разгаре с «французом» Афанасием. С какою собакой вы охотились? — Привезу вам Даумера непременно.
А почта наша безобразна. Письма идут, идут — и конца нет. Состариться успеешь, пока ответ получишь. Я давным-давно послал письмо к Анненкову — и никакого ответа. Журналы тоже очень поздно приходят, а иных, как например, Русское Слово, — и в глаза не видишь. Я очень рад, что ваша хандра прошла. Какую хандру не прогонит охота?
Поклонитесь от меня всем: вашей жене, вашей сестре, Борисову. Будьте здоровы. Дружески жму вам руку.
Ваш Ив. Тургенев.
Следующее за этим письмо требует некоторого разъяснения, без которого не может быть понятно.
Из подлинных писем Тургенева можно было видеть его привычку пародировать иногда очень забавно не нравящиеся ему стихи. Так, между прочим, во время чтения в приятельском кругу моего перевода Юлия Цезаря, Тургенев, пародируя некоторые стихи. придумал:
«Брыкни, коль мог, большого пожелав Стать им, коль нет и в меньшем без препон».Конечно, такие пародии предназначались для приятельского круга. а никак ее для публики, чего, конечно, не мог не понимать Некрасов; а между тем в разборе моего «Цезаря» он напечатал эту пародию, нимало не стесняясь. В пример обычной его бесцеремонности, Тургенев приводит случай с длинною повестью Некрасовского приятеля, тянувшеюся чрез несколько книжек Современника. Повесть надоела Некрасову, громогласно зевавшему над ее корректурой; и вдруг на самом патетическом месте, не предупредив ни словом автора, он подписал: «она умерла» — и сдал в печать
О несовпадении пропаганды Некрасова, с его действиями я бы мог сказать многое. Остановлюсь на весьма характерной моменте.
Шел я по солнечной стороне Невского лицом к московскому вокзалу. Вдруг в глаза мне бросилась встречная коляска, за которою я, не будучи в состоянии различить седока, увидал запятки, усеянные гвоздями. Напомнив стихотворение Некрасова на эту тему, я невольно вообразил себе его негодование, если б он, подобно мне, увидал эту коляску. Каково же было мое изумление, когда в поравнявшейся со мною коляске я узнал Некрасова.
Тургенев писал из Куртавнеля 1 августа 1859:
Что за притча, милейший Фет, что вы ни одного письма моего не получили? Я вам их написал целых четыре — в стихах и в прозе, адресуя в город Мценск. Это письмо я наконец решаюсь отправить через дядю Николая Николаевича. Авось хоть так оно дойдет. — Через шесть недель, если я буду жив, я вас увижу. Мое место уже взято на пароходе, отплывающем из Штетина 4 сентября. Стало быть к Никитину дню (14 сентября) я в Спасском и на другой же день колочу вальдшнепов. Неутешительные ваши сведения об охоте в Щигровке меня смущают: отчего же это нет тетеревов? Радует меня успех моей Весны; если она так же будет хороша, как собою красива, то она далеко пойдет. А пока лущите дупелей с Афанасием, только в Карачевских, а не в прошлогодних болотах.
Я не читал статьи о вашем Цезаре, но факт допущения в статье, подписанной незнакомым именем, приятельских шуток, вроде: «Брыкни» и т. д. достоин господина Некрасова и его вонючего цинизма. Кажется, легко было понять, что ни мне, ни вам (в особенности мне) это не могло быть приятно. Да и наконец, какое имеют эти господа право покушаться на частные дела? Да ведь этому злобно зевающему барину, сидящему в грязи, все равно… «Она умерла…» Но мне это очень досадно. — До свидания! Кланяюсь всем вашим и жму вам руку. Будьте здоровы.
Ваш Ив. Тургенев.
Наконец, после долгих сборов и обещаний, Тургенев приехал в Спасское, и мы, хотя с грехом пополам, поохотились с ним на куропаток и вальдшнепов. На одном из привалов он вдруг предался своей обычной забаве придираться к моей беспамятности с географическими именами, требуя, например, двадцати названий французских городов. На этот раз он требовал только пяти португальских, кроме Лисабона. «Только пятна», настойчиво прибавлял он. Назвав Опорто и Коимбру, я было стал в тупик, но вдруг вспомнил урок из Арсеньевской географии, и язык мой машинально пролепетал: Тавиро, Фаро и Лагос портовые города. «Ха-ха-ха! вынужденно захохотал Тургенев; какой ужасный вздор!» — «Очень жаль, что вы их ее знаете», сказал я, надеясь на своего Арсеньева, как на каменную гору. Тургенев достал памятную книжку и записал города. «Хотите пари?» — «Пожалуй, отвечал я, на бутылку шампанского!» — «Нет! Фальцетом протянул Тургенев: я хочу пробрать вас хорошенько, — на дюжину шампанского!» — «Это значило бы пробрать вас!» — «Знаем мы эти штуки! воскликнул Тургенев: это незнание в одежде великодушия». Мы ударили по рукам. На другой день Тургенев, подходя ко мне в бильярдной со старою книжкой в руках, сказал: «а ведь шампанское-то я проиграл, ведь вот они в самом деле, эти нелепые города».
Начались и у псовых охотников сборы. Борисов, неспособный по лени и беспечности к настойчивому произведению новых ценностей, имел особенный талант устроиться с тем, что попадало ему в руки, и, смотря на покойный тарантас и гнедую тройку, собранную из остатков новосельских и фатьяновских лошадей, Лев Николаевич говорил мне: «А Борисов себе троечку прикукобил!» Но выезды на охоту были пока у Борисова недальние, а собирались его соучастники в дальний отъезд только по отправлении нас всех, т. е. его жены с маленьким Петрушей и нас в Москву, куда сам Борисов должен был в конце осени последовать за нами.
Тургенев писал из Спасского:
Что же это значит, милостивый государь? Мы вас с женой ждали все эти дни. Я был так уверен в вашей аккуратности. что проиграл пари по вашей милости: я держал сто франков, что вы приедете. Графиня М. Н. Толстая вас ждала, а вы не приехали. Она наконец вчера уехала, а вчера я слышал во Мценске, что в воскресенье вы собираетесь в Москву. Если вы с Марьей Петровной не приедете к нам завтра, т. е. в среду обедать, — я на веки вечные с вами рассорюсь, — und damit Punctum!
Пришлите мне пожалуйста забытую мною у вас банку помады в картонном футляре и до непременного свидания.
Ваш Ив. Тургенев.
Усадив в четвероместную новосельскую карету вместе с нами кормилицу с ребенком, мы скоро покатили по шоссе в Москву. На другой же день по приезде нам с сестрой приходилось ехать на Никольскую в тульские лавки купить для ребенка железную кроватку. Наши молодые серые уже успели прибыть в Москву, и я, более надеясь на себя, чем на кучера, приказал запрячь пролетку парой. Дорогой все внимание мое было сосредоточено на рысаках. Но когда мы с сестрой вошли в магазин и я, рассматривая предлагаемые кроватки, стал просить одобрения Нади, то убедился, к ужасу моему, что на нее нашел окончательно столбняк. Видно было, что она пассивна до окаменелости. Приказав уложить кроватку с чехлом в пролетку, я не без усилия усадил сестру рядом с собою и пламенно желал только добраться домой без публичных приключений.
Не теряя времени, отправился я к доктору Красовскому умолять его о немедленном приеме знакомой ему больной. Невзирая на положительный отказ со стороны доктора, за неимением помещения, я объявил ему, что привезу больную и оставлю у него в приемной, так как оставлять ее в доме при ребенке невозможно.
Тургенев писал из Спасского 9 октября 1859:
На днях я писал к вам, милейший Афанасий Афнасьевич, желая узнать, что у вас делается, а вы и предупредили мое желание и сами пишете. Новости пока неутешительные. Что делать! Должно вооружиться терпением. Прошу вас выразить все мое сочувствие бедному Василию Петровичу; я право не знаю, за что он меня благодарит. На кого бы не подействовал подобный удар?
А кстати я вам подарил Гафиза. Добрый гений мне это подшепнул. Переводы ваши хороши. Но наученный Шекспиром, я становлюсь неумолимым. А именно:
«Леденцы» румяных уст — очень нехорошо.
Удивительное дело, как вы, поэт и с чутьем способны иногда на такое безвкусие. Метр вас поедом поедает:
«В том, с чем можно позабыть еще одним» — вовсе лишенный смысла. Этак нельзя отрывать слова: «с чем» и «одним». Не забудьте, что одним есть также дательный падеж множественного числа.
Перевод второй песни хорош безукоризненно, хотя «улыбнуться — Вешния грозы» — мне кажется несколько натянутым. Но сколько я мог заметить, в тон Гафиза вы попали. Продолжайте не спеша, и может выдти прелестная книжечка.
Я все сижу дома, с тех пор как Борисов отсюда уехал. Я простудился и у меня кашель. Но это не мешает мне работать, и я работаю. Но что такое я делаю — Господь ведает. Забрался в каменоломню, бью направо и налево. пока, кроме пыли, мне самому ничего не видно. Авось выйдет что-нибудь.
Дамы наши очень кланяются вам всем. С Толстым мы беседовали мирно и расстались дружелюбно. Кажется, недоразумений меж нами быть не может, потому что мы друг друга понимаем ясно, и понимаем, что тесно сойтись нам невозможно. Мы из разной глины слеплены. — Прощайте пока. Желаю вам всем всего хорошего и дай Бог выйти поскорее из-под той черной тучи, которая на вас налетела. Жму руки вам, вашей жене и Борисову. В Москве я буду, если Вое даст, около 20 ноября.
Ваш Ив. Тургенев.
13 ноября он писал:
Милейший Афанасий Афанасьевич! Я бы давно отвечал вам, да вы прибавили в post scriptum: «напишите, когда вас ждать?» Я хотел сказать вам что-нибудь положительное, но болезнь моя играет со мною, как кошка с мышью, — то я говорю, то опять должен замолкнуть, словом, я и теперь ничего наверное сказать не могу, а только приблизительно могу сказать, что около 22-го буду в Москве. Разумеется, я вам тотчас дам знать, а остановлюсь в гостинице, потому что я в Москве останусь всего один день.
Очень мне тяжело и грустно, что не только нет от вас добрых вестей, но все еще продолжаются печали и несчастия: пришла беда, растворяй ворота. Должно закутать голову и ждать конца грозы.
Вот что я имею сказать о присланных стихах: «Тополь» — хорош. Но мне ужасно жаль сироток рифм: «спора» и «не увял»: — куда делись их подружки? — И потому я для удовлетворения своего уха читаю так:
«Пускай мрачней, мрачнее дни задоря
И осени тлетворной веет бал»…
Смысла нет, но есть гармония.
Перевод из Гафиза
«Дышать взлетает радостью эфирной»…
— заимствовано у Кострова.
Ваших медицин — германизм.
«Грешный человек!» — я смеялся, увидев в Библиотеке для Чтения, что стих перед знаменитым стихом:
«Из лона Мирры шел»…
— выпал (вы удивительно счастливы на опечатки) — и теперь вместе с ученою нотой внизу вышла такая темнота, что даже волки, привыкшие к осенним ночам, должны завыть со страха.
Крепко жму вам руку, кланяюсь вашей жене, Борисову и всем хорошим приятелям, — и говорю (человеку свойственно надеяться) до свидания!
Ваш Ив. Тургенев.
Наконец 23 ноября Тургенев приехал в Москву и слал мне следующую записку:
Я сейчас приехал сюда, любезный Афанасий Афанасьевич, — и остановился в гостинице Дрезден. Прошу вас пожаловать и, если можно, на своей лошади, ибо я попрошу вас съездить к Феоктистову (или Каткову) и Аксакову, так как я сам нездоров и никуда не выеду сегодня, а завтра надо отправиться в Петербург, чтобы там засесть по прошлогоднему недель на шесть. Кланяюсь вашим. До свидания.
Ив. Тургенев.
28 ноября он писал уже из Петербурга:
Любезнейший Аф. Аф., вчера происходило чтение вашего перевода из Гафиза — перед Дружининым и Анненковым. Вот результат этого чтения. 35 стихотворений разделяются на три разряда: первый — безукоризненные, второй — стихотворения, в которых потребны поправки, третий — стихотворения отвергаемые. (Замечу кстати, что выбор, сделанный вами, не совсем удовлетворителен: вы, налегая на эротические стихотворения, пропустили много хороших) {Здесь следуют подробные указания.}.
Публика не знает Гафиза, которого надобно ей представить так, чтоб он ее завоевал, чтоб она его учуяла. Впоследствии менее значительные стихотворения, по крайней ливре, некоторые из них, могут быть напечатаны в виде дополнения.
Я все еще сижу у себя в комнате и не выхожу. Кашель меня все еще долбит и грудь не в порядке. Мне переслали ваше письмо из деревни. — Фет! помилосердуйте! Где было ваше чутье, ваше понимание поэзии, когда вы не признали в Грозе (Островский читал ее вчера у меня) удивительнейшее, великолепнейшее произведение русского, могучего, вполне овладевшего собою таланта? Где вы нашли тут мелодраму, французские замашки, неестественность? Я решительно ничего не понимаю, и в первый раз гляжу на вас (в этою рода вопросе) с недоумением. Аллах! какое затмение нашло на вас?
Пишите мне на Большую Конюшенную, в дом Вебера. Поклонитесь всем вашим. Крепко жму вашу руку.
Преданный вам Ив. Тургенев.
Маленького Петю Борисова отвели от груди и крестьянку кормилицу отправили в деревню, а к нему наняли пожилую немку, которая, не разбирая никаких обстоятельств или занятий, приставала с ребенком ко всем, а оставаясь с ним одна в зале, брала его тотчас под мышки и, тыча едва еще умевшими стоять ножонками в пол для мнимой пляски, постоянно припевала:
Казашек мой, казашек, Коротеньки ножки мой, Красненьки сапожки мои.Неудивительно, что, в крайне сомнительном положении относительно будущности, Борисов иногда ронял слова вроде: «Я и сам не знаю, где мне придется жить». Такие слова, с одной стороны, а убеждение в невозможности находить материальную опору в литературной деятельности, с другой — привели меня к мысли искать какого-либо собственного уголка на лето.
Тогда подмосковные имения были баснословно дешевы, и я едва не купил небольшое имение под Серпуховым.
Боткин писал из Парижа 3 декабря 1859:
Я так давно не писал к вам, милые друзья, что даже совестно перед самим собою, не только перед вами. О вас я знаю только то, что вы приехали в Москву и что с сестрой твоею случилось несчастье, которое, я надеюсь, не может быть продолжительным. Последующих сведений о ходе ее болезни я не имею и ради вашего спокойствия от всей души желаю, чтобы все снова пришло в порядок. Что сказать вам о себе? В душе моей тихо и душно, как перед грозой, но грозы ни откуда не предвидится, а потому вернее будет сравнить ее со стоячим болотом. Я все хотел ехать в Россию, но простудился, и недели две прошли в хвораньи, а потом наступили холода, которые убили охоту пускаться в дальнюю дорогу. Таким образом вот уже более месяца живу в Париже, не имев намерения остаться здесь более двух недель.
Несколько дней назад слышал Орфея, оперу Глюка, которая доставила одно из высочайших удовольствий, какие я имел только в жизни моей. Madame Виардо в Орфея превосходно играет, но поет плохо по неимению голоса, хотя и отлично сохраняет стиль Глюка. Вот как мы измельчали, что даже понять и передать величавый стиль композитора XVIII столетия считается теперь достоинством.
У меня есть до тебя просьба, которую, сделай милость, исполни: я послал недели две назад статью к Павлу Михайловичу Леонтьеву — для Русского Вестника. Эта статья носит название: «Две недели в Лондоне». Узнай, расположены ли они напечатать ее в Русском Вестнике. Если нет, то возьми ее у них и немедленно перешли Дружинину. Если же Русский Вестник напечатает ее, то попроси прислать мне оттиск ее sous-bande. Это очень дешево стоит, и лучше всего возьми у них оттиск и пришли его сам на имя Homberg с передачей мне. В рукописи моей я забыл выставить мое имя, пусть его выставят. Да напиши мне что-нибудь о литературных новостях. Оттиск пришли мне не франкируя его, а только обернув его узенькою бумагой и напиши адрес. Что наши приятели? Что Дружинин? Тургенев, кажется, занят своею новою повестью.
От всего сердца целую милую Машу. Дай вам Бог здоровья.
Ваш В. Боткин.
Тургенев писал из Петербурга 15 Февраля 1860:
Милый Аф. Аф., переписываться с вами для меня потребность, и на меня находит грусть, если я долго не вижу ваш связно-красивый, поэтическо-безалаберный и кидающийся из пятого этажа почерк. Что вы поделываете? Моя связка сказывается двумя словами: час спустя после того как я приехал в Петербург, у меня открылось кровохаркание, которое меня несколько сконфузило: доктор Здекауер объявил мне, что у меня какая-то хроническая гадость в горле, что мне надо сидеть дома и пить рыбий жир, что я и делаю. Впрочем я не удержался и выехал раз, а именно на бал к Вел. Княгине Елене Павловне, где я увидел много милых женщин, и где все было весьма великолепно и изящно. Приятелей здешних я видел всех, начиная, разумеется, с Анненкова: все здоровы и благополучны. Гончарова я однако же не видал. Случевский написал еще три стихотворения, которые будут напечатаны в Современнике и из которых одно великолепно, два другие стихотворения, им неоконченные, замечательны: этот малый растете быстро; кажется, из него выйдет путь. Что касается до моей повести, то я еще не видывал примера такого полного «фиаско», все ею недовольны, за исключением цинического Некрасова: это ручательство слабое. Что ж! надобно и это испытать в жизни: все надобно испытать. Третье чтение образуется: оно будет происходить ровно через неделю — с Островским, Писемским, Майковым и Полонским или Некрасовым.
Напишите, что вы поделываете хорошего. Я часто вспоминаю о любезной Сердобинке {Фамилия хозяйки дома, где мы жили.}. Кланяйтесь всем: жене вашей, Борисову, Николаю Толстому, Маслову, Ольге N. Меня грызет мысль, что она могла меня счесть за невежу. Что поделывает Сноб и юный Гидрокефал? {Петя Борисов, с большой головой.} Не разрешилась ли чем-нибудь ваша Муза? Из Гафиза выкинули едва ли не лучшие стихотворения, это очень жаль. Цензурные здесь дела нехороши: ветер опять задул с севера. — Будьте здоровы, — это главное. Жму вам руку.
Преданный вам Ив. Тургенев.
Л. Толстой писал мне от 23 Февраля 1860:
Ваше письмо ужасно обрадовало меня, любезный друг Афанасий Афанасьевич. Нашему полку прибудет, и прибудет отличный солдат. Я уверен, что вы будете отличный хозяин. Но дело в том, что вам купить? Ферма, о которой я говорил под Мценском. далеко от меня и, сколько я помню, продавалась за 16 тысяч. Больше ничего о ней не знаю. А есть рядом со мною, межа с межой, продающееся имение в 400 дес. хорошей земли, и к несчастью еще с семидесятью душами скверных крестьян. Но это не беда, крестьяне охотно будут платить оброк, как у меня, 30 рублей с тягла; с 23 тысяч — 660 и не менее и ежели не более должно получиться при освобождении, и у вас останется 40 дес. в поле, в четырех полях не истощенной земли и лугов около 20 дес., что должно давать около 2.000 рублей дохода, итого 2.500 руб., а за имение просят 24 тысячи без вычета долга, которого должно около 5.000. Местоположение и по живописности, и по близости шоссе и Тулы очень хорошо, грунт — хороший суглинок. Имение расстроенное, т.-е. усадьба старая, разломанная, однако есть дом и сад. Все это надо сделать заново. Во всяком случае купить за 20 тысяч это имение выгодно. Для вас же выгода особенная та, что у вас есть во мне вечный надсмотрщик. Об остальном не говорю. Ежели же вам это не понравится, я вам своей земли продам десятин сто, или спросите у брата Николая, не продаст ли он Александровну. Но право, стараясь забыть совершенно личные выгоды, лучше всего вам купить Телятники (это что продается рядом со мною). Продавец — разорившийся старик, который хочет продать поскорее, чтоб избавиться от зятя, и два раза присылал ко мне. Расчет, который я сделал вначале, есть расчет того, что даст это имение, ежели положить на него тысяч пять капитала и года два труда, но в теперешнем положении все таки можно отвечать за 1.500 рублей, следовательно более семи процентов. Есть еще мой хутор в 10 верстах от меня, 120 дес., но там жить нехорошо: нет воды и леса. Отвечайте мне поскорее и подробнее, сколько денег вы намерены употребить на имение. Это главное.
Прочел я Накануне. Вот мое мнение: писать повести вообще напрасно, а еще более таким людям, которым грустно и которые не знают хорошенько, чего они хотят от жизни. Впрочем Накануне много лучше Дворянского гнезда, и есть в нем отрицательные лица превосходные: художник и отец. Другие же не только не типы, но даже замысел их, положение их не типическое, или уж они совсем пошлы. Впрочем, это всегдашняя ошибка Тургенева. Девица из рук вон плоха: Ах, как я тебя люблю… у нее ресницы были длинные. Вообще меня всегда удивляет в Тургеневе, как он со своим умом и поэтическим чутьем не умеет удержаться от банальности даже до приемов. Больше всего этой банальности в отрицательных приемах, напоминающих Гоголя. Нет человечности и участия к лицам, а представляются уроды, которых автор бранит, а не жалеет. Это как-то больно жюрирует с тоном и смыслом либерализма всего остального. Это хорошо было при царе Горохе и при Гоголе (да еще надо сказать, что ежели не жалеть своих самых ничтожных лиц, надо их уж ругать так, чтобы небу жарко было, или смеяться над ними так, чтобы животики подвело), а не так, как одержимый хандрой и диспепсией Тургенев. Вообще же сказать, никому не написать теперь такой повести, не смотря на то, что она успеха иметь не будет.
Гроза Островского есть по моему плачевное сочинение, а будет иметь успех. Не Островский и не Тургенев виноваты, а время; теперь долго не родится тот человек который бы сделал в поэтическом мире то, что сделал Булгарин. А любителям антиков, к которым и я принадлежу, никто не мешает читать серьезно стихи и повести и серьезно толковать о них. Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немножко тому, что мы знаем. Прощайте, любезный друг. Миллион просьб. Забыл я, как зовут немецкого libraire на Кузнецком Мосту, налево (отправляясь снизу) наверху. Он мне посылает книги; зайдите к нему и спросите: 1) что я ему должен? 2) отчего он давно не посылает мне ничего нового? — и выберите у него и пришлите мне, посоветовавшись с Пикулиным, что есть хорошего из лечебников людских для невежд и еще лечебников ветеринарных (до 10 руб.). Спросите у брата Сергея, заказал ли он мне плуги? Ежели нет, то зайдите к машинисту Вильсону и спросите, есть ли или когда могут быть готовы шесть плугов Старбука? Спросите в магазин семенном Мейера на Лубянке, почем семена клевера и тимофеевской травы? Я хочу продать.
Что стоит коновальский лучший инструмент? Что стоит пара ланцетов людских и банки? — Кое-что из этого может возьмет на себя труд сделать милейший Иван Петрович, которого обнимаю. Марье Петровне целую руку. Тетушка благодарит за память и кланяется.
Л. Толстой.
Боткин писал из Парижа 6 марта 1860 года:
Я перед вами в большом долгу, любезные друзья: вот уже второе письмо от тебя, дорогой Фет, а я еще не отвечал на предыдущее. Причина та, что я все поджидал оттисков и думал написать тебе по прочтении повести Тургенева. Но оттисков все еще нет, и я не хочу уже более откладывать. Прежде всего хочу похвалить тебя за твою мысль купить земли у Тургенева и выстроить себе Эрмитаж. Мысль во всех отношениях отличная, только не забудь, что Эрмитаж без реки никуда не годится, а сколько мне помнится, у Тургенева реки нигде нет. Это непременно прими к соображению. Ты не можешь себе представить, с каким нетерпением я жду прочесть его Накануне. Третьего дня получены здесь NoNo январские петербургских журналов; я успел пробежать только статью Дружинина о Белинском и «Воспоминания» о нем Панаева в Современнике. Статья Дружинина вообще очень слаба, что касается до «Воспоминаний» Панаева, состоящих большею частью из писем Белинского, то они произвели на меня такое впечатление, что я целый вечер проходил словно во сне, забыл идти на один званый вечер и до первого часа ночи бродил по Парижу, совершенно погруженный в прошлое. Ты меня как-то упрекал за то, что я не скучаю, но я часто вспоминаю это «прошлое», и моя ли в том вина, что в этом «прошлом» и заключено все мое лучшее? Моя ли в этом вина, что смерть отрывает от сердца лучших людей и лучшие чувства? Нет, я не скучаю, но одинокая жизнь иногда страшно тяготит меня. Сделаться эгоистическим, эпикурейским старцем, — увы! — я не могу. К сожалению, в этом снаружи высохшем сердце сохранились все прежние юношеские стремления, с тою только разницей, что под старость человек менее способен жить в «общем» в отвлеченном. Но всему этому теперь уж не поможешь. Московские господа, кажется, смотрят на литературный фонд с озлоблением. Это мне понятно. Московские господа всегда смотрели на литературу свысока и с пренебрежением. Это старинное важничанье науки перед искусством: они все находят, что литература не довольно преклоняется перед ними. А потом кто виноват, что наши московские господа распались на маленькие кружки и за деревьями не хотят видеть леса?
Как бы мне прочесть твои переводы из Гафиза? Здесь Русское Слово точно миф; его здесь никто не получает. Из письма Тургенева я с радостно узнал, что Лев Толстой опять принялся за свой кавказский роман. Как бы он ни дурил, а я все скажу, что этот человек с великим талантом, и для меня всякая дурь его имеет больше достоинства, чем благоразумнейшие поступки других. Кажется, журнал Павловн далеко не оправдал ожиданий. Есть ли какая перемена от новой цензуры? Напиши мне об этом хоть несколько слов. Где неистовый Григорьев? Неужели и ум, и положительный талант ничего не значат при отсутствии характерен твердой воли? Мое лечение авось кончится в конце марта, а в конце апреля, кажется, Тургенев будет здесь. Что говорят о направлении Панина относительно крестьянского вопроса? Здесь иные понурили голову от этого, другие подняли ее. Я думаю, что прежнее направление редакционной конторы значительно ослабится.
Обнимаю вас от всей души.
Весь ваш В. Боткин.
Тургенев писал из Петербурга 22 февраля 1860:
Милейшие господа, Фет и Борисов! Ваше письмо меня очень обрадовало, и я немедленно отвечаю. Что касается до моего здоровья, то я начал понемножку…
…Выезжать (это письмо я продолжаю неделю спустя — 29 Февраля). Действительно, я стал много выезжать по милости респиратора, сиречь намордника, который я ношу на рту. Я сделал много новых интересных знакомств, о которых я поговорю с вами под тенью (не очень густой — дело будете в апреле месяце) Спасского сада и т. д. Кстати, мне ужасно досадно, что граф Николай Толстой был у меня два раза в течении одного дня, не застал меня и, не оставив своего адреса, исчез и уже более не показывался. Скажите ему, что приятели так не делают, и что я очень об этом сожалею.
Теперь надо сказать несколько слов о Кальне. Дядя пишет мне, что он сообщил вам опись этого имения в подробности. Цена, им назначенная, мне кажется велика, и мы об этом переговорим. Общий залог Кальны с другими деревнями не может сделать затруднения, — был бы капитал. Мы также переговорим о том, не продать ли нам одну господскую землю (с мельницей и т. д.), если это возможно, для того чтобы не затруднять вас отношениями с крестьянами, посаженными на оброк. Посмотрите сами, понравится ли вам место и т. д. Съездите вместе и т. д. Доктор меня в мае посылает заграницу, но я хочу весну встретить и провести месяц в деревне.
Переводы ваши из Гафиза на сей раз очень хороши. Здесь чтения продолжают иметь успех. Гончаров на днях прочел мне и Анненкову удивительный отрывок вроде «Сна Обломова». (Его Беловодов мне не нравится). Моею повестью и здесь недовольны; но о ней много спорят и кричат, если бы совсем молчали, было бы плохо. Есть и энтузиасты, но весьма мало. Суета суетствий!
А Лев Толстой продолжает чудить. Видно так уже написано ему на роду. Когда он перекувыркнется в последний раз и станет на ноги?
Обнимаю вас обоих и кланяюсь Марье Петровне и всем приятелям. Пишите.
Ваш Ив. Тургенев.
От 13 марта 1860 он писал:
Я в долгу перед вами, Fettie carissime, но отчасти извиняюсь тем, что употребил истекшую неделю на окончание повести, которая уже сдана в Библиотеку для Чтения и явится в мартовском номере. (Кстати, все слухи о несостоятельности Библиотеки для Чтения оказываются ложными, и книжная лавка Печаткина заперта только по воскресеньям). Повесть моя называется Первая любовь. Сюжет ее вам, кажется, известен. Читал я ее на днях ареопагу, состоявшему из Островского, Писемского, Анненкова, Дружинина и Майкова; приглашенный Гончаров пришел пять минут по окончании чтения. Ареопаг остался доволен и сделал только несколько неважных замечаний, остается узнать, что скажет публика, которую вы так не любите. Единственный человек, которого я совершенно отказываюсь удовлетворить когда-нибудь — Лев Толстой. Но что делать! Видно так у меня на роду написано. Здесь распространились слухи, что он снова принялся работать, и мы все порадовались.
Ну, любезнейшие друзья мои, Аф. Аф. и И. П., увидите вы меня скоро, но не в натуре, а в фотографии, которую я нарочно для вас заказал. Что касается до моей персоны, то я, к истинному моему горю, не поеду в деревню, а отправляюсь весной за границу лечиться. Что там ни говори о моей мнительности, а я очень хорошо чувствую, что в горле и груди неладно; кашель не проходит, кровь показывается раза два в неделю, я без намордника (сиречь респиратора) носа не могу показать на двор. Где уж тут о весенней охоте и пр. и пр. Надобно воды пить, да ванны брать, да радеть о своем гнусном теле! Это меня огорчает, и я приемлю смелость думать, что и вас обоих огорчит тоже. Что делать! «Скачи краже, як пан каже». На охоте вспоминайте обо мне… А кажется, по известиям из деревни, Бубулька едва ли не приказала долго жить… Нездоровье вашей собаки нехорошо, любезный Аф. Аф. Надо ее вылечить; боюсь я немножко, как бы она не оказалась слабою в поиске. А как бы мы поохотились! Ах, лучше не говорить об этом!
Но вы не покидайте мысли о Кальне; переговорите на месте и толковым образом с дядей; я готов на все, чтоб иметь вас соседом.
Не сердитесь на меня, а рассудите: мне самому невесело. От души обнимаю вас всех и остаюсь навсегда
преданный вам Ив. Тургенев.
В. П. Боткин писал из Парижа 20 марта 1860:
Милые друзья, Фет и Маша! Наконец, и только дней пять тому назад получил я твою посылку, и не знаю, как просить у тебя прощения за хлопоты, какие причинила тебе эта посылка. Наш московский почтамт, должно быть, набит дураками, которые не разумеют своего дела, потому что я прошлого года посылал в Париж Дворянское гнездо без малейших затруднений, просто «sous bande», т. е. обернув ее узенькою бумажкой и написав на ней адрес. Точно так и тебя просил я переслать мне Накануне, но, к сожалению, ты не обратил внимания на мое слово «sous bande» и вместо этого отправил в виде посылки. Почему же петербургский почтамт принимает, а московский нет? Экая чепуха!!!
Не смотря на все недоразумения, Накануне, я прочел с наслаждением. Я не знаю, есть ли в какой повести Тургенева столько поэтических подробностей, сколько их рассыпано в этой. Словно он сам чувствовал небрежность основных линий здания и чтобы скрыть эту небрежность, а может быть и неопределенность фунтаментальных линий, он обогатил их превосходнейшими деталями, как иногда делали строители готических церквей. Для меня эти поэтические, истинно художественные подробности заставляют забывать о неясности целого. Какие озаряющие предметы эпитеты, да, солнечные эпитеты, неожиданные, вдруг раскрывающие внутренние перспективы предметов. Правда, что несчастный Болгар решительно не удался; всепоглощающая любовь его к родине так слабо очерчена, что не возбуждает ни малейшего участия, а вследствие этого и любовь к нему Елены более удивляет, нежели трогает. Успеха в публике эта повесть иметь не может, ибо публика вообще читает по утиному и любит глотать целиком. Но я думаю, едва ли найдется хоть один человек с поэтическим чувством, который не простит повести все ее математические недостатки за те сладкие ощущения, которые пробудят в душе его ее нежные, тонкие и грациозные детали. Да, я заранее согласен со всем, что можно сказать о недостатках этой повести, и все-таки я считаю ее прелестною. Правда, что она не тронет, не заставит задуматься, но она повеет ароматом лучших цветов жизни.
Что касается до Грозы Островского, то я «au bout de mon latin». Это лучшее произведение его, и никогда он еще не достигал до такой силы поэтического впечатления. Катерина останется типом. И какая обстановка! — эта фантастическая барыня, эта полуразвалившаяся и заброшенная церковь, эта идиллия, озаренная зловещим предчувствием неминуемого и страшного горя, — все это превосходно, широко, сильно и мягко. Я послал Островскому письмо на имя Дружиннна, полагая, что теперь Островский в Петербурге.
Я еще в прошлом письме писал тебе, что я совершенно одобряю твое намерение купить деревню, если только при ней будет вода (только бы не пруд). И тысячу раз ты прав, говоря, что ничего нет хуже в жизни, особенно в семейной, — неопределенного висение между небом и землей. Сто верст по шоссе — приятнейшая поездка. Только повторяю, чтобы была какая-нибудь речка. Да я думаю, что ты и заниматься хозяйством способен. Кстати, что хозяйство Л. Толстого, которое он устраивал и о котором так много говорил? Лечение мое приближается к концу, и авось в апреле доктора отпустят меня, но я так залечился, что в себя еще придти не могу и даже не поверю собственной свободе.
Пожалуйста передайте Толстому, что я ношу его в сердце.
Ваш В. Боткин.
Л. Толстой писал от 27 марта 1860:
Как вы обрадовали меня вашими планами, любезный дяденька, не могу вам сказать. Но обрадовали не одного меня, но и всех наших, начиная от тетушки и даже до пьяного монаха. Трепещу только из-за одного: чтоб из-за какого-нибудь вздора это не разрушилось. Вещественные условия возможности вашего пребывания в Ясной — все, мне кажется, есть. Желание мое, чтоб оно было, так сильно, что я бы сделал эти условия, ежели бы их не было, пробил бы еще три стены и сам бы жил на трубе;- стало быть, это должно быть. Разумеется, тут пропасть маленьких условий, которые нужно определить. В каком доме и в каких комнатах лучше захочет жить Марья Петровна, куда будет входить и выходить Марьюшка и т. д. Да еще, куда поставить лошадей: в особую ли конюшню, на двор ли к мужику за три версты, или к брату в Пирогово? Короста еще есть, и хотя я своих чистых лошадей ставлю в Ясной, ваших лошадей надо будет устроить иначе. Но вообще обо всем надо переговорить. Приезжайте непременно, когда поедете в Серпухов. Как мы будем гулять с Марьей Петровной! она останется довольна садом. Как и о каких славных делах, как-то: педагогии, хозяйстве и пускай хоть и поэзии — мы будем беседовать с вами и Фирдуси. Но ничего, ничего, молчание… Жду вас и вашего ответа. Целую руку Марьи Петровны, и прошу ее в случае затруднений разрешить их на манер Гордиевых узлов, по-женски. В Москву теперь я, должно быть, не приеду. До свидания!
Л. Толстой.
На этот раз в отсутствие Нади мы не слишком торопились отъездом в Новоселки[210]. Ввиду возможности переезда по летнему пути, я еще с осени купил старинный четвероместный дормез, каких при железных дорогах и менее выносливых лошадях теперь уже не делают, — с раскидными постелями, с большим зеркалом, выдвигавшимся на место передних стекол, со всевозможными туалетными приспособлениями и ревербером для ночного чтения. К счастию нашему, нам приходилось ехать по Тульско-Орловско-Харьковскому шоссе, и доведенные до изнеможения почтовые были не в состоянии везти четверкой громоздкую, но легкую на ходу карету без затруднения. Конечно, мы не отказали себе в удовольствии заехать на два дня в Ясную Поляну, где к довершению радости застали дорогого Н. Н. Толстого, заслужившего самобытною восточною мудростью прозвание — Фирдуси. Сколько самых отрадных планов нашего пребывания в яснополянском флигеле со всеми подробностями возникали между нами в эти два дня. Никому из нас не приходила в голову полная несостоятельность этих планов.
Так как в карете у нас было четвертое место, а граф Николай Николаевич сбирался в наше ближайшее соседство, — свое Никольское, — то мы весело решили доехать вместе до Новоселок. При видимом упадке сил и удушливом кашле, милый Николай Николаевич сохранил свой добродушный юмор, и его общество помогало нам забывать скуку переезда.
В Новоселках, за исключением отсутствия хозяйки, ничто не изменилось; но это отсутствие тяготело на всех гораздо более, чем если бы причинялось смертью. Как правы утверждающие, что люди руководствуются волей, а не разумом. О любом больном, даже об усопшем, не стесняясь говорят близким людям и даже детям, но о душевнобольном упорно молчат. Это-то невольное молчание так тяготит всех близких. По крайней мере, я лично все более проникался сознанием шаткости нашего пребывания в Новоселках, и мысль — отыскать несомненное местопребывание, — возникшая во мне с первою болезнью сестры, стала настоятельно требовать неотложного осуществления.
Если в трудовой и озабоченной жизни мне и представлялись удачи, то они вполне заслуживали этого имени, и если, бросаясь во все стороны, я не попадал впросак и не погибал окончательно, то это было делом судьбы, но никак не моей предусмотрительности.
Под влиянием городской и материальной тесноты всякий мало-мальски чистенький уголок казался мне раем; и в продолжение последних трех месяцев присмотрев небольшое серпуховское именьице, я платил жалованье будущему в нем приказчику. Конечно, надо благодарить судьбу, что покупка эта, подобно многим другим, не состоялась; в том числе и покупка отдельной дачи при Тургеневском Спасском, носящей имя Кальна.
Однажды приехавший в нам в половине мая Ник. Ник. Толстой объявил, что сестра его графиня М. Н. Толстая вместе с братьями убедили его ехать заграницу от несносных приливов кашля. Исхудал он, бедный, к этому времени очень, не взирая на обычную свою худобу; и по временам сквозь добродушный смех прерывалась свойственная чахоточным раздражительность. Помню, как он рассердился, отдернув руку от руки приехавшего за ним его кучера, ловившего ее для лобзания. Правда, он и тут ничего не сказал в лицо своему крепостному; но когда тот ушел к лошадям, он с раздражением в голосе стал жаловаться мне и Борисову: «с чего вдруг этот скот выдумал целовать руку? от роду этого не было».
Тургенев писал из Берлина от 30 апреля 1860:
Сегодня утром прибыл я сюда, любезнейший Фет, и сегодня же выезжаю отсюда в Париж, но хочу воспользоваться бездействием сидения в комнате отеля и написать вам слова два. Сказать вам, что мы претерпели на дороге в России — невозможно; а между тем шоссе было в отличном состоянии! Когда придет, наконец, то время, что… но я не хочу продолжать. До сих пор Русский действительно с утешением видит границу своего отечества… когда выезжает из него. Особенно памятна осталась мне восьмичасовая переправа через Двину под Динабургом, где наш паром понесло вниз по реке и прибило, наконец, назад к берегу, оттого что «старому карлику-жиду, которому поручено было держать руль, прохожая богомолка старуха не вовремя подперла спину». (Historique). — А начальника над переправой не было, потому что он «накануне сопровождал Горчакова». (Тоже Historique). А что нам давали есть! Поверите ли, на одном куске холодной и гнидой говядины увидал я кусок свечного сала, перевитый волосами! Бррр!.. даже вспомнить гадко.
Я теперь еду в Париж, но дней через десять буду в Содене, местечке между Франкфуртом и Висбаденом, где, по совету Здекауера, буду пить воды. Так как это в двух шагах от Дармштадта, и вы мне очень хвалили здешних собак, то пришлите мне письмо к тамошнему вашему знакомому обер-ферстеру, — рекомендуйте меня. Я вам очень буду благодарен. Я был очень занят в последние дни моего пребывания в Петербурге. Я оставил Писемского опасно больным и сильно беспокоюсь о нем. Напишите мне непременно, как вы живете-можете, и что делает серпуховская покупка? Я узнал, что графиня М. Н. Толстая с братом едет заграницу; известите пожалуйста, куда именно. Поклонитесь от меня вашей жене и милейшему Борисову, которого от души благодарю за его последнее любезное письмо. Пишите мне во Франкфурт, poste restatne. Это вернее всего и не франкируете писем, как и я этого не Франкирую. Впрочем я, не дожидаясь вашего письма, напишу вам из Парижа, расскажу, как и что я нашел. От дороги грудь моя опять расстроилась, и я кашляю мучительно. Но я надеюсь, что я теперь отдохну хорошенько, и все это пройдет.
Увидите дядю, дайте ему знать обо мне: я ему напишу из Парижа. Да присылайте мне, что будет вам напевать ваша Муза. Крепко жму вам руку и остаюсь
преданный вам Ив. Тургенев.
Из Содена он писал от 1 июня того же года:
Милейший Фет, спешу извиниться перед вами, хотя я, как говорится, без вины виноват. Письмо ваше находилось на почте, но господа чиновники прочли: Фургенев, если б я, соображая в одно и то же время и вашу аккуратность, и связный почерк, — не полюбопытствовал и буквы Ф, пропало бы ваше письмо! Но теперь я получил, извиняюсь и благодарю. Благодарю за память и за письмецо к Herr Baur'у, которым непременно воспользуюсь. Сообщаемые вами известия меня очень интересовали. Но то, что вы мне сообщили о болезни Николая Толстого, глубоко меня огорчило. Неужели этот драгоценный, милый человек должен погибнуть? И как можно было запустить так болезнь! Неужели он не решился победить свою лень и поехать за границу полечиться! Ездил он на Кавказ в тарантасах и черт знает в чем! Что бы ему приехать в Соден! Здесь на каждом шагу встречаешь больных грудью: Соденские воды едва ли не лучшие для таких болезней. Я вам все это говорю за две тысячи верст, как будто слова мои могут что-нибудь помочь… Если Толстой уже не уехал, то он не уедет. Вот как нас всех ломает судьба; поневоле повторишь слова Гетё в Эгмонте:
«Und von unsicht baren Geistern gepeitscht gehen die
Sonnenpferde der Zeit mit unseres Schicksals leichtem
Wagen durch, und uns bleibt nichts als muthig,
die Zuegel fest zu halten und bald rechts, bald links,
vom Steine hier, vom Sturze da, die Reder absulenken.
Wohin es geht, wer weiss es?»
Und wenn es zum Tode gehen soll — прибавлю я; тут ничем не поможешь и ничем не удержишь бешеных коней.
Нет, я думаю вообще, что ваше воззрение на моего брата справедливо. Однако вы не могли оценить одну его сторону, которую он выказывает только между своими, и то когда он ничем не стеснен, — а именно юмор. Да, этот русский француз большой юморист, — верьте моему слову, — я от него хохотал (и не я один) до велики в боку. Но ум у него весьма обыкновенный. Это между нами, как само собою разумеется. Мне приятно, что Первая любовь нравится Толстым: это ручательство. Приделал же я старушку на конце, во-первых, потому что это действительно так было, а во-вторых, потому что без этого отрезвляющего конца крики на безнравственность были бы еще сильнее.
Милому Ивану Петровичу пожмите крепко руку за его любезные строки. Я часто переношусь мыслью в ваши вран и воображаю себя сидящим на широком балконе Новосельского дома. Это хорошо, что вы поступили в благородный цех шахматистов, лучшего учителя, чем Иван Петрович, вам не нажить. Я переехал из Hôtel de l'Europe, где меня обирали как липку, и поселился в маленьком домике, стоящем лицом к широкому пестро — зеленому полю, — у одной немки, добродушной до невероятности. Пишите мне просто в Соден, возле Франкфурта-на-Майне, На почте меня знают. Обнимаю вас и Борисова и кланяюсь всем.
Преданный вам Ив. Турргенев.
P. S. Если Николай Толстой не уехал, бросьтесь ему в ноги, а потом гоните его в шею заграницу. Здесь, например, такой мягкий воздух, какого в России никогда и нигде не бывает.
Вероятно, в ответ на какой-либо восторженный отзыв мой о его таланте, Л. Толстой писал от 20 июня 1860:
Не только не обрадовался и не возгордился вашим письмом, любезный друг Аф. Аф., но ежели бы поверил ему совсем, то очень бы огорчился. Это без фразы. Писатель вы, писатель и есть, и дай Бог вам и нам. Но что вы сверх того хотите найти место и на нем копаться, как муравей, эта мысль не только должна была придти вам, но вы и должны осуществить ее лучше, чем я. Должны вы это сделать потому, что вы и хороший, и здраво смотрящий на жизнь человек. Впрочем, не мне и теперь докторальным тоном одобрять или не одобрять вас: я в большом разладе сам с собою. Хозяйство в том размере, в каком оно ведется у меня, давит меня; юфанство где-то вдали виднеется только мне; семейные дела, болезнь Николиньки, от которого из заграницы нет еще известий, и отъезд сестры (она уезжает от меня через три дня) — с другой стороны давят и требуют меня. Холостая жизнь, т. е. отсутствие жены, и мысль, что уж становится поздно, — с третьей стороны мучает. Вообще все мне нескладно теперь. По причине беспомощности сестры и желания видеть Николая, я завтра на всякий случай беру паспорт за границу и, может быть, поеду с ними; особенно ежели не получу, или получу дурные вести от Николая. Как бы я дорого дал, чтобы видеть вас перед отъездом, сколько бы хотелось вам сказать и от вас узнать, но теперь это едва ли возможно. Однако, ежели бы письмо это пришло рано, то знайте, что мы поедем из Ясной в четверг, а скорее в пятницу. — Теперь о хозяйстве: цена которую с вас просят, недорога, и ежели место вам по душе. то надо купить. Одно, зачем так много земли? Я трехлетним опытом дошел, что со всевозможною деятельностью невозможно вести хлебопашество успешно и приятно более чем на 60-ти, 70-ти десятинах, т. е. десятинах по 10-ти, 15-ти в поле (в 4-х). Только при этих условиях можно не дрожать за всякий огрех, потому что вспашешь не два, а три и четыре раза, за всякий пропущенный работником час, за лишний рубль в месяц работнику, потому что можно довести 15 десятин до того, чтоб они давали, 30, 40% с капитала основного и оборотного, а 80, 100 десятин — нельзя. Пожалуйста не пропустите этого совета мимо ушей, это не так себе болтовня, а вывод, до которого я дошел «боками». Кто вам скажет противное, тот или лжет, или не знает. Мало того, и с 15-ю десятинами нужна деятельность, поглощающая всего. Но тогда может быть награда, одна из самых приятных в жизни, а с 90 десятинами есть труд почтовой лошади, и не может быть успеха. Не нахожу слов обругать себя, что я раньше не написал вам, тогда бы вы верно приехали. Теперь прощайте. Душевный поклон Марье Петровне и Борисову.
Л. Толстой.
От 28 июня 1860 он писал из Москвы:
Любезный друг Аф. Аф., я позволил себе без вашего позволения попросить от вашего имени хозяйку г-жу Сердобинскую поместить наши две кареты до зимы, или до того времени, когда будет случай. Я, кажется, поеду с сестрой заграницу. От братьев со времени отъезда нет писем. Обнимаю вас и Ивана Петровича, кланяюсь Марье Петровне. Я напишу вам из заграницы, и вы пишите, — ежели скоро, то в Соден. Ежели будете писать Сердобинской, то подтвердите ей о каретах.
Л. Толстой.
Почти в это же время граф Н. Н. Толстой прислал письмо из Петербурга:
Любезные друзья, Афанасий Афанасьевич и Иван Петрович, исполняю обещание мое даже раньше, чем обещал, я хотел писать из заграницы, а пишу из Петербурга. Мы уезжаем в субботу, т. е. завтра. Я советовался с Здекауером, он петербургский доктор, а вовсе не берлинский, как мне показалось, читая письмо Тургенева. Воды, на которых Тургенев теперь находится, Соден, — нас туда же посылают. Следовательно, мой адрес тоже во Франк Фурте-на-Майне, poste restatnte.
Когда вы были у меня, я вас, Афан. Афан., забыл просить об одном, очень важном одолжении. Я приказал моему старику приказчику, если будет очень нужно меня о чем-нибудь уведомить, — посылать свои письма к вам, а вы будете так добры пересылать их мне, и для этого, когда будете уезжать из Новоселок, дайте ему ваш адрес. Что здоровье Марьи Петровны, которой я от души свидетельствую мое истинное почтение. Неужели у вас тоже такие холода? — здесь в Петербурге страсть! холод, ветер, по утрам мороз, просто черт знает что! Прощайте, милые друзья, будьте здоровы.
Весь ваш гр. Ник. Толстом.
Вслед за этим получил я от него второе письмо уже из Содена:
Не дождавшись от вас послания, пишу к вам, чтобы вас уведомить, что я благополучно приехал в Соден; впрочем при моем приезде из пушек не стреляли. В Содене мы застали Тургенева, который жив, здоров, и здоров так, что сам признается, что он совершенно здоров. Нашел какую-то немочку и восхищается ею. Мы (это относится к милейшему Ивану Петровичу) поигрываем в шахматы, но как-то нейдет: он думает о своей немочке, а я о своем выздоровлении. Если я нынешнею осенью пожертвовал, то к будущей осени я должен быть молодцом. Соден прекрасное место, нет еще недели, как я приехал, а чувствую себя уже очень и очень лучше. Живем мы с братом, на квартире, три комнаты, двадцать гульденов в неделю, table d'hôte — гульден, вино запрещено, поэтому вы можете видеть, какое скромное место Соден, а мне он нравится. Против окон моих стоит очень неказистое дерево, но на нем живет птичка и поет себе каждый вечер; она мне напоминает Флигель в Новоселках. Засвидетельствуйте мое почтение Марье Петровне и будьте здоровы, друзья мои, да пишите почаще. Я в Содене, кажется, надолго, недель на шесть по крайней мере. Путешествия не описывал, потому что все время был болен. Еще раз прощайте.
Весь ваш гр. Ник. Толстой.
19 июля того же года он писал:
Я бы давно написал вам, любезные друзья мои, но мне хотелось написать вам обо всех, составляющих нашу Толстовскую колонию, но тут произошла ужасная путаница, которая наконец распуталась следующим образом: сестра с детьми приехала в Соден и будет в нем жить и лечиться, дядя Леушка остался в Киссингене в пяти часах от Содена, и не едет в Соден, так что я его не видал. Письмо ваше я отправил к Девочке с братом Сергеем, который будет в Киссингене проездом в Россию. Он скоро у вас будет и все вам подробно расскажет. Извините, добрейший Афан. Афан., что я прочитал ваше письмо к брату, много в нем правды, но только где вы говорите об общем; а где вы говорите о самом себе, там вы не правы, все тот же недостаток практичности: себя и кругом себя ничего не знаешь. Но ведь не боги горшки обжигали; бросьтесь в практичность, окунитесь в нее с головой, и я уверен, что она вытеснит из вас байбака, да еще выжмет из вас какую-нибудь лирическую штучку, которую мы с Тургеневым, да еще несколько человек прочтем с удовольствием. А на остальной мир — плевать! За что я вас люблю, любезнейший Афан. Афан.,- за то, что все в вас правда, все что из вас, то в вас, нету Фразы, как, например, в милейшем и пр. Иване Сергеевиче. А очень стало мне без него пусто в Содене, не говоря уже о том, что шахматный клуб расстроился. Даже аппетит у меня стал не тот, с тех пор, как не сидит подле меня его толстая и здоровая Фигура и не требует придачи то моркови в говядине, то говядины в моркови. Мы часто о вас говорили с ним, особенно последнее время: «вот Фет собирается, вот Фет едет, наконец Фет стреляет». Иван Сергеевич купил собаку, — черный полукровный понтер. Я воды кончил; намерен делать разные экскурсии, но все-таки моя штаб-квартира в Содене и адрес тот же. Сестра кланяется, как вам, так и Ивану Петровичу и просит уверить Марью Петровну в искренней ее к ней дружбе и уважении. Я с своей стороны прошу Марью Петровну не забывать меня, который никогда не забудет ее милое гостеприимство в Козюлькине и Сердобинке. Как бы поскорее туда под ваше крылышко! Погода здесь отвратительная. Целую вас от души.
Весь ваш гр. Ник. Толстой.
Между тем, единовременно, хотя совершенно в другом тоне, писал мне Дружинин от 26 июня 1860:
Добрый и многоуважаемый Афан. Афан., уведомляйте контору о перемене адреса просто от себя, как подписчик; высылка будет производиться исправнее, ибо для этих дел ведется там особливая книга.
Насчет вашего намерения не писать и не печатать более, скажу вам то же, что Толстому: пока не напишется чего-нибудь хорошего, исполняйте ваше намерение, а когда напишется, то сами вы и без чужого побуждения измените этому намерению. Держать хорошие стихи и хорошую книгу под спудом невозможно, хотя бы вы давали тысячу клятв, а потому лучше и не собирайтесь. Эти два или три года и Толстой, и вы находитесь в непоэтическом настроении, и оба хорошо делаете, что воздерживаетесь; но чуть душа зашевелится и создастся что-нибудь хорошее, оба вы позабудете воздержание. Итак, не связывайте себя обещаниями, тем более, что их от вас обоих никто и не требует. В решимости вашей и Толстого, если я не ошибаюсь, нехорошо только то, что она создалась под влиянием какого-то раздражения на литературу и публику. Но если писателю обижаться на всякое проявление холодности или бранную статью, то некому будет и писать, разве кроме Тургенева, который как-то умеет быть всеобщим другом. К сердцу принимать литературные дрязги, по-моему, то же, что, ездя верхом, сердиться на то, что ваша лошадь невежничает в то время, когда вы, может быть, сидя на ней, находитесь в поэтическом настроении мыслей. Про себя могу связать вам, что я бывал обругиваем и оскорбляем, как лучше требовать нельзя, однако же не лишался от того и частички аппетита, а напротив, находил особенное наслаждение в том, чтобы сидеть крепко и двигаться вперед, и конечно, не брошу писать до тех пор, пока не скажу всего, что считаю нужным высказать.
Прощайте, любезнейший Афан. Афан., будьте здоровы, плюньте на хандру и не забывайте
душевно преданного вам Ал. Дружинина.
Тургенев писал из Содена от 29 июня 1860:
Сегодня Петров день, любезнейший Афан. Афан., Петров день и я не на охоте! Воображаю себе вас с Борисовым. с Афанасием, со Снобом, Весной и Донданом на охоте в Полесье… Вот поднимается черныш из куста — трах! закувыркается оземь краснобровый… или удирает вдаль к синеющему лесу, резко дробя крылами, и глядит ему вслед и стрелок, и собака… не упадет ли, не свихнется ли… Нет, чешет, разбойник, все далее и далее, закатился за лес, — прощай! А я сижу здесь в Содене, пью воду и только вздыхаю! Впрочем, я сегодня ходил по здешним полям, пробовал собаку: оказалась тяжелым пиль-авансом; завтра хотели привести другую: говорят, та гораздо лучше; — посмотрим; но сердце чует, что не заменю я ни Дианки, ни Бубульки. — Вы просто золотой человек на письма: нельзя!..
Куртавнель 9 июля.
….Письмо это оборвалось как нитка, как слишком высоко взятая нота, как некоторые из комедий Островского, но я не переставал думать о вас. Во-первых, я получил два милые письма от вас; во-вторых, я съездил в Дармштадт, познакомился с милейшим германцем Бауром, который сохраняет самое дружелюбное воспоминание о вас, и который помог мне достать хорошую собаку, за которую я и заплатил недорого, и «за все, за все тебя благодарю я». Собаку эту зовусь Фламбо, она черная как уголь, помесь английской с немецкою породой. После Петрова дня я провел еще неделю в Содене, с радостью узнал о приезде Марьи Николаевны и Льва Николаевича в Соден, но дожидаться их не мог, и вот теперь нахожусь в Куртавнеле, в той самой комнате, где мы так неистово спорили, где опять перед окном расстилается водное пространство, покрытое зеленою плесенью. Я здесь останусь дней восемь и потом отправлюсь на остров Уайт, где пробуду до конца августа. Вы однако пишите мне в Париж. Толстому Николаю не слишком помог Соден; к сожалению, он поздно спохватился, и болезнь его сделала такие шаги, что уже едва ли возможно поправить дело. Я от души полюбил его, и очень мне его жалко. Пожалуйста, напишите мне подробности о вашей охоте, о Снобе и пр. Меня это крайне интересуешь. От литературы я, слава Богу, отстал за это последнее время, это очень освежительно. Рекомендую вам однако швабского (уже старика) порта Мёрике (Möhrike), который, вероятно, вам понравится: много грации и чувства. Также прошу вас не терзаться насчет употребления вашего капитала, а скорее поздравить себя с тем, что вы до сих пор не употребили его на какую-нибудь Фантасмагорию. Придет время, найдется употребление. Ну, итак будьте здоровы, веселы, предавайтесь охоте и Музы не забывайте. Говорят, у вас погода отличная, а у нас мерзость несвязанная. Еще раз жму вам руку и прошу передать мой поклон вашей жене, Борисову и всем мценским знакомым.
Ваш Ив. Тургенев.
От 16 июля того же года он писал из Куртавнеля:
Милейший Афан. Афан., я уже писал вам отсюда, но вчера получил здесь ваше письмо, пущенное от 2 июля из Мценска (почта у нас, как капризная женщина, всегда удивляет неожиданностью) — и спешу отвечать. Я до некоторой степени даже обязан отвечать, ибо вы находитесь в хандре, по милости рефлексии, которую, по вашим словам, я на вас накликал. Вот тебе и раз! Во-первых, сколько мне помнится, вы уже до знакомства со мною были заражены этою, как вы говорите, эпидемией; а во-вторых, в наших спорах я всегда восставал против ваших прямолинейно-математических отвлеченностей и даже удивлялся тому, как они могут уживаться с вашей поэтическою натурой. Но дело не в том. Мне хочется рассеять одно ваше заблуждение. Вы называете себя отставным офицером, поэтом, человеком (да кто не отставной человек? скажу я; Sire, qui est-ce qui a des dents?) — и приписываете ваше увядание, вашу хандру отсутствию правильной деятельности… Э! душа моя! все не то… Молодость прошла, а старость не пришла, — вот отчего приходится тяжко. Я сам переживаю эту трудную сумеречную эпоху порывов тем более сильных, что они уже ничем не оправданы, эпоху повоя без отдыха, надежд, похожих на сожаления, и сожалений, похожих на надежды. Потерпим маленько, потерпим еще, милейший Аф. Аф., и мы въедем наконец в тихую пристань старости, и явится тогда и возможность старческой деятельности и даже старческих радостей, о которых так красноречиво говорит Марк Туллий Цицерон в своем трактате: «De senectute». Еще несколько седин в бороду, еще зубочек или два изо рту вон, еще маленький ревматизмец в поясницу или в ноги, и все пойдет, как по маслу! А пока, чтобы время не казалось слишком продолжительным, будемте стрелять тетеревей. Кстати о тетеревах, я надеялся, что получу от вас описание ваших первых охот в Полесье, а вы только еще собираетесь! — Это худо. Уверен, что об эту пору вы уже загладили свою вину и наохотились вдоволь. А во Франции Бог знает когда наступит время охоты! Здесь у нас стоит настоящая зима, зуб на зуб не попадет, ежедневные холода — мерзость! Никто не может сказать, когда начнется и кончится жатва. Впрочем, что за охота! Вечные куропатки и зайцы! Что же касается до времени моего возвращения на родину, то я пока ничего определительного сказать не могу. На днях разрешится вопрос: придется ли мне зиму провести в Париже, или вернусь я к вальдшнепам в Спасское. А насчет покупки земли, употребления вашего капитала и т. д. позвольте вам дать один совет: не давайте этой мысли вас грызть и тревожить, не давайте ей принять вид d'une idée fixe. «Не хлопочи» — сказал мудрец Тютчев, — «безумство ищет» и, — придет час, придет случай, и прекрасно. А метаться навстречу часа, навстречу скучая — безумство. «Tout vient à point a qui sait attendre». Именье невозможно покупать с точки зрения, что делать, мол, нечего!
Толстые, сколько я могу предполагать, все в Содене; вероятно, кто-нибудь из них написал мне в Париж. Я отсюда еду через несколько дней в Англию, на остров Уайт, на морские купанья, если только море не замерзло. Тысячу раз кланяюсь вашей жене, Борисову и вам крепко жму руку и остаюсь невинный в заражении вас рефлексией.
Ив. Тургенев.
В. Боткин писал из Лондона от 31 июля 1860 года:
Простите меня, любезный друг Фет и милая Маша, что я давно не писал к вам. Причина тому была, что я был в сквернейшем душевном состоянии, которое продолжается до сих пор. Вот уже два месяца с половиной, как я страдаю насморком. Вы, конечно, улыбнетесь этому слову «страдаю», но увы! это так. Не понимаю, как произошло, что мой насморк сделался хроническим, я потерял обоняние и вкус с самого моего приезда в Лондон, т. е. уже месяц, принялся за лечение, переменил двух докторов, не знаю, будет ли лучше с третьим, который держит мой нос над паром и проч., так что я не могу выходить. О купанье в море нечего и думать, при этом страшная тяжесть в голове, которая по вечерам обращалась во всеобщий malaise всего организма. В результате всего сплин. Но довольно о своих мизериях. Вот уже другой раз, как я пишу к тебе об одном и том же предмете, т. е. о предполагаемой тобою покупке земли. Говорю по совести и откровенно: соображения твои и твой план жизни я считаю здравым и основательным. Что касается до самой земли, ее качества, цены, тут я ничего сказать не могу, как и вообще о финансовой стороне вопроса, ибо я этого дела не разумею, и в этом ты лучший судья. Но покупку земли и занятие хозяйством я считаю самым основательным делом. Это уже и в том отношении хорошо, что даст тебе постоянное занятие. Не понимаю, почему ты, Маша, так отрицательно смотришь на это? Что так пугает тебя в этом? Даже в случае потери, тут большой потери быть не может, и я для успокоения тебя гарантирую тебе эту потерю. Да потом пора же, наконец, пожить на своей земле, в своем гнезде. Я не могу понять, в чемсостоит прелесть жизни в Москве. Но и в таком случае ты все-таки можешь зимой два месяца провести в Москве. Словом, я за житье в деревне, в своем углу, у себя дома. А выше еще этого — это деятельность, которая займет Фета и даст ему ту душевную оседлость, которую ты, Маша, не довольно ценишь в муже, ибо литература теперь для него не представляет того, что представляла прежде, при ее созерцательном направлении. Я еще и прежде, когда ты предполагал купить землю у Тургенева, был того же мнения, как теперь. А кстати, есть ли река на земле Р-аго? Жаль, если нет ее. Дело в том, что покупка земли не есть какое-нибудь рискованное предприятие, в котором можно все потерять. Ценность земли в России упадать не может. Что до свободного труда, то пожалуй, при непривычке русского мужика к нему, — дело вначале и может идти не совсем хорошо; но ведь я — этого не знаю, это надо судить на месте, переговоря с мужиками; — может быть и тут опасения окажутся напрасными. А ты, Фет, я думаю, можешь быть хорошим хозяином при твоем практическом смысле. С Богом за дело! Тургенев хотел быть сюда проездом на остров Уайт и Анненков. Я никого не вижу а даже не выхожу.
Ваш В. Боткин.
XI
Покупка Степановки. — Разговор по поводу этой покупки с Ник. Ник. Тургеневым. — Знакомство с князем Г-ым. — Известие о смерти Николая Толстого. В Москве. — Переговоры с О-ким по просьбе Тургенева. — Старик Григорьев. — Моя болезнь по случаю вывиха руки. — Приезд брата, и его тройка лошадей.
Во времена моего студенчества берега реки Неручи, отделяющей на юго-востоке Мценский уезд от Мало-Архангельского, слыли обетованного страной для ружейных охотников. Мало-помалу безалаберная охота и осушение болот оставили Неручи только славное имя, произносимое ныне без всякого волнения. В конце июля 1860 года я по старой памяти отправился из Новоселок на Неручь на охоту, избрав главным центром сельцо Ивановское, имение моего зятя А. Н. Шеншина, женатого на родной сестре моей Любиньке. Они, видимо, обрадовались моему приезду и старались по возможности устроить меня поудобнее. Несмотря на очевидную практичность и опытность в хозяйстве, Александр Никитич видимо не мог выпутаться из петель долгов, которые успел надеть на свою и на женину шею в первое время их женитьбы, при устройстве полной усадьбы на земле, на которой ничего не было. Правда, покойный наш отец сначала усердно помогал зятю в постройке, но впоследствии, по случаю строптивости последнего, совершенно откачнулся от Ивановского. К этому надо прибавить, что небольшой флигель Шеншиных, крытый соломой, в котором я был проездом на службу в Херсонскую губернию, год тому назад до описываемого времени сгорел. Но в настоящий приезд я нашел уже в Ивановском великолепный хотя не вполне еще отделанный, деревянный дом, крытый железом. Заметив мое удивление по поводу такой скорой постройки, зять мой со свойственною ему флегмой рассказал, что он этот дом купил, как есть целиком, верст за тридцать, у одной барыни, которая не стала в нем жить, гонимая привидениями, и продала его за 1500 рублей. «Ты увидишь, — сказал мне Алекс. Никит., - какие исправные лошади у наших мужиков; не менее исправны и опекунские глазовские; да старик князь Г. дал мне на подмогу пятьсот подвод. Плотники у нас свои: разобрали и, вот видишь, перевезли».
Надо отдать справедливость Шеншиным, что, при постоянном денежном стеснении, они оба умели вести дом образцово. Можно сказать, что все у них блистало чистотой, начиная со столового и постельного белья и кончая последнею тарелкой; и обычные четыре блюда за обедом в два часа и за ужином в восемь часов — приготовлены были мастерски.
— Вот, — сказал мне Алекс. Никит, после обеда за чашкой кофе, — ты меня просил поискать для тебя небольшой клок земли, и мне кажется, что я нашел как раз что тебе нужно, в трех верстах от нас. Если хочешь, я велю сейчас оседлать лошадей, и мы через час вернемся, осмотрев имение.
Минут через десять две прекрасно заседланные лошади стояли у крыльца, и мы отправились в недаль нюю поездку. Через четверть часа на открытой степи показалась зеленая купа деревьев, на которую приходилось продолжать наш путь. Со жнивьев, по которым местами бродила скотина, лошади наши вдруг перешли на мягко распаханный чернозем, как-то пушисто хлопавший под конскими копытами.
— Вот мы уже и на твоей будущей земле, — заметил Алекс. Никит., - а вон та высокая соломенная крыша влево от лесочка, — твой будущий дом.
Через несколько минут мы остановились у крыльца совершенно нового деревянного дома и с трудом докликались человека, которому сдали лошадей. Видно было, что домик, в который мы входили, едва окончен постройкой самого необходимого и требует еще многого, чтобы сделаться жилым, особливо в зимнее время. При крайней скромности требований, расположение комнат показалось мне удовлетвори, тельным. Небольшая передняя с дверью направо в кабинет и налево в спальню; на противоположной входу стороне дверь в столовую, из нее в гостиную, а из следующей за нею комнаты дверь налево в ту же спальню. Старуха, хозяйка имения, была бывшая вольноотпущенная, предоставившая все устройство сыну. Тут же по комнатам размещались две или три девушки — дочери хозяйки. Не желая некстати выказывать своего одобрения расположению комнат, я высказал его зятю по-французски, и вдруг, к изумлению нашему, одна из девиц, указывая на выходную дверь из девичьей в сени, сказала: «Il у a encore une cuisine ici»[211].
Шеншин пригласил молодого хозяина, заведующего продажей имения, побывать в Ивановском на другой день. На следующий день продавец объявил, что готов на переговоры о постройках, состоящих из скотного двора с рабочею избой и каретным сараем, и крошечного амбара; но о двухстах десятинах земли в одной меже — совещаний быть не может, так как цена по сту рублей за десятину окончательная, на том же основании, что это пустырь, не подлежащий никаким переуступкам крестьянам, окончательно отсюда выселенным. Так как я в то время не имел никакого ясного понятия о сельском хозяйстве, то вполне должен был положиться на суд Алекс. Никит., который, быть может, отчасти подкупаемый желанием видеть меня ближайшим соседом, посоветовал мне кончать, и мы действительно кончили на двадцати тысячах за землю и двух с половиной — за постройки, несколько лошадей и коров. Не воздержался я и от приобретения пасеки, хотя по сей день не научился уходу за пчелами. В тот же день я послал за тысячью рублями задатка к жене в Новоселки, вернувшись куда, я тотчас поехал за деньгами в Москву.
В отрочестве, еще во время крепостного права, я слыхал от хорошего хозяина поговорку: «хозяин вокруг двора обойдет, копеечку найдет». Только долговременный опыт может подтвердить справедливость этих слов и ошибочность мнения, будто сельское хозяйство может успешно идти без личной инициативы хозяина. При медленности обращения капитала, ни один труд не требует такого терпения и выдержанности, и нигде увлечение или небрежность не исправляются с таким трудом.
«Если ты потрудишься над покупаемым хутором Степановкой, то это может быть впоследствии прелестная табакерочка».
Эти слова Алекс. Никит, тем чаще приходят мне на память, что небольшой клок земли, на который я выброшен был судьбой, подобно Робинзону, с полным неведением чуждого мне дела, заставил меня лично всему научиться, и действительно в течение семнадцати лет довести неусыпным трудом миниатюрное хозяйство до степени табакерочки[212].
Когда я в Москве проговорился одному из братьев жены моей, что мы сбираемся оставить за собою московскую квартиру, несмотря на покупку имения то он пришел в такое живое изумление, что окончательно заставил меня прозреть, и я решился, невзирая ни на какие воздыхания, покончить с самобытною московскою жизнью. Поэтому я тотчас же объявил своей московской хозяйке, что мы квартиру оставляем за собою только по 1-е мая будущего года.
Хотя наш будущий хутор Степановка и представлял, как мы видели, весьма скромную сумму денег, но мы, из боязни исчерпать все наши наличные деньги, уплатили половину цены векселями; и так как необходимо было завестись всем сначала, то мне пришлось безотлагательно, худо ли, хорошо ли, переселяться из Новоселок на новокупленное место.
Смешно сказать, что, покинув на четырнадцатом году родительскую кровлю, я во всю жизнь не имел ни случая, ни охоты познакомиться хотя отчасти с подробностями сельского хозяйства и волей-неволей теперь принужден был иногда по два раза в день бегать за советом к ближайшему соседу Алекс. Никитичу, куда моя серая верховая отлично узнала дорогу. Самыми затруднительными для меня были специальные земледельческие вопросы, — касательно времени полевых работ и последовательности их приемов.
На первое время Алекс. Никит. справедливо советовал мне держаться крестьянского правила: «как люди, так и мы», т. е. соображать свои действия с действиями соседей, но впоследствии я узнал из опыта, что необходимо предупреждать сторонние примеры. О моих первых попытках на поприще вольнонаемного труда я писал своевременно в «Русском Вестнике», под заглавием «Из деревни», и возбудил этими фотографическими снимками с действительности злобные на меня нападки тогдашних журналов[213], старавшихся обличать все, начиная с неисправных дождевых труб на столичных тротуарах, но считавших и считающих поныне всякую сельскую неурядицу прекрасною и неприкосновенною. Но шила в мешке не утаишь, неурядицы привлекают все большее внимание правительства, принимающего против них законные меры. Теперь уже самые наивные люди знают, что порубки и потравы — величайшее зло не только материальное, но и нравственное.
Пока я с ревностью кидался за приобретением оседлости, в ближайшей нашей атмосфере произошло событие по себе маловажное, но влиятельное, как я полагаю, на дальнейший ход моей жизни. Я говорю о Марьюшке. Она, не взирая на свои почтенные лета и далеко невзрачную физиономию, с помощью одних решительных нарядов, сумела овладеть сердцем молодого, очень хорошего повара Борисовых. А так как Марьюшка не решилась от нас отойти, то мы весьма кстати очутились с прекрасным поваром.
В наших воспоминаниях нам нередко придется встречаться со знакомою уже личностью старика Тургенева, дяди Ивана Сергеевича. Родной брат отца поэта, Ник. Ник. Тургенев еще при жизни матери Ивана Сергеевича помогал ей в ведении обширного ее хозяйства, а после раздела имений между братьями Николаем и Иваном Тургеневыми, Николай Никол. безвыездно проживал с семейством в Спасском, куда владелец Иван Сергеевич являлся только временно. Услыхав об окончательной покупке Степановки, старик пришел в сильное волнение. «Вы желаете иметь треволнения? восклицал он: вы будете их иметь». Но при этом он, очевидно, упускал из виду, что на малые средства, на которые возможно жить в деревне, жить при таких же условиях и обстановке в столице невозможно.
— Вы селитесь теперь в открытой степи, и вам приходится среди поля поставить Божье милосердие (образ) и к нему уже сносить все предметы.
— Нам ничего не нужно, был мой ответ.
— Это вздор! кричал старик: — кто же вам будет мыть белье?
— Мы уже подговорили прачку Алекс. Никитича, которой будем платить ежемесячно, посылая каждую субботу белье.
— Все это вздор! восклицал старик;- будет у вас и котел, и кадки, и веревки, и корыта, и доски с сукном, и все это будет, попомните мое слово.
Конечно, впоследствии мне сто раз приходилось вспоминать практические слова старика.
Между тем решительная минута нашего переселения в степной скит неизбежно приближалась, хотя невозможно было скрыть от себя всех неудобств и лишений, связанных с таким переселением. Так как вся наша мебель находилась на московской квартире, то всего проще было перевезти ее оттуда по зимнему пути, перебиваясь пока тою немногочисленною и плохою, какая оставалась в доме при его покупке. Наконец-то мы переехали, для того чтобы к будущему лету приготовить не только ледник, но и выкопать пруд, без которого неоткуда было взять льду.
Несмотря на нерасположение к новым знакомствам, последние возникали сами собою. Так, Алекс. Никитич увлек меня в качестве ружейника на охоту к хорошему своему приятелю старику князю Г-у, снабдившему его подводами при перевозке дома. Старый князь оказался добродушнейшим типом старинного барина, жившего в домашнем изобилии с оттенком первобытной простоты, которая в настоящее время показалась бы неряшеством, если не неопрятностью. Сам князь даже в гости ездил обедать в сюртуке из самого грубого сукна темно-зеленого биллиардного цвета. Так как по старости он ездил на охоту в линейке, то до лесу я ехал с ним, и он с первого дня стал со мною на самую короткую и отеческую ногу. За изобильным обедом старик не прочь был выпить рюмку, другую хереса, а в праздник и шампанского, но любимым его напитком был портер, который в то время несомненно привозился из Англии и поэтому, вероятно, считался у него неподмешанным.
— Выпьем, Афоня, с тобою чистого напитка, — говорил князь; и мы у него или у нас за столом усердно пили чистый напиток.
— Не будет ли к завтрашней охоте непогоды? — спросил я однажды; — как странно, князь, что у такого агронома, как вы, я не вижу барометра.
— Есть он у меня, — отвечал добродушно старик, — да я его велел снести в кладовую; прислали мне его из Москвы, и он перед покосом поднялся на «ясно»; я обрадовался и свалил все сено, а оно под дождями и сгнило. Я его в ту же пору и разжаловал. У меня свой барометр, пасечник придет утром да и скажет: «Зяблик трюкал, ворона молодила, солнце рано вскочило». Вот я и знаю, что будет дождь.
При князе проживала его единственная милая дочь с двумя малолетними детьми. Узнав, что мы зимой едем в Москву, князь непременно хотел, чтобы я взял под свое покровительство и довез до Москвы его дочь к мужу, что должно было состояться по первому зимнему пути. В видах предстоящей московской поездки, мною куплена была вместе с домом просторная рогожная кибитка. Излишне говорить, как жена моя истомилась ожиданием зимнего пути, который принесен был бурей не ранее двадцатых чисел декабря, но зато все ложбины с высокими подъемами были до того завалены снегом, что я на каждом сугробе обмирал, ожидая, что мой серенький верховой, попавший в корень, посадит нас на пустынной полугоре. Но, к счастью, этого не случилось.
Между тем прежние друзья не забывали меня.
Тургенев писал из Парижа от 8 сентябри 1860:
И я восклицаю: ура! и даже «осанна!» и даже «эльен!» — что по-венгерски значит что-то хорошее. Я очень рад за вас, что вы действительно сделали добрую покупку и успокоились и получили новое поле для деятельности. Жаль, что от Спасского немного далеко, но с подставными лошадьми в скорости доехать можно, а местечко для охоты доброе. Наперед вам предсказываю, что вы будете часто видеть меня у себя гостем с Фламбо, который оказывается отважным псом, с другим каким-либо товарищем из собачьей породы. Поживем еще несколько мирных годков перед концом, а там пусть будет
«…равнодушная природа
Красою вечною блистать…»
Сообщу вам теперь вкратце новости, собственно до мена касательные.
С начала этой страницы письмо мое пишется в Куртавнеле 12 числа сентября. Я приехал сюда вчера и нашел все это старое гнездо в порядке, хотя сильно одряхлевшим. Г-жи Виардо и ее дочери здесь нет: они обе в Ирландии. Мы с стариком Виардо после-после-завтра только начинаем здесь охоту, которая страшно запоздала по милости дождей.
Я дочь свою не сосватал и даже никого до сих пор не предвидится, хотя, вероятно, в течении зимы кто-нибудь навернется, о чем я думаю не без трепета. Она приехала сюда со мною. Зиму, как вы уже знаете, я проживу в Париже. Последние известия о Толстых состоят в том, что они намерены были ехать на Гиерские острова; я звал их по дороге в Париж, но они не приехали. У бедного Николая уже в горле чахотка, недолго ему осталось жить. О Льве все никакого нет известия; да я, признаться, не слишком интересуюсь знать о человеке, который сам не интересуется никем. Работ литературных никаких пока не предпринимаю; да судя по отзывам так называемых молодых критиков, пора и мне подать в отставку из литературы. Вот и мы попали с вами в число Подолинских, Трилунных и других почтенных отставных майоров. Что, батюшка, делать! Пора уступать дорогу юношам. Только где они, где наши наследники? — Мы с Анненковым, во время пребывания нашего на острове Уайте, придумали проект «Общества для распространения грамотности и первоначального обучения». Я послал несколько копий этого проекта в Россию и буду продолжать посылать. Пошлю и вам. Прочтите и скажите свое мнение. Дело, кажется, хорошее и практически задумано. Я пускаю теперь эту мысль только в оборот и очень был бы счастливым если б она могла осуществиться хотя к будущей зиме. Напишите ваше мнение и, буде случится, возражения.
Ну, еще раз поздравляю вас, новопроявивший владелец! Жду от вас подробного описания вашей земли с охотницкой точки зрения. А что касается до Сноба, я по задним его ногам был заранее уверен в его слабости, но не хотел огорчать вас. В будущем году, если Фламбо у меня уцелеет, вы будете охотиться с Весной. Пишите мне пока в Париж. До свиданья, милейший Афан. Афан., кланяйтесь вашей жене, Борисову и всем добры знакомым.
Преданный вам Ив. Тургенев.
От 3 октября того же года он писал из Парижа:
Beatus ille, amice Fettie… и так далее, см. ваш перевод Горация. Благословляю обеими руками ваше гнездышко и сидящих в нем, сердцу моему любезных. Не жалейте ни о чем: ни о лишних заплаченных копейках, ни хлопотах и суетах: это все пустяки, а «der Hauptgriff ist gethan!» — И само небо вам улыбается, то небо, которое здесь в течении шести месяцев, веяло мерзостью и холодом, плевало (и плюет) в нас дождем, уподоблялось видом грязному белью; у вас, я слышу, теплота, благодать и солнце! С истинным нетерпением жду того счастливаго мгновения, когда будущею весной, при соловьиных песнях, сворочу с Курской дороги на ваш хуторок. Тогда мы в последний раз тряхнем стариной и хватим из кубка молодости и из другого кубка с Редерером; но это последнее не в последний раз. Да, вот мы еще с вами собираемся жить; а для Николая Толстого уже не существует ни весны, ни соловьиных песен, ничего! Он умер, бедный, на Гиерских островах, куда он только что приехал. Я получил это известие от его сестры. Вы можете себе представить, как оно меня огорчило, хотя я уже давно потерял надежду на его выздоровление, и хотя жизнь его была хуже смерти. Лев Николаевич был с ним, и теперь еще в Гиере (Никол. Никол. скончался в Гиере, а не на островах). «Die Gutem sterben jung». Я знаю, и вы, и Борисов не раз его помянете: золотой был человек, и умен, и прост, и мил. Я бы желал поговорить о его последних днях со Львом Николаевичем, да Бог знает, когда и где я его увижу. Я поселился на зиму с дочерью и английскою гувернанткой в Rue Rivoli, и может быть буду принужден съехать, потому что комната, из которой я намерен был сделать свой рабочий кабинет, заражена зловонием. Обещаются поправить это, но все-таки пишите лучше poste restante. Мне это тем досаднее, что у меня план моей новой повести готов до подробностей, и я хотя попал в Трилунные, не прочь бы еще поработать. Рекомендую и вам, хотя и вы Трилунный, не пренебрегать беседой с Музами. Впрочем, вам теперь не до того; но успокоившись и вырыв пруд, воспользуйтесь последними днями осени, в которых таится особенная
«Умильная, таинственная прелести…»
и попробуйте настроить струны вашей лиры, да пришлите ко мне. А то уж очень здесь прозаично и сухо (в переносном смысле). Собака вам будет, ручаюсь вам Кастором и Поллуксом (я что-то сегодня налегаю на классические сравнения), — и хорошая собака. Весной мы с вами стреляем непременно, непременно, непременно!!!
Известие о выздоровлении вашей сестры меня очень обрадовало. Поклонитесь от меня Борисову и поздравьте его. Ну, будьте здоровы и бодры духом. Дружески жму вам руку и вашей жене. Станем переписываться почаще.
Преданный вам Ив. Тургенев.
17 октября 1860 г. Л. Толстой писал из Гиера:
Мне думается, что мы уже знаете то, что случилось. 20 сентября он умер, буквально на моих руках. Ничто в жизни не делало на меня такого впечатления. Правду он говаривал, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько подумать, что она все-таки конец всего, так и хуже жизни ничего нет. Для чего хлопотать, стараться, коли от того, что был Никол. Никол. Толстой, для него ничего не осталось. Он не говорил, что чувствует приближение смерти, но я знаю, что он за каждым шагом ее следил и верно знал, что еще остается. За несколько минут перед смертью он задремал и вдруг очнулся и с ужасом прошептал: «да что ж это такое?» Это он ее увидал, это поглощение себя в ничто. А уж ежели он ничего не нашел, за что ухватиться, что же я найду? Еще меньше. И уж верно ни я и никто так не будет до последней минуты бороться с нею, как он. Дня за два я ему говорю: «нужно бы тебе удобство в комнату поставите». «Нет, говорит, я слаб, но еще не так; еще мы поломаемся».
До последней минуты он не отдавался ей, все сам делал, все старался заниматься, писал, меня спрашивал о моих писаньях, советовал. Но все это, мне казалось, он делал уже не по внутреннему стремлению, а по принципу. Одно — природа, это осталось до конца. Накануне он пошел в свою спальню и упал от слабости на постель у открытого окна. Я пришел, он говорит со слезами на глазах: «как я наслаждался теперь час целый!» — Из земли взят и в землю пойдешь. Осталось одно, смутная надежда, что там, в природе, которой частью сделаешься в земле, останется и найдется что-нибудь. Все, кто знали и видели его последние минуты, говорят: «как удивительно спокойно, тихо он умер», а я знаю, как страшно мучительно, потому что ни одно чувство не ускользнуло от меня. Тысячу раз я говорю себе: «оставьте мертвым хоронить мертвых», но надо же куда-нибудь девать силы, которые еще есть. Нельзя уговорить камень, чтобы он падаль кверху, а не книзу, куда его тянет. Нельзя смеяться шутке, которая наскучила. Нельзя есть, когда не хочется. К чему все, когда завтра начнутся муки смерти со всею мерзостью лжи, самообмана, и кончится ничтожеством, нулем для себя. Забавная штучка. Будь полезен, будь добродетелен, счастлив, покуда жив, говорят люди друг другу, а ты, и счастье, и добродетель, и польза состоят в правде. А правда, которую я вынес из тридцати двух лет, есть та, что положение, в которое мы поставлены, ужасно. «Берите жизнь, какая она есть, вы сами поставили себя в это положение». Как же! Я беру жизнь, как она есть. Как только дойдет человек до высшей степени развития, так он увидит ясно, что все дичь, обман, и что правда, которую все-таки он любит лучше всего, что эта правда ужасна. Что как увидишь ее хорошенько, ясно, так очнешься и с ужасом скажешь, как брат: «да что ж это такое?» Но разумеется, покуда есть желание знать и говорить правду, стараешься знать и говорить. Это одно, что осталось у меня из морального мира, выше чего я не могу стать. Это одно я и буду делать, только не в форме вашего искусства. Искусство есть ложь, а я уже не могу любить прекрасную ложь….. Я зиму проживу здесь по той причине, что и здесь, и все равно жить где бы то ни было. Пишите мне пожалуйста. Я вас люблю так же, как брат вас любил и помнил до последней минуты…..
Л. Толстой.
В. П. Боткин писал из Парижа от 10 октября 1860:
Письмо ваше от 12 сентября я получил и по прочтении его пришел в великое удовольствие. Теперь вы дома, у себя. Мне жаль только одного, что ты, милый друг Маша, смотришь на все это как то грустно и мнительно. Сказав в моем прежнем к вам письме, что я готов отвечать за убыток, я сказал не пустую фразу на ветер и теперь снова повторяю мои слова, и в этом отношении ты можешь положиться на меня. Но кроме денежной уверенности, тут есть величайшая моральная польза: польза эта состоит в постоянной деятельности и труде для Фета. Если бы даже не оказалось предполагаемого им дохода, то есть если б он оказался менее рублей на двести (я не думаю, чтобы разница против его расчета была большею), — то я гарантирую тебе эту сумму заранее. Я понимаю твою осторожность и даже мнительность, но скажу также, что никогда еще употребление денег не было на более дельный и полезный предмет, как в этом приобретении земли и занятии хозяйством. Я убежден, что ты полюбишь этот хутор, полюбишь за то, что все в нем будет сделано вами. Одно уже краткое описание начатых и предполагаемых работ произвело на меня отраднейшее впечатление: в этой борьбе с природой и с практикой есть что-то освежающее душу. Женщины, к несчастию, понять этого не могут, ибо в этом состоит существенное значение и величие мужчины. Ты меня зовешь в Степановку: да это будет моим первым делом, и я этой поездки ожидаю для себя с наслаждением. А потом подумай о том, что ведь это не Фабрика, не завод, которые приходится всегда продавать за полцены: самым дурным результатом может быть только то, что если захотите продавать, то придется продать уже никак не менее той цены, какой она вам будет стоить. А если будет убыток, то я обязуюсь доплатить. Итак, с этой стороны я это дело считаю совершенно улаженным, но остается не менее важное обстоятельство: решиться на такое долгое пребывание в деревне. Да, обстоятельство важное, ибо скука, если она появится и усилится, может иметь вредное влияние и на здоровье, и на все. Но взглянем прямо в глаза этому опасному врагу и посмотрим, нельзя ли с ним справиться. Во-первых, надо еще дождаться, когда придет эта скука, и заранее рассчитывать на нее смешно; может я ошибаюсь, но для меня житье в Москве мало чем отличается от житья в Степановке. Ваши вечера в доме Сердобинской имели постоянно какой-то туманный и апатичный характер: неужели они так нравились тебе? Конечно, нельзя по себе судить о других, но для меня одиночество и хорошая книга могут уступить только самым интереснейшим вечерам в мире, а у тебя есть еще ресурс: музыка. Поверь, — не пугай себя заранее скукой: этот враг побеждает только тогда, когда мы сами поддаемся ему:
«Будет буря, мы посмотрим
И помужествуем с ней».
А потом, ты знаешь пословицу: «то не беда, коль на деньгу пошла». Но так как я еще не знаю, где вы намерены жить в эти два месяца в Москве, то и прекращаю свои рассуждения впредь до обстоятельных ваших уведомлений.
Бедный и прекрасный Николай Толстой умер. Вы уже вероятно это знаете. Тургенев остается здесь на зиму. Насморк мой, благодаря доктору Rayer, лучше, но обоняния нет и тени для меня: это лечение и держит меня здесь; авось хоть через десять дней позволит мне доктор ехать во Флоренцию, где я располагаю провести зиму. А вначале лета непременно в Россию и немедленно в Степановку. Обнимаю вас, а ты, брат, не унывай и делай свое дело.
Душевно преданный вам В. Боткиy.
В Москве, за окончательною решимостью отказаться от нашей постоянной квартиры, нам не предстояло иного выбора, как остановиться у жениной сестры Пикулиной, или в доме неразделенных еще братьев Боткиных. На известных условиях мы предпочли первое. Если б я даже окончательно перекипел до полного безразличия между столичною и деревенскою жизнью, то все-таки не мог бы по справедливости требовать от жены зимовки в безотрадном по своей обстановке захолустья, каким тогда была Степановна. Что же касается до меня лично, то, отстав от постоянной работы в привычном уголке, я не чувствовал ни потребности, ни сил искать себе новой умственной работы и находился в таком межеумочном состоянии, о котором всего лучше могут дать понятие следующие слова Тургенева:
Париж
5 ноября 1860.
Пишу к вам, carissime, еще в вашу Степановку, хотя боюсь, что мое письмо вас уже в ней не застанет; но я также не знаю, осталась ли Сердобинка за вами, и в ней ли вы проводите зиму? Куда ни шло, пишу! А писать, собственно почти нечего. Есть такие моменты в жизни, куда ни оглянись, все торчит давно знакомое, о котором и говорить не стоит. За работу я до сих пор не могу приняться как следует: я начинаю думать, что гнусный парижский воздух действует на мое воображение, т. е. ослабляет оное. Сказать вам, до какой степени я ненавижу все французское, особенно парижское, превосходит мои силы; каждый «миг минуты», как говорит Гоголь, я чувствую, что я нахожусь в этом противном городе, из которого я не могу уехать… Не будем говорить об этом. Ваши письма меня не только радуют, они меня оживляют: от них веет русскою осенью, вспаханною уже холодноватою землей, только что посаженными кустами, овином, дымком, хлебом; мне чудится стук сапогов старосты в передней, честный запах его сермяги, мне беспрестанно представляетесь вы: вижу вас, как вы вскакиваете и бородой вперед бегаете туда и сюда, выступая вашим коротким кавалерийским шагом… Пари держу, что у вас на все тот же засаленный уланский блин! А взлет вальдшнепов в почти уже голой осиновой рощице… Ей-Богу, даже досада берет! Здесь я охотился скверно, да и в что за охота во Франции?! Но вы насмотритесь на меня и моего Фламбо будущею весной в болоте на дупелей или на бекасов. — Тубо!.. Тубо!.. А сам без нужды бежишь и едва дух переводишь… Тубо! ну, теперь близко… фррр… ек! ек! бац! бац! — и подлец бекас, заменивший степенного дупеля, валится мгновенно, белея брюшком…
Я получил от бедного Полонского очень печальное письмо. Я тотчас отвечал ему. Он собирается весной за границу, но я его приглашаю к себе в деревню и рисую ему картину нашего житья втроем. Как иногда старые тетерева сходятся вместе, так и мы соберемся у вас в Степановке и будем тоже бормотать, как тетерева. Пожалуйста вы с своей стороны внушите ему ту же мысль. Бедный, бедный кузнечик-музыкант! Не могу выразить, каким нежным сочувствием и участием наполняется мое сердце, как только я вспомню о нем.
Получаете ли вы «Искусство» Писемского и К°? Как же вас там нет, о жрец чистого искусства? Или вы не шутя считаете себя в отставке? Знаете ли что? Попробуйте перечесть Ироперция (Катулли также или Тибулла) — не найдете ли над чем потрудиться, не спеша? Одну элегию в неделю «ничего можно».
7 ноября.
Сейчас получил ваше двойное письмо от 21 и 23 октября. Я вижу из него, что вам хорошо, и душевно радуюсь. Но почему вы пишите мне — pote restsnte? Адресуйте Rue de Rivoli, 210. Что ни говорите, а мысль о том, что вы — Бернет, грызет вас, и это совершенно напрасно. Тот, кто когда либо смешает вас с Бернетом, тем самым покажет несомненно, что он олух, сверх того, вам еще грешно власть перо на полку. Я почему-то полагаю, что вы в Москве тряхнете стариной.
Да, жаль Николая Толстого, сердечно жаль! О брате его Льве нет никакого известия, вероятно он еще в Гиере. Я вам скоро опять напишу, а теперь кланяюсь вашей жене и благодарю за память, а вам крепко жму руку.
Преданный вам Ив. Тургенев.
От 17 декабря 1860 он писал из Парижа:
На сей раз, дорогой Афан. Афан., вы получите от меня коротенькое и чисто деловое письмо. До меня дошло сведение, что издание моих сочинений, сделанное г. О…, поступило в продажу. а между тем обещанные деньги им не высылаются, и вот уже два месяца, как я не получаю от него писем. Так как это дело для меня важное, я покорнейше прошу вас взять на себя все хлопоты и вообще вступить в мои права, сделаться моим «alter ego», в удостоверение чего посылаю вам записочку для представления г. О… Наши условия были следующие: он имел право печатать 4.800 экземпляров и за это должен был мне заплатить 8.000 руб., из коих половина должна была быть представлена до издания в свет, другая — четыре месяца после. Получил же я от него, не помню хорошенько, 1.500 или 2.000 руб., кажется 1.500. Вы попросите его, чтоб он представил вам счет и таким образом узнаете количество выданной суммы. Остающиеся 2000 или 2500 руб. он должен немедленно выслать. Мне это все очень неприятно и особенно неприятно мне вас утруждать, но вы можете сказать ему, что у нас есть с вами счеты. Постарайтесь узнать сперва стороной, или даже от него, не выслал ли он мне денег? В таком случае не беспокойте его, только скажите ему, что я прошу его передать вам следуемое мне величество экземпляров, из которых пошлите три Анненкову. Разрешение на получение этих экземпляров вы найдете на второй странице прилагаемого листика. Одним словом, я полагаюсь на вас, что вы в этом деле поступите и деликатно, и практично. Надеюсь, что вы уже давно прибыли в Москву и благополучно в ней поселились. Сообщите ваш адрес, а я пока, по вашему желанию, пишу на Маросейку. Дружески кланяюсь вашей жене и Борисовым и жму вам крепко руку.
Ваш Ив. Тургенев.
Я прошу Аф. Аф. Фета взять на себя все сношения с Н. А. О… по делу издания моих сочинений и прошу г. О…выдавать следуемые мне деньги г. Фету, который вступает вполне во все мои права. Поручаю также г. Фету получить от г. О… следуемые мне экземпляры.
Ив. Тургенев.
Тип людей, совершенно равнодушных к материальным своим средствам, готовых горстями разбрасывать свое добро и в то же время скупых на копейки и неразборчивых в источниках нового прилива денег, — далеко не новый. Если бы Тургенев самым решительным образом не принадлежал к этому типу, я не стал бы говорить о его счетах с О… Дело в том, что когда я попросил у О… денег и книг, то солидарное в его предприятии лицо напечатало в Московских Ведомостях отрицание моего полномочия. Я попросил, в оправдание свое от самозванства, — у Тургенева подтверждение моего полномочия телеграммой и напечатал последнюю с буквальным русским переводом. На другой день по выходе номера, мой антагонист прислал ко мне секунданта, и дело приняло бы трагикомический оборот, если бы старый Ник. Хр. Кетчер, со всегдашнею своею честностью и беспощадною грубостью, не разъяснил задорным петухам, что тут они дело имеют не со мною, а с Тургеневым. Тем не менее я переслал Тургеневу 2.000 руб. в Париж, а когда позднее я спросил его, чем кончилось дело, он сам, превратив рассказ в мимическое представление, отнесся к нему комически. Он совершенно забыл о моей трагикомедии по его же милости.
Беспристрастно озираясь на конец 60 и 61 года в тесной сфере моей жизни, можно было бы, увлекаясь обобщением, назвать это периодом разрушения.
Я забыл сказать, что все три года нашего зимнего пребывания в доме Сердобинской я продолжал по временам посещать находившийся в ближайшем с нами соседстве дом старика Алекс. Иван. Григорьева, отца Аполлона Григорьева[214]. Я любил добродушного старика, умевшего, невзирая на небольшие средства, дать прекрасное образование своему талантливому сыну, с которым вместе я прожил на антресолях четыре года университетской жизни, и где плакучая береза, увешанная инеем, навеяла на меня: «Печальная береза у моего окна»… Все три года, в которые я по старине посещал Алекс. Иван., Аполлона Алекс. не было дома, и бедный старик, добывавший скудные копейки ходатайством по делам, жаловался на то, что сын прикинул ему жену с двумя детьми и выпросил у отца позволение заложить последний дом.
Борисов, по получении известия о выздоровлении жены, решился провести зиму по близости психиатров, наняв квартиру, которую большею частию наполнил нашею не нужною нам до весны мебелью и домашнею утварью.
Настали жестокие морозы, свыше тридцати градусов, и хозяин наш доктор Пикулин поговаривал: «сегодня на обсерватории ртуть ковали». Но вместе с тем наши железные печки причиняли угаром ежедневную, головную боль, и посетивший меня Николай Боткин стал убеждать, что никакой надобности нет мне угорать у Пикулина, когда в его прилегающем к дому флигеле есть свободная комната. Я воспользовался предложением, а вслед затем и жена моя перебралась в дом на прежнее бывшее свое девичье пристанище. Но видно период переломов должен был выдержать свой характер. Боткинский дом в то время соединялся со своим флигелем единственным переходом по подвальному этажу. Этот тесный переход, снабженный несколькими такими же узкими рукавами, представляет главным образом бифуркацию со стеклянными двери при входе в каждую из них. Одна стеклянная дверь благополучно ведет в коридор, кончающийся всходом во флигель, а за другою непосредственный обрыв во внутренний двор. И я до сих пор не могу понять назначения этой двери и обрыва. Однажды вечером, простившись в доме со всеми, я с зажженным подсвечником в руках пустился по коридору во флигель на ночлег. Стараясь по врожденной моей наклонности ускорить время передвижения, я чуть не бегом стал откидывать попадавшиеся мне стеклянные двери. Но едва я отворил таким образом последнюю, как свечу мою задуло ветром и, охая от боли, я услыхал над собою голос дворника: «кто тут?» Оказалось, что я со значительной высоты слетел на снег и свихнул себе в кисти левую руку, державшую подсвечник. При содействии знаменитого хирурга Ив. Ник. Новацкого, с утра начались пиявки, гипсовая перчатка и т. д. Через три недели от вывиха моего не осталось и следа.
По случаю небольшого, но характеристического приключения, мне приходится еще раз говорить о человеке самом мне близком, волею судеб, с каждым днем, так сказать, игравшим все более значительную роль в моей жизни. Я говорю о моем брате Петре Афанасьевиче. Сколько раз с Борисовым, разбирая личность брата Петра, мы не могли ему надивиться. Когда еще он проживал у нас в Сердобинке, я от души желал этому не кончившем курса филологу Харьковского университета быть, насколько полезным; но мои записки об эстетике, специально для него написанные, равно как совместное чтение Горациевых од, прошли для него, как мы уже видели, без всякого следа. А между тем трудно было отыскать более тонкого знатока сельскохозяйственного обихода вообще, а скотоводства в особенности. В последнем деле он с самых ранних лет был замечательным знатоком и, не щадя никаких издержек, в ущерб самым первобытным личным нуждам, поставил свой воронежский конский завод на высоту, на которой дай Бог его удержать наследникам. В то время рядом с кровными верховыми брать выводил и рысистых лошадей, для которых держал и наездника. Таков частью был он на практике, а в теории был еще изумительнее определенною ясностью и практичностью своих советов. Но от внимательного взгляда не могла укрыться несоразмерность порывов воли с устройством остального организма. В минуты подобных увлечений никакие убеждения не помогали, и это выражалось обычною поговоркой брата: «э, да что!» — причем взмах правой руки ясно показывал, что это ultima ratio. Однажды, когда я всего менее этого ожидал, в передней нашего флигеля раздался звонок, и вошедший Петр Афан. бросился обнимать нас.
— У меня к тебе просьба, сказал он, — я привел сюда хорошую серую тройку: коренник чистокровный может потягаться на бегу, а пристяжные за себя постоят. Пожалуйста помоги мне продать их в Москве. Я их поставил на постоялом дворе у Пресненских ворот, а завтра велю наезднику приехать сюда на паре. В московской толкотне боюсь запрягать тройку. А ты скажи о них П. И. Б-у; если ему не нужны, не отрекомендует ли кому-нибудь.
На другой день утром наездник приехал в отличных пошевнях парой, которою мы полюбовались; и решено было, дав лошадям передохнуть дня два с дороги, запречь тройку и проездить ее сперва со всеми предосторожностями в предместьях города, избегая многолюдства.
— Брат, говорил я, — не увлекайся ты громкими наименованиями наездников и т. д. Все эти люди хороши, как исполнители. Дай мне слово, что в назначенный тобою день ты приедешь к нам кофей пить, и затем я с тобою поеду к твоему наезднику, который запряжет сперва коренника, проездит его хорошенько, и затем таким же образом припряжет сперва левую, а потом правую пристяжную.
Получив желаемое обещание, я успокоился на два дня. В назначенный день к 9-ти часам утра кофей ожидал брата, и он в свою очередь не заставил себя ждать. Когда на парадном крыльце раздался звонок, слуги в передней не было, и я с радостью бросился отворять дверь.
— Ну что? спросил я входящего по ступенькам брата.
— Все кончено, отвечал он.
— Что такое все?
— Сани вдребезги, сбруя порвана и левая пристяжная убита.
— Каким образом? Да войди, там все расскажешь.
— Взяло меня сегодня нетерпение, начал брать в разъяснение вопроса; — поехал я поглядеть на лошадей. Вижу, около моего наездника вертится какой-то средних лет человек и говорит, что недавно отошел от места у известного М-а, у которого три года был наездником, а теперь. рад помочь моему Лукьяну проездить тройку, благо Лукьян один сомневается. А уж он-то, как старый наездник, постоит за себя. «Я, говорит, сяду сзади Лукьяна и возьму пристяжные вожжи. У меня не распрягаются». Сердце не камень: я стал смотреть, как они запрягают лошадей, поставив нарядные пошевни оглоблями в воротам на улицу, и обещал бывшему наезднику хороший «на чаек» за усердие. Позвали двоих хозяйских дворников держать лошадей. Сел Лукьян и за ним знаменитый наездник. «Пускай!» с этим словом тройка ринулась со двора, как летучий дракон. При внимании, исключительно обращенном на тройку, никто не заметил в крутой канаве перед воротами торговку с лотком. Пригнулась ли она со страху, или Бог ее помиловал, но я увидал ее, когда уже тройка с пошевнями перелетела через нее. Но не успели лошади, которых Лукьян, для избежания встреч, повернул по пустынной улице, броситься с новым азартом, как знаменитый наездник, державший пристяжные вожжи за спиной Лукьяна, бросил их в сани и соскочил долой. Не знаю, сам ли коренной свернул с улицы на огород, или повернул его туда Лукьян, но через несколько секунд левая пристяжная ударилась на всем скаку лбом об огородную верею, и вся тройка с Лукьяном и пошевнями полетела в глубокий, засыпанный снегом, парник. Пришлось сзывать людей с веревками и таскать всю эту кашу из парника. Лукьян, славу Богу, уцелел. Наемные пошевни разломаны, пара лошадей тоже, не смотря на порванную упряжь, уцелела, а у левой пристяжной изо лба торчал мозг. Следовательно, она каких-нибудь аршин 15 проскакала, так сказать, мертвая.
Тургенев писал из Парижа 2 января 1861:
Любезные друзья, Фет и Борисов, я получил ваше совокупное послание и буду отвечать каждому порознь, дельным манером; теперь я только хочу вам сказать, что я получил от О…. хоть не все деньги, которые он должен был выслать, однако половину; и потому положите под сукно все, что я вам сообщил по этому поводу и приостановитесь. Я душевно рад, что все распущенные слухи оказались ложными; рад и за себя, а главное за О…., которого мне было как-то дико воображать не совершенно честным человеком. У меня решительно нет времени больше писать, но не могу не сказать вам, о Фетие, что хандрит только человек, который эту штуку на себя напускает: переводите Пропорция лучше или Катулли. Как это возможно? — А в пьесе Островского (это я уже говорю Ивану Петровичу) мне нравится только превосходно нарисованное лицо Оленьки; с остальными замечаниями я согласен. Работа моя подвигается, довольно впрочем медленно. До следующего письма.
Ваш Ив. Тургенев.
10 января он же из Парижа:
Ля Иллях иль Аллах, Магоммед резуль Аллах… — Нет Фета кроме Фета, и Тургенев пророк его. Какими словесами достойно воспою я ваше многомилостивое обо мне попечение, драгоценнейший Афан. Афан.! Воображение немеет, и язык отвязывается выразить избыток чувств. Я сейчас получил ваше письмо со вложенным векселем в 9.250 фр. Я порадовался и за себя, и за О…..; авось он мне весной заплатит остальные деньги; будем также надеяться, что число лишних напечатанных им экземпляров не слишком велико, хотя по настоящему ему вовсе не следовало печатать лишних. Прилагаю при сем расписку, которую прошу вас вручить ему от моего имени. Он обещался было выслать мне экземпляр, но обещание это вместе со многими другими кануло в воду, а мне собственно хотелось бы знать, попади ли в текст некоторые изменения и прибавления, как например: «Конец Рудина». Но вам нечего хлопотать об этой высылке, — я получу здесь экземпляр другим путем. Одним словом, danke, merèi, gratias tibi ago, thank you, gracie, спасибо, — вот только забыл, как по-гречески. — Нового пока ничего. Роман мой подвигается медлительно вперед. Думаю с усладой о весенней поездке на Русь. От Л. Толстого получено письмо из Ливорно, в котором он объявляет о своем намерении ехать в Неаполь и в то же время хочет быть здесь в феврале, чтобы лететь в Россию. Что из этого всего выйдет — неизвестно. Поклонитесь всем добрым приятелям, начиная, разумеется, с драгоценнейшего Борисова, которому я на днях писать буду. Обнимаю вас от души и остаюсь
преданный вам Ив. Тургенев.
P. S. «Non chandrar!» {Не хандрить.}.
Я нижеподписавшийся сим объявляю, что из следуемых мне с Н.А. О… за издание моих сочинений в 4.800 экземплярах, — 8.000 рублей серебром (восемь тысяч) получил 5.500 руб. (пять тысяч пятьсот).
Ив. Тургенев.
XII
Мой отъезд в Степановку. — Хлопоты по устройству усадьбы. — Высочайший манифест. — Приезд жены из Москвы. — О встрече с Салтыковым (Щедриным) у Тургенева. — Тургенев и Л. Толстой в Степановке. — Ссора между ними. — Письма. — Поездка в Москву. — Знакомство с семейством Б-ов через Л. Толстого. — Приезд в Москву Василия Павловича М-ва. Письма.
Февральское угрево, развешивая по крышам и желобам сосульки, настоятельно гнало меня в Степановку, где при самой первой возможности следовало разом браться за все, начиная с высокой неуклюжей соломенной крыши дома, которую требовалось перекрыть до наступления весенних дождей. Сестра Надя, все еще томившаяся ужасным воспоминанием недавнего недуга, как-то дичилась нас, и поэтому я, оставив жену на некоторое время у ее братьев, уехал в Степановку, т. е. к сестре Любиньке и Алекс. Никитичу. Последний помогал мне и делом, и. словом. Так, пока я отыскал плотников для переделки крыши и кровельщика, покрывавшего ее за ними вслед железом, — Александр Никит, устроил мне перевозку нашей мебели из Москвы его крестьянами на их великолепных подводах. Он знал, что крестьяне ехали в извоз до Москвы и будут рады не разыскивать там обратной клади, а нагрузят мою, которую складывать придется за три версты от своих дворов. Те же крестьяне привезли мне и заказанный мною заблаговременно паркет в три комнаты. Помню, что Тургенев впоследствии, в бытность свою в Степановке, говорил: «Ведь вот ни у одного немецкого профессора не найдете паркетного пола, а здесь сейчас давай паркет». Но он забыл, что гладкий дубовый пол — единственный, который русская прислуга не в состоянии на другой же день испачкать до невозможности.
Так как, с одной стороны, мы не имели права стеснять нашею мебелью московскую хозяйку, а с другой — крестьяне не могли выжидать позднейшей ее отправки, то оказалось, что мебель и рояль прибыли в Степановку единовременно с паркетом, когда только что сняли соломенную крышу. А так как полы предстояло в то же время застилать паркетом, то приходилось с большинством мебели невероятно тесниться в единственном каретном сарае, размещая рояль и более дорогую мебель в двух комнатах, в которых полов менять не предстояло. Понятно, что, пробыв целый день на стройке, я ехал ночевать к зятю. Помню, как однажды вечером я приехал к нему с лицом, намокшим от мелко сеявшего дождя. Мне постлали постель на диване в уборной, и я по обычаю схватил первое попавшееся чтение на сон грядущий. Хозяева давно ушли в спальню, а меня против обыкновения чтение как-то не погружало в сон. Быть может, меня смущали мелкие капли, падавшие как песчинки, слегка шуршавшие по стеклу. Конечно, подобный дождик был безвреден для моей мебели, так как я еще с осени застлал потолок войлоком и засыпал пеплом; но эта изморось пугала возможностью превратиться совершенно некстати в ливень. Кажись, такого превращения нельзя ожидать в первой половине января. Вдруг послышались один за другим тяжеловесные удары в крышу, а вслед затем грохот крыши слился с громким трепетанием стекол. Спустив ноги с постели и положив на столик роман, я, опустя голову, весь поглощен был равномерным шумом дождя «Что же делается там, в Степановке? — думалось мне, — ведь там должно быть в комнатах на пол-аршина воды». Дверь моей комнаты тихо отворилась, и на пороге в красном шлафроке показался Алекс. Никит. с беспомощным на лице выражением.
— Да, братец! — сказал он. — Да, братец! — ответил я.
Конечно, на другой день, выпив стакан кофею, я полетел в Степановку и с восторгом убедился, что потолок протек только в столовой, в которой не было никакой мебели. Вслед за тем морозы вступили в свои права.
Помнится, в моих «Записках из деревни» я говорил о том мировом событии, которое, имея в виду исключительно сельскую среду, совершилось в ней на моих глазах. Понятно горячее любопытство вопросов, раздававшихся по этому поводу со всех сторон. Спрашивали, очевидно, люди-мыслители, не предвидевшие ничего, подобно самим деятелям. Все чувствовали, что произойдет нечто неслыханное, противоположное всему существующему; но что из этого выйдет — предвидеть никто не мог. Полнейшую невозмутимость всей нашей сельской среды я могу себе объяснить только сравнением.
Мальчик, которому хорошо живется под родительским кровом, отправляется в далекую школу. Отец и мать и бабка обнимают его и плачут; будет ли ему лучше или хуже на чужбине — никому не известно и всех менее ему самому. Но он смутно чувствует приближение свободы, и глаза его сухи; он не хочет и не может обсуждать своего будущего положения.
Я был у зятя в день объявления с церковного амвона высочайшего манифеста об освобождении крестьян. В тот момент слишком было рано задаваться вопросами насчет всенародного значения события. Мы сами вне всяких соображений были исполнены совершенно детского любопытства и рассчитывали по минутам, когда обедня должна быть кончена и крестьяне успеют вернуться из церкви. Во втором часу дня Алекс. Никит., взглянув на двор, крикнул: «А, вот и кончилось: ключник идет к амбару». Через две минуты ключник стоял в передней.
— Ну, что, Семен, слышали манифест?
— Слышали, батюшка Лександр Микитич.
— Ну, что же вам читал священник?
— Да читал, чтоб еще больше супротив прежнего слухаться. Только и всего
Тем временем В. Боткин писал из Парижа 16 апреля 1861:
Письмо твое, милая Маша, я получил и спешу благодарить тебя за него. Да, к удивлению моему, здоровье мое начинает поправляться, хотя я еще очень слаб. Жаль что зрение еще очень плохо. Писать писем сам еще не могу; вообще глазам моим еще не достает твердости и силы: при малейшем напряжении, буквы сливаются и исчезают. Я думаю переехать из Парижа в Паси, хоте это собственно не дача и не деревня, но воздух там лучше, чем в Париже; а потом в моем положении я не смею удаляться от города и от моего доктора. Адрес мой по прежнему. Вижу, милая Маша, что ты очень соскучилась житьем в деревне. Тут действительно нужен характер. Жаль, что мое лето нынче пройдет в лечении, иначе я непременно попробовал бы твоих вкусных яблоков и варенья. — Обними за меня милейшего Фета. Я во всем сочувствую ему; прошу его написать мне, как устраиваются крестьяне? Летом в деревне, я думаю, ты скучать не будешь, а на зиму, конечно, можно приехать в Москву.
Твой В. Боткин.
Наконец то наш домик мало-помалу стал принимать жилой вид. Вначале мая он стоял под зеленою с оштукатуренными потолками и стенами, и я только боялся, что он будет сыр; но и это неудобство с днем уменьшалось, благодаря усиленной топке. Впрочем в течении нашего рассказа нам не раз придется убедиться в простой истине, что нужда мирит со всяким положением и приучает в дурном находить сравнительно хорошее.
В Москве, по просьбе брата Петра, я купил и отдал знакомому каретнику отделать подержанную коляску с таким расчетом времени, чтобы жена моя могла приехать в ней с открытием весны в Степановку. Такие же коляски понадобились в следующем году и нам, и Тургеневу. Старик каретник оказался исправным, и жена моя, по вскрытии шоссе приехавшая в Степановку, рассказала, что ее спутником из Москвы до Ясной Поляны был Л. Н. Тол стой, который, уступив Марьюшке место в своем тарантасе, пересел к жене в коляску, и, кутаясь вечером в мою шинель, уверял, что в силу этого напишет лирическое стихотворение. Но от Тулы жену мою на каждой станции догонял и затруднял в получении лошадей гроб Шевченко, сопровождаемый ассистентами, перевозившими тело его на юг.
Раза с два, в бытность мою у Тургенева в Петербурге, я видел весьма неопрятную серую смушковую шапку Шевченко на окошке, и тогда же, без всяких задних мыслей, удивлялся связи этих двух людей между собою. Я нимало в настоящее время не скрываю своей тогдашней наивности в политическом смысле. С тех пор жизнь на многое, как мы далее увидим, насильно раскрыла мне глаза, и мне нередко в сравнительно недавнее время приходилось слышать, что Тургенев n'etat pas un enfant de bonne maison. Как ни решайте этого вопроса, но в сущности Тургенев был избалованный русский барич, что между прочим, с известною прелестью отражалось на его произведениях. Образования и вкуса ему занимать было не нужно, и вот почему, познакомившись с тенденциозными жалобницами Шевченко, я никак не мог в то время понять возни с ним Тургенева. Впрочем, не смотря на мою тогдашнюю наивность, мне не раз приходилось изумляться отношениям Тургенева к некоторым людям. Привожу один из разительных тому примеров, которыми подчас позволял себе допекать в глаза Тургенева.
Однажды, когда я в Петербурге сидел у Тургенева, Захар войдя доложил: «Михаил Евграфович Салтыков».
Не желая возобновлять знакомства с этим писателем, я схватил огромный лист Голоса и уселся в углу комнаты в вольтеровское кресло, совершенно укрывшись за газетой. Рассчитывая на непродолжительность визита, я не ошибся в надежде отсидеться. Между тем вошедший стал бойко расхваливать Тургеневу успех недавно возникших фаланстеров, где мужчины и женщины в свободном сожительстве приносят результаты трудов своих в общий склад, причем каждый и каждая имеют право, входя в комнату другого, читать его книги, письма и брать его вещи и деньги.
— Ну, а какая же участь ожидает детей? спросил Тургенев своим кисло-сладким фальцетом.
— Детей не полагается, отвечал Щедрин.
— Тем не менее они будут, уныло возразил Тургенев.
Когда по уходе гостя я спросил: «как же это не полагается детей?» — Тургенев таким тоном сказал:- «это уж очень хитрое», — что заставлял вместо хитро понимать нелепо.
Вернувшись из Москвы, жена моя стала с своей стороны ревностно заниматься домашним устройством; а я принужден был хлопотать о постановке купленной мною в Москве конной молотилки. Вдруг получаю следующее письмо Тургенева из Спасского 19 мая 1861:
Fettie carissime, посылаю вам записку от Толстого, которому я сегодня же написал, чтоб он непременно приехал сюда вначале будущей недели, для того чтобы совокупными силами ударить на вас в вашей Степановке, пока еще поют соловьи и весна улыбается «светла, блаженно-равнодушна». Надеюсь, что он услышит мой зов и прибудет сюда. Во всяком случае ждите меня в конце будущей недели, а до тех пор будьте здоровы, не слишком волнуйтесь, памятуя слова Гёте: «Ohne Hast, Ohne Rast», и хоть одним глазом поглядывайте на вашу осиротелую Музу. Жене вашей мой поклон.
Преданный вам Ив. Тургенев.
В письмо была вложена следующая записка Л. Толстого:
Обнимаю вас от души, любезный друг Афан. Афан., за ваше письмо и за вашу дружбу и за то, что вы есть Фет. Ивана Сергеевича мне хочется видеть, а вас в десять раз больше. Так давно мы не видались, и так много с нами обоими случилось с тех пор. Вашей хозяйственной деятельности я не нарадуюсь, когда слышу и думаю про нее. И немножко горжусь, что и я хоть немного содействовал ей. Не мне бы говорить, не вам бы слушать. Друг — хорошо; но он умрет, он уйдет как-нибудь, не поспеешь как-нибудь за ним; а природа, на которой, женился посредствен купчей крепости, или от которой родился по наследству, еще лучше. Своя собственная природа. И холодная она, и несговорчивая, и важная, и требовательная, да зато уж это такой друг, которого не потеряешь до смерти, а и умрешь — все в нее же уйдешь. Я впрочем теперь меньше предаюсь этому другу, у меня другие дела, втянувшие меня; но все без этого сознания, что она тут, как повихнулся — есть за кого ухватиться, — плохо бы было жить. Дай вам Бог успеха, успеха, чтобы радовала вас ваша Степановка. Что вы пишете и будете писать, в этом я не сомневаюсь. Марье Петровне жму руку и прошу меня не забывать. Особенное будет несчастье, ежели я не побываю у вас нынче летом, а когда, не знаю.
Л. Толстой.
Не взирая на любезные обещания, показавшаяся из-за рощи коляска, быстро повернувшая с проселка к нам под крыльцо, была для нас неожиданностью; и мы несказанно обрадовались, обнимая Тургенева и Толстого[215]. Неудивительно, что, при тогдашней скудости хозяйственных строений, Тургенев с изумлением, раскидывая свои громадные ладони, восклицал: «Мы все смотрим, где же это Степановка, и оказывается, что есть только жирный блин и на нем шиш, и это и есть Степановка».
Когда гости оправились от дороги, и хозяйка воспользовалась двумя часами, остававшимися до обеда, чтобы придать последнему более основательный и приветливый вид, мы пустились в самую оживленную беседу, на какую способны бывают только люди, еще не утомленные жизнью.
Тургенев, всегда любивший покушать, не оставил без внимания тонкого пошиба нашего Михаилы, которым каждый раз так восхищался Александр Никитич. Выпили и «Редерера», и я очень гордился льдом, которым запасся, благодаря пруду, выкопанному на небольшой изложине прошлого осенью. После обеда мы с гостями втроем отправились в рощицу, отстоявшую сажен на сто от дому, до которой в то время приходилось проходить по открытому полю. Там на опушке мы, разлегшись в высокой траве, продолжали наш прерванный разговор еще с большим оживлением и свободой. Конечно, во время нашей прогулки хозяйка сосредоточила все свои скудные средства, чтобы дать гостям возможно удобный ночлег, положив одного в гостиной, а другого в следующей комнате, носившей название библиотеки. Когда вечером приезжим были указаны надлежащие ночлеги, Тургенев сказал: «А сами хозяева будут, вероятно, ночевать между небом и землей, на облаках». Что в известном смысле было справедливо, но нимало не стеснительно.
Сколько раз я твердо решался пройти молчанием событие следующего дня по причинам, не требующим объяснений. Но против такого намерения говорили следующие обстоятельства. В течении тридцати лет мне самому неоднократно приходилось слышать о размолвке Тургенева с Толстым, с полным искажением истины и даже с перенесением сцены из Степановки в Новоселки.
Из двух действующих лиц, Тургенев письмом, находящимся в руках моих, признает себя единственным виновником распри, а и самый ожесточенный враг не решится заподозрить графа Толстого, жильца 4-го бастиона, в трусости. Кроме всего этого, мы впоследствии увидим, что радикально изменившиеся убеждения Льва Николаевича изменили, так сказать, весь смысл давнишнего происшествия, и он первый протянул руку примирения. Вот причины, побудившие меня не претыкаться в моем рассказе.
Утром, в наше обыкновенное время, т. е. в 8 часов, гости вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я в ожидании кофея поместился на другом конце. Тургенев сел по правую руку хозяйки, а Толстой по левую. Зная важность, которую в это время Тургенев придавал воспитанию своей дочери, жена моя спросила его, доволен ли он своею английскою гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английскою пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которою дочь его может располагать для благотворительных целей. «Теперь, сказал Тургенев, англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности».
— И это вы считаете хорошим? спросил Толстой.
— Конечно; это сближает благотворительницу с насущною нуждой.
— А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.
— Я вас прошу этого не говорить! воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.
— Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден, отвечал Толстой.
Не успел я крикнуть Тургеневу: «перестаньте!» как, бледный от злобы, он сказал: «так я вас заставлю молчать оскорблением». С этим словом он вскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через секунду он вернулся к нам и сказал, обращаясь к жене моей: «ради Бога извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь». С этим вместе он снова ушел.
Поняв полную невозможность двум бывшим приятелям оставаться вместе, я распорядился, чтобы Тургеневу запрягли его коляску, а графа обещал доставить до половины дороги к вольному ямщику Федоту, воспроизведенному впоследствии Тургеневым. Насколько материально легко было отправить Тургенева, настолько трудно было отправить Толстого. Положим, в моем распоряжении была московская пролетка с дышлом; но зато ни одна из наших лошадей не хаживала в дышле. Наконец, я выхожу на крыльцо и с душевным трепетом слежу за моим сереньким верховым в паре с другим таким же неуком, как-то они вывезут гостя на проселок. О, ужас! вижу, что, проехав несколько сажен, пара, завернув головы в сторону, начинает заворачивать назад к конному двору; повернутая там снова на путь истинный, она раза с два повторяет ту же вольту и затем уже бойко отправляется рысью по дороге.
Размышляя впоследствии о случившемся, я поневоле вспоминал меткие слова покойного Нив. Ник. Толстого, который, будучи свидетелем раздражительных споров Тургенева со Львом Николаевичем, не раз со смехом говорил: «Тургенев никак не может помириться с мыслью, что девочка растет и уходит у него из-под опеки».
О том, что затем психологически происходило и произошло, я до сих пор не в состоянии составить себе ясного понятия и представляю только на суд читателя все попавшие ко мне и относящиеся до этого дела письма. Из них читатель, конечно, подобно мне, увидит, что главных писем, доведших дело до такого раздражительного конца, в руках у меня нет; узнать же об их содержании мне, по крайней возбужденности действующих лиц, не представилось возможности. Представляю письма в порядке, в каком они следовали одно за другим.
В тот же день Тургенев писал Толстому:
Милостивый государь, Лев Николаевич! — В ответ на ваше письмо я могу повторить только то, что я сам своею обязанностью почел объявить вам у Фета; увлеченный чувством невольной неприязни, в причины которой теперь входить не место, я оскорбил вас без всякого положительного повода с вашей стороны и попросил у вас извинения. Происшедшее сегодня доказало поутру ясно, что всякие попытки сближения между такими противоположными натурами, каковы ваша и моя, не могут повести ни к чему хорошему; а потому тем охотнее исполняю мой долг перед вами, что настоящее письмо есть, вероятно, последнее проявление каких бы то ни было отношений между нами. От души желаю, чтоб оно вас удовлетворило и заранее объявляю свое согласие на употребление, которое вам заблагорассудится сделать из него.
С совершенным уважением имею честь оставаться, милостивый государь, ваш покорнейший слуга.
Ив. Тургенев.
27 мая 1861.
Спасское.
Тут же следует приписка:
10 1/2 час. ноч.
Иван Петрович сейчас привез мне мое письмо, которое мой человек по глупости отправил в Новоселки, вместо того чтоб отослать его в Богослово. Покорнейше прошу вас извинить эту нечаянную неприятную оплошность. Надеюсь, что мой посланный застанет вас еще в Богослове.
В ответ на это Л. Толстой прислал мне следующее письмо:
Я не удержался, распечатал еще письмо от г. Тургенева в ответ на мое.
Желаю вам всего лучшего в отношении с этим человеком. но я его презираю, я ему написал и тем прекратил все сношения, исключая, ежели он захочет удовлетворения. Не смотря на все мое видимое спокойствие, в душе у меня было неладно, и я чувствовал, что мне нужно было потребовать более положительного извинения от г. Тургенева, что я и сделал в письме из Новоселок. Бот его ответ, которым я удовлетворился, ответив только, что причины, по которым я извиняю его, — не противоположности натур, а такие, которые он сам может понять. Кроме того, по промедлению, я послал другое письмо довольно жесткое и с вызовом, на которое не получил ответа, но ежели и получу, не распечатав возвращу назад. Итак, вот конец грустной истории, которая ежели перейдет порог вашего дома, то пусть перейдет и с этим дополнением.
Л. Толстой.
Тургенев писал Толстому:
Ваш человек говорит, что вы желаете получить ответ на ваше письмо; но я не вижу, что бы я мог прибавить к тому, что я написал. Разве то, что я признаю за вами право потребовать от меня удовлетворения вооруженною рукой: вы предпочли удовольствоваться высказанным и повторенным моим извинением. Это было в вашей воле. Скажу без фразы, что охотно бы выдержал ваш огонь, чтобы тем загладить мое действительно безумное слово. То, что я его высказал, так далеко от привычек при всей моей жизни, что я могу приписать это ничему иному, как раздражению, вызванному крайним и постоянным антагонизмом наших воззрений. Это не извинение, и хочу сказать не оправдание, а объяснение. И потому, расставаясь с вами навсегда — подобные происшествия неизгладимы, невозвратимы — считаю долгом повторить еще раз, что в этом деле правы были вы, а виноват я. Прибавляю, что тут вопрос не в храбрости, которую я хочу или не хочу показывать, а в признании за вами права привести меня на поединок, разумеется в принятых формах (с секундантами), так и права меня извинить. Вы избрали, что вам было угодно, и мне остается покориться вашему решению.
Снова прошу вас принять уверение в моем совершенном уважении.
Ив. Тургенев.
Л. Толстой прислал мне следующую записку:
Тургенев — …, что я прошу вас передать ему так же аккуратно, как вы передаете мне его милые изречения, не смотря на мои неоднократные просьбы о нем не говорить.
Гр. Л. Толстой.
И прошу вас не писать ко мне больше, ибо я ваших, так же как и Тургенева, писем распечатывать не буду.
Нечего говорить, что, отправившись в Спасское, я употребил все усилия привести дело, возникшее, к несчастию, в нашем доме, к какому бы то ни было ясному исходу.
Помню, в какое неописанно-ироническое раздражение пришел незабвенный здравомысл Ник. Ник. Тургенев. «Что за неслыханное баловство! восклицал он: требовать, чтобы все были нашего мнения. А попался, так доводи дело до конца, с пистолетами в руках требуй формального извинения». Так говорил дядя мне, а что он говорил Ивану Сергеевичу — мне неизвестно. Все же мои попытки уладить дело кончились, как видно, формальным моим разрывом с Толстым, и в настоящую минуту я даже не могу припомнить, каким образом возобновились наши дружеские отношения.
12 мая 1861 года Боткин писал из Passy:
Дорогой мой Фет! я получил твое письмо, которое ты написал мне из Степановки, и в то же время Тургенев прочел мне твое письмо к нему. Истинно ужасающая картина, какую ты набросал о своем устройстве или точнее поселении, признаюсь, озадачила меня. Так как дело уже сделано и воротиться назад нельзя, то я об этом и не распространяюсь. Впрочем, я уверен, что для красоты слога ты все несколько преувеличил. Все это пока слова, надобно подождать практических результатов и тогда судить. О болезни моей нового сказать нечего, все идет своим чередом; хотя с величайшею медленностью, но я чувствую, силы мои укрепляются. Я могу уже ходить без поддержки, но не более получаса, потому что очень устаю. Зрение по-прежнему продолжает быть очень слабо, читать не могу. Но эта потребность здесь легко удовлетворяется. Так как надобно же наполнить чем-либо длинные часы дни и удовлетворить потребности знать, что происходит в сем мире, то я завел себе англичанку, которая прочитывает мне Французские и английские газеты, и, кроме того, а начал с нею Гиббона, которого, к стыду моему, еще не читал. Теперь начинаем уже пятый том. Книга умная и необходимая, в особенности для знакомства с Византийскою историей. Жизнь моя во Флоренции была очень приятна до того времени, как началась моя болезнь. Каждый день утром до завтрака я ездил верхом, возвращался в 11 час, завтракал, садился за работу, в 5 час. шел посмотреть газеты, в 6 — обедал, часто у кого-нибудь из знакомых, где оставался вечер. Я пред тобою в большом долгу, ты мне еще писал из Москвы, я все собирался тебе отвечать и протянул до сих пор. Впрочем, твое письмо из Москвы было несколько странного содержания; видно было, что ты писал его в взволнованном состоянии. Не знаю, удастся ли мне нынешним летом побывать у тебя в Степановке, куда сильно стремлюсь. Хотя доктора и обнадеживают меня, что через три месяца мне можно будет ехать в Россию, но как этому поверить? Ты легко поймешь, как мне хочется теперь в Россию. Живу я возле Булонского леса, но только со вчерашнего дня пахнуло весной; до того времени стояли холода. Вероятно, это письмо найдет тебя уже с Машей в Степановке. Если будешь писать ко мне, то пожалуйста пиши поразборчивее, а то я не в состоянии буду прочесть. Напиши мне, как идет крестьянское дело? Есть ли у тебя соседи и каковы? Успешно ли идут твои работы? Слышно, что барщине решительно отказываются работать. Жду от тебя письма с нетерпением, только пожалуйста разборчивого письма. Обнимаю тебя и Машу. Извини, что не франкирую письмо, для того чтоб оно вернее дошло до тебя, что сделай и ты.
Твой В. Боткин
Он же от 16 июня 1861 года писал:
Passy.
Ты в таких хлопотах, любезный мой Фет, что у меня дух захватывает, когда об этом думаю; но не смотря на это, я радуюсь за тебя. Знаю, как трудно иметь дело с простым народом. Мы в этом случае находимся в странном положению, именно: считать ли его за ребенка, который поступает по неразумению и следственно должен внушать сострадание, или презирать его, как нечто испорченное в корне. Но это будет неверно. Впрочем, думай как хочешь, а практика ужасна. Слава Богу, что Маша уже в Степановке; теперь ты покойнее. Ты, конечно и без уверений моих поверишь мне, как я интересуюсь твоим хозяйством, и потому держи меня au courant, что происходит в нем. Не забудь также написать мне Толстом; я адресовал ему письмо в Тулу; не знаю, дошло ли оно до него. Я продолжаю свое лечение по-прежнему, и в будущем месяце доктор мой пошлет меня, кажется, в Пиренеи в Baganéres du Lichon. Хуже всего то, что он сомневается, можно ли мне будет ехать в Россию на зиму; это будет видно только в сентябре. Но так или иначе, а в будущем мае я в Степановке. — Я слышал, что Дружинин болен чахоткой. Это ужасно! Его участие в Веке бесцветно, и чернокнижник, очевидно, опоздал десятью годами. Ты мне не пишешь, заглядываешь ли ты в русские журналы? Великое безобразие в них творится. Петербург скис журналы особенно отличаются им. Напиши, как вы проводите вечера? Я теперь до такой степени окружен скукой и однобразием, что надо много силы, чтобы не впасть в хандру. Читать я еще не могу, а мой доктор говорит, что глаза мои поправятся не прежде шести месяцев. Какова перспектива! Конечно, я могу уже теперь разобрать письмо, но после каждых десяти минут я должен давать отдыхе глазам, иначе в них начинается лом и резь.
В писании то же самое или еще хуже. Слава Богу, что я по натуре еще не склонен к хандре. Извести меня о Тургеневе; что он улаживает ли со своими мужиками, и вообще о том, как это дело идет в вашей стороне? — Что это Маша совсем замолкла? Написала мне письмо с куриный носочек, да и замолкла. Ждешь подробностей о жизни, о знакомых, обо всех мелочах, которые так интересны вдали, и вместо этого находишь только желание «всякого благополучия». Мне уж поистине писать не о чем. Вот разве рассказать о вечере, который давала моя хозяйка и который начался концертом: пел отставной тенор 72 лет (я не шучу) и бас 65 лет. Море пошлостей, которое меня здесь окружает, несравненно хуже всякого невежества. Это царство de lieux communs и, прибавлю, блаженное царство. Прощайте, милые друзья. Письма мне адресуйте по-прежнему.
Навсегда вам верный В. Боткин.
9 июля 1861 года он же:
Passy.
Меня всегда интересуют вести из Степановки, даже и тогда, когда они не облачены в такую милую форму, как последнее письмо. Движение вашей мирной и вместе волнуемой жизни находит симпатический отзыв во мне, и я радуюсь и печалюсь по мере того, как устраивается твое хозяйство. Я верю тому, что никакая разумная деятельность даром не пропадает. Тургенев говорит только, что у тебя глуховато. Кстати: сцена, бывшая у него с Толстым, произвела на меня тяжелое впечатление. Но знаешь ли, что в сущности у Толстого страстно любящая душа, и он хотел бы любить Тургенева со всею горячностью, но к несчастию, его порывчатое чувство встречает одно противное, добродушное равнодушие. с этим он никак не может помириться. А потом, к несчастию, ум его находится в каком то хаосе представлений, т. е. я хочу сказать, что в нем еще не выработалось определенного воззрения на жизнь и дела мира сего. От этого так меняются его убеждения, так падок он на крайности. В душе его кипит ненасыщаемая жажда, говорю ненасыщаемая, потому что, что вчера насытило его, нынче разбивается его анализом. Но этот анализ не имеет никаких прочных и твердых реагентов и от этого в результате своем улетучивается ins blaue hinein. А не имея под ногами какой-нибудь твердой почвы, невозможно писать. И вот где причина, почему он не может писать, и до тех пор это продолжится, пока душа его на чем-нибудь успокоится. Прилагаю здесь маленькую записочку к нему, которую при случае и пожалуйста ему перешли. Я ему уже писал, адресовал в Тулу, но верно письмо не дошло до него.
Спасибо тебе! На нынешний раз ты написал так разборчиво, что я без малейшего труда пробежал твое письмо. Глаза еще очень слабы и ломят от малейшего напряжения. Лечение мое продолжается по-прежнему. Всего более огорчило меня то, что мой доктор оставляет меня на зиму на Париже, говоря, что необходимо мне быть на его глазах. Целую неделю я был от этого в отчаянии, но потом сообразив, что доктор мой уже так значительно помог мне, решился следовать его совету. Во-первых, я не люблю парижской зимы и этих домов, где все на живую нитку, и во-вторых, не люблю ни французской жизни, ни французских нравов, ни французских людей. С каким наслаждением я променял бы теперь Париж на Москву! Но до тех пор, пока не поправятся глаза мои, мне нечего и думать о работе. Ты воображаешь, что я занят. Увы! по большей части только толчение воды. Я никак не могу привыкнуть слушать чтение, и половина из него пропадает попусту. Читая сам, размышляешь, останавливаешься, иное перечитываешь снова, и все идет споро. При слушании совсем не то. Что касается до интересов, то мне кажется самому, что с ослаблением моих сил и зрения, они стали как будто живее. Но ведь теперь это чистая ирония. Но особенно рад я тому, что ты, Маша, не скучаешь: да и как скучать, когда есть чтение, музыка и прогулка. Сравни мое положение с твоим и возликуй душой. Тургенев и Толстой видели меня при начале моей болезни и конечно сказали вам, на что я был тогда похож. Теперь надо думать о том, как устроить себя на зиму: тепло и солнце для меня необходимы. Вам смешно покажется, что я в начале июля думаю уже о зимних квартирах.
Ваш В. Боткин.
Тургенев писал из Спасского 25 августа 1861 года:
Увы! и тысячу раз увы, мой дорогой Афанасий Афанасьевич, — по зрелом соображении не могу я быть у вас, как бы того ни хотелось, не могу пострелять еще с вами, выпить Редерера… Я уезжаю отсюда через три дня и не останавливаясь скачу в Париж. Очень, очень мне это больно, но надо покориться необходимости. Очень мне также досадно, что я не успел дать вам прочесть мой роман и услышать от вас дельное слово и умный совет. Что делать! В апреле месяце, если Бог даст, при пенья соловьином я вновь увижу вас, певец весны. Пишите мне в Париж, poste restante, а я буду отвечать вам, смею прибавить, с обычною аккуратностью. Будьте здоровы, это главное; не смущайтесь хозяйственными дрязгами и не гоняйте от себя прочь Музу, когда она вздумает посетить вас. Передайте мой усерднейший поклон Марье Петровне и соседям вашим также поклонитесь от меня. Приезжайте сюда в сентябре: здесь бывает отличная вадьдшнепиная охота, в которой я, к горю моему, участия не приму… Но Афанасий с Весной будет вам сопутствовать. Еще раз крепко жму вам руку и целую вашу патриархальную бороду.
Ваш Ив. Тургенев.
Из Парижа он же от 23 сентября 1861 года:
Сердцу моему любезнейший Фет, я приехал сюда с неделю тому назад, но только на днях поселился на квартире, адрес которой вам посылаю: rue de Rivoli, 210, та же квартира, что и в прошлом году. Дочь свою я нашел, как говорится, в лучшем виде и остальных знакомых тоже; ездил в Куртавнель, и, глядя на зеленую воду рва, вспоминал о вас. С Боткиным виделся сегодня; он ездил прогуляться в Женеву и вообще смотрит молодцом, хотя все еще недоволен своими глазами; но должно полагать, что к весне он совершенно поправится. Я ему много рассказывал; как вы можете себе представить, мы смеялись и беспрестанно переносились мыслию в необозримые поля, окружающие Степановку. Каково-то вы поохотились хоть на вальдшнепов? Здесь стоит такая теплынь, что все ходят в летних штанах. — Это не письмо, а так записочка, назначение которой задрать вас, т. е. вызвать от вас ответ, на который с моей стороны последует ответ, — и так далее. А у меня пока все мысли разбежались, словно испуганное стадо баранов, хотя собственно пугаться было нечему: приписываю это внезапной перемене образа жизни, климата и т. д. Здоровье впрочем недурно. Ну, будьте здоровы. Крепко жму вам руку и дружески кланяюсь Марье Петровне, Борисову и всем приятелям.
Ваш Ив. Тургенев.
8 ноября 1861 года он же из Парижа:
О любезнейший Фет, о Иеремия южной части Мценского уезда, — с сердечным умилением внимал я вашем горестному плачу, и в то же время тайно надеялся, что, как говорят французы, черт не так черен, каким его представляют. Нашли же вы добродетельного механика-самоучку, найдете и средство запродать ваш хлеб, который не может не подняться в цене, ибо Франции грозит голод. А потому предсказываю вам, что с терпением и выдержкой вы пробьетесь победоносно через все затруднения, и при нашем свидании весной, «при песнях соловьиных» — все будет обстоять благополучно. Только нужно будет вам брать пример с здешнего императора: он отказывается от всяких излишних построек и издержек, и вы покиньте дерзостную мысль о воздвижения каменных конюшен и т. д. и т. д. Кстати «еще одно последнее сказанье» о несчастной истории с Толстым. Проезжая через Петербург, я узнал от верных людей (ох, уж эти мне верные люди!), что по Москве ходят списки с последнего письма Толстого ко мне (того письма, где он меня «презирает») — списки, будто бы распущенные самим Толстым. Это меня взбесило, и я послал ему отсюда вызов на время моего возвращения в Россию. Толстой отвечал мне, что это распространение списков — чистая выдумка, и тут же прислал мне письмо, в котором, повторив, что и как я его оскорбил — просит у меня извинения и отказывается от вызова. Разумеется, на этом дело и должно покончиться, и я только прошу вас сообщить ему (так как он пишет мне, что всякое новое обращение к нему от моего лица он сочтет за оскорбление), что я сам отказываюсь ото всякого вызова и т. п., и надеюсь, что все это похоронено навек. Письмо его (извинительное) я уничтожил, а другое письмо, которое, по его словам, было послано ко мне через книгопродавца Давыдова, я не получил вовсе. А теперь, всему этому делу de profundius. Ну с, что еще сказать вам? Живу я здесь au jour le jour, пользуясь порядочным здоровьем и не без уныния прислушиваясь ко всему, что доходит сюда из России. Многое можно было предвидеть, многое я предсказывал в Петербурге, но от этого не легче. Господи! уж на что долго продолжается молотьба или правильнее молотие, когда же из нас мука выйдет? Чтение российских журналов не способствует к уменьшению уныния. Что касается до моей повести (о которой так благоприятно отозвался все тот же единственный француз {Делаво, о котором выше говорено, имел привычку, рассуждая, накрывать глаза и усилено перебирать своими костлявыми пальцами, за что в разговоре с Тургеневым я прозвал этого прекрасного человека «ночным фортопианистом», а Тургенев прибавил, что это единственный знакомый мне француз. Если прибавить: из литературного мира, то это будет справедливо.}, «ночной фортопианист»), то она, по причинам внутренним и внешним, не явится раньше весны, а потому мы может быть прочтем ее вместе. Может быть она даже совсем нигде не явится. — Усердный поклон вашей жене, Борисову, его жене, всем соседям, приятелям и вообще всей русской сути, которую вы так браните, но которая издали мне кажется милой. Вам я крепко жму руку и остаюсь преданный вам
Ив. Тургенев.
Несмотря на то, что Степановка находилась от Новоселок на семидесятиверстном расстоянии к югу по мценско-курской большой дороге, Борисовы приехали нас навестить. Но потому ли, что Надя жалела об окончательной разлуке с нами, или под тайным влиянием болезни, которая, по словам Борисова, никогда окончательно не прекращалась, Надя смотрела на наше более чем скромное житье с явным оттенком раздражения.
Наступила осень. Сельские работы пришли к концу, но человеку, занятому небольшим хозяйством не в качестве дилетанта, нечего было думать об отъезде в город, если он не хотел рисковать последними средствами к жизни. Зато неудержимое стремление жены моей в Москву из нашего более чем монастырского уединения было весьма понятно. В начале декабря не. большой снежок позволил нам запрячь нашу троечную кибитку и доехать в ней с горем пополам к Борисовым в Новоселки в ожидании нового снега, т. е. возможности продолжать путь по шоссе. Это ожидание томительно длилось до двадцатых чисел декабря, когда по выпавшему снегу мы переехали на один ночлег к Ник. Ник. Тургеневу в Спасское.
Воспользовавшись любезным приглашением, мы и на этот раз остановились в Москве в доме братьев Боткиных.
Тургенев писал из Парижа от 7 января 1862 года:
Добродетельный и прелестный друг мой Афанасий Афанасьевич, здравствуйте! Получил я два ваши милые и, как водится, парадоксальные письма и отвечаю. Я прежде всего радуюсь за вас, что дела ваши идут не настолько плохо, чтобы лишить вас возможности увидеть царь-пушку, башню-Кутафью, Иверские ворота и другие сердцу вашему любезные предметы. Надеюсь, что вы не будете слишком негодовать на Москву и даже поедете в заседание Общества Любителей Словесности и прочтете в оном стихотворение Тополь. А раннею весной, когда птицы полетят опять «к берегам расторгающим лед», — мы, Бог даст, опять увидимся и опять мирно куликнем, поболтаем и поспорим. Мы и теперь поболтаем, во по пунктам для краткости.
1. Здоровье мое порядочно; в Париже скучаю не очень; дочь свою еще ее выдал, и ничего еще не видится в туманной дали будущего.
2. В Revue des deux mondes появился перевод «Дневника лишнего человека» и произвел неожиданный Эффект.
3. Узнал я через Достоевского, что Островский привез в Петербург оконченную драму в стихах: Минин. Удивился и взволновался и думаю, что это может быть выйдет нечто великое, во всяком случае замечательное.
4. Боткин здравствует, дает квартетные утра, жалуется на глаза и ест гигантски.
5. Повесть моя, к сожалению моему, вследствие различных сплетен, появится в первой или во второй книжке Русского Вестника. Говорю, — к сожалению, — потому что я ею не совсем доволен. Прочтете, скажете свое суждение.
6. Насчет англичан, которых я сам очень люблю, вы дали маху. По воскресеньям они точно запирают все лавки, исключая, заметьте, — исключая кабаков, в которых народ может невозбранно упиваться до последних степеней безобразия. Водка все побеждает, даже английский пуританизм.
7. Прочтите в Современнике повесть Помяловского: «Молотов» — нос ваш учует нечто похожее на свежее веяние чего-то похожего на талант.
А теперь без пунктов: видели ли вы Толстого? Я сегодня только получил письмо, посланное им в сентябре через книжный магазин Давыдова (хороша исправность купцов русских!) — ко мне. В этом письме он говорит о своем намерении оскорбить меня, извиняется и т. д. А я почти в то самое время, вследствие других сплетен, о которых я, кажется, писал вам, посылал ему вызов и т. д. Изо всего этого должно вывести заключение, что наши созвездия решительно враждебно двигаются в эфире, и потому нам лучше всего, как он сам предлагает, избегать свидания. Но вы можете написать ему или сказать (если вы увидите), что я (без всяких фраз и каламбуров) издали его очень люблю, уважаю и с участием слежу за судьбой, но что вблизи все принимает другой оборот. Что делать! нам следует жить, как будто мы существуем на различных планетах или в различных столетия.
Боткин сегодня был у меня и велит излить перед вами всю свою нежность. Он извиняется, что не пишет, не уверяет, что любит вас искренно и сердечно. — Поклонитесь от меня всем приятелям, разумеется, начиная с вашей жены. Вы вероятно увидите Маслова, пожмите ему руку. А об герре О… надо подумать. Неужели так всем деньгам и пропадать!
Ваш Ив. Тургенев.
14 января 1862 года он же:
Париж.
Любезнейший Афанасий Афанасьевич, прежде всего я чувствую потребность извиниться перед вами в той совершенно неожиданной черепице (tuille, как говорят французы), которая свалилась вам на голову, по милости моего письма. Одно, что меня утешает несколько, это то, что я никак не мог предвидеть подобную выходку Толстого и думал все устроить к лучшему, оказывается, что это такая рана, до которой уже лучше не прикасаться. Еще раз прошу у вас извинения в моем невольном грехе. О себе ничего не могу сказать утешительного: я был довольно сильно болен, так что даже пролетал дней шесть в постели, и до сих пор не могу поправиться как следует: какой-то черт сидит во мне до сих пор в виде головной боли, постоянной ломоты во всем теле, страшнейшего насморка, отсутствия аппетита и т. д. Будем выжидать чем все это кончится. Впрочем, жизнь течет однообразно и глупо-глухо, как болотная рыжая речка по подводным камышам и травам. На днях я привел к окончанию все мои поправки в новой повести и отдал их некоему Щербаню, который повезет их в Москву. По напечатании прочтите и сообщите свое, нелицемерное мнение. И очень интересует меня Минин Островского и ваше суждение о нем. Надеюсь, что вы уже сообщили мне это суждение,
Спасибо заранее за коляску; я уверен, что, не находясь в необходимости скупиться, вы закажете прелестную и комфортабельную вещь, в которой мы будем разъезжать с вами и, надеюсь, удачнее, чем в прошлом году.
А стихотворение Тополь уже прочтено вами в Обществе Любителей Российской Словесности. — Сознайтесь!
Кланяйтесь всем хорошим московским приятелям и не сердитесь слишком на Аксаковский День. Борисов писал мне о вашей статье: Лирическое хозяйство. Я уверен, что это будет прелестно, хотя крайне несправедливо. Поэт может быть несправедливым в известном смысле, хотя в другом смысле он должен быть справедлив, как божество.
Еще раз кланяюсь всем, дружески жму вам руку и остаюсь преданный вам
Ив. Тургенев.
В. Боткин писал:
Париж
28 января 1862.
Милая моя Маша и дражайший мой Фет!
Давно я не писал к вам, но вы не должны выводить из того, что я отдалился от вас, или что я вас люблю менее прежнего, это будет неправда; не писал я оттого, что мне крайне затруднительно писать. Сколько писем написал я к вам, но увы! письма залеживались неоконченными, а время уходило. Хотелось сказать многое, и в результате выходило, что не говорилось ничего. Но вы не сомневайтесь в моей к вам привязанности. Близится, близится время моего отъезда отсюда, и свидания с вами; дай Бог только, чтобы здоровье мое поддержало меня: и страшит, и радует меня этот дальний путь. Но когда я оставляю Париж, вы уже давно будете в Степановке; как-то попаду я туда? Что скажу вам о себе? Общее состояние моего здоровья, без сомнения, поправилось; из борьбы с болезнью я вышел хотя далеко не победителем, но по крайней мере уцелевшим; наша взяла, хотя рыло в крови. На организме остались глубокие следы болезни, например, на глазах моих: одним глазом я вижу очень мало, а другим слабо; в организме нет сил, почти постоянно чувствуя себя усталым, а иногда и говорить трудно от слабости. С такими условиями жизнь для меня уже не прежний цветущий луг. Но не думайте, что я упал духом или впал апатию; напротив, все живое прежнее словно окрепло во мне; мне кажется, что я ближе стал к своей молодости и яснее понимаю те immer grünen Gefühle, о которых говорит Жан-Поль. Все прежние боги сохранили ко мне свою благосклонность, исключая одной Венеры; ну да с ней я уже давно был в холодных отношениях. Но зато Аполлон, кажется, удвоил свою благосклонность ко мне. В самом деле, способность чувствовать прекрасное не только не угасла во мне, но, кажется, удвоилась. Нет, тысячу раз неправда, что жизнь обманывает нас, и что напрасно нам даны наши лучшие стремления. В 50 лет я имею право говорить о них уже с уверенностью опыта. С этой далекой станции яснее видишь пройденный путь, яснее видишь своих истинных и ложных друзей. И что же! К чему стремилась душа в юности, то оказывается неизменным; в предчувствии чего она находила счастье, то и теперь дает ей счастье. Неисследимы тайны человеческого духа, и не может бедный ум мой проникнуть в их глубины, да я отказался уже от этих тщетных усилий, от всех определений. Одно знаю я, что существует что-то, называемое людьми мыслию, что-то, называемое поэзией, искусством, которое дает мне величайшее счастие, и с меня этого довольно. Знаю я, что потеря этих ощущений равняется для меня смерти, и пока живы органы, которыми я могу ощущать это, я властитель бесконечного пространства. Что мне за дело, что человек есть в сущности бессильный червь, который каждую минуту гибнет и сливается с этою бесконечною жизнью вселенной, — но пока этот червь существует, он имеет способность испытывать неизреченные наслаждения. Что мне за дело, что я не знаю абсолютной истины, но я знаю то, что мне кажется истиной. Боже меня сохрани выдавать мое воззрение за единственно истинное, но оно хорошо для меня, а ведь в сущности всякий должен делать свое счастье. Жизненная мудрость состоит в том, чтобы обедать куском черного хлеба и есть его с наслаждением, или, как говорят музыканты, производить великие эффекты малыми средствами.
Зимняя жизнь моя в Париже устроилась, сверх моего ожидания, очень приятно. Во-первых, большой ресурс для меня Тургенев, следовательно есть всегда возможность обменяться живым словом, а это великое дело! Потом есть несколько близких знакомых, а в довершение всего я завел у себя раз в неделю квартет, составленный из артистов, поставивших себе специальною целью последние квартеты Бетховена. Уже одна такая задача достаточно свидетельствует об их качествах. Одного я жалею, что тебя здесь нет, это бы усладило тебя. Это дало мне возможность хорошо узнать последний и самый потрясающий стиль Бетховена. На эти квартеты собираются мои знакомые, в том числе M-me Виардо, самая энтузиастическая поклонница этого рода музыки. По субботам бывают вечера у нее, — там пение. По воскресеньям бываю в Concerts populaires, которые устроились с начала зимы, и где исключительно исполняют классическую музыку, — и очень недурно. Я близко сошелся с Шульгофом, — словом, музыка теперь преобладающий элемент моей жизни. Может — быть это причиной того, что я не впадаю в хандру. Это самый животворный источник для души. Это не в укор тебе будь сказано, любезный мой Фет. Впрочем, художники слов или, вернее, музыканты слов редко понимают музыкантов звуков. Только такие половинчатые натуры, как я, могут заглядывать в обе эти сферы, столь родственные и столь отдельные в специальном своем развитии. Нигде не видно, чтобы величайший музыкант слов, Гёте, любил музыку. О русской литературе знаю я больше из объявлений о книгах и журналах, иногда удается поймать иной номер журнала; так удалось мне прочесть статью В. Стасова о Брюлове. Превосходная статьи. Теперь томлюсь жаждой прочесть Минина. Повесть Тургенева Отцы и Дети уже сдана с исправлениями Щербаню, который на днях уезжает в Москву. Вот поднимутся крики и толки.
Ваш навсегда В. Боткин.
Если память моя, так верно хранящая не только события, важные по отношению к дальнейшему течению моей жизни, но даже те или другие слова, в данное время сказанные, тем не менее не удержала обстоятельств, возобновивших мои дружеские с Толстым отношения после его раздражительной приписки[216], то это только доказывает, что его гнев на меня явился крупною градиной в июле, которая должна была сама растаять, хотя предполагаю, что дело произошло не без помощи Борисова. Как бы то ни было, но Лев Николаевич снова появился на нашем горизонте и со свойственным ему увлечением стал говорить мне о своем знакомстве в доме доктора Б-а.
Воспользовавшись предложением графа представить меня семейству Б-а, я нашел любезного и светски обходительного старика доктора и красивую, величавую брюнетку жену его, которая, очевидно, главенствовала в доме. Воздерживаюсь от описания трех молодых девушек, из которых младшая обладала прекрасным контральто. Все они, невзирая на бдительный надзор матери и безукоризненную скромность, обладали тем привлекательным оттенком, который французы обозначают словом du chien[217]. Сервировка стола и самый обед повелительной хозяйки дома были безукоризненны. Однажды, когда с чашками послеобеденного кофе мы сидели в гостиной, а хозяйка на кресле под окном щипчиками клала себе в рот из ящичка какие-то черные кусочки, я не мог не спросить: «Что это вы кушаете?» и услыхал: «Березовые уголья».
До нас доходили слухи, что Толстой с необычайным постоянством и увлечением посещает любезное семейство доктора. В последнем не трудно было мне убедиться лично: я видел, что Толстому тут хорошо, но кто преимущественно виной очарования, — отгадать не мог.
Однажды утром, когда сожитель наше по флигелю, красивый и всегда приветливый турист, один из четырех членов фирмы, Николай Боткин уехал со двора, в передней раздался звонок, и каково было мое изумление, когда в комнату вошел в драгунском полковничьем мундире Насилия Павлович М-ъ. В течении последних двух лет, до крайности стесненный экономическими делами, я пробовал напоминать Василию Павловичу о четырехстах рублях за уступленного ему Глазунчика. Но убедившись в полной с его стороны невозможности заплатить долг, я счел дальнейшие напоминания бесполезною назойливостью и замолчал. Не взирая на это, мы встретились самым дружественным образом, и Василий Павлович передал мне, что, назначенный командиром бывшего моего Кирасирского Военного Ордена полка, переименованного в Драгунский, он в настоящее время отправляется к месту назначения и рад возможности обнять меня. Когда мы сообщили друг другу наиболее для нас интересное, в передней снова раздался звонок, видимо смутивший Василия Павловича, который, со свойственною ему застенчивостью, хватаясь за боковой карман, сказал: «У меня здесь небольшой вам должок. Извините Бога ради. Вот 400 рублей за Глазунчика да еще 100 рублей за парадный вальтрап. Где вы сегодня обедаете?» прибавил он скороговоркой.
— Где вам угодно, отвечал я, — я совершенно свободен.
— Нельзя ли бы как-нибудь попасть в Купеческий клуб? Там сегодня, я слышал, уха.
В это время в дверь вошел Николай Петрович Боткин, и, познакомив его с М-ым, я сказал: «насчет Купеческого клуба ни к кому нельзя лучше обратиться чем к Николаю Петровичу».
— Теперь по случаю ухи, отвечал Николай Петрович, билеты все разобраны, и законного пути для входа туда более нет. Но приезжайте в 5 часов и вызовите меня ввести вас мое дело.
В назначенный час, спустившись с лестницы, мне на встречу, Николай Петрович, один из старшин клуба, передал Василию Павловичу свой членский билет, и взяв его под руку, ввел в залу. Нечего говорить, что в скором времени за обедом слуга принес мне стакан редерера от Василия Павловича и тем напомнил мне давнюю старину. Когда по окончании обеда мне, не играющему ни в какие денежные игры, стало скучно, и я хотел проститься с Василием Павловичем, — мне сказали что он засел в лото. Волей-неволей приходилось ждать, так как он сказал, что скоро кончит.
— Ну что, чем кончили? спросил я вышедшего оттуда через час М-а.
— Не везет что-то, отвечал он.
— Много ли проиграли?
— Семьсот рублей. Да говорят тут сильная <текст испорчен>палки: пойду там попытать счастья.
— В таком случае позвольте с вами проститься, сказал я и уехал домой.
На другой день Николай Петрович передал что М-ъ не только отыграл проигрыш, но и выиграл рублей тысячу.
В Степановке, куда я уехал один, я нашел следующее письмо Тургенева от 4 февраля 1862 года.
Париж.
Крайне неблагодарно было бы с моей стороны, любезнейший Фет, не отвечать на ваши дружеские и <текст испорчен>ленные письма, и потому я берусь за перо и направляю послание в благословенную Степановку, где, по вашим словам, вы будете через несколько дней. Прежде всего, приветствую вас с возвращением в ваше мирное, сельское убежище, единственно приличное убежище для человека средних лет в нашем роде. Если б я не был так искренно к вам привязан, я бы до остервенения позавидовал вам, и, который принужден жить в гнусном Париже и каждый день просыпаться с отчаянною тоской на душе…. Но что об этом говорить; а лучше перенестись мыслию в наши палестины и вообразить себя сидящим с вами в отличной коляске (по вашей милости) и едущим на тетеревов, — найдем же мы их наконец, черт возьми! В нынешнем году я приму другие меры и надеюсь, что они увенчаются успехом. Если Бог даст, в конце апреля я в Степановке.
Я ожидал отчета о Минине, а вы мне прислали целую диатрибу по поводу Молотова. Знаете ли что, милейший мой? Так же как Толстого страх фразы загнал в самую отчаянную фразу, так и вас отвращение к уму в художестве довело до самых изысканных умствований и лишило именно того наивного чувства, о котором вы так хлопочете. Вместо того, чтобы сразу понять, что Молотов написан очень молодым человеком, который сам еще не знает, на какой ноге ему плясать, вы увидали в нем какого-то образованного Панаева. Вы не заметили двух-трех прекрасных и наивных страниц о том, как развивалась и росла эта Надя или Настя, вы не заметили других признаков молодого дарования и уткнулись в наносную пыль и сушь, о которой и говорить не стоило. Впрочем, это между нами нескончаемый спор: я говорю, что художество такое великое дело, что целого человека едва на него хватает со всеми его способностями, между прочим и с умом; вы поражаете ум остракизмом и видите в произведениях художества только бессознательный лепет спящего. Это воззрение я должен назвать славянофильским, ибо оно носит на себе характер этой школы: «здесь все черно, а там все белое»; «правда вся сидит на одной стороне». А мы, грешные люди, полагаем, что этаким маханьем с плеча топором только себя тешишь. Впрочем, оно, конечно, легче, а то, признав, что правда и там, и здесь, что никаким резким определением ничего не определишь, приходится хлопотать, взвешивать обе стороны и т. д. А это скучно.
То ли дело брякнуть так, по-военному: «Смирно! ум пошел направо! марш! стой, равняйсь! Художество! налево марш! стой, равняйсь!» — И чудесно! стоит только подписать рапорт, что все, мол, обстоит благополучно. Но тут приходится сказать (с умным или глупым, как по-вашему?) Гёте:
«Ja! Wenn es wir nur hicht besser wüssten!»
Я рад, что вы по крайней мере сошлись с Толстым, а то это было уж очень странно; что же касается до прославления моего Нахлебника, то это одно из тех несчастий, которые могут случиться со всяким порядочным человеком. Воображаю, что это будет за мерзость! И пьеса, и исполнители ее одинаково достойны друг друга
До свидания! Крепко жму вам руку, кланяюсь вашей жене, и остаюсь
преданный вам Ив. Тургенев.
5 марта того же года он же:
Париж.
Величественный и прелестный друг мой, Афанасий Афанасьевич, я вчера получил ваше письмо из Степновки от 13 февраля (эка, подумаешь, почта-то, почта-то!) и должен сказать, что оно столь же мило, сколь неразборчиво, und das ist viel! Одолев его в поте лица, я пришел к заключению, что мы с вами совершенно одних и тех же мнений, только за вами водится обычай всякую чепуху взваливать на ум, как сказано у Беранже:
«C'est la faute de Voltaire,
C'est la faute de Rousseau».
Вот и Минин не вытанцовался по причине ума; а км тут ни при чем, просто силы таланта не хватило. Разве весь Минин не вышел из миросозерцания, в силу которого Островский сочинил Рудакова в Не в свои сани садись? А в то время он еще не слушался профессоров. Написать бедноватую хронику с благочестиво-народною тенденцией, с обычными лирическими умилениями, написать ее красивым, мягким и беззвучным языком, — ум мог бы помешать этому, а уж никак не способствовать. Ахиллесова пятка Островского вышла наружу, вот и все. Вероятно, по прочтении моей новой повести, которая едва ли вам понравится, вы и ее недостатки припишите уму. Дался вам этот гонный заяц. Смотрите! {В подлинном письме нарисован заяц, на спине которого написано: ум, — и настигающая его борзая собака, с лицом бородатого человека и с надписью на спине: Фет.}
Но Бог с ним совсем, с умом, и с Мининым, и с литературой. Замечу только, что автор Юрия Милославского Загоскин был так глуп, что удовлетворил бы даже вашим требованиям, а выходило у него не лучше. — Итак, вы в Степановке. Непременно мы должны провести 1 мая вместе. Это уже решено и подписано; разве кто-нибудь из нас умрет, как бедный Панаев. Вот никак не ожидал я, что этот человек так скоро кончит. Он казался олицетворенным здоровьем. Жаль его не в силу того, что он мог бы еще сделать, даже не в силу того, что он сделал, а жаль человека, жаль товарища молодости! Современниик без нового поэта будет ли продолжать свистать? Но я опять вдаюсь в литературу.
Я получаю из деревни преоригинальнейшие письма от дяди. Новейшие усовершенствования крестьянского быта взвинтили его до какой-то отчаянной иронии. Спасские крестьяне удостоили, наконец, подписать уставную грамоту, в которой я им сделал всяческие уступки. Будем надеяться, что и остальные меня, как говорится в старинных челобитнях, «пожалуют, смилуются»!
А жажду я прочесть ваше Лирическое хозяйство. Я уверен, что это вышло преудивительно и превеликолепно. С Борисовым я изредка перекидываюсь письмами: он премилый. Постараемся в нынешнем году поохотиться лучше прошлогоднего. Афанасий, говорят, совсем одряхлел. Это горестно.
Толстой написал Боткину, что он в Москве проигрался и взял у Каткова 1.000 руб. в задаток своего кавказского романа. Дайте Бог, чтобы хоть этаким путем он возвратился к своему настоящему делу. Его Детство и юность появилось в английском переводе и, сколько слышно, нравится. Я попросил одного знакомого написать об этом статью для Revue des deux mondes. Знаться с народом не обходимо, но истерически льнуть к нему, как беременная женщина, бессмысленно. А что поделывает Ясная Поляна? (я говорю о журнале). Ну, прощайте! или нет — до свидания! Кланяюсь вашей жене и крепко жму вам руку.
Ваш Ив. Тургенев.
Итак, подумал я по прочтении письма, — нашего добро душного и радушного Панаева не стало. Чтобы не впасть в невольную ошибку, не буду говорить ничего о материальной жизни его, с которою знаком весьма отрывочно и неосновательно. В словах Тургенева о нем просвечивает то же дружелюбное чувство, которое возникает во мне при воспоминании о нем. Жажда всяческой жизни была для него непосредственным источником всех восторгов и мучений, им испытанных. Не раз помню его ударяющим себя с полукомическим выражением в грудь туго накрахмаленной сорочки и восклицающим, как бы в свое оправдание: «ведь я человек со вздохом!» Уже одно то, что он нашел это выражение, доказывает справедливость последнего.
19 марта того же года Тургенев писал:
Париж.
Милейший Афанасий Афанасьевич, не могу не отвечать хотя коротенькою записочкой на ваше большое и прекрасное письмо, — в котором на сей раз все дельно, верно и — den Nagel auf den Kopf getroffen — за исключением, однако, стихов, которых я со второй строфы до судороги не понимаю. Там есть такой: «хор замер», — от которого шестидневный мертвец в гробу перевернется. Но об этом и о многом другом мы потолкуем при свидании. Господи! как мы будем кричать! и как я буду рад кричать! Вы в Степановке. Поздравляю! Теперь уже не только грачи, но жаворонки прилетели, дороги грязны, снег разрыхлен (экое, однако, выскочило слово!), вода журчит везде и надуваются почки. Славное время! Здесь уже листья распустились и деревья зеленеют, но как-то все холодно и не весной смотрит. Может быть это мне кажется от того, что уже вся душа моя уехала отсюда и витает между нашими оврагами.
Я еще не получил экземпляра моей повести, но уже три письма прибыло: от Писемского, Достоевского и Майкова об этой вещи. Первый бранит главное лицо, вторые два хвалят все с увлечением. Это меня порадовало, потому что сам я преисполнен был сомнения. Я вам, кажется, писал, что люди, которым я верю, советовали мне сжечь мою работу; но скажу без лести, что жду вашего мнения для того, чтобы окончательно узнать, что мне следует думать. Я с вами спорю на каждом шагу, но в ваш эстетический смысл, в ваш вкус верю твердо и скажу вам на ухо, что по вашей милости поколеблен насчет Грозы. Вы пожалуйста, как только прочтете Отцы и Дети, тотчас же за перо и валяйте на бумагу все, что у вас будет на душе. Выйдет очень хорошо, да я же привык понимать вас, как бы иногда темно и чудно ни выражался ваш язык. (Писемский хотел бы видеть в Базаров повторение Калиновича и потому недоволен). Одним словом (говоря вашим стихом), — жду!
Я не могу себе иначе представить вас теперь, как стоящим по колено в воде в какой-нибудь траншее, облеченным в халат, с загорелым носом и отдающим сиплым голосом приказы работникам. Желаю вам всяческих успехов и до-небесной пшеницы. Кланяюсь вашей жене, жму вам руку и до свиданья.
Преданный вам Ив. Тургенев.
6 апреля 1862 года он же:
Париж.
Прежде всего, любезнейший Афанасий Афанасьевич, спасибо за письмо, и еще больше было бы спасибо, если бы вы не сочли за нужное, избивая меня, надеть белые перчатки. Поверьте, я от друзей выносил и умею выносить самую резкую правду. Итак, не смотря на все ваши эвфемизмы, Отцы и Дети вам не нравятся. Преклоняю голову, ибо делать тут нечего; но хочу сказать несколько слов в свою защиту, хотя я знаю, сколь это неблаговидно и напрасно. Вы приписываете всю беду тенденции, рефлексии, уму одним словом. А по настоящему надо просто было сказать — мастерства не хватило. Выходит, что я наивнее, чем вы предполагаете. Тенденция! а какая тенденция в Отцах и Детях, позвольте спросить? Хотел ли я обругать Базарова, или его превознести? Я этого сам не знаю, ибо не знаю, люблю ли я его или ненавижу! Вот тебе и тенденция! Катков распекал меня за то, что Базаров у меня вышел в апофеозе. Вы упоминаете также о параллелизме; но где он, позвольте спросить, и где эти п_а_ры, верующие и неверующие? Павел Петрович верит или не верит? Я этого не ведаю. ибо я в нем просто хотел представить тип С-ых, Р-ов и других русских ex-львов. Странное дело: вы меня упрекаете в параллелизме, а другие пишут мне: зачем Анна Сергеевна не высокая натура, чтобы полнее выставить контраст ее с Базаровым? Зачем старики Базаровы не совершенно патриархальны? Зачем Аркадий пошловат и не лучше ли было представить его честным, но мгновенно увлекшимся юношей? К чему Феничка и какой можно сделать из нее вывод? Скажу вам одно, что я все эти лица рисовал, как бы я рисовал грибы, листья, деревья; намозолили мне глаза, я и принялся чертить. А освобождаться от собственных впечатлений потому только, что они похожи на тенденции, было бы странно и смешно. Из этого я не хочу вывести заключения, что стало быть я молодец, напротив, то, что можно заключить из моих слов, даже обиднее для меня: я не то, чтобы перехитрил, а не сумел; но истина прежде всего. А впрочем omnia vanitas.
Полагаю выехать отсюда через три недели непременно; как нарочно, перед самым концом наклевываются женихи; и знаю, что ничего не выйдет, а нельзя: нужно долг исполнить до конца. Мы, вероятно, объявимся в Россию с великим Василием Петровичем. Заранее радуюсь и Степановке, и нашим беседам, и охотам, и пр., и пр. Здесь деревья распустились совершенно, а весны все еще не было. Холод и холод!
Поклонитесь пожалуйста низехонько вашей жене и прочим приятелям. Дружески жму вам руку и остаюсь на всегда преданный вам
Ив. Тургенев.
P. S. Какова комедия: дворянские выборы во второй книжке Современника! Неужели это не геркулесовские столбы пошлости? Хороши тоже стишки Некрасова, сего первого из современных пиитов российских!
23 апреля 62 года он же:
Париж.
Любезнейший Фет, пишу вам сии немногие строки для того, чтобы известить вас с возможною точностью о времени моего возвращения в Спасское. Сегодня 5 мая по новому стилю, а по старому, по нашему 23 апреля, Егорьев день, когда в первый раз выгоняют стада в поле (а здесь уже хлеба в аршин вышины). Я из Парижа ровно через неделю, т. е. 30 апреля. В Лондоне остаюсь три дня, возвращаюсь в Париж и выезжаю из Парижа в субботу 5 мая, и уже не останавливаясь дую в Спасское, куда, если не сломаю шеи на дороге, прибуду около 15 по нашему стилю, т. е. за месяц или даже больше до охоты. Я из Петербурга дам тотчас знать дяде о моем приезде и ужасно был бы рад встретить вас по прошлогоднему на ступеньках крыльца.
7 мая утром.
Это письмо пролежало два дня у меня на столе, — и полчаса тому назад в мою комнату входит загорелый, мужественный и красивый юноша — Василий Петрович Боткин. Он прямо прикатил из Рима, и мы вместе с ним лупим на родину, о чем он велит вас известить и в то же время кланяется всем, что я делаю такожде и говорю до свидания!
Преданный вам Ив. Тургенев.
XIII
В. П. Боткин в Степановке. — Письмо Л. Толстаго о его женитьбе. — С наступлением зимы едем в Москву; на обратном пути заезжаем Ясную Поляну. — Приезд в Степановку брата Петра. — Тимская мельница.
Можно себе представить наше с женой удивление, когда в половине мая[218] в гостиную к нам вдруг во шел Василий Петрович, бодрый и веселый, которого воображение наше давно привыкло видеть болеющим по разным европейским столицам. Не успели мы обнять его, как следом за ним появился и Тургенев. Конечно, это была одна из самых радостных и одушевленных встреч, и наш Михаила употребил все усилия, чтобы отличиться перед знатоками кулинарного искусства. «Редерер» тоже исправно служил нам с Тургеневым, а ввиду приезда Боткина мы запаслись и красным вином, которого я лично не пил во всю жизнь.
От специальных литературных вопросов разговор мало-помалу попал в русло текущих событий. Так как мы все были преисполнены живой веры в целебность охватившего страну течения, то о главном русле его между нами не могло быть разноречия и споров. Зато я помню, когда вопрос коснулся народной грамотности, я почувствовал потребность настойчиво возражать Тургеневу и жарко его поддерживающему Боткину. Меня поразил умственный путь, которым Тургенев подходил к необходимости народных школ. Если бы он говорил, что должно исправить злоупотребления, внесенные временем в народную жизнь, то я не стал бы с этим спорить. Но он, освоившийся со складом европейской жизни, представлял Россию каким-то параличным телом, которое нужно гальванизировать всеми возможными средствами, стараясь (употребляю собственное его выражение) буравить это тело всяческими буравами, в том числе и грамотностью. В настоящее время я хохотал бы перед картиной параличной страны, которую всякий обязан буравить первым попавшимся ему в руку гвоздем, не зная даже, какое действие произведет этот гвоздь в оживляемом теле; но тогда подобное воззрение, овладевшее, как впоследствии оказалось, руководящими сферами, представлялось мне и неосновательным и обидным. Напрасно представлял я пример, приведенный мне Львом Николаевичем Толстым. Несмотря на ревностное ведение им яснополянской школы, граф однажды сказал мне:
«Всякая наука хороша и прочна, когда основана на органическом запросе. Как только назначишь мужика в старосты, он тотчас же надевает вязаные перчатки, подпоясывает кафтан, берет в руки длинную палку и кричит: „Ну-те, ну-те, бабы, бабы!“ Оставшись на должности с год, он уже в воскресенье намаслит и расчешет голову сынишке и поведет его в церковь, а затем отдаст учиться грамоте».
Со словами графа нельзя не согласиться, так как и сынишка старосты будет через грамотность метить сам в начальники, прочь от сохи. Гнать же поголовно всех от сохи — едва ли у нас целесообразно.
На другой день Тургенев привезший Боткина в своем экипаже, уехал, а Василий Петрович прожил с нами почти два месяца, принимая самое горячее участие в нашем деревенском житье-бытье.
Милый Афанасий Афанасьевич! Вы наверное пеняли на меня и вероятно даже ругали за то, что я не ехал к вам; но я каждый день поджидал дядю, который приехал только вчера вечером, с тем, чтобы опять уехать после завтра. Выходит, что мне вовсе невозможно отправиться к вам в Степановну, так как у нас теперь 22-е, а 27-го мы уже должны выехать из Спасского в Щигровку (25-го вечером лошади должны быть отправлены вперед). А потому ничего не остается вам делать, как немедленно полаяться всем домом и, взяв с собой вашего повара, прибыть в Спасское в ваши объятия. Будем ждать. Надеюсь, что Василий Петрович здоров и в духе. Еще раз до свидания!
Преданный вам Ив. Тургенев.
Вследствие этого письма, мы действительно все поднялись в Спасское, где Боткин остался поджидать нашего возвращения с охоты, но, как видно, соскучился и уехал в Москву.
Не решаюсь описывать наших неудачных с Тургеневым охотничьих похождений в знакомой уже нам леской деревне Щигровке, Жиздринского уезда, из опасения одно образин.
От Боткина получили мы письмо из Москвы:
19 июля 1862 года.
Получил твое письмо, любезный друг, и с прискорбием узнал о довольно плохой удаче вашей охоты. Как мне было досадно, узнав, что вы воротились 9-го. Но все говорили, что вы воротитесь не ранее 13-го или 14-го. Но теперь этого не воротишь. Я слышал, что Чернышевский, Писарев и Серно-Соловьевич арестованы. Передай Тургеневу мой искренний поклон.
Ваш В. Боткин.
8 августа он же:
Москва.
Получил заграничный паспорт и собираюсь выехать. Тургенев остался здесь сутки и уехал; в Москве пусто и скучно; отвожу душу только у Каткова, с которым видаюсь часто.
Известие о буйстве твоих коров привело меня в негодование, надобно это прекратить во что бы то ни стало. Тебе, как видно, нужен удар обухом в лоб, чтобы ты окончательно убедился в чем-нибудь, а рациональность и здравомыслие действуют на тебя слабо. Это я говорю к тому, что ты писал мне, что отдумал строят скотный двор, а почему — мне неизвестно. Это меня очень неприятно поразило. Вот тебе и реприманд; говорю это потому, что Степановка лежит мне близко к сердцу, да не одна Степановна, а все, что касается до вашего нравственного и материального благосостояния. Корова твоя, забодав твоих лошадей, ранила и меня, и мне это больно.
Теперь я с месяц поживу в Германии, а к концу сентября буду в Париж. В Москве вы поместитесь пока у нас; я уже говорил об этом. А в январе Митя непременно перейдет в новый купленный им дон у Покровских ворот. Не беспокойтесь, никого вы не отяготите, а, напротив, доставите удовольствие.
Я видел известную тебе девицу N. и видел ее несколько раз. Какое это розовое и тупое произведение природы! И красивое по чертам лица и формам. Но всякое дерево в тысячу раз занимательнее и интереснее этого существа, более приближающегося к роду коров, нежели людей. К ней как нельзя более идет выражение «dumfe Innerlichkeit», которым характеризует Гегель этих почтенных животных.
Теперь для меня не подвержено сомнению, что летняя резиденция моя будет в Степановке. Дай Бог только дожить до будущего лета. Ты, конечно, заметил новый закон «о потравах». Удобно ли он применяем к делу?
Завтра выезжаю; паспорт взят и все готово. Не забудьте писать. Обнимаю вас крепко.
Ваш В. Боткин.
28 августа 1862 года он же из Берлина:
Ясная, теплая погода, и силы, восстановленные после двухдневного отдыха, наконец чувство искреннего довольства, которое всегда посещает меня, когда я касаюсь немецкой почвы, — все это наполняет мою душу совершенным счастьем, которое хочется разделить с вами, милые друзья. В Берлине я чувствую себя дома, хотя я очень надо знаком с ним. Две ночи, проведенные мною в вагонах, утомили меня донельзя. Приехав в Берлин, я выходил только по вечерам, а дни проводил лежа на диване. Я мало знаком с немецким театром и потому вечера провожу там. Но на первый раз я был неприятно поражен: давали Фауста в какой-то плачевной переделке: стихи Гёте были перемешаны с виршами переделки; это походило на ананас, сваренный в супе. На другой день слушал Оборона, плохую оперу, за исключением двух-трех мест, которых основные мотивы находятся в превосходной его увертюре. Сегодня дают Гёца Берлихиниена — Гёте; вот как угощают немцы. Дорогой я все вспоминал вас и вашу Степановку. Как обработана эта бедная почва, сколько кладется навоза на эти скудные поля! Что бы сделали немцы с почвой Степановки? Переезжая из мутной Польши в немецкую землю, словно вступаешь в какой-то светлый край. Бедное славянское племя! Мы винили Гегеля за то, что он давал славянскому племени низшее значение против германского, — увы! всякий убедится в этом наглядно. Цивилизации вырабатывается не идеями, а нравами.
Да, здесь es wird mir bechaglich zu Muthe; это главное от того, что все мое духовное развитие связано с Германией. Не говоря уже о философии, поэзии, даже немецкий комизм мне по сердцу. И вы! наше русское так называемое образование больше клонит нас к французским нравам, и этого жаль! Да и нравится нам во французском образе ваши то, что составляет дурные его стороны, именно распущенность его, халатность, — это больше всего усваивает себе русский человек. Немецкий дух, который весь состоит из дисциплины, не по натуре нашей. Как жаль, что русские туристы только проезжает Берлин, не вникая в него. Только хорошие школы могут спасти от этого верхоглядства.
Станкевич, Грановский, вся моя юность клонит меня к Германии; все мои лучшие идеалы выросли здесь, все первые восторги музыкой, поэзией, философией шли отсюда. И в этом не ноя вина или вина моего воспитания. Воспитывался я или, точнее сказать, воспитания у меня никакого ее было; вышедши из пансиона (весьма плохого) я ровно ни о чем не имел понятия. Все кругом меня было смутно. как в тумане. Из этого периода я помню только одно: я прочел Фиеско и Разбойников Шиллера, да еще переводы Жуковского из него же. Вот что впервые и навсегда сроднило меня с Германией. С чем-то сроднилось наше молодое поколение? Виноват ли я в том, что мне баллады Шиллера в тысячу раз больше волновали сердце, нежели русские сказки и старинные сказания о князе Владимире? И вот на склоне лет своих я снова приветствую эту страну, которая впервые пробудила в моей душе все, что ей до сих пор дорого. В сущности, как мало меняется человек! Говорят, что старость есть возвращение к детству; нет, не к детству, а к юности;
«Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных чистых дней».
Чем больше вдумываюсь в себя, тем более нахожу в себе то, чем был я в юности; странно, и идеалы даже не изменились, прибавилось только resignation и терпения: две вещи, которых не может понять юность.
Каждое утро гуляю в Tier-Garten, в его тенистых аллеях; так отрадно и все хорошо; только немецкая кухня доедает меня. Стою я в Нôtel de Rome, и table d'hôte очень обилен; по Боже, что это за соединение несоединимых вещей! В Париж намерен я ехать как можно позднее, вероятно в половине октября, а до того времени стану где-нибудь проживать в Германии или на Женевском озере и, следовательно, долго не получу ваших писем. Дай Бог, чтобы на вас пахнуло тем ощущением безотчетного счастия и внутренней гармонии, которая теперь наполняет мою душу.
Ваш В. Боткин.
Между тем Тургенев уехал из Спасскаго заграницу и писал из Бадена 30 августа 1862 года:
Ну вот, carissime, я и в Бадене и беру перо, чтобы возобновить переписку с вами и снова увидать ваши любезные каракули. Путешествие я совершил благополучно, нанял здесь квартиру в тихой улице, где, между прочим, штук двести детей от двух до семи лет (немцы скромны, но плодущи), и намерен прожить здесь около месяца…, я хотел было написать: «ничего не делая», но справедливость требует написать: «продолжая ничего не делать». Край чудесный, зелени пропасть, деревья старые, тенистые, изумрудным мохом покрытие, погода хорошая, виды крася вые, добрые знакомые, здоровье в порядке, чего же более?
4 сентября.
На последних словах: «чего же более?» меня застало известие о плачевном конце предприятия Гарибальди, и я не мог более писать. Хотя мне хорошо известно, что роль честных людей на этом свете состоит почти исключительно в том, чтобы погибнуть с достоинством, и что Октавиан рано или поздно непременно наступит на горло Бруту, — однако мне все-таки стало тяжело. Я убедился, что человеку нужно еще что-то сверх хороших видов и старых деревьев, и, вероятно, вы — закоренелый и остервенелый крепостник, консерватор и поручик старинного закала — даже вы согласитесь со мной, вспомнив, что вы в то же самое время поэт и, стало быть, служитель идеала. Напишите мне несколько слов об охоте, о хозяйстве, о Степановке, о Спасском. Я не получаю никаких известий из дома. Прощайте, будьте здоровы, кланяйтесь вашей жене.
Преданный вам Ив. Тургенев.
Между тем круг нашего знакомства в новой местности поневоле расширялся при посредстве ближайшего соседства зятя Ш…а и сестры, у которых мы нередко бывали, принимая их у себя. Хотя Степановка, как ненаселенное имение, не соприкасалась ни с какими крестьянскими делами, тем не менее наш первый посредник А. Н. M-ов, разъезжая по делам, останавливался у нас пообедать и покормить лошадей, как простой сосед.
— Ну, как идет ваш вольнонаемный труд? спросил он однажды.
— Да ничего покуда, отвечал я. — Слава Богу, неудовольствий с рабочими нет. Вот только из десяти человек один Евсей шумит и, забрав уже большую половину денег до начала уборки, требует всех остальных денег под угрозой ухода.
— Прикажите-ка, когда мне подадут тарантас, подозвать его под крыльцо.
— Это ты, батюшка, обратился М-ов к Евсею, — тут бушуешь? Так ты как забушуешь, сам лучше ко мне приходи, а я тебя высеку.
С этим словом Александр Николаевич был уже в тарантасе, а Евсей не только безропотно дожил до 1 октября, но добровольно прожил еще два года на прежних условиях.
Хотя с ведома моего на горизонте графа Льва Николаевича Толстого уже захаживали матримониальные облачка, тем не менее я был обрадован и поражен письмом от 9 октября:
Фетушка, дяденька и просто милый друг Афанасий Афанасьевич! Я две недели женат и счастлив, и новый, совсем новый человек. Хотел я сам быть у вас, но не удается. Когда я вас увижу? Опомнившись, я дорожу вами очень и очень, и между нами слишком много близкого, незабываемого — Николинька, да и кроме того. Заезжайте познакомиться со мной. Целую руку Марьи Петровны. Прощайте, милый друг. Обнимаю вас от всей души.
Л. Толстой.
В. Боткин писал из Бадена от 8 октября 1862 года:
Не понимаю, куда девались мои письма к вам, которые а послал к вам еще из Москвы и потом писал из Берлина. Неужели все они пропали? А видно так, потому что из вашего письма не видать, что вы получили их. Впрочем ваше письмо еще от 7 августа. Для вас покажется странным, если я скажу вам, что Степановка вступила (внутри меня) в сильный спор с Баден-Баденом. Спор, как видите, неравный, но, несмотря на то, Степановна одерживает верхе. Дело в том, что плененный здешним местом и природой, я вознамерился было купить здесь небольшой chalet, чтобы иметь свой угол. Но выходило так, что все виденные мною chalets или не нравились мне, или были слишком дороги. Но внутри меня была оппозиция, и она-то на все заранее клала темную печать. Если б я мог надеяться на вас; на ваше сожительство со мною, о! тогда бы не колебался. Но ведь тебе, Фет, деятельное занятие необходимо, следовательно, отвлечь тебя от Степановки — значит отдать тебя на съедение ненасытной и мертвящей скуке. Следовательно, мне оставалось жить здесь одному, то есть одичать, оторваться от любимых мною людей. По мнению моего парижского доктора, которое разделяет и Сережа, зима в России есть мой главнейший враг, и на зиму оставаться в России я не должен. Следовально, я в России могу проводить только лето. Все это вопросы, от разрешения которых только путается голова. Тургенев меня очень склоняет купить. Иметь свой угол — великое дело. — Жаль, что пропало мое письмо к вам, которое я писал из Берлина; оно было выражением живейшего удовольствия, которое охватило меня при въезде в Германию. Я прожил в Берлине три недели и прожил не только с удовольствием, но и с пользой для себя. Там вид Гамлета и Генриха IV очень хорошо сыгранными. Опера разнообразна и удовлетворительна, и оркестр прекрасен. При мне же открылась выставка картин, так что все способствовало моему удовольствию. С какою охотой остался бы я в Берлине на всю зиму, если бы зима там была не холодна, — а в Берлине, увы! мороз доходит до 20° Реомюра. А здесь хорошо, погода теплая, и я пишу к вам при открытом окне. Не знаю, случалось ли вам заезжать в Баден, но такого зеленого царства я никогда не встречал. Только красоты Женевского озера могут поспорить с ним и даже решительно одержать верх. Но зато невыгода Женевского озера та, что оно дальше, а Баден в двенадцати часах от Парижа, и потом для лета он соединяет в себе удовольствия деревни и удовольствия города. Горы невысоки, — это только еще начало Альп, — и все сплошь покрыты лесом, так что тень и свежесть повсюду. Да мне кажется, Маша, что ты была здесь. Мне не хочется ехать отсюда, хотя были дни, которых утренние и вечерние туманы были очень пронзительны. Одна беда, по вечерам не знаешь куда деться. Так как сезон уже кончился, то театра нет; впрочем с нынешнего дня говорят, что театр будет три раза в неделю. Я здесь видел Фиделио в очень удовлетворительном исполнении впервые и был многими местами глубоко поражен. По вечерам от скуки захожу в игорные дома и, признаюсь, нужно значительное напряжение рассудка, чтобы удержать в себе поползновение к игре. Да у меня нет претензии бороться со счастьем или, точнее, со случайностью. Недавно граф Сергей Т…, с которым я познакомился в Берлине, наказан был здесь за упорство поймать за хвост случайность. Надежды и расчета на случайность — этих двух вещей не может понять моя голова.
Слава Богу, что журналистика ваша вступила, наконец, на почву здравого смысла. Во всякой другой стране все эти завиральные учения охватывают только слабые головы и политического значения в обществе не имеют. Но у вас, по невежеству, вообразили, что идти наперекор всему, значит быть самым передовым! Семинаристы пустили это в ход. О чем ты собираешься писать теперь? Здесь одна Северная Пчела, но и той рад. Не могу жить без русского журнала. Ну, прощайте!
Вечно ваш В. Боткин.
Запоздавший зимний путь дал нам снова возможность, хотя и на короткое время, побывать в Москве. Кибитка, наложенная до невозможности поместиться в ней втроем, снова повезла нас по обычным этапам, т. е. в борисовские Новоселки и в тургеневское Спасское, где бодрый и веселый старик Николай Николаевич[219] с семьей встретил нас с обычным радушием.
— Разоряет меня мой Иван! — жаловался старик: — вы его знаете; кажется, он не дурак и добрый человек, а ничего я в голове его не пойму. Кто у них там в Бадене третье-то лицо? И все пришли да пришли денег. А вы сами знаете, где их по теперешним временам взять? Мне за 65 лет, а я целое лето провозился с разверстанием калужских крестьян; повар-то здесь, а я-то на квасу да на огурцах. Везде надо обзаводиться своим инвентарем, а цен на хлеб никаких. Да вот потрудитесь прочесть, коли мне не верите. Ликовали, что освобождение крестьян поднимет сельскую производительность и обогатит земледельцев, а во вчерашнем письме он мне пишет: «Я не верю ни в один вершок русской земли и ни в одно русское зерно. Выкуп, выкуп и выкуп!» — Чему же тут верить? Можно ли даже прежние надежды на улучшение быта считать искренними, а не возгласами загулявшего человека, понимающего разорительность своих выходок, но восклицающего: «Пропадай все!»
В Москве мы поместились по-прошлогоднему в доме Боткиных. В эту зиму, по поводу банкротства банкира Марка, Дмитрий Петрович Боткин купил великолепный дом у Покровских ворот, и новые владельцы были озабочены возможностью перебраться в новое помещение к Новому году. Так как в купленном доме на дворе был манеж, то Дмитрий Петрович, намереваясь для моциона ездить верхом, купил прекрасную гнедую лошадь и неоднократно предлагал мне ее для проездки.
В скором времени я с восторгом узнал, что Лев Николаевич с женой в Москве и остановились в гостинице Шеврие, бывшей Шевалье. От вас не ускользнула эта перемена фирмы, столь идущая в данном случае к прелестной идиллии молодых Толстых. Несколько раз мне, при проездках верхом по Газетному переулку, удавалось посылать в окно поклоны дорогой мне чете.
В январе, по случаю новоселья, Дмитрий Петрович затеял маскарад, на котором нам нельзя было не быть и нельзя было быть иначе, как в костюмах. К счастию, добрый знакомый снабдил меня полным костюмом Бедуина, который пришлось мне влачить до самого ужина. Замечательнейшим явлением на этом маскараде была величавая блондинка Норма и красавец брюнет Мефистофель с красным пером на берете, целый вечер не покидавший Нормы. По залам носился шепот, что далеко неблагонадежный в нравственном отношении Мефистофель делает брачное предложение Норме, которая, не будучи в состоянии противиться очарованию, говорит будто бы: «хоть день да мой!»
Смотря на несомненно красивую пару, я умственно повторял изречение милейшего старика Николая Николаевича Тургенева: «Ведь вот милая девушка живет у родителей, которые на нее не насмотрятся; она окружена всеми удобствами, но пусть будочник поманит ее в будку, и она все бросит и пойдет за ним».
Тургенев писал мне из Парижа 26 января 1863 года:
Драгоценный Афанасий Афанасьевич, вы в сердце поразили меня вашим упреком: вы полагаете, что я сержусь на вас!!! и оттого молчу…, а я воображал, что вы меня забыли. Дело в том, что я только сегодня получил ваше письмо, находившееся в poste restante, а вы, вероятно, не получили ни одного из двух писем, пущенных мною к вам. Теперь все дело объяснилось, жаль только, что переписка наша покоилась на лаврах, а главное жаль, что вы могли приписать мне дурное чувство. Но о прошедшем толковать нечего, и давайте снова болтать и бомбардировать друг друга письмами. Я очень рад, что вы скова возвращаетесь в свое степное гнездо; а то вы в Москве либо хандрите, либо слишком прилежно посещаете нашего старинного друга, впрочем почтенного и приятного человека — г. Редерера. Кстати, посмотрел бы я на вас в костюме Мавританца иди Алжирца, которым вы облекли свои члены на бале у Боткиных! Все эти известия доходят до меня через Борисова, с которым мы изредка перекрикиваемся.
Мысль издать все ваши сочинения и переводы — отличная мысль. Должно полагать, что и публике она покажется такового же. Дайте нам также продолжение ваших милейших деревенских записок; в них правда, а вам правда больше всего нужна — везде и во всем.
Боткин вам уже писал, что M-me Виардо положила на музыку: Шопот, робкое дыханье и Тихая звездная ночь. С тех пор она еще прибавила: Я долго стоял неподвижно… Музыка прелесть как хороша и, Бог даст, будет издана в нынешнем году в России, но послать вам ее, пока она не напечатана — невозможно. Потерпите, а ее то приезжайте теперь сюда или летом в Баден. Музыка до того хороша, что стоит путешествия. Изо всех ныне существующих муз, ни одна так упорно не молчала, как моя в это время: даже вашу перещеголяла. Что будет дальше, ее знаю, но что-то совсем притихло. Здоровье зато порядочно, т. е. теперь: зимой было скверно. Ну, да ведь это все суета сует и всяческая суета. — Жму вам крепко руку и усердно кланяюсь вашей жене.
Преданный вам Ив. Тургенев.
P. S. Боткин процветает и дает нам восхитительные музыкальные утра.
В. Боткин писал из Парижа от 4 Февраля 1863 года:
Сию минуту получил твое письмо и спешу отвечать тебе, милый мой Афанасий Афанасьевич; но ты, конечно, уже получил письмецо мое через Митю. Целый месяц ее писал в тебе, потону что чувствовал себя очень не хорошо: это все последствия моей болезни. Нынешнюю зиму я чувствую себя хуже прошлой зимы, так, например, слишком месяц я был так слаб, что не мог даже писать тебе и домашним; и это вследствие раздражения в спинном мозгу. Я уже ее могу так ходить, как ходил летом, — тотчас устаю. Ну, да как-нибудь дотяну до весны, а там и в Москву, а потом в Степановку. Надоели мне эти переезды, да и очень раздражает меня дорога, именно действуя на спинной мозг. А хотелось бы хоть весной, то есть в марте, подышать где-нибудь чистым воздухом, и если силы дозволят, я проеду может быть куда-нибудь на юг Франции. Ужасает только меня одиночество. Здесь все-таки зайдет кто-нибудь. Глубоко встревожило меня известие о восстании в Польше, об отвратительных ужасах, какие совершает там революционная партия. Так был душевно встревожен я, что потерял способность вслушиваться в квартеты, и поэтому должен был прекратить их у себя, а до того времени какое высочайшее удовольствие они доставляли мне!
Скажи пожалуйста, что это Маша не пишет мне? Приписки ее всегда с куриный носик; или в Москве так была развлечена она, что некогда было подумать об отсутствующих? Я подписался на Московские Ведомости и до сих пор не получил еще ни одного номера, а между тем подписавшиеся на Голос и Петербургские Ведомости получают их довольно аккуратно. Должно быть, почтамтские дела редакции Московских Ведомостей в большом беспорядке.
Был здесь Диккенс и устроил публичное чтение. Я ничего не слыхал подобного и был в таком восторге, что написал об этом маленькую статейку и послал к Каткову. Будет ли твоя вторая статья так же удачна, как была удачна первая? А ты мне не пишешь, нравится ли она Каткову? Надеюсь, что ты не оставил без внимания моей просьбы насчет коляски, заказанной иною Ильину; именно, чтобы сделали ее для городской езды, именно так, как ты советовал мне. Да твоя одышка меня очень беспокоит: не нужно ли побывать тебе в Карлсбаде? Я бы принял на свой счет издержки вашей поездки, в этом я прошу тебя мне не отвязывать. Если решишься, то напиши мне тотчас, ведь ты все говорил, что тебе Карлсбад помог много. Запускать ведь хуже; а на шесть недель авось можно будет оторваться от деревенских забот. В таком случае я бы провел время лечения вместе с вами, а по окончании оного и в Россию вернулись бы вместе. Только в таком случае тебе надо раньше начать курс и именно с последних чисел апреля.
Хорошо, что ты сладил с Солдатенковым насчет издания твоих сочинений. Пожалуйста сделай из них построже выбор; ведь дело не в количестве, а в качестве. Пока прощайте, милые друзья. Да подумай серьезно о своем здоровье, а то пожалуй попадешь в такое положение, как я, то есть никуда негодное.
Твой В. Боткин.
Еще в прошлогоднее свое пребывание в Степановке, Василий Петрович, мечтая о новом туда приезде, просил меня пристроить ему специальное помещение, и желая исполнить эту задачу по возможности экономически, я рассчитывал, что, воспользовавшись одною стеной дома, можно возвести двухэтажный двенадцатиаршинный сруб и таким образом выгадать одну крышу. Покупкой и возкой леса следовало озаботиться еще по зимнему пути, и вот почему мы с женой должны были вначале февраля уже возвратиться в Степановку, получив по распоряжению Василия Петровича из конторы 2.000 руб. на его пристройку. Вероятно, и молодым Толстым, не взирая на очарование первого московского сезона недавних супругов, недолго пожилось у Шеврие, и мы на пути из Москвы направились в давно знакомую нам Ясную Поляну, где нам предстояло увидать новую ее хозяйку.
Часов в 9 вечера, в морозную, месячную ночь, почтовая тройка, свернув с шоссе, повезла нас по проселку, ведущему к воротищу между двумя башнями, от которых старая березовая аллея ведет к Ясно-Полянскому дому. Когда мы стали подыматься рысцой на изволок к этому воротищу, то заметили бойко выезжающую из ворот навстречу нам тройку. «Вот, подумал я, как кстати. Тульские незнакомые нам гости со двора, а мы как раз подъедем». Но вот бойкая тройка, наехав на вас, вынуждена, подобно нам, шагом сворачивать в субой с дороги, на которой двум тройкам нет места рядом.
— Возьми поправей-то! кричит своему кучеру седок, лица которого я не могу рассмотреть в тени от высокой спинки саней.
— Это вы, граф? крикнул я, узнав голос Льва Николаевича. Куда вы?
— Боже мой, Афанасий Афанасьевич!.. мы с женой выехали прокатиться. А Марья Петровка здесь?
— Здесь.
— Ах, как я рада! воскликнул молодой и серебристый голос.
— Выбирайтесь на дорогу! воскликнул граф; — а мы сейчас же завернем за вами следом.
Не буду описывать отрадной встречи нашей в Ясной Поляне, встречи, которой много раз суждено было повториться с тою же отрадой. Но на этот раз я невольно вспомнил дорогого Николая Николаевича Толстого, прослушавшего в Новоселках всю ночь прелестную птичку. Такая птичка оживляла Яснополянский дом своим присутствием.
Тотчас по прибытии в Степановку, началась возка строевого леса из Орла и знаменитого камня с Неручи, а при первом угрев работа вчерне закипела, так что к ранней весне можно было уже класть фундамент и становить новую пристройку. В вей выгадывался с одной стороны 4-х аршинный коридор, прямо ведущий в дом и выходящий на другом конце в отдельные севе на двор. Из коридора направо вела дверь в 8-ми аршинную в квадрате комнату для Василия Петровича, со стеклянною дверью на террасу. Из сеней против выходных дверей направо была дверь в комнату 8-ми аршин длины и 4-х ширины для слуги Василия Петровича. Из тех же сеней неширокая лестница в три заворота вела во второй этаж совершенно тех же размеров, с тою разницей, что, за отсутствием коридора, образовалась зала в два света в восемь аршин ширины и двенадцать длины. В эту комнату мы снесли всю нашу библиотеку, и со временем Василий Петрович хаживал туда читать, так как там почти не было мух, за отсутствием жильцов.
В. П. Боткин писал из Парижа 20 Февраля 1863 года:
Получил я твое письмо, любезный друг, и твое, милая Маша, и спешу сказать вам за них большое спасибо. Все время в Москве ты прохворал, и вообще, как кажется, здоровье твое становится рыхлым. До сих пор ты привык мало думать о нем, а надо будет думать. Я жду, какой ты дашь ответ на приглашение мое съездить в Карлсбад.
Это письмо найдет вас уже в Степановке, то есть на гнезде, и жизнь примет свой обычный порядок. А меня совершенно расстроило это проклятое Польское восстание; я в постоянной лихорадке и тревоге. Это хуже войны, в войне соблюдают известные правила вежливости, а тут слепая месть руководит всем. Уж года два, как русского солдата постоянное оскорбляли поляки, — что ж мудреного, что он при случае даст волю своему чувству мести? Когда поляки резали русских солдат, здешние журналы молчали об этом, а теперь кричат о жестокости их. Вообще, брат, я последнее время почувствовал презрение к газетам. Всего менее думают они о правде и справедливости фактов, притом же польская эмиграция здесь въелась во все журналы, так что общее мнение здесь совершенно находится под польским влиянием. Можешь судить, как приятно в такое время быть принуждену жить в Париже. При таких смутных событиях я думаю лучше провести лето в Степановке, чем ехать в Карлсбад. Лишь бы благополучно добраться до Петербурга. Надеюсь, что в Степановке все обстоит благополучно. Ах, милые друзья, скоро ли дождусь я той минуты, когда обниму вас на душистой, степной почве, при веселом шелесте ваших молодых березок? Московские Ведомости наконец получаю, но они как-то вялы и бесцветны, хуже прежней Летописи. Пришлите слова два о себе.
Ваш В. Боткин.
От 16 марта 1863 года он же:
Получил ваше письмо из Степановки, за которое чувствительно благодарствую и радуюсь, что вы нашли все в порядке. Теперь Степановка вероятно приняла вид настоящей, дедовой я хозяйственной фермы. Воображаю, как это должно радовать твое сердце! И потом как отрадно после городского скитания чувствовать себя в своем гнезде и придти в сознание самого себя. Ведь истинное развлечение находишь ты только в самом себе, в ресурсах собственной души.
Совершенно сочувствую твоему стремлению вступить скова в полк, при известии о Польском восстании. Поверишь ли, я с тех пор нахожусь в постоянной тревоге. Не говоря уже о том, что здесь политический горизонт очень мрачен, но само восстание так задумано, организовано и проникнуто таким фанатизмом, что мне кажется невозможно скоро подавить его. В Европе общественное мнение решительно на стороне Поляков, не разбирая того, что претензии и требования Поляков очевидно имеют целью не только ослабление России, но удаление ее из Европы в Азию. Этой цели не скрывают здесь ни журналы, ни английский парламент, и вполне сочувствуют Польскому восстанию, как средству для достижения этой цели. Вот как становится Европой Польский вопрос, и вот что будет значить для нас восстановление Польши. Но наши пустоголовые прогрессисты ничего этого не понимают. Кажется, чувство национальности и любви к отечеству совершенно испарилось из этих легкомысленных голов. Но представим себе Польшу восстановленною, самодержавною, да разве на этом она и успокоится? Разве она не будет всячески стараться вредить России и в этом всегда найдет поддержку в Европе, интерес которой как можно более ослабить нас. А при воинственном, легкомысленном духе Поляков, при их натуральной склонности ко всякого рода авантюрам, — не будет ли это все равно, что завести у себя на западе второй Кавказ? Двадцать лет тревоги и усилий ослабят и разорят нас. Вот как я понимаю восстановление Польши. Для безопасности России необходимо держать Польшу как можно в большей зависимости. Удивительно, что у нас ни один журнал не смотрит на это дело с государственной стороны. А мы еще туда же хвастаем своею пустозвонною журналистикой!!! В Россию я думаю отправиться в последних числах здешнего апреля, так что в первых мая надеюсь быть уже в Москве, а в конце мая поеду к вам дышать благодатным воздухом. Тургенев действительно получил приказание вернуться в Россию, но вследствие письма его к Государю разрешено остаться ему за границей; он, кажется, думает ехать в мае. Кстати, Виардо совсем переселяются в Баден — Баден, где купили себе дом. Мы думали было праздновать свадьбу M-lle Pauline, все уже было почти кончено, как дело разладилось вследствие необыкновенной жажды к деньгам, высказанной претендентом. Да Французы иначе и не понимают брак, как с этой точки зрения. Получаем мы Московские Ведомости, и скажу тебе, что они издаются плохо и неинтересно. С нетерпением ждем романа Писемского.
24 марта.
Душевная тревога, произведенная во мне Польским возмущением, не утихает и стала хроническою. Читать иностранные газеты нет возможности: до такой степени они полны клозетами и ненавистью к России. Все рады возможности ослабить и уничтожить Россию; наша одна надежда на силу и мощь России. Я никогда не подозревал в себе такой национальной струны, которая теперь обнаружилась все другое замерло во мне.
26 марта.
Хоть понемногу, а все пишу к вам; это доказывает, что я беспрестанно думаю о вас. Сегодня получил твое письмо — спасибо. Вчера добыл книжку Русского Вестника за январь. Заметка Каткова о Польских делах превосходна: вот настоящий государственный взгляд на дело. Наши безмозглые прогрессисты не могут понять его, драпируюсь в свой абстрактный и пустой либерализм. Поляки говорят: «между Русскими и нами не может быть иных отношений, кроме взаимного истребления и ненависти». И это правда. Поляки хотят нам сесть на шею, они правы, а мы хотим у них сидеть на шее, и мы правы, и будем стараться сидеть: это вопрос национальный, а вовсе не о большем или меньшем либерализме. Нам на Европу нечего рассчитывать, Европа всегда будет за Поляков. Нам надобно быть сильным и крепким, вот в чем наша надежда. Теперь кажется, войны не будет, но она могла бы быть и может быть. Цель Поляков вовсе не конституция, а прогнать и забить нас в Азию и обратить Россию в слабое второстепенное государство. Вот этой-то цели не понимают наши мальчишки-прогрессисты.
Твоей статьи в первом номере Русского Вестника еще не читал, но слышал, что она хуже твоей прошлогодней. Теперь начал читать Казаки Толстого, где надеюсь найти бездну прекрасного. Ты пишешь о клевере, — да посеешь ли ты его? Уж наверное ты как-нибудь умудришься копеешничать, а после будешь себя проклинать. Хоть ты, Маша, как-нибудь вразумляй его, помня что денежка рубль бережет. А о моем помещении не очень хлопочи, как-нибудь устроюсь. Да вот что пришло мне в голову: если я возьму с собой слугу, то будет ли ему где поместиться? А это может случиться, потому что одному ехать тяжело, я это уже испытал прошлого года, возвращаясь от вас. Спешу отправить письмо. Выехать думаю около 20 или 25 апреля.
Ваш В. Боткин.
Тургенев писал из Парижа от 7 апреля 1863 года:
Любезные друзья, Афанасий Афанасьевич Фет и Иван Петрович Борисов! Позвольте написать вам обоим купно, хотя вы мне писали отдельно, но времени у меня вдруг стало мало (я на отъезде отсюда); а имею я сказать вам обоим одно и то же, начиная с того, что я искренно вас обоих люблю и помню. Для быстроты дела буду писать по пунктам.
1. Я еду отсюда не в Россию, а в Баден, где теперь еще никого нет, и где я буду работать с остервенением в течении двух месяцев (я во всю зиму пальца об палец не ударил), а в июле, если Бог даст, прибуду в Спасское на тетеревов. Мое присутствие там необходимо, не столько впрочем для тетеревов, сколько для других соображений. Считаю излишним говорить вам, с какою радостью я вас обоих увижу.
2. Могу вам сказать, что мое дело кажется благополучно окончилось. Мне прислали сюда запросы весьма маловажные, я немедленно отвечал, и теперь, я думаю, все сдано в архив.
3. «Казаков» я читал и пришел от них в восторг (и Боткин также). Одно лицо Оленина портит общее великолепное впечатление. Для контраста цивилизации с первобытною, нетронутою природой не было никакой нужды снова выводить это возящееся с самим собою скучное и болезненное существо. Как это Толстой не сбросит с себя этот кошмар! А кстати, каков романчик Чернышевского в Современнике! Вот прелестью!
4. У вас, кажется, все идет потихонечку, как следует быть. И слава Богу. Не в состоянии вам передать, до какой степени меня мучают Июльские дела… Здесь все готовятся к войне.
5. Здоровье мое не совсем удовлетворительно: старая болезнь меня кусает. Может быть летом дело исправится.
Засим жму вам обоим руку или руки, крепко накрепко обнимаю вас и остаюсь
любящий вас Ив. Тургенев.
P. S. Я направил это письмо на ваше имя, дорогой Иван Петрович, но вы доставьте его владельцу Степановки.
Л. Н. Толстой писал того же 1863 года:
Ваши оба письма одинаково были мне важны, значительны и приятны, дорогой Афанасий Афанасьевич. Я живу в мире столь далеком от литературы и ее критики, что, получая такое письмо, как ваше, первое чувство мое — удивление. Да кто же такое написал Казаков и Поликушку? Да и что рассуждать о них? Бумага все терпит, а редактор за все платит и печатает. Но это только первое впечатление, а потом вникнешь в смысл речей, покопаешься в годов и найдешь там где-нибудь в углу между старым забытым хламом, найдешь что-то такое неопределенное, под заглавием художественное. И сличая с тем, что вы говорите, согласишься что вы правы, и даже удовольствие найдешь покопаться в этом старом хламе и в этом когда-то любимом запахе. И даже писать захочется. Вы правы, разумеется. Да ведь таких читателей, как вы, мало. Поликушка — болтовня на первую попавшуюся тему человека, который «и владеет пером»; а Казаки — с сукровицей, хотя и плохо. Теперь я пишу историю пегого мерина; к осени, я думаю, напечатаю. Впрочем теперь как писать? теперь незримые усилия даже зримые, и притом я в юхванстве опять по уши. И Соня со мной. Управляющего у нас нет, есть помощники по полевому хозяйству и постройках, а она одна ведет контору и кассу. У меня и пчелы, и овцы, и новый сад, и винокурня. И все идет понемножку, хотя, разумеется, плохо сравнительно с идеалом. — Что вы думаете о Польских делах? Ведь дело-то плохое Не придется ли нам с вами и с Борисовым снимать опять меч с заржавленного гвоздя? Что ежели мы приедем в Никольское, — увидим мы вас? Когда вы будете у Борисовых? Не пригоним ли мы так, чтобы вместе съехаться? Прощайте! Марье Петровне мой душевный поклон. Соня и тетенька кланяются.
Л. Толстой.
Однажды далеко до сенокоса приехал к нам, к немалой радости нашей, Петр Афанасьевич. Улучив минуту, когда мы были с ним одни, он вдруг неожиданно повел следующую речь:
Я давно мучаюсь своею неаккуратностью и очень хорошо звано, что несвоевременная высылка мною процентов была одною из причин, заставивших тебя бежать из Москвы. Вот уже который год я мучаюсь и трачу деньги на дурацкий, мельничный процесс на Тиму, и вместо того, чтобы возможность расчесться с тобою увеличивалась, она постоянно уменьшается. Ты, конечно, не знаешь этого процесса, который у меня в зубах застрял. Но сделай милость, обрати на него на минуту внимание, так как я желаю выложить перед тобою дело вкратце начистоту. Ты знаешь, что покойный отец наш долгое время строил в своем ливенском имении на реке Тиму громадную крупчатку, в которую всадив в то время более ста тысяч (ассигнациями) денег, так и оставил ее, не оснащенную дорогими жерновами. Мы с братом Василием сдали ее на 12-ти летнюю аренду, которой через два года истекает срок. Мельница все время работала беспрепятственно, как вдруг в третьем году ливонский купец Б-в, купив на той же реке, семь верст ниже, подлинной раструс, стал заводить высокую плотину; но покуда он возводил новую, я просил Формальнаго освидетельствования через губернского архитектора, который намерил подъем воды на старой плотине Б-ва четыре аршина и два вершка до линии, обозначаемой зигзагами гнили, образованной прежним уровнем. В виду формальной опоры такого измерения, я не просил тотчас же суд о формальном воспрещении дальнейшей разорительной для моей мельницы постройки, а думал: «если ты так нагло вторгаешься в мою собственность, то я обожду, когда ты потратишься на свои незаконные постройки, — и разом их поломаю». Тем временем Б-в, сломав прежнюю плотину и уничтожив старые признаки, вытребовал в свою очередь инженера-техника, который дал ему свидетельство, что подъемом воды даже на четыре аршина двенадцать вершков он все-таки не подольет рабочих колес моей мельницы; вследствие чего Б-в поднял воду и затопил мою мельницу, при вопле моего арендатора. Я подал уже два года тону назад в суд, и дело остановилось только на формальной стороне, т. е. на вопросе, какую высоту воды на Б-ской плотине следует считать первоначальною до решения дела по существу. В настоящее время дело это находится в московском сенате, и хотя у меня там и поверенный, стоящий немало денег, но толку, братец, я никакого не вижу. Теперь, продолжал брать, когда ты знаешь сущность дурацкого дела Тимской мельницы, я хочу предложить тебе следующее. Ты бы бесконечно одолжил меня и развязал мне руки, взяв Тимсную мельницу за должные мною тебе 22 тысячи рублей. Подумай хорошенько и, если ты будешь согласен, поедем завтрашний день в Орел для совершения купчей, для чего я привез с собою все нужные документы.
Сообразив, что, не взирая на плохое положение мельницы, все-таки существует надежда окончить более или менее удовлетворительным образом процесс и получить в руки известную ценность, тогда как с другой стороны на выход брата из финансовых затруднений нет ни малейшей надежды, — я безусловно согласился на совершение купчей. Приехав в Орел на братниных лошадях, мы остановились с ним в одном номере гостиницы, и так как, помнится, у меня всех денег было 700 рублей, а на совершение купчей следовало еще тысячу, я тотчас же телеграфировал в контору Боткиных, прося о высылке мне в Орел тысячи рублей, которых я по тогдашней почте никак не мог получить ранее трех дней.
На другой день я получил телеграмму: «деньги высланы».
В течении моих воспоминаний я не раз вынужден был останавливаться на мелочах, имевших для меня в данное время глубокое значение. С другой стороны, я не описывал бы своего прошлого, если бы не был уверен, что всякий читатель, оглядываясь на собственную жизнь, найдет в вей нечто подобное. Не случалось ли каждому быть нежно обнимаемому и быть может совершенно искренно близкими людьми? Но стоит судьбе хотя слегка вам улыбнуться, и из ласковых уст слышатся недружелюбные звуки.
Казалось бы, что мы в Орле только со вчерашнего дня, а поутру за кофеем брат добродушно протянул мне письмо со словами: «вот прочти. Любинька пишет: „а Тим-то, кажется, тебе улыбается“. Очень рад, прибавил брать, что он улыбается: стало быть ему весело».
Зная фантастическую изменчивость братниных мыслей и слушая его иеремиады на скуку пребывания в номере, я ясно понял, что купчая должка быть совершена либо завтра, либо никогда.
В дверь номера постучались, и на общий крик наш: «войдите!» — вошел бывший мой школьный товарищ, а в данную минуту старший городской врач барон Мейдель.
— Ты вчера, любезный друг, не застал меня дома, и вот я захотел повидаться с тобой на минуту. Зачем Бог тебя принес?
Я рассказал барону все дело, прибавив, что с телеграммой в руке о высланных деньгах не мог у знакомых купцов занять тысячи рублей на один день.
— Ну, брат, заметил барон, — это такой город. Денег тут ни за что не займешь.
— Да какой же тут риск! — воскликнул я:- я могу тотчас же дать доверие моему кредитору на получение моих московских денег на почте.
— Постой, отвечал барон: — не приходи заблаговременно в отчаяние: я сейчас сбегаю к одному человеку и объясню ему дело, но предупреждаю, что ему все равно, на три ли месяца или на три дня будут взяты деньги; но он менее трех процентов не возьмет.
Конечно, я как утопающий схватился за эту доску спасения и, получив деньги (это было часов в 11 утра), тотчас направился в гражданскую палату к знакомому секретарю.
— Нельзя ли сегодня совершить купчую?
— Помилуйте, возможно ли это? Нужны справки, а теперь уж двенадцатый час.
— Сделайте одолжение! приставал я. — Я поблагодарю от себя столоначальника и рассчитываю на вашу любезность. прибавил я, всовывая ему в руку 25-ти рублевую бумажку.
— Право, какой вы нетерпеливый, сказал улыбаясь секретарь. — Пожалуйте сейчас надлежащий гербовый лист, и через полтора часа приходите с братом для рукоприкладства, и я тотчас же подам дело на утверждение присутствия, и в два часа вы получите купчую.
К вечеру я вернулся в Степановку владельцем Тимского имения. Каких денег стоило бы в настоящее время такое быстрое совершение дела?
XIV
Моя поездка в Москву. — По дороге заезжаю в Ясную Поляну. — В Москве у кн. В. Ф. Одоевского. — Приезд В. П. Боткина в Степановку. — Надя снова заболевает. — Я увожу Петю из Новоселок к нам. — Июльское восстание. — Перевод денег Тургеневу. — Письма.
В. П. Боткин писал из Москвы от 8 мая 1863 г.:
Вот я и в Москве! Десять дней прожил в Петербурге и теперь надеюсь скоро отправиться к вам. Но, друзья мои! какое время переживает теперь Россия! Я получил уже здесь письмо твое и вполне разделяю с тобой чувство, с которым ты берешься за новый номер газеты. Но благодаря нашему легкомыслию или вернее бессмыслию, литература наша вовсе не соответствует действительному подозрению нашему. Одни Московские Ведомости понимают всю важность настоящего Польского восстания, и Катков действительно выражает народное чувство. Меня омерзение взяло при виде, как в Петербурге легкомысленно смотрят на наше настоящее положение, я разумею нашу беспутную молодежь. Есть основание думать, что Поляки замышляют произвести смуты внутри России, особенно в Петербурге и в Москве. Говорят, что здесь они начинают одеваться в русское платье, зипун и т. п. Между тем раздражению против них растет. Здесь говорят о том, что следует сформировать городскую стражу из городских жителей, что было бы весьма хорошо, но не знаю, состоится ли это. Если бы я был в силах, то вступил бы волонтером в солдаты. Видел Каткова, он измучен работой и душевною тревогой. Третья книжка Русского Вестника выйдет неизвестно когда: так все занятие его сосредоточено на Московских Ведомостях, на которых теперь сосредоточено внимание всей России.
С самого начала Польского возмущения сердце у меня постоянно ноет; вмешательство западных держав (чего следовало непременно ожидать) еще более усилило мою душевную тревогу; я потерял не только способность думать о чем-либо другом, но даже потерял способность чувствовать природу; в жизнь мою я не чувствовал более удручительного состояния.
Я привез с собою своего слугу итальянца, которого взял при начале моей болезни. Он ни слова ее говорит по-русски. Я не знаю, как мне с ним ехать к вам? Он человек очень смирный и деликатный и не может жить, как живут наши дворовые люди, т. е. на щах и на каше. Разве оставить его в Москве, а с собою взять Степана? Дай мне совет. Не дождусь, когда я вступлю в ведра Степановки. Твое издание велели через две будет окончено, — я видел у Кетчера последние три листа корректур. Стихи, которых корректуру держал Кетчер, — глухой, слепой и мертворожденный для поэзии и для всех искусств!!! — Ильин сделал мне отличную коляску, очень удобную для дороги. Жму вам крепко руки. Здесь нестерпимые жары.
Ваш навсегда В. Боткин.
Вероятно, в хлопотах я разъехался с графом Львом Ник. Толстым в Новоселках, и вот что он пишет мне от 15 мая 1863 года:
Чуть-чуть мы с вами ее увиделись, и так мне грустно, что чуть-чуть; столько хотелось бы с вами переговорить. Нет для, чтобы мы об вас несколько раз ее вспомнили. Жена моя совсем ее играет в куклы. Вы не обижайте. Она мне серьезный помощник. Да еще с тяжестью, от которой надеется освободиться вначале июля. Что же будет после? Мы юхванствуем понемножку. Я сделал важное открытие, которое спешу вам сообщить. Приказчики и управляющие и старосты есть только помеха в хозяйстве. Попробуйте прогнать все начальство и спать до десяти часов, и все пойдет наверное не хуже. Я сделал этот опыт и остался им вполне доволен. Как бы, как бы вам с вами свидеться? Ежели вы поедете в Москву и не заедете к нам с Марей Петровной, то это будет дюже обидно. Эту Фразу подсказала мне жена, читавшая письмо. Некогда; хотел много писать. Обнимаю вас от всей души, жена очень кланяется, и я очень кланяюсь вашей жене.
Дело: когда будете в Орле, купите мне пудов 20 разных веревок, возжей, тяжей и пришлите мне с извощиками, ежели с провозом обойдется дешевле двух рублей тридцати копеек за пуд. Деньги немедленно вышлю.
Ваш Л. Толстой.
Конечно, веди я прежнюю городскую жизнь, другими словами, не купи я Степановки, я не мог бы ни в каком случае решиться и на покупку Тима в девяностоверстном от Степановки расстоянии. Но взявшись за это запутанное дело, я не мог, подобно брату, ограничиваться раздражительными проклятиями и бесполезною высылкой денег московскому поверенному. Нужно было познакомиться с делом покороче; и потому, заручившись письмом брата к поверенному, с просьбой передать все накопившиеся дела мне, я вынужден был отправиться в Москву.
Не смотря на самое серьезное и нетерпеливое расположение духа, я не мог отказать себе в удовольствии заехать в Ясную Поляну. Едва только я повернул между башнями по березовой аллее, как наехал на Льва Николаевича, распоряжающегося вытягиванием невода во всю ширину пруда и, очевидно, принимающего всевозможные меры, чтобы караси не ускользнули, прячась в ил и пробегая мимо крыльев невода, ее взирая на яростное щелканье веревками и даже оглоблями.
— Ах, как я рад! воскликнул он, очевидно, деля свое внимание между мною и карасями. — Мы вот сию минуту! Иван! Иван! круче заходи левым крылом! Соня! ты видела Афанасия Афанасьевича?
Но замечание это явно опоздало, так как вся в белом графиня давно уже подбежала ко мне по аллее и тем же бегом с огромною связкой тяжелых амбарных ключев на поясе, не взирая на крайне интересное положение. бросилась тоже к пруду, перескакивая через слеги невысокое загороди.
— Что вы делаете, графиня! воскликнул я в ужасе: — как же вы неосторожны!
— Ничего, отвечала она, весело улыбаясь, — я привыкла.
— Соня, вели Нестерке привести мешок из амбара, я пойдемте домой.
Графиня тотчас же отцепила с пояса огромный ключ и передала его мальчику, который бросился бегом исполнять поручение.
— Вот, сказал граф, — вы видите полное применение нашей методы: держать ключи при себе, а исполнять все хозяйственные операции при посредстве мальчишек.
За оживленным обедом появились пойманные на наших глазах караси. Казалось, всем было одинаково легко и радостно на душе, и я в возможной краткости спешил передать графу обстоятельство с Тимом и причину моей поездки в Москву.
Вечер этот можно бы было по справедливости назвать исполненным надежд. Стоило посмотреть, с какою гордостью и светлою надеждой глаза добрейшей тетушки Татьяны Александровны озирали дорогих племянников и, обращаясь ко мне, явно говорили: «вы видите, у mon cher Lèon, конечно, не может быть иначе».
Что касается до молодой графини, то, конечно, жизнь прыгающей в ее положении через слеги, ее может не быть озарена самыми радостными надеждами. Сам граф, проведший всю жизнь в усиленных поисках новизны, в этот период видимо вступал в неведомый дотоле мир, в могучую будущность которого верил со всем увлечением молодого художника. Сам я в этот вечер, увлекаемый общим тоном беззаветного счастья, не чувствовать нагнетающего меня Сизифова камня.
Приехав в Москву, я, конечно, прежде всего свиделся с Василием Петровичем, а затем обратился к поверенному брата, который с видимым неудовольствием сдал мне все накопившееся Тимское дело. Из немногих ответов о судьбе тяжбы, я тотчас же понял, что вся задача почтенного надворного советника состояла в периодическом истребовании денег для мнимого ведения дел. В этом предположении меня окончательно убедили пять нераспечатанных братниных писем за последний год, найденных мною вложенными в последние копии.
Надо было обратиться к самому месту, где велось дело, т. е. в сенат, где у меня, к счастию, нашлось несколько знакомых сенаторов и, главное, князь Владимир Федорович Одоевский.
— Если хотите толком поговорить о вашем деле, сказал князь, — то приезжайте к шести часам к вам на Остоженку после завтра обедать. Княгиня будет вам рада, и мы вечером потолкуем на свободе.
Когда в назначенное воскресенье слуга доложил, что кушать готово, и мы с князем вышли в столовую, княгиня, только — что вернувшаяся с какого-то визита, с ярким алым бантом на голове, ласково встретив меня, подошла к своему месту.
— Этот бант твой нехорош, сказал князь, приподымая указательный палец. — Не знаю, чем нехорош, отвечала княгиня.
— Да уж я тебе говорю, что нехорош, повторил князь. — Но теперь ее время об этом толковать, а давай нам супу, да немного. Сегодня жарко, и я знаю, что будет ботвинья с самою свежею рыбой. Да кстати, ты знаешь ли кто у тебя сегодня гостем?
— Право, ответила княгиня, — ты сегодня все какими то загадками говоришь. Мы за обедом втроем, а Афанасия Афанасьевича я звано не хуже тебя.
— Так; но ты думаешь, что у тебя обедает поэт, а выходит, что это проситель.
После обеда душистый кофе подали нам в кабинете князя. Князь был любитель и мастер хорошо покушать и, как говорили, был сам тонкий повар. Помню, с каким юмором он рассказывал мне о некоторых реформах, произведенных им в качестве почетного опекуна в Екатерининском институте. «Спрашиваю у начальницы, как идут у девиц рукоделья?» — Меня приводят в залу, установленную пяльцами. Я говорю: «прикажите пожалуйста убрать все эти пяльцы: желающие вышивать могут исполнять это на руках; а главное приучайте их к шитью белья. Умеют ли, например, они кроить и шить женские и мужские сорочки?» При последнем слове я вижу явное недоумение на лице начальницы. Но не обращая на это внимания, я спрашиваю: «умеют ли они кроить и шить мужские кальсоны?» — «Ах!» вырвалось из груди начальницы. — «Да, да, кальсоны, продолжаю я; мы должны понимать, кого мы готовим. Я не говорю о том, что каждая девушка мечтаете о будущем муже; но у большинства уже в настоящую пору есть небогатый отец, дядя, брать, которые нуждаются в опытной руке молодой хозяйки. А умеют ли они готовить кушанье?» спрашиваю я и вижу, что вопрос мой озадачивает начальницу не менее прежнего.
— Позвольте, ваше превосходительство, моим дамам показать институткам пример. После завтра они приедут готовить в вашей кухне, пригласив на помощь нескольких институток.
«Передав все это княгине, я попросил ее, взяв с собою двух племянниц: княжну О… и графиню К…, заехать в Охотный Ряд и, запастись всем нужным, отправиться в институт. Там мои барыни засучили рукава, надели фартуки и стали чистить овощи и приготовлять мясо, к общей радости участвовавших в стряпне институток».
Полный энергии и разнообразнейших жизненных интересов, князь в этот вечер был особенно любезен и разговорчив. Будучи прирожденным и ученым музыкантом, он никогда не расставался с небольшим церковным органом, на котором играл в совершенстве. «Я могу, говорил он, припомнить своих первых учителей грамоте, но кто обучил меня нотам — положительно не знаю. С тех пор как я себя помню, я уже читал ноты; а с тех пор, что я познакомился с вашими стихами, я не могу простить вам прекрасного стихотворения на лодке со стихом: „И далеко раздаются звука Нормы по реке“. Ведь угораздило же вас говорить с восторгом о такой музыке, как Норма».
Как бы в насущное опровержение моего несчастного стиха, князь сед за орган и с полчаса предавался самым пышным и изысканным Фугам. Мало-помалу он перешел к русским, национальным напевам. «Вы не знаете, спросил он меня, песни, приписываемой царице Евдокии Федоровне? Я тщательно записал слова и голос этой песни и издал их. Я надпишу эти ноты и подарю вам их на память», сказал князь, исполняя то и другое.
При многократной перевозке моей движимости, дорогой подарок покойного князя у меня едва ли не пропал. Но я уверен, что ноты эти существуют в музыкальных магазинах, и память моя удержала слова песни:
Возле реченьки хожу млада, Меня реченька стопить хочет; Возле огничка хожу млада, Меня огничек спалить хочет. Возле милого сижу дружка, Меня милой друг корит, бранит, Он корит, бранит, В монастырь идти велит.Отпуская вечером меня, князь приглашал заехать обедать в следующее воскресенье, обещав к тому времени основательно познакомиться с моим делом. Пришлось таким образом пробыть в Москве более того, чем предполагал.
Зашли мы с Боткиным как-то к Каткову, и, конечно, разговор закипел по поводу Польского восстания и вообще того разлагающего элемента, который наши враги так обильно вливали в нашу жизнь, чему блистательным образчиком мог служить произведший такое впечатление роман Чернышевского: Что делать. Мы с Катковым не могли придти в себя от недоумения и не знали только, чему удивляться более: цинической ли нелепости всего романа, или явному сообщничеству существующей цензуры с проповедью двоеженства, фальшивых паспортов, преднамеренной проповеди атеизма и анархии со стороны духовного законоучителя, которому такая пропаганда в казенных заведениях тем сподручнее, что он профессор и щит. Катков просил меня написать рецензию на Что делать; а Боткин, собиравшийся в Степановку, обещал свое сотрудничество в этом деле.
При новом свидании князь Вл. Ф. Одоевский, указывая пальцем на свой живот, сказал: «дело ваше я проглотил, и оно теперь у меня вот где. Но вообразите, что, невзирая на явную правоту вашего дела, за исключением меня и секатора Ахлестышева, весь сенат против вас, но мы настаиваем на перенесение дела в общее собрание сената, о чем я своевременно дам вам знать в деревню».
По приезде в Степановку, жена моя получила письмо от Василия Петровича:
Москва 2 июня 1863 года.
Посылаю обратно письмо твое к Афанасию Афанасьевичу, приписывая несколько слов. Погода опять холодна, хотя не так, как несколько дней тому назад. Я уже начинаю думать об отъезде, да на этой неделе не удастся, потому что в Английском клубе составляется обед по подписке в честь Каткова, поистине первого патриотического журналиста, каких еще в России не бывало. Имя Каткова уже вошло в историю вашего государственного развития. — Хорошо ли доехал Фет? Я после моего лихорадочного пароксизма еще не могу совсем поправиться.
В. Боткин.
В июне наконец приехал Василий Петрович в новой щегольской коляске, заказанной, по совету моему, с троечным ходом, входящим в колеи. От только что оконченной нами пристройки он пришел в совершенный восторг, хваля архитекторские мои способности, которым и впредь предстояло проявиться в оправдание пословицы: «нужда научит калачи есть». На этот раз Боткин привез с собою слугу итальянца Борини, поместившегося за стеной комнаты Василия Петровича. Он настолько понимал по-французски, что можно было с ним объясняться; но как он, не зная русского языка, объяснялся с прислугой, — не знаю.
Не смотря на совершенную утрату зрения левым глазом, Боткин ни одного дня не проводил без серьезного чтения, преимущественно по-английски. «История Индии составляет мой пробел, говорил он, указывая на томы мелкой печати, и мне необходимо его восполнить».
«Боже, думалось мне, человек в сущности на краю могилы, с одним усталым глазом, через очки старается восполнять пробелы. Удивительно!»
Во исполнение просьбы Катиона, я тотчас принялся за разбор романа: Что делать. А Боткин, между прочим, иллюстрировал мой разбор коммунистическими эпизодами парижской жизни, коих был в 1848 году свидетелем.
В Степановке Боткин поневоле знакомился за обедом с посещавшими нас случайно соседями, и, хотя об этом никогда не говорил, но судя по любезным его к ним отношениям, можно было заключить, что очень хорошо понимал значительность доли выпавшей при тогдашних обстоятельствах на долю этих скромных людей. Неученые доктринеры и ораторы вынесли на своих плечах обузу коренной реформы, не вызвав ни малейшей смуты. Умиление Василия Петровича, которого мне пришлось быть свидетелем, было вполне чистосердечно.
Однажды засидевшиеся у нас М-овы (посредник, о котором я уже говорил) собрались уехать темною ночью. так что мы вышли провожать их на крыльцо со свечами, и между прочим Василий Петрович, протягивая руку, старался осветить их более чем старомодную коляску с фордеком. Когда гости тронулись в путь, Василий Петрович, елейно прохихикав, обратился к нам со словами: «прекрасно, прекрасно! и колымажка есть!»
Выше мы видели, что самые настойчивые намерения мои насчет покупки земли не имели никакого успеха, тогда как случайного приезда к Александру Никитичу было достаточно, чтобы сделать меня оседлым в Степановке. При этом нельзя ее сказать, что, ее взирая на долги и значительную нужду, Александр Никитич был великолепный хозяин и с хорошим поваром умел подать и угостить, как редкие из богачей это умеют. Поэтому ее удивительно, что 30 августа мы заставали за столом всех мценских тузов. Таким образом все это влиятельное в крае общество привыкло бывать у вас 22 июля, когда, в свою очередь, наш Михайла, при помощи Ш-нского Иллариона, старался также отличиться.
На этот раз обед был у вас сервирован в верхней зале в два света, о которой мы говорили, и Василий Петрович остался совершенно доволен обедом, хотя с самого качала забунтовал, видя, что я не сажусь, и в свою очередь хотел встать из-за стола…
Не взирая на значительную роль, которую нашим обедам пришлось разыграть в моей провинциальной жизни, я не ставу описывать их в подробности, а скажу только, что во все продолжение 17-ти лет, проведенных вами в Степановке, обеды 22 июля ежегодно возвращались. И что довольно курьезно, при количестве гостей от 25 до 30 человек, — выпитых бутылок Редёрера оказывалось большею частью 22 бутылки. Конечно, при слабой участии дам, надо было приписать успешное осушение стаканов моему собственному примеру и примеру Тургенева, когда он у вас обедал.
Тургенев писал из Баден-Бадена 8 июля 1863 г.:
Отвечаю вам соборне, Афанасий Фет, Василий Боткин, Иван Борисов, любезнейшие и добрейшие друзья мои, и надеюсь, что вы ее рассердитесь на меня, когда узнаете, что я пишу это письмо ее на шутку больной. Моя старинная болезнь разрешилась острым воспалением, и я осужден на неподвижность, пиявки, опиум и прочие гадости. Главное, на расположение душевное действует это скверно, и право как-то плохо лезешь в сферу идеала. Надо терпеть, долго и много терпеть, и уже ее думать ни об охоте, ни о шампанском. Но довольно о собственных недугах.
Твое письмо, любезный Василий Петрович, дышит патриотизмом; видно, что ты в Москве плавал в его волнах. Я это вполне понимаю и завидую тебе, но все-таки я не могу, подобно тебе, не пожалеть о запрещении Времени — журнала во всяком случае умеренного. Да и мне, как старому щелкоперу, всегда жутко, когда запрещают журнал. Сверх того, это запрещение косвенно пало и на меня; я кончил и переписал штуку, названную мною Фантазией, листа в три печатных; хотел уже отсылать, теперь куда ее деть? С другой стороны хорошо то, что я успею прочесть ее тебе перед напечатанном, потому что я убежден, что ты приедешь сюда вместе с Фетом в сентябре или октябре.
— Любезный Афанасий Афанасьевич, спасибо за милое письмо ваше. Перевод немецкий вашего: «Снова птицы летят издалека» — очень хорош, хотя не передает прелестно музыкального переплета последних четырех стихов. На днях приступаем к публикации в Карлсруэ альбома г-жи Виардо с шестью вашими и с шестью Пушкинскими стихотворениями. Дай вам Бог здоровья, аппетита и удачи на охоте в Степановке и приезжайте с Боткиным на осень и зиму сюда. Войны ведь не будет. Прочел я вашу статью в мартовской книжке Русского Вестника. Очень мило, а над историей веревок в Орле я хохотал. Но тут же находится pendant к необъятно-непостижимому стихотворению: И рухнула с разбегу колесница, — а именно 344 страница с ее латинскими словами ирикошетами. Я пробовал читать ее лежа, стоя, кверху ногами, на полном бегу, с припрыжкой… ничего, ничего, ничего не понял! Там есть фраза: «он на все смотрит при помощи источников изобретения»?!!!!!?!?! Небеса разверзаются, ад трепещет, и тьма кромешная. А статья все-таки очень хороша. Прекрасно также начало романа Писемского. Живо, сильно, бойко. Что-то будет дальше? — О Владыко живота моего! как вы, должно быть, теперь объедаетесь земляникой и малиной! ноздри как раздуваются!!!
Теперь очередь за вами, любезнейший Иван Петрович! Примите мое сердечное спасибо за вашу память обо мне. К сожалению, я вас не увижу в нынешнем толу и не буду свидетелем всех улучшений вашего дома и сада, но надеюсь, что вы по-прежнему будете сообщать мне сведения о житье-бытье вашем, и о том, что делается вокруг вас. От ваших писем всегда так и веет мне нашим родным Орлом и Мценском, а это мне здесь, на чужбине, как манна. Кланяюсь вашей жене, целую вашего Петю и обнимаю всех вас троих.
Ив. Тургенев.
Тем временем судьба готовила мне новое, тяжелое потрясение. Борисов прислал нарочного с известием о внезапном заболевании обожаемой им жены и просил приехать для оказания братской помощи. В Новоселнах. куда я тотчас же прискакал, Иван Петрович убедил меня в необходимости увезти Надю в Москву к доктору. так как присутствие ее могло быт небезопасно и в физическом, и в психическом смысле для любимого им до фанатизма пятилетнего Пети.
Я давно от опытных психиатров слыхал, что чувства душевно больных совершенно извращаются, и болезненная их ненависть только свидетельствует о горячей привязав кости в нормальном положении. Неизмеримая разница впечатления, производимого перлом драматического создания, вроде Оффлии и Гретхен, и неумолимою действительностью во образе дорогого нам существа. Помню, после обычного свидания, мы втроем уселись в кабинете Ивана Петровича, и нельзя было достаточно налюбоваться на Надю: отросшие со времени последней болезни темно-русые волосы пышными волнами падали ей на плечи, яркий румянец озарял ее щеки, и темные глаза горели фосфорическим блеском. Сквозь обычное выражение интеллигенции прорывалось какое-то безумное буйство Медеи. Боже, что она говорила! Казалось, весь ум ее сосредоточивался на желании сказать мужу самое обидное, самое невыносимое для любящего. Если бы я желал, то не в состоянии бы был воспроизвести потока самых язвительных слов, которыми она старалась описать свое нестерпимое, инстинктивное отвращение к мужу. «Боже! восклицала она: чего стоят эти припекающие к губам щетинистые противные усы, приводящие в содрогание!»
Мы оба с Борисовым сидели, как приговоренные к смерти. Между тем Борисов успел попросить меня незаметно украсть Петю из дома матери, которую, быть может, придется удалять из него силой. Поэтому я приказал кучеру тихонько выехать на дорогу, а гувернантке Француженке, выслав вперед самое необходимое белье, — вывести пальчика в рощу на гулянье и ждать меня около коляски. Через час со стесненным сердцем я уже увозил бедного мальчика вместе с француженкой в Степановку.
Наконец В. П. Боткин уехал в Москву, откуда писал:
8 августа 1863 года.
В Москву приехал благополучно и на другой же день был у Каткова. Он получил критику Что делать, но еще не читал ее и отдает печатать, а ко мне хотел прислать корректуру. Она будет без всякой подписи, как ты желал. Всех нашел здоровыми; вчера был в Кунцево, видел всех и должен был в подробности рассказывать им о своем пребывании в Степановке. Жду с нетерпением от тебя письма о Тиме. Был у Маслова {Главноуправляющий Московскою Удельною Конторой, у которого Тургенев постоянно останавливался, приезжая в Москву.}, но не застал его; по случаю скорого приезда сюда Государя, он в разъездах; да притом теперь в удельных имениях вводится Положение, которое до сих пор не было еще введено. Обнимаю вас крепко.
Ваш В. Боткин.
Убедившись при поездке на Тим, что старая отцовская изба для барского приема пришла, наравне с надворными строениями, в совершенное разрушение, я выбрал там необширную полянку среди небольшого, но крайне живописного дубового леса на левом обрывистом берегу реки Тима, где отыскался и сильный ключ чистейшей воды. Предвидя необходимость приездов, я распорядился сломать прежнюю усадьбу и кирпич из разломанной риги употребить на фундаменты предназначенных мною построек, а старый лес на эти постройки. Отыскался отцовский портной Антон, взявшийся за малую плату быть моим приказчиком и архитектором. А так как в Степановке мы успели переменить крашеные еловые двери и рамы на дубовые с более солидными приборами, то вся эта старая поделка была отправлена в новую тимскую постройку. Постройка, как мы потом все убедились, вышла превосходная.
Но примеру прошлых лет, я, уезжая в Спасское, чтобы охотиться с Тургеневскими егерями, оставлял таи жену на время охоты.
В. П. Боткин писал из Москвы от 21 августа 1863 г:
Милые друзья! с радостью узнал я, что ты наконец привел в порядок Тим; теперь остается ожидать исхода процесса. Сначала Катков горячо благодарил за статью о Чернышевском, но потом как-то охладел, а Леонтьев хныкает о том, что она очень велика. Я уж более недели не видался с ними. Вчера заезжал, но Каткова не было дома, а Леонтьев спал. На днях постараюсь увидать их и объясниться. Если у вас стоит такая же райская погода, как здесь, то все зерна должны просохнуть отлично. Как я тоскую по Степановском воздухе и ее воде! и ее божественной тишине! и нашей жизни там! — для меня там живет счастье… Долго ли ты прожила в Спасском, Маша? Ни за что не променял бы я Степановки на Спасское, ни за что! Я не знаю, как вам со мной, во я бы не желал лучших сожителей. Вот уже второй раз, как посещаю Степановку и чувствую, что сердце все глубже и глубже пускает туда корни свои. На днях занялся разборкой гравюр и отложил до тридцати. Но боюсь, не много ли? Между ними есть немного фотографий. Подожду до твоего приезда, мы тогда и решим окончательно. У нас все здоровы и все обстоит благополучно. Все знает, поеду ли я заграницу на зиму, и в то же время наша зима страшит меня. Крепко обнимаю вас.
Ваш В. Боткин.
Вернувшийся Борисов сообщил нам, что по настоятельному совету московских врачей вынужден был отвезти жену в Петербург, где и поместил ее в больнице Всех Скорбящих под непосредственным надзором старшего доктора, бывшего когда-то в Орле врачом покойной нашей матери Петю до времени Борисов оставил у нас с Француженкой, во избежание в доме женского элемента.
Люди, деятельность которых преимущественно обращена на духовную сторону (литераторы), способны ежеминутно предаваться новым соображениям и всенародно подбивать в их пользу других. Но судьба таких подбиваний чрезвычайно различна.
Нывший мой сослуживец Н. Ф. Щ-ий рассказывал мне, что в качестве иркутского губернатора получил официальное предложение открыть подписку на издание книг на малороссийском языке. «Господи, продолжал рассказчик: что же это за выдумки? я сам малоросс, а по-хохлацки не читаю. А потому и сунул циркуляр под красное сукно, под которым он покоится и по сей день».
Но иное печатное слово падает как искра на горючий материал, и материал этот, бывший до того безразлично холодным, мгновенно и неудержимо вспыхивает.
Люди средних лет помнят, без сомнения, всеобщее уныние, овладевшее всею Россией при вести о Польском восстании при явной поддержке Наполеона III.
Вызванный ко дню несостоявшегося доклада о Тиме, я на два дня остановился в пустом поновлявшемся доме Боткиных на Маросейке. Собравшись утром по делам, я увидал в зеркале за собою 80-ти-летнюю бывшую ключницу Пелагею, известную в семействе под именем Попочки. Расспросив о моем и отсутствующей жены моей здоровье, Попочка вдруг воскликнула: «ох, батюшка, что ж это с нами, горькими, будет? В народе-то говорят: Поляк на Москву идет».
Напрасно старался я успокоить Попочку, говоря, что Поляк не придет; но она видимо не убеждалась и повторяла: да вот такте и в двенадцатом году все толковали: Француз не придет, не пустят его в Москву. — А он и пришел.
Таково в сущности было общее у нас настроение. Никто не знал, что делать с Поляками. И вдруг Катков всенародно сказал: «бить», и это слово электрическою искрой влетело в народ.
В тщательно разводимом вами саду, женатый и далеко не молодой садовник Александр без всякого вступления обратился ко мне со словами: «стало быть мы все пойдем бить Поляка». А что это была не пустые фразы, явно из того, что, не взирая на тогдашнее далеко не дружелюбное отношение к военной службе, крестьяне толпами приходили в город Мценск, прося вести их бить Поляков.
Тургенев писал из Баден-Бадена от 1 октября 1863 г.:
Письмо из Степановки от 1 мая! Письмо оттуда же от 3 июня! Еще письмо оттуда же от 18 июля! Наконец, еще письмо от 18 августа!! И все письма большие, милые, умные, забавные, интересные, а я, неблагородный и неблагодарный урод! — не отвечал ни на одно. После этого никакого нет сомнения, любезнейший Афанасий Афанасьевич, что вы имеете право обругать меня самыми крепкими словами российского диалекта, а я обязан только вдавиться и благодарить за науку. Что делать, батюшка! Обленился я, ожирел и отупел, совесть плохо прохватывать стала. Кроив того я наслаждаюсь следующими благами жизни:
1. Здоров(вот уже третий месяц).
2. Хожу на охоту (бью Фазанов).
3. Не занимаюсь литературой (да и по правде сказать ничем).
4. Не читаю ничего русского.
Как же мне после этого ее погрязнуть в безвыходном эпикуреизма? Об вас ходят, напротив, совершенно противоположные слухи: говорят, что вы, «потрясая Орловской губернией Тамбовскую, сжимаете руки» — заводите мельницу на 8.000,000,000,000 поставах, которая будет молоть не вздор, как Чернышевский, а тончайшую крупчатую муку. Желаю вам всевозможных успехов и прошу об одном ее забывать совершенно охоты, ибо и там дичь, — тоже ее вроде дичи Чернышевского.
А знаете ли вы, что мы с вами, весьма вероятно, — скоро увидимся? По крайней мере в том случае, если вы приедете на зиму в Москву, ибо я в конце ноября совершаю путешествие в отечество, — и пребуду в оном около шести недель. Не относитесь скептически к этому известию оно верно.
Считаю долгом уведомить вас, что я, не смотря на свое бездействие, угобзился однако сочинить и отправить к Анненкову вещь, которая, вероятно. вам понравится, ибо не имеет никакого человеческого смысла, даже эпиграф взят у вас. Вы увидите, если не в печати, то в рукописи, это замечательное произведение очепушившейся фантазии. Я к вам пишу через Боткина, ибо, может быть, вы теперь в Москве. Во всяком случае, где бы вы ни были, примите мои искреннейшие пожелания вам всего хорошего. Кланяюсь усердно вашей жене и дружески жму вам руку.
Ив. Тургенев.
P. S. Я здесь остаюсь еще на месяц, там на десять дней в Париж, а там в Рассею.
Боткин уведомил меня, что Тимское дело назначено к слушанию на 15-е октября.
Перед моим отъездом в Москву, Ив. П. Борисов взял от нас Петю к себе в Новоселки и, отпустивши француженку, взял к нему немца Федора Федоровича.
Проездом в Москву я, конечно, не преминул заехать в Спасское к добрейшему Николаю Николаевичу Тургеневу.
— А у меня к вам большая просьба, сказал при прощанье старик. — Иван пишет, чтобы я немедля перевел в Париж через московскую контору Ахенбаха ему 3500 р. Пожалуйста не откажите исполнить просьбу вашего приятеля.
Остановившись в Москве в доме главы фирмы П. П. Боткина, я, конечно, в ту же минуту просил его о переводе денег. К концу обеда, служащий, которому поручен был перевод, вернулся с докладом, что Ахенбах с меньшей для нас выгодой против других банкиров принимает деньги для перевода.
— И что вам дался этот Ахенбах! воскликнул Боткин.
— Ну, отвечал я, — меня просили настоятельно перевести через Ахенбаха, и я считаю себя не вправе пускаться в рассуждения.
Со словом «как хотите», служащий был снова отправлен к Ахенбаху.
Не успели мы еще выпить послеобеденного кофею, как тот же конторский мальчик вошел со смущенным лицом и телеграммой в руках. «Из Петербургской конторы телеграфируют, сказал он, что государственный банк прекратил размен кредитных билетов на золото, и наш курс в ту же минуту упал на десять процентов, сообразно с чем и Ахенбах готов сделать перевод на Париж».
— Стало быть, воскликнул я, — Тургенев нежданно потеряет триста пятьдесят рублей?
— Конечно, отвечал Боткин, — подобно всем, переводящим деньги заграницу, и подобно нам, теряющим от перевода на Лондон шестьдесят тысяч.
Весь этот разговор был мною с точностью передан в письме Тургеневу. Но это не мешало последнему жаловаться Василию Петровичу и Анненкову на мое поэтическое легкомыслие, которое, как видно, и было мгновенной причиной падения курса.
Дело мое и на этот раз не попало к докладу.
Если бы не ряд писем по годам и под числами, я бы, конечно, при известном однообразии быта, не в состоянии был бы с достаточной ясностью распутать нить жизни за каких либо тридцать лет. Но и восстановляя при помощи писем несомненные события, я иногда не в состоянии уяснять себе побудительных причин известных действий, хотя с моей точки зрения побуждения эти гораздо важнее самых событий. Так было время, когда, не взирая на крайне ограниченные средства, я нередко ездил из Москвы в Петербург за получением денег из редакций. Но мы видели, что оскудение этого источника было причиной бегства в Степановку. Затем мне пришлось ездить в Петербург после перехода туда Тимского дела в консультацию при министерстве юстиции. Но зачем, ори ограниченных средствах, я не раз ездил в Петербург до перехода туда дела мельницы, — объяснить в настоящее время не могу. Явно, что я, не добившись толку в московском сенате, ездил с Василием Петровичем в Петербурге, а затем, воротившись в Москву, остановился на зиму в доме Петра Петровича на Маросейке, по-прежнему во флигеле, куда подъехала и жена.
В. П. Боткин от 7-го ноября 1863 года писал из Петербурга:
Ну, милые друзья, я еще в Петербурге и в том же отеле, и самому Богу только известно, отправлюсь ли далее. Не смотря на то, что здесь, говоря вообще, мне не неприятно, климат здешний дает себя чувствовать неприязненно. У меня уж оказался ревматизм в правом плече, и всю эту неделю я чувствовал себя болезненно, так что по два дня не мог выходить из комнаты. Эта слякоть и мокрый снег, эта гниль в воздухе приводят меня в совершенное бессилие. Сегодня легкий мороз, и я ожил, и на душе просветлело, нервы спокойны, не раздражаются всякою дрянью. как бывает, когда вместо неба висит свинцовая, удушливая атмосфера. Да! я должен сказать, что простился с Борини. Он так стал тосковать, что страшно похудел, не ел и не спал, я повез его к Сереже, который мне сказал, что у него может быть начало тифа, и что лучше поскорее отправить его. Я сказал Борини, что ежели он хочет, то может ехать. Все это время жена его писала ему письма, полные упреков и подозрений в том, что он не хочет вернуться: эти-то письма совсем и расстроили его; к этому еще он простудился. Мне было больно смотреть на него, и когда я предложил отпустить его, то уже от одной мысли о скором свидании с женой ему стало легче. Он уехал назад дней девять, и мы расстались совершенными друзьями. Теперь у меня швейцарец, но находящийся уже четыре года в России и говорящий по-русски. Кажется, недурной человек и довольно точный и очень грамотный. Он занимал должность учителя в домашней школе, и недостаточность жалованья заставила его переменить место. Впрочем, до этого он постоянно занимал должность слуги. В моей одинокой жизни слуга вещь важная, поэтому я так и распространился об этом.
— Я продолжаю жить в гостинице, только мне дали другую комнату, вдвое больше той, какую я занимал при тебе, Фет. Остаюсь в гостинице, потому что так удобнее, чем в chаmbres meublées, но очень неудобно иметь одну комнату, хотя плачу за нее 2 рубля 50 коп., да еще за комнату для слуги. Обед здесь за рубль довольно хороший.
Как живете вы, милая Маша и дорогой мой Фет? Пишутся ли «Письма из деревни?» Я со всех сторон продолжаю слышать похвалы им. Знакомых у меня здесь много, и, слава Богу, не из литературного круга. В опере был только два раза. Тамберлик поет с несравненно большим огнем, нежели прежде, пять лет назад. Кольцоляри плавен и звучен и холоден по-прежнему.
Здесь бумажки упали против серебра на 10%, и банк, кажется, решился уже более не поддерживать искусственно курс.
Прошу тебя, Маша и Фет, напишите мне хотя несколько слов, я буду писать вам скоро. Эх! климат здешний невыносим, а то бы и думать забыл о Париже. Буду пробовать, авось перенесу. А несколько дней тому я чувствовал себя так плохо, что стал сбиваться было… Обнимаю вас.
Преданный вам В. Боткин.
15 ноября 1863 г.
Не знаю, получили ли вы письмо мое от 7-го? Из твоего письма незаметно, чтобы оно было получено. Причина же моего молчания заключалась в том, что я более недели чувствовал себя нехорошо; было ли это следствие простуды, или просто следствие гнилой разлагающей погоды — не знаю; но только в продолжевие двух недель здесь стоял такой мрак, что днем нельзя было просмотреть газету без свечей. Только вчера просияло, но сегодня опять воротился прежний мрак. Между тем дни идут, и я с удовольствием замечаю, что начинаю успокаиваться и обживаться здесь, хотя, смешно сказать, я внутренно не решил еще окончательно, что всю зиму останусь здесь. А доказательством моего внутреннего успокоения служит для меня то, что вчера вечером в одном доме слушал я один из последних квартетов Бетховена, переложенный на два фортепьяно, — и чувствовал всю красоту и величие его. А с Польского восстания я потерял способность вникать в эту музыку. Теперь, как видишь, все приходит понемногу в порядок, и я начинаю чувствовать Sehnsucht по музыкальным наслаждениям. А это для меня хороший признак. Спасибо за добрую весть об Ак-не {Арендатор Тимcкой мельницы.}, это начинает походить на дело. Будем ждать, что скажет 27 ноября. А что касается до приглашения твоего приехать в Москву, то скажу откровенно, у меня еще нет на это ни малейшего желания. Я бы с большим удовольствием согласился поехать в Степановну, как мало ресурсов она ни представляет, нежели в Москву. В Степановке нет по крайней мере декораций, а все прямо, просто, начистоту.
Непременно наляг на статью «Из деревни». Вчера еще я от одного весьма умного человека слышал величайшие похвалы за них тебе. Видишь, какое они произвели впечатление.
Ваш В. Боткин.
20 ноября 1863 года:
С.-Петербург.
Сейчас получил я от Тургенева самое отчаянное письмо. Дело в том, что он не получил векселей на деньги, которые переведены были через тебя; кажется, всего 3500 руб. сер. Как это случилось, что до сих пор он не получил письма с векселями, я не понимаю, ибо я убежден, что ты отправил его в Баден. Надобно полагать, что оно пропало. И потому немедленно надо взять вторые номера этих же векселей и послать их тотчас в Баден на тот же адрес. Да через какую контору ты перевел их? Распорядись как знаешь и немедля уведоми меня, через какую контору переведены они? А главное, пошли тотчас же Тургеневу вторые номера векселей. Он в отчаянии, ибо это задержало его отъезд в Россию. Жду ответа. Прощай.
В. Боткин.
Тургенев писал из Баден — Бадена от 23 ноября 1863 г.:
Любезнейший Афанасий Афанасьевич, из письма Ив. Петр. Борисова я узнал, что вы находитесь в Москве, а из письма дядя, что он через вас послал деньги, которые банкир Ахенбах должен был переслать ко мне. Между тем этих денег и в помине нет, и я сижу здесь без гроша и без всякой возможности двинуться с места, а к концу ноября я, по требованию сената, должен быть в Петербурге. Я боюсь не случилось ли что-нибудь с этими деньгами, или не послал ли их Ахевбах в Париж на мое имя? Сделайте божескую милость, немедленно по получении этого письма, разъясните этот пункт и дайте мне звать, в Париж, rue de Rivoli, 210. Я завтра отправляюсь туда, заняв немного денег и оставив хозяйке моей все мои вещи и платье под залог, а из Парижа через две недели скачу в Петербург. Если вы не потеряете времени, то ваше письмо меня найдет еще в Париже. Дядя несвоевременной высылкой этих несчастных денег пробрал меня до пупа, а Ахенбах до самого уже горла.
Надеюсь увидеть вас скоро в Москве, а потому отлагаю все другие разговоры до личного свидания. Поклонитесь от меня всем добрыи приятелям, а Маслову скажите, что он, вероятно, отказался от покупки моей земли, по причине слишком большого запроса со стороны дяди (отдаленность не может быть причиной, потому что эти 800 десятин отличной земли в меже лежат на самой станции Московско-Тамбовского шоссе); — но что если он не переменил намерения, то я ему уступлю эту землю, за что он сам захочет дать.
Если Василий Петрович еще в Москве, то и ему дружеский поклон. Жму крепко руку вам и вашей жене и остаюсь
преданный вам Ив. Тургенев.
30 ноября 1863 года:
Париж.
Любезнейший Фет, я наконец сегодня получил из Бадена векселя на 12,360 фр. Не в моей натуре делать упреки, но замечу только, что никаких бы убытков и тревог не было, если бы вы, великий противник мудрствования, поступили бы попроще. — А именно: взяли бы денежки, трюх-трюх к Ахенбаху, вот, мол, пошлите лакомую индивидууму, живущему в Бадене, как вы всегда делаете — третку на Ротшильда. Ее бы у меня с руками оторвали. В Бадене живет пропасть русских, и никто никогда не получал иначе денег, как векселями на Париж, которые баденские банкиры берут с замиранием восторга, ибо вексель на Париж те же деньги. Размышлять о Франкфурте и т. д. было все равно, что голодному перед куском говядины размышлять, левой ли рукой взять кусок или правой, и прямо ли в рот класть или сперва подержать перед ухом? Впрочем, я изо всей истории вынес комическую черту: контору Боткина, дающую сведение, что на Баден банкиров нет. — Это хоть бы в заштатном городе Дешкине. Более всех виноват дядя, выславший вам деньги целым месяцем позже последнего срока. В одном только позвольте вам противоречить: вы пишите, что адреса моего у вас не было. — С тех пор, как я пишу письма, я не отправил ни одного, не выставив на заголовке числа и адреса. Этому хорошему обыкновению я выучился в Европе. Но basta cosi. Я подумаю, что проиграл в рулетку недостающие 1600 франков, и это еще милость. Но 347 вместо 397 и еще à trois mois de date, что отнимает у меня еще 20 франков, — лихо!
Я ждал в Бадене до нельзя, до последней возможной минуты, т. е. до 26 ноября. Тогда, отдав своей хозяйке все свои вещи в залог! — я прискакал в Париж налегке. как гусарский прапорщик, для того чтобы проститься с дочерью и в случае необходимости занять денег на возвращение в Россию. Теперь мне предстоит опять вернуться в Баден. чтобы забрать мои вещи и оттуда уже в Петербург. К сожалению, я схватил здесь сильнейший грипп, и потому не знаю, что из этого всего еще выйдет.
Я надеюсь быть в Москве в декабре. — там увидимся. Жму вам руку, sans rancune, кланяюсь вашей жене и рекомендую только вперед: «попростей, батюшка, по-простей».
Ваш Ив. Тургенев.
P. S. Последнее сказание: векселя написаны на имя М-г J. S. Turguhénef. Ведь если банкир заартачится, так он во мне может не признать г-на Тюргюхенева, тем более, что выставляла сии векселя неизвестная личность, которая на одном векселе назвала себя: Воган, а на другом: Вогау.
В Москву приехал самый богатый ливонский крупчатник Ад-ов ко мне, с предложением продать ему за 25 тысяч Лимскую мельницу, но с обязательством освободить ее от притязаний противника. Пойти на такую сделку значило бы добровольно вместо одной наложить на себя две петли, и, конечно, я на нее не согласился и сдал ее на новую аренду прежнему арендатору.
Боткин писал из Петербурга от 30 ноября 1863 г.:
Не могу понять, как Ак-в, дававши 2 тысячи, теперь дает только 1600. Тут есть какое-нибудь обстоятельство, о котором ты забыл упомянуть, иначе оно не выходило бы такой бессмыслицей. Но даже и при 1600 руб. найма нет причины продавать за 25 тысяч. Одно только: если решение сената поставит в необходимость вести процесс, то ведение процесса, заботы, издержки и проч. обойдутся ежегодно пожалуй рублей в 200. Надобно принять к соображению это обстоятельство. По моему мнению, если бы не было процесса, то мысль о продаже за 25 тысяч надо было бы считать преступною.
Тургенев в огорчении от потери 1200 фр. не в состоянии был взять в толк этого дела и заговорил бессмыслицу. Он и мне писал об этом. Если несчастия других облегчают нам наши собственные несчастия, то и бы примирится с ними, когда я ему объясню, какой это был неожиданный кризис. Я сегодня получил от него письмо: пишет, что непременно будет между 10 и 15 декабря.
Радуюсь, что вам хорошо во флигеле и живется покойно.
Сережа лежит в сильном тифе, ужасно сказать! Выплывет ли он из этой бездны, называемой вечностью, которая теперь тянет его к себе……. Он заразился в своей клинике, осматривая и ощупывая тифозных. Здесь погода стоит сырая и гнилая, морозов вовсе нет, от итого тифе господствует, и днем без лампы нельзя читать, — и Freude am Leben совершенно исчезает. Пока прощайте да пишите.
Ваш В. Боткин.
6 декабря 1863 г.
С.-Петербург.
Милые друзья, вчера из письма брата Мити узнал я, что ты кончил аренду мельницы Ак-ву за 1700 руб. Ну, слава Богу, решение, каково бы оно ни было, всегда облегчительно, а это решение притом и благоразумно. Значит Ад-ов уехал восвояси. Итак, вы остаетесь владельцами Тима, земли и прочего. Хорошо, что ты не польстился на 2 тысячи и не взял на себя переделку мельницы. Теперь остается решение сената. Во всяком случае такой арендатор, как Ак-ов, представляет гораздо больше гарантий, чем всякий другой.
Жестокий тиф, охвативший брата Сережу, начал уступать со вчерашнего дня жизненному началу организма, с которым боролся в продолжение одиннадцати дней. Вот еще пример бессилия и незнания медицины! Медицина знает только, что тиф есть отрава, охватывающая кровь больного, но какого рода эта отрава, отчего она бывает, как противоборствовать ей и т. п., этого она не знает. Замечательно, что тиф совсем не лечат, а наблюдают за больныи и удостоверяют о меньшей или большей степени опасности его, против которой вовсе не имеют средства. Да еще так поступают самые благоразумные и сведущие врачи, а другие суются лечить и тогда наверное губят.
10 декабря.
Получил твое письмо, из которого неожиданно увидел, что ты совсем расхворался. Следовал ли ты системе лечения, рекомендованной Сережей? Я думаю, что по свойственной тебе лени ты пренебрег ею. Действительно, трудно выходить из колеи, в которую уложился образ жизни, а обертывание в простыню и после того хождение (бесцельное) представляют такой трудный процесс, пред которым отступаешь почти с ужасом. Действительно, легче решиться на микстуры, чем на такое беспокойное лечении. Как же быть? Но если бы ты имел довольно воли, чтобы продолжать обертывание в простыню и хождение, хотя в течении десяти дней, то удовольствие и оживление, которые бы ощутил твой организм, решили бы тебе следовать этой гигиенической системе. Ты привык говорить, что времени нет; но у тебя большая часть времени проходит в разговорах, — да притом на это нужно только один час. Заметь, что при этом у тебя и отправление организма сделалось бы аккуратно и свободно. Не времени, а решимости и воли нет, ты раскис и опустился в своей халатной жизни.
Стихотворение твое принадлежит к лучшим. Мне кажется неопределенным:
«И дрожат испарений струи
У окраины ярких небес»…….
У какой окраины? Испарения могут подниматься с земли, — у какой же окраины небес они могут дрожать? Как я ни думал об этом и ни старался представить себе определительно — ничего не выходило. Значит, нет ли неясности в твоем рисунке? Кроме этого все стихотворение прекрасно. Кстати: я встречаюсь с Ф. И. Тютчевым в разных домах и прислушиваюсь к его разговору. Как каждый эпитет его точен, оргинален и поэтичен! Я смотрю на него с некоторого рода умилением — божественный старец. Но никто из посещаемых им мужчин и дам, никто из окружающих его не чувствует и не понимает поэзии его стихов. Виноват, дочь его только понимает ее, да и то настолько, насколько может чувствовать и понимать поэзию женщина, а она притом еще по жилая девушка. Прощайте.
Ваш В. Боткин.
30 декабря 1863 г.
С.-Петербург.
Что-то давно не имею от вас вести, милые друзья, так что даже соскучился, на зло твоему выражению, что я здесь катаюсь, как сыр в масле. Да, хорошо, а все тянет к своим; — вас же мне не заменит никто в мире. Мне в самом деле живется пока не скучно; мои здешние приятели и знакомые все очень добры со мной, и хотя я уже пять лет как не был в Петербурге, — никто не изменился со мной. Кто-то сказал, что не трудно заводить друзей, а трудно сохранять их. Мне весело думать, что я не разошелся даже ни с одним старым знакомым. На днях я встретил Щербину, удивительно, — время почти всех делает лучше. С большим удовольствием провел я с ним два часа. Он любит и ценит твои стихи и понимает их. А это для меня добрый знак.
Ваш В. Боткин.
10 января 1864 г.
С.-Петербург.
Неужели ваш выезд из Москвы решен на 2-е Февраля? Кажется, что прошлого года вы выехали позднее. Но как бы там ни было, а к этому сроку едва ли удастся Тургеневу приехать в Москву; в Спасское же он не поедет, а выпишет Николая Николаевича в Москву. Он теперь обязав подпискою не выезжать из Петербурга. Он уже призван был в сенат, дело началось. Но скоро ли оно кончится и как пойдет, теперь ничего нельзя сказать. Ты прав, говоря, что приезд Тургенева меня задержит. В некотором роде он то же, что больной тифом, — ждет кризиса, а кризис еще не совершился. Неизвестность в этом роде дел тяжела. Итак, я не могу сказать, когда я буду в Москву. Я все-таки не оставил намерения съездить заграницу месяца на три. От здешней петербургской весны, которая отвратительна, думаю ехать в последних числах февраля и вернуться в половине мая. В Париж не поеду, а в северную Италию.
Твой В. Боткин.
12 января 1864 г.
С.-Петербург.
Узнавши, что вы остаетесь в Москве только до 2-го февраля, Тургенев, кажется, хочет просить тебя приехать в Петербург. Дело его при самом благоприятном исходе никак не может кончиться ко времени вашего отъезда. Соображая все эти обстоятельства, я желал бы знать, намерен ли ты совершить это путешествие? Если намерен, то мы могли бы вместе вернуться в Москву. Поездка Тургенева в Москву может быть только по окончании его дела, и дай Бог, чтобы оно кончилось через месяц. Итак, желательно знать, какие твои намерения или желания относительно поездки сюда. Об этом извести.
Твой В. Боткин.
17-го января 1864 г.
С.-Петербург.
Я вчера писал тебе, что намереваюсь выехать отсюда завтра в субботу. Но вчерашнее письмо твое извещаете, что ты решился таки проехать в Петербург. Итак, мы вместе прокатимся в Москву, проведем выесть дня три, а главное повидаемся с Тургеневым. Итак, я буду ждать тебя и перервал уже все приготовления к выезду.
В. Боткин.
Часть II
I
Свидание с Ф. И. Тютчевым. — Смерть Дружинина. — Письма. — Дмитрий Кириллович. — Поездка на Тим. — Поездка в Петербург. — Гр. Алексей Толстой. — Посещение Новоселок. — Сергей Мартынович.
По поводу последнего моего свидания с Ф. И. Тютчевым[220] в январе 64 года, не могу не приветствовать в моем воспоминании тени одного из величайших лириков, существовавших на земле. Я не думаю касаться его биографии, написанной, между прочим, зятем его Ив. Серг. Аксаковым. Тютчев сладостен мне не столько как человек, более чем дружелюбно ко мне относившийся, но как самое воздушное воплощение поэта, каким его рисует себе романтизм. Начать с того, что Федор Иванович болезненно сжимался при малейшем намеке на его поэтический дар, и никто не дерзал заводить с ним об этом речи. Но как ни скрывайте благоуханных цветов, аромат их слышится в комнате, и где бы и когда бы вы ни встретили мягких до женственности очертаний лица Федора Ивановича — с открытой ли головой, напоминающей мягкими и перепутанными сединами его стихи:
«Хоть свежесть утренняя веет В моих всклокоченных власах…»или в помятой шляпе, задумчиво бредущего по тротуару и волочащего по земле рукав поношенной шубы, — вы бы угадали любимца муз, высказывающего устами Лермонтова:
«Я не с тобой, а с сердцем говорю».Было время, когда я раза три в неделю заходил в Москве в гостиницу Шевалдышева на Тверской в номер, занимаемый Федором Ивановичем. На вопрос: «Дома ли Федор Иванович?» камердинер немец, в двенадцатом часу дня, говорил: «Он гуляет, но сейчас придет пить кофей». И действительно, через несколько минут Федор Иванович приходил, и мы вдвоем садились пить кофей, от которого я ни в какое время дня не отказываюсь. Каких психологических вопросов мы при этом не касались! Каких великих поэтов не припоминали! И, конечно, я подымал все эти вопросы с целью слушать замечательные по своей силе и меткости суждения Тютчева и упивался ими. Помню, какою радостью затрепетало мое сердце, когда, прочитавши Федору Ивановичу принесенное мною новое стихотворение, я услыхал его восклицание: «Как это воздушно!»
Зная, что в настоящее время он проживал в Петербурге, в доме Армянской церкви, я сказал Як. Петр. Полонскому, бывшему в самых интимных отношениях с Тютчевым, — о желании проститься с поэтом, отъезжающим, как я слышал, в Италию.
— Это невозможно, — сказал Яков Петр., - он в настоящее время до того убит роковой своей потерей[221], что только страдает, а не живет, и потому дверь его закрыта для всех.
— По крайней мере, — сказал я, — передай ему мой самый искренний поклон.
В первом часу ночи, возвращаясь в гостиницу Кроассана, я вместе с ключом от номера получил от швейцара записку. Зажигая свечу на ночном столике, я, при мысли сладко задремать над французским романом, намерен был предварительно, уже лежа в постели, прочесть и записку. Раскрываю последнюю и читаю: «Тютчев просит тебя, если можно, прийти с ним проститься». Конечно, я через минуту был снова одет и полетел на призыв. Безмолвно пожав руку, Тютчев пригласил меня сесть рядом с диваном, на котором он полулежал. Должно быть, его лихорадило и знобило в теплой комнате от рыданий, так как он весь покрыт был с головою темно-серым пледом, из-под которого виднелось только одно изнемогающее лицо. Говорить в такое время нечего. Через несколько минут я пожал ему руку и тихо вышел. Вот что позднее рассказывал Тургенев о своем свидании с Тютчевым в Париже:
«Когда Тютчев вернулся из Ниццы, где написал свое известное:
„О этот юг, о эта Ницца!..“— мы, чтобы переговорить, зашли в кафе на бульваре и, спросив себе из приличия мороженого, сели под трельяжем из плюща. Я молчал все время, а Тютчев болезненным голосом говорил, и грудь его сорочки под конец рассказа оказалась промокшей от падавших на нее слез».
Мир праху твоему, великий поэт! Тень твоя может утешиться! Недаром ты так ревниво таил свой пламень, ты навсегда останешься любимцем избранных. Толпа никогда не будет в силах понимать тебя!
Помню, в одном письме Л. Толстой пишет:
«Ехавши от вас, встретил я Тютчева в Черни и четыре станции говорил и слушал, и теперь, что ни час, вспоминаю этого величественного и простого и такого глубоко настояще-умного старика».
Еще в предпоследнюю поездку мою в Петербург я навещал тяжело больного А. В. Дружинина, и хотя он видимо радовался посещению всех искренних друзей своих, но посетителям (сужу по себе) было крайне тяжело видеть ежедневное и несомненное разрушение этого когда-то добродушного и веселого человека. На этот раз не успел я остановиться в гостинице рядом с Боткиным, как в тот же день узнал о смерти Дружинина, точно я нарочно подъехал к его похоронам. Проводивши в день погребения усопшего из дому, мы тесным кругом собрались на отпевание в церковь Смоленского кладбища. Очевидно, приличие требовало, чтобы при отпевании присутствовал и Некрасов, сумевший в это время рассориться со всем кружком, за исключением Вас. Петр. Боткина. Никогда я не забуду холодного выражения пары черных бегающих глаз Некрасова, когда, не кланяясь никому и не глядя ни на кого в особенности, он пробирался сквозь толпу знакомых незнакомцев. Помню, как торопливо бросив горсть песку в раскрытую могилу, Некрасов уехал домой; а родные покойника пригласили нас на поминки в кладбищенской гостинице. Здесь, пока еще не все собрались к столу, я прочел Тургеневу свое стихотворение, написанное под первым впечатлением, прося его по обычаю сказать, стоит ли оно того, чтобы его прочесть публично?
«Вы видите, я плачу, — сказал Тургенев, — это лучшая похвала стихотворению; но все-таки следует исправить стих: „ты чистым донесен в могилу“, так как доносят „до“, а не „в“. Видели ли вы, сказал он, как я смотрел на Некрасова? Я как будто говорил ему: „видишь, я могу прямо смотреть на тебя, я перед тобою не виноват; а твои глаза бегают, боясь встретить чужой взгляд“».
Вскоре после похорон мы с Василием Петровичем уехали в Москву, где пробывши трое суток, — он снова возвратился в Петербург.
Тургенев писал из Петербурга от 25 января 1864 г.:
Ну-с милейший Аф. Аф., прибыли вы благополучно в первопрестольный град вместе с прелестными старцами Мерике {В бытность мою в Петербурге, Тургенев подарил мне книжку стихотворений немецкого поэта Мерике.} и Дон-Базилием. Черкните-ка словечко да пришлите Масловские письма. Но представьте, какой я оказался телятиной! Вместо чепуховатой г-жи З-й, мне бы следовало отвезти вас купно с романсами к г-же А., и вы бы на сладились! Вчера я показал ей два первых напечатанных романса, и она их так пропела сразу и так аккомпанировала, что я растаял. Что значит настоящая музыкальная немецкая кровь! — Эта и грамматику знает и в риторике сильна. Кстати, она чуть не влюблена в Василия Петровича и хочет устроить для него квартет с Рубинштейном, Давыдовым, Венявским… четвертый персонаж будет чуть ли не сама Святая Цецилия. И романсы она хочет спеть все торжественно. Будет хорошо, а альбом вы получите немедленно, как только он выйдет.
Прочел я после вашего отъезда «Поликушку» Толстого и удивился силе этого крупного таланта. Только материалу ужь больно много потрачено, да и сынишку он напрасно утопил Ужь очень страшно выходит. Но есть страницы поистине удивительные! Даже до холода в спинной кости пробирает, а вед у нас она уже и толстая, и грубая. Мастер, мастер!
Юный редактор «Библиотеки для чтения» просит меня узнать от вас, не будет ли с вашей стороны препятствия к перепечатке вашего стихотворения из Московск. Ведомостей в статье о Дружинине, долженствующей явиться в первом номере его журнала? А вы, злодей, оставили: «понесен в могил» уа.
Кланяйтесь добрым приятелям, а главнейшее Вашей милой жене. Будьте здоровы.
Преданный вам Ив. Тургенев.
Боткин писал из Петербурга 2 Февраля 1864 г.:
Сегодня справляем тризну по Дружинине обедом, в котором участвуют все знавшие его близко.
Дай Бог вам благополучно доехать до Степановки. Сегодня были выборы в члены комитета литературного фонда. Я нарочно поехал туда, еще в первый раз; реакция против нигилизма и демагогов, слава Богу, оказалась полная. В председатели общества избран барон Корф и т. д.
Я вынул экземпляр записок об Испании, чтобы послать его в Вятку, и забыл. Сделай одолжение, попроси переслать его ко мне в Петербург; мне надо сделать на нем надпись: я так обещал.
Ваш В. Боткин.
На этот раз, возвращаясь в Степановку зимним путем до Орла в дилижансе, мы не могли заехать в Ясную Поляну. В деревне мы снова попали в то колесо белки, в котором беготни много, но успеха никакого.
Боткин писал из Петербурга 26 Февраля 1864 года:
Продолжительное молчание ваше начинает меня тревожить. После первого вашего письма из Степановки, я не имел от вас никакого известия. Между тем все уже готово к моему выезду заграницу. Свяжу вам, что я имею намерение ехать через Варшаву и останусь там несколько дней взглянуть на это гнездо убийств и ненависти к России. Из Вены я буду писать к вам. Вы же напишите мне в Вену, poste restante, да ты, пожалуйста, явственнее пиши адрес и не так связно и размашисто, как ты пишешь обыкновенно. Я не могу еще положительно связать, когда я выеду, может быть вначале будущей недели. Накануне отъезда я напишу вам.
27 февраля.
Слава Богу! вчера вечером получил от тебя письмо, из которого вижу, что вы здоровы, и в Степановке все обстоит благополучно. Итак, я еду через Варшаву. Надеюсь, что ничего дурного не случится со мною. Может быть вы назовете глупостью пускаться в этот взволнованный край и в такое время, когда по всем слухам действия революционной партии должны несомненно усилиться. Но русское чувство теперь уже не оскорбляется в Варшаве, как было несколько месяцев тому назад, да и наконец мне хочется взглянуть на этот город, где можно нанимать убийц по целковому за человека. Я останусь там дня четыре, потом в Берлин.
Я выезжаю 2 марта. При моей ненависти к полякам, какое впечатление произведет на меня Варшава? Я буду там с Н. А. Милютиным. Все мне будет любопытно там: и враждебный город, и военная жизнь, и общий строй умов, и отголоски борьбы.
Иван Сергеевич уехал отсюда 22 Февраля и, вероятно. прежде будущей зимы сюда не будет. Затем прощайте и не поминайте меня лихом.
Преданный вам
В. Боткин.
Тургенев писал:
Париж, 31 нарта 1864 г.
Любезнейший Афанасий Афанасьевич, надобно непременно нам возобновить нашу переписку; и не потому, что мы имеем пропасть вещей сообщить друг другу, а просто потому, что не следует двум приятелям жить в одно и то же время на земном шаре и не подавать друг другу хоть изредка руку. Вы только обратите внимание на следующий рисунок:
вечность — а - вечность…
Точка а представляет то кратчайшее мгновенье, в течении которого мы живем; еще мгновенье, и поглотит нас навсегда немая глубина нихтзейна… Как же не воспользоваться этой точкой? Расскажу я вам, что я делал, делаю и буду делать, и жду от вас, что вы также поступите со мною.
«Покинув град Петров, я в Баден поспешил
И с удовольствием там десять дней прожил.
На брата посмотреть заехал я во Дрезден
(Как у Веригиной на нас с приветом лез Ден, —
Вы не забыли, чай? — Но в сторону его!)-
Я в Бадене, мой друг, не делал ничего,
И то же самое я делаю в Париже,
И чувствую, что так к природе леди ближе,
И что не нужен нам ни Кант, ни Геродот,
Чтоб знать, что устрицы кладут не в нос, а в рот.
Недельки через две лечу я снова в Баден; —
Там травка зеленей, и воздух там прохладен,
И шепчут гор верхи: „Где Фет? где тот поэт,
Чей стих свежей икры и сладостней конфект?
Достойно нас воспеть один он в состоянье“…
Но пребывает он в далеком расстоянье!»
Однако довольно дурачиться. Напишите мне, что вы поделываете, что Борисов? Я получил от него очень милое письмо, на которое еще не ответил, но отвечу непременно. — Весны у нас начинается, но как-то медленно и вяло; дуют холодные ветры, и не чувствуется никакой неги, которую вы так прелестно воспевали. Я откладываю свои работы до Бадена; но, кажется, я только самого себя обманываю. Здесь я написал только статейку короче воробьиного носа для предполагаемого праздника ШекспировскоЙ трехсотлетней годовщины, да еще рассказец, тоже прекоротенький, который я намахал в два дня. Кстати: вы должны сочувствовать Шекспировской годовщине; сделали бы и вы что-нибудь!
Ну, а Степановка все на том же месте и процветает? — Что посаженные деревца? А пруд? Бог даст, всю эту благодать я увижу в нынешнем году. А пока будьте здоровы и веселы, дружески жму вам руку и кланяюсь вашей жене.
Преданный вам Ив. Тургенев.
Боткин писал из Вены от 12 апреля 1864 года:
Милые друзья! Мне даже трудно и начинать рассказывать те впечатления, которые сделала на меня Варшава, где я прожил десять дней. Одним словом: жгучий польский вопрос я чувствовал там во всей ядовитой его силе. Довольно хоть сколько-нибудь разуметь дело, которое задумали поляки, чтобы всякий русский человек почувствовал неизгладимую обиду. Когда-нибудь после расскажу. В этой мрачной картине не обошлось и без комического. Я поехал из Варшавы на Бромберг, то есть чрез еще не безопасную местность. Какой черт вздумает этой дорогой ехать заграницу! И действительно, меня приняли за поляка, едущего с фальшивым паспортом, арестовали, догола раздели и обыскали, держали под караулом. Вся эта история продолжалась часов пять, пока не получена была ответная телеграмма из ближайшего городка, что я вовсе не тот, кого следовало арестовать и проч. Варшавские впечатления имели для меня тот результат, что я целую неделю прохворал в Берлине. Куда мне с моими хилыми нервами пускаться на такие впечатления, как, например, застреленный и плавающий в крови русский жандарм, которого увидел я в Виланове, верст 5 или 7 от Варшавы, куда я с несколькими знакомыми поехал, запастись револьверами и взявши человек семь конвоя. Но обо всем этом расскажу уже в Степановке, потому описывать не в состоянии, ибо нервы тотчас приходят в раздражение. — Получил ваше письмо здесь — и спасибо. Теперь уже адресуйте мне в Париж. Завтра еду из Вены в Триест и Венецию. Оттуда напишу вам. Я непременно намерен вернуться в Россию в венце нашего мая и уже не позже начала июня. Прощайте.
Ваш В. Боткин.
Венеция.
22 апреля 1864 г.
Завтра будет неделя, как я здесь видел все, что хотелось видеть, и хочу написать в вам несколько строк. Наслаждение, производимое действительными произведениями искусства, невозможно ни с чем сравнить. И что удивительно, эти наслаждения не требуют непременно молодости и свежести чувств, я теперь в 52 года, кажется, гораздо полнее и глубже ощущаю их, нежели во время моей молодости. Нынешний раз я особенно обращал внимание на произведения, сделанные в эпоху, когда древняя литература и древнее искусство начали проникать в средневековья воззрения Итальянцев и породили тот стиль, который вообще известен под названием стиля Возрождения (Renaissence). Для изучения этого благороднейшего стиля, Венеция представляет множество произведений во всех родах, хотя природа человеческая остается одинаковою во все времена, но воззрения его на мир очевидно изменяются, и вот эти то изменения ни в чем так ощутительно не запечатлеваются, как в произведениях искусства. Удивительно то, что искусство каждой эпохи имеет свою красоту. Видно, что во все времена и во все эпохи, — как только человек начнет с любовью смотреть на предмет или на мысль свою и воспроизводить ее не в соотношении к другим предметам, но исключительно для нее самой, как будто бы в ней заключалась вся сущность мира, — так непременно явится произведение, которое невольно притягивает к себе всякого, у кого есть сколько-нибудь живое чувство. Человек развлечен и потерян в этом общем, среди которого он живет, а искусство индивидуализирует то, из чего состоит эта масса общего, и за это люди любят искусство. Они любят его за то, что в каждом предмете искусство умеет открывать значение, организацию и красоту. И это равно относится и к поэту, и к архитектору. Но вот в чем беда, что редко родятся люди, которые способны так смотреть на предметы, любить их для них самих, а не по отношению их к другим предметам. Этою и называется объективным взглядом на вещи. Из боязни напустить тебе еще большего туману, — я больше не стану говорить об этом. Одно только скажу, что без труда не бывает наслаждения. Ничего человеку не дается легко и сразу. Мне по крайней мере все дается с трудом; да я думаю только то и прочно, что приобретено с трудом.
Прелестнейшее впечатление сделала на меня Вена, где я пробыл шесть дней. Мягкие нравы, элегантность жизни. старая укоренившаяся цивилизация, средневековой характер города, что-то умягченное, приятное, чувственное, которое втягивает в себя и не дает думать ни о чем на свете, кроме vivere memento, — вот какое впечатление сделала на меня Вена. Берлин выражает только одну сторону Германии: Берлин мастерская, деловая контора Германии, — он смотрит в будущее, а Вена в прошедшее и наслаждается своим нажитым добром, своею блестящей аристократией.
Отсюда я еду в Виченцу посмотреть на постройки Палладио; там находится много дворцов и домов, построенных им. Гармония и сочетание размеров, вот сущность архитектурной красоты, но опять-таки всякая эпоха имеет свои сочетания размеров и свою гармонию. Никто так не чувствовал и не воспроизводил красоту римских здании, как Палладио. Но это не было одним подражанием, тут чувствуется самобытная фантазия. Его здания имеют в себе что-то чувственное, роскошное, цветущее, какая-то полнота и красота форм женщины, только перешедшей тридцать лет. Только богатая и цветущая Италия и именно Венеция 16-го века могла произвести такого архитектора вместе с своим Тицианом и Веронезом.
Первые христиане старались истреблять храмы и изображения языческих божеств, и потом эти же самые христиане через 1400 лет пришли почти к обожанию этих же языческих произведений. Вот вам и исторический прогресс! Но существуют и будут писаться различные философии истории, чтобы по силам давать всему разгадку и выводить необходимость всего этого. В сущности же никто не может осветить эту бездонную бездну человеческого мрака.
Здорова ли Степановка? Не смотря на полноту и роскошь ощущений, которые я испытываю здесь, я все-таки с какой-то теплою и тихою радостью думаю о моем скором возврате в Степановку. Во второй половине мая я надеюсь быть уже в Париже и, посетивши Баден, повидаюсь с Тургеневым, а там и в Россию. Но я надеюсь еще получить от вас письма в Париже.
Ваш В. Боткин.
Париж.
21 мая 1864 г.
Милые друзья, вчера была неделя, как я в Париже. нужно было заказать белье. платье и проч., и я могу выехать отсюда 24-го утром в Баден, навестить Тургенева, где пробуду только один день. При такой поспешности, в какой я теперь нахожусь, и не следовало бы заезжать, но как же не навестить приятеля! Здесь стоят такие невыносимые жары, что я совсем ослабел, да к этому еще хлопоты, — и без слуги, просто выбился из сил. А все спешу для того, чтобы пораньше приехать в Степановку. А сколько хлопот мне предстоит в Петербурге! Приискание и наем квартиры, заказ мебели и проч. Не знаю, как я со всем этим справлюсь. Авось все это я успею сделать в неделю, и тотчас в Москву, где пробуду дня три. Но я буду еще писать из Петербурга. Прощайте.
Ваш В. Боткин.
27 мая 1864 г.
Петербург.
Не знаю, что будет дальше, а я вот и добрался до Петербурга благополучно и спешу написать вам несколько строк. Я дорогой прихворнул — простудился. Желательно бы получить от тебя весточку. Буду торопиться как только можно. Главный вопрос теперь о квартире: нужно приискать ее теперь, а осенью будет поздно. Лучше адресуй мне письмо в Москву на имя конторы, да не будет ли поручений, я бы их выполнил аккуратно. Я приехал вчера вечером.
28 мая.
Вчера получил твое письмо из Москвы. Все это депо проклятой мельницы. Радуюсь, что могли отложить его до октября. Сегодня пускаюсь на отыскание квартиры — это для меня страшная обуза, — который никогда еще не жил на квартире. Машинку для делания мороженого, разумеется, куплю и привезу с собою. Здесь только что начинают переезжать на дачи, которые нынешнее лето останутся наполовину пустые; — множество поехало заграницу, не смотря на ужаснейший курс. Поверьте, друзья, рвусь к вам всем существом своим. Уже я слышу самые похвальные отзывы о статье твоей «Из деревни». Вчера Абаза говорил, что прочел ее с великим удовольствием и ждет с нетерпением продолжения. Ржевский точно также. Значит нравится всем порядочным и дельным людям. Кроме того, Абаза находит в ней «что-то необыкновенно приятное». Он не умел назвать вещь по имени: поэтическое. Да я и не читая уверен был в этом. Все это обязывает тебя непременно продолжать, да с этим ты и сам согласишься. Такого ли мнения Катков? Да я в Москве поддам ему пару. Впрочем, если он заартачится, то я предложу Дудышкину. И мне как хочется пописать, да не знаю, хватит ли сил.
Вчера уже начал приискание квартиры, но целый день прошел в тщетных поисках. Больших квартир в восемь, девять и т. д. комнат много, а порядочных небольших нет. Что то будет сегодня? Обнимаю вас крепко. До свидания.
Ваш навсегда В. Боткин.
Следующее письмо Тургенева из Баден-Бадена уже застало Боткина в Степановке:
6 июня 1864 г.
Соборное послание
двум обитателям Степановки
от смиренного
Иоанна.
«Любезнейший Фет!
На ваше рифмованное
И милейшее письмо
Отвечать стихами
Я не берусь;
Разве тем размером,
Который с легкой руки
Гёте и Гейне
Привился у нас и сугубо
Процвел под перстами
Поэта, носящего имя
Фет!
Размер этот легок,
Но и коварен:
Как раз по горло
Провалишься в прозу,
В самую скудную прозу, —
И сиди в ней,
Как грузные сани
В весенней зажоре! —
Ну-с, как то вас боги
Хранят
На лоне обширной
Тарелки,
Посредине которой
Грибом крутобоким
Степановки милой
Засела усадьба? —
Надеюсь — отлично;
Теперь же явился
К вам оный премудрый
Странник и зритель,
Зовомый Васильем
Петровичем Боткиным.
Он в ваши пределы
Стремился, как рьяный
Конь,
И все наши просьбы,
Наши жаркие убежденья
Презрел; так ужасно
Ему захотелось
Поесть ваших пулярок
С рисом и трюфелями,
Которые запиваются
Шампанским,
Здесь, — увы! — неизвестным.
Признаться, не прочь бы
И я побывать там:
Но очень это уж далеко.
А я здесь остался
В цветущем Эдеме
Баден-Бадена,
В котором однако
Вот уже более месяца
Царствует противнейший
Холод и ветер;
Льют дожди
С утра до вечера,
И вообще всякая гадость
И пакость
Совершается на небе.
Что-то у вас? и
Но не смотря на все это,
Я процветаю и
Здоровьем:
Только ноги пухнут,
Пузырь болит,
Ноет правый вертлюг,
От ревматизма,
Затылок трещит
От геморроя,
И глаза плохо видят;
Я ж, не унывая,
Пью какую-то мерзкую воду
Засим прощайте,
Землянику ешьте,
Тетеревов лупите
И меня поминайте».
Ваш Ив. Тургенев.
Почтеннейший Боткин!
Мне следовало бы также ударить в струны лиры, чтобы достойно воспеть письмо твое, сейчас полученное мною, в котором ты так графически описал женщину-медика! Да, брать, новые пошли безобразия! Видно, судьба как только заметит, что люди признали какую-нибудь штуку карикатурой, безобразием, она сейчас распорядится так, чтобы эту же штуку поставить на пьедестал: покланяйтесь, мол, дурачье! Воображаю я твою фигуру перед этой Дульцинеей!
Мне очень жаль, что ты занемог в Петербурге и квартиру не нашел по вкусу: ты нашел однако Дмитрия: {Ниже будет о нем говориться.} разве он тебе не помог? Впрочем, теперь, вероятию, уже все решено.
Если ты наткнешься на какую-нибудь статью в Российском журнале, которая покажется тебе интересною, сделай одолжение, вырежь и пришли.
Анненков приедет сюда 25-го числа-через неделю.
Желаю тебе всего хорошего, крепко жму твою руку и кланяюсь Марье Петровне.
Твой
Ив. Тургенев.
P. S. Что слышно об «Эпохе?»
Князь Одоевский писал мне от 16 июня 1864 года:
Дошло ли до вас, почтенный и любезнейший Афанасий Афанасьевич, письмо мое от 3-го сего июня, где я писал вам о вашем деле и что оно на очереди 12-го июня? Я не получил от вас ответа. Оно слушалось 12-го; последовало разногласие; и оно пойдет вскоре в Петербург на консультацию. Как жаль, что вы мне не прислали никакого ответа. Мне бы очень нужно было знать: неужели Шеншиным не было сделано никакого движения после решения Временного Отделения Земского Суда от 10 сентября 1860 года? В деле вскользь находилось известие, что Шеншин жаловался Уездному Суду, но в чем состояла жалоба и когда она была — в деле нет. Что сделал Уездный Суд — также неизвестно. Если Уездный Суд отказал, то Шеншин жаловался ли в Гражданскую Палату и притом когда? Всеми этими сведениями вам необходимо запастися, иметь с бумаг, Шеншиным поданных, копии и дать им ход. Вуду с нетерпением ожидать вашего ответа.
Вам душевно преданный
Князь В. Одоевский.
P. S. Как бы хорошо, если бы вы помирились с вашим противником, дело идет в затяжку, а между тем он ловкий мошенник, ограждает себя всеми формальностями, которые, впредь до апелляционного решения, в настоящем моменте дела — суть вещь существенная. Да как вы ведете и ваше апелляционное дело? есть ли у вас знающий юрист, с коим бы вы могли посоветоваться? Ибо сущая беда с просителями не юристами.
Я не успел сказать, что Василий Петрович на этот раз привез не итальянца, а Дмитрия, о котором Тургенев упоминает в своем письме. Перелистывая книгу жизни, я с особенным удовольствием останавливаюсь на личности этого Дмитрия, который, прослуживши с примерной ревностью к делу и безукоризненной честностью Василию Петровичу Боткину (а угодить последнему было далеко не легко), — перешел как бы по наследству к меньшому брату Боткина М. П., у которого до конца своих дней служил под именем Дмитрия Кирилловича. Если покойная Варвара Петровна Тургенева сумела в среде окружающей ее прислуги образовать хотя одного Дмитрия Кирилловича, то честь ей и слава. Дмитрий Кириллович будем называть его так) настолько понимал Французский язык, что говорить при нем на этом языке не значило говорить тайно. Посетители, столько раз подробно описывавшие Тургеневское Спас свое, не могли не заметить темных ширм, покрытых прекрасными акварельными букетами. Эти букеты рисованы Дмитрием Кирил. Когда Варваре Петровне подавали утром особенно понравившийся ей букет цветов, она приказывала Дмитрию поставить его в воду и затем срисовать. По поводу Дмитрия Кирилловича, передо мной возникает смутный образ Варв. Петр. Тургеневой, столь многократно выставленной
«На диво черни простодушной»…Я никогда лично ее не знал; но благодаря частым рассказами о ней Ник. Ник., далеко не представлял ее себе той бессердечной женщиной, какою она изображена в нашей литературе. Выше мы имели случай говорить о бывших слугах Варвары Петровны: зубном враче Порфирии, слугах Ивана Сергеевича: Иване, Захаре и наконец Дмитрии. Кроме невыносимого болвана Ивана, все они сохранили известный оттенок школы и предания; но в этом смысле Дмитрий Кириллович был замечательным явлением, которое, к сожалению, выступило передо мною во всей значительности только в настоящее время, т. е. много лет спустя после его смерти. Такое запоздалое объяснение былых образов приводит мне на память несравненный монолог в начале IV акта II-й части Фауста, выступающего из облака.
Тут прежнее, давно прожитое, проносится с небывалою полнотой и красотой перед созерцательным оком воспоминания. Я всегда удивлялся Дмитрию Кирилловичу, как идеальному слуге, никогда не тяготившемуся избытком или чернотою работы. Следует прибавить, что никто его не побуждал своими требованиями; все, что нужно в доме, доверенном его попечением, он знал лучше самого хозяина и без суеты умел все так приладить, чтобы необходимое в данную минуту было у него под рукою в наилучшем виде. Стоило вам однажды переночевать при услугах Дмитрия Кирилловича, чтобы вы уже всегда находили ваши вещи в самом удобном для вас порядке. Надо прибавить, что и у Вас. Петр., и у Мих. Петр. Боткиных Дмитрий Кирил. бывал один на всю квартиру, и надо было видеть порядок, в котором содержались квартиры, не взирая на ежедневных посетителей. Вернувшись как-нибудь в неурочное время, вы могли застать далеко уже немолодого Дмитрия Кирилловича в белом Фартуке на суконной подстилке стоящим на подоконнике и тщательно обмывающим губкою оконные стекла. Раз только в жизни пришлось мне услыхать восклицание ропота из уст Дмитрия Кирилловича. Я останавливался в Петербурге у Василия Петровича в доме Федорова, непосредственно соединенном через двор с Английским клубом. По условию Боткин посылал ежедневно за своими обедами в клуб, что, конечно, находил во всех отношениях более удобным. Но затруднение, получить на кухне клуба обед, увеличивалось, если за последним приходили в самый развал многочисленных клубных гостей и притом требуя не одного, а нескольких обедов. Василий Петрович, любивший обедать вне дома, по временам приглашал к себе своих приятелей, но с таким расчетом, чтобы, в зависимости от помещения и сервизов, число обедающих не превышало десяти человек. Не удивительно, что, при разнообразных интересах и кратковременном моем пребывании в Петербурге, я не входил в механизм холостого хозяйства Боткина. Я видел, что обед подавался превосходный и не взирая на зимний переход из клуба, совершенно горячий; но я только позднее узнал, что в собственной кухне у Дмитрия Кирил. горели спиртовые лампы, на которые принесенные блюда ожидали своей очереди. Всякий хозяин знает, какое сложное дело при нынешней сервировке раздвинуть столь, солидно заправив вставную доску, во избежание, как это случается, печального крушения, и поставить перед каждый кувертом целый набор разнородной хрустальной посуды, — если все это исполняется в одни руки. Однажды Василий Петрович пригласил приятелей обедать. Помню, что в числе их был несравненный поэт и мыслитель Ф. И. Тютчев. Разнообразная закуска красовалась на буфете, а накрытый столь сверкал граненым хрусталем. Вдруг в коридоре раздался звонок, и совершенно неожиданно вошли два новых посетителя. Василий Петрович, подбежавши ко мне, шепнул: «скажи Дмитрию, чтобы он спросил два лишних обеда». Прошедши по направлению к неизвестной мне кухне, я тотчас догадался, что Дмитрий в клубе, и что его надо ожидать по задней лестнице. Через минуту слышу шуршание домового ключа в замочной скважине, дверь отворяется, и передо мною Дмитрий, восходящий с двумя судками, и за ним с такими же судками неизвестное мне лицо, оказавшееся проживающим у Боткина месячным извозчиком.
— Дмитрий, сказал я подымавшемуся ко мне слуге, — пришли два гостя, и Василий Петрович требует двух добавочных обедов.
— Господи! застонал Дмитрий. — Что ж тут-то делать!?
Каких усилий стоило Дмитрию разрешение новой задачи — не знаки, но мы обедали в числе двенадцати человек, как ни в чем не бывало.
Несколько лет спустя, когда, по смерти Василия Петровича, Дмитрий Кирил. служил уже у Михаила Петровича, я не могу забыть следующего момента. Собиратель майолик Мих. П. Боткин приглядел на аукционе графини Кушелевой дорогое итальянское блюдо с похищением Елены. В известный день Боткин входит со сдержанным торжеством, а за ним Дмитрий Кир. в завязанной салфетке несет драгоценное блюдо, нимало не скрывая своего восторга. Хотя я смело могу сказать, что никогда не встречал такого образцового служителя, но не могу промолчать о нем, как о выдающемся явлении из дадено непривлекательного типа наших слуг. Тип этот вообще представляет раболепное унижение перед непосредственной возможностью тычка с одной стороны и высокомерное презрение при возможной безнаказанности. Выдающимся признаком неблаговоспитанности служит злоупотребление благодушным обращением. Увы! — эта черта не одной только прислуги и не к ней одной приложимо слово: забываться. Никакое любезное обращение не могло ни на минуту поколебать спокойного убеждения Дмитрия Кирилов. и изменить его ровного, свободного и почтительного тона. Он видимо допускал любезность высших только до известных пределов. Такой благовоспитанности Дмитрия Кирилловича могли бы позавидовать многие.
Толстой писал от 15 июля 1864 года:
Милый друг, Афанасий Афанасьевич! Тоже два слова. Жена диктует: весь дом болен. А я от себя прибавляю: и начинает выздоравливать. Ваше приглашение всех порадовало. Мы переглянулись с женою и с Таней (свояченицей), улыбнулись все: «а вот бы славно! поедем к Фетушке, ей-Богу». И поехали бы, коли бы не горловая боль Тани, от которой она была в опасности и теперь лежит, и не болезнь Сережи, и не восьмой месяц беременности Сони, причем, обдумав здраво, не следует предпринимать такие поездки. Я же желаю и надеюсь быть. Пока душевно кланяюсь Марье Петровне и Василия Петровича обнимаю. От Дарки черная сучка через три недели к вашим услугам. До свиданья.
Л. Толстой.
Словно недостаточно было одного бесконечного, мельничного процесса, ближайший Тимской сосед мой, старый полковник, вызывал меня письмом на совещание для принятия мер против претензий государственных крестьян на нашу дачу. Не удивительно, что любознательный Василий Петрович, совершенно незнакомый с нашей проселочной русской жизнью, с удовольствием схватился за мысль ехать с нами на Тим самым походным способом, т. е. в одной коляске, с поваром Михайлой на козлах рядом с кучером. К счастию, в то время в 10-ти верстах от нас находилась почтовая станция, где можно было нанять лошадей до постоялого двора с вольными ямщиками. Это обстоятельство дозволило нам, рано выехавши, приехать еще засветло в нашу новую Лимскую усадьбу, в которой, при освежительном лесном аромате, не оказалось ни одной мушки. Василий Петрович поселился в одной из больших комнат, выходящих в залу, и восторгам его не было конца, при панораме, открывавшейся с обрыва берега, на который была обращена терраса нашего домика. К этому надо прибавить отличную уху, которою кормил нас Михайла, необычайно чистую и легкую воду, бившую из родника в нескольких шагах от балкона, и замечательную стройность и красоту брюнетов крестьян. Возвращаясь с обычных прогулок, Боткин не переставал приходить в изумление от красивого восточного типа мужчин рядом с белокурым, курносым, финским типом женщин. Понятно. что остроносый и смуглый тип сохранился под Ливнами на бывшем пути Золотой Орды, но странно, что этот тип нимало не сообщился женской половине народонаселения.
Условившись с полковником К. насчет совместного образа действий по притязаниям крестьян, я решился вернуться домой. По приезде в Степановку, мы нашли письмо Тургенева от 26 июля 1864 г. из Баден-Бадена:
Любезнейший Аф. Аф., я вообще часто думаю об вас, но в последние два-три дня особенно часто, ибо читал «Из деревни» в Русском Вестнике и ощущал при этом значительное удовольствие. Правда, просто и умно рассказанная, имеет особенную прелесть. Сверх того я вспомнил, что не отвечал на ваше последнее письмо, и вот я и принялся за перо.
О себе не имею ничего связать особенного, но вопреки известной дипломатической фразе: «pas de nouvelles, — bonne nouvelle» — подвергался некоторым неприятностям: страдал зубами (невралгией) жестоко в течении трех недель, потом простудился, однако теперь поправился и уж мысленно готовлюсь к охоте, которая начинается у нас через месяц. А вы, мой батюшка, уже колотили тетеревов? Я от Борисова узнал, что вы с Боткиным отправились на мельницу «есть рыбу». Дай Бог вам хороший аппетит! Поклонитесь от меня Василию Петровичу.
Стихотворение ваше очень мило.
Засим от души вас обнимаю, кланяюсь усердно вашей жене и великому Д. Базилио и остаюсь
преданный вам
вечно Баденский житель Ив. Тургенев.
Убедившись из письма Одоевского об окончательном переходе мельничного процесса из московского сената в Петербург в консультацию, при министерстве учрежденную, мы решили с Василием Петровичем спешить ему на помощь в Петербург. Мне было приятно, что Василий Петрович с таким же беззаветным чувством стремился в Ясную Поляну, в которой мы по дороге провели самый приятный день. Из Москвы мы поехали в Петербург вместе с Василием Петровичем, и в вагоне при виде своего знакомого он воскликнул:
«Господа! позвольте вас познакомить. Я вижу в этой случайности хорошее предзнаменование. Это как раз юрисконсульт Н.П.С., и ты можешь попросить его совета насчет своего дела. А он, я уверен, будет тем внимательнее, что сам превосходными стихами переводит Мицкевича».
В Петербурге я и сам разыскал давно знакомого мне другого юрисконсульта, образованного и любезного П. В. К-а. Но с больною мельницей происходило то же самое, что бывает с каждым больным. Доктора, сколько бы их ни призывали, хотя бы первоклассных, любезно кланяются и самым внушительным тоном говорят слова, из которых никто не в состоянии вывесть определенного заключения. Тем не менее я пустился на поиски самых крупных врачей, в виде заведующего министерством юстиции. Узнавши через общего знакомого о днях, в которые товарищ министра С-ий обедает в Английском клубе, мы неукоснительно в эти дни стали обедать там с Васил. Петров.
Я не встречал человека, в котором бы стремление к земным наслаждениям высказывалось с такой беззаветной откровенностью, как у Боткина. Можно было бы подумать. что он древний грек, заставивший Шиллера в своем гимне «Боги Греции» воскликнуть:
«Было лишь прекрасное священно, Наслажденья не стыдился бог»…Но нигде стремление это не проявлялось в такой полноте, как в клубе перед превосходною закускою.
«Ведь это все прекрасно! восклицал Боткин с сверкающими глазами. — Ведь это все надо есть!»
Когда я в возможной краткости изложил С-у дело мельницы, он спросил: «вы о чем же собственно просите?» — поставивши этим вопросом меня в затруднение. Когда, указывая на преднамеренную путаницу, введенную в дело противником, я стал просить о внимании к делу, С-ий сказал: «могу вас уверить, что я каждое дело, проходящее через мои руки, рассматриваю с полным вниманием».
— В таком случае, сказал я, мне не о чем более просить.
Однажды, когда я вернулся домой, Василий Петрович встретил меня словами: «здесь был граф Алексей Константинович Толстой, желающий с тобою познакомиться. Он просил нас после завтра по утреннему поезду в Саблино, где его лошади будут поджидать нас, чтобы доставить в его Пустыньку. Вот письмо, которое он тебе оставил».
В назначенный день коляска по специальному шоссе доставила нас из Саблина версты за три в Пустыньку. Надо сознаться, что в степной России нельзя встретить тех светлых и шумных речек, бегущих средь каменных берегов, какие всюду встречаются на Ингерманландском побережья. Не стану распространяться о великолепной усадьбе Пустыньки, построенной на живописном правом берегу горной речки, как я слышал, знаменитым Растрелли. Дом был наполнен всем, что вкус и роскошь могли накопить в течении долгого времени, начиная с художественных шкафов Буля до мелкой мебели, которую можно было принять за металлическую литую. Я не говорю о давнишнем знакомом Василии Петровиче; но и меня граф и графиня, несказанной приветливостью и истинно высокой простотою, сумели с первого свидания поставить в самые дружеские к себе отношения. Не взирая на самое разнообразное и глубокое образование, в доме порой проявлялась та шуточная улыбка, которая потом так симпатически выразилась в сочинениях «Кузьмы Пруткова». Надо сказать, что мы как раз застали в Пустыньке единственного гостя Алексея Михайл. Жемчужникова, главного вдохновителя несравненного поэта Пруткова. Шутки порою проявлялись не в одних словах, но принимали более осязательную, обрядную Форму. Так гуляя с графиней по саду, я увидал в каменной нише огромную, величиною с собачку, лягушку, мастерски вылепленную из зеленой глины. На вопрос мой — «что это такое?» — графиня со смехом отвечала, что это целая мистерия, созданная Алексеем Михайловичем, который требует, чтобы другие, подобно ему, приносили цветов в дар его лягушке. Так я и по сей день не проник в тайный смысл высокой, мистерии. Не удивительно, что в доме, посещаемом не профессиональными, а вполне свободными художниками, штукатурная стена вдоль лестницы во второй этаж была забросана большими мифологическими рисунками черным карандашом. Граф сам был тонкий гастроном, и я замечал, как Боткин преимущественно перед всеми наслаждался превосходными кушаньями на лондонских серебряных блюдах и под такими же художественными крышками.
В течении моего рассказа мне придется еще говорить о графе Алексее Константиновиче. Но не могу не сказать. что с первого дня знакомства я исполнился глубокого уважения к этому безукоризненному человеку. Если поэт и такой, что, по словам Пушкина:
«И средь детей ничтожных мира Быть может всех ничтожней он»…— способен в минуту своего поэтического пробуждения привлекать и уносить нас за собою, то мы не можем без умиления смотреть на поэта, который, подобно Алексею Констант., никогда по высокой природе своей не мог быть ничтожным.
То, о чем мне придется рассказать теперь, в сущности нимало не противоречит моим взглядам на вещи, так как я знаю, что если бы мне говорить только о том, что я совершенно ясно понимаю, то в сущности пришлось бы молчать.
Часу в девятом вечера мы все, в числе упомянутых пяти человек, сидели наверху в небольшой графининой приемной, примыкавшей к ее спальне. Я знал, что Боткин не дозволял себе никогда рассказывать неправды, и что от него жестоко досталось бы всякому, заподозрившему его в искажении истины; и вдруг в разговоре, начало которого я не расслышал, Василий Петрович обратился к хозяйке дона:
— А помните, графиня, как в этой комнате при Юме стол со свечами поднялся на воздухе и стал качаться, и я полез под него, чтобы удостовериться, нет ли там каких-нибудь ниток, струн или тому подобного, но ничего не нашел? А затем помните ли, как вон тот ваш столик из своего угла пошел, пошел и взлез на этот диван?
— А не попробовать ли нам сейчас спросить столик? сказал граф. — У графини так много магнетизма.
Столоверчение было уже давно в ходу, и, конечно, мне шутя приходилось принимать в нем участие. Но никогда еще серьезные люди в моем присутствии не относились так серьезно к этому делу. Мы уселись за раскрытый ломберный столь в таком порядке: граф с одной стороны стола против меня, по левую его руку графиня и Жемчужников, а напротив их, по правую сторону графа, Боткин на диване. Возбужденный любопытством до крайности, я не выдержал и сказал: «пожалуйста будемте при опыте этом сохранять полную серьезности. Говорил я это внутренно по адресу ближайшего соседа своего Жемчужникова, за которым я дал себе слово внимательно наблюдать.
— Кого же вы считаете способным к несерьезности? спросила графиня и тем убедила меня в неосновательности моего подозрения.
Соприкасаясь мизинцами, мы составили на столе непрерывный круг из рук. Занавески на окнах были плотно задернуты, и комната совершенно ясно освещена. Минуты через две или три после начала сеанса я ясно услыхал за занавесками окон легкий шорох, как будто производимый беготнею мышей по соломе. Конечно, я принял этот шум за галлюцинацию напряженного слуха, но затем почувствовал несомненное дуновение из под стола в мои свесившиеся с краю ладони. Только что я хотел об этом заявить, как сидевший против меня граф тихо воскликнул: „господа, ветерок, ветерок. Попробуй ты спросить, обратился он к жене: они к тебе расположены“. Графиня отрывисто ударила в зеленое сукно стола, и в ту же минуту послышался такой же удар навстречу из под стола.
— Я их попрошу, сказал граф, пойти к Афан. Афан., и он сказал: allez chez monsieur, — прибавя: они любят, чтобы их просили по-французски. Спросите их ямбом, продолжал он.
Я постучал и получил в ответ усиленно звучные удары ямбом. То же повторилось с дактилем и другими размерами; но с каждым разом интервалы между ударами становились больше, а удары слабее, пока совсем не прекратились.
Я ничего не понимал из происходящего у меня под руками и, вероятно, умру, ничего не понявши.
Дня через два затем я уже был в Москве, а оттуда проездом в Степановку завернул к Борисову в Новоселки. Красивый, но с необыкновенно большою головою маленький Петруша Борисов был кумиром своего отца, и не удивительно, так как это был портрет обожаемой мужем Нади. Когда-то едва лишь из пелен он был внесен матерью в гостиную, в которой случайно были братья Толстые, Николай и Лев, и Тургенев. Ребенок без капризов охотно шел на руки к сторонним и, согласно желанию Борисова, мы все передержали его по очереди на руках. Бедный ребенок, как мало пошло ему в прок придуманное предзнаменование; но во всяком случае это был мальчик, из ряду вон выходящий. Бегло читая уже семи лет, он скоро бросил детские книжки и, перечитывая Илиаду Гнедича, отчетливо помнил все описанные в ней события вместе с главнейшими действующими лицами. В настоящее время при нем проживал в качестве дядьки немец Федор Федор. АуФман. Небольшого роста, остроносенький, в аккуратно пригнанной накладке, с лицом, испещренным веснушками, добродушный Федор Федоров. напоминал коростеля. Конечно, он не мог привлечь к себе внимания любознательного мальчика с одной стороны, а с другой обожание отца лишало Федора Федоровича и того нравственного влияния, которое его лета должны бы производить на ребенка.
— Знаешь ли ты, кто к нам пришел? спросил меня Иван Петрович: — ни за что не отгадаешь: Сергей Мартынович. Помнишь, наш общий дядька, когда мы проживали у вас в Новоселках.
— Быть не может! воскликнул я. — Лет тридцать тому назад еще до отъезда моего в Верро, когда ты уже был в кадетском корпусе, он отошел от нас и отправился вместе с господином Каврайским, женатым на сестре бывшего его господина Мансурова в Вятку, где Каврайский устроил винокуренный завод.
— Знаю, знаю! воскликнул Иван Петрович. — Там Мартынович наш женился и купил землю, но по смерти жены и Каврайских все продал и с деньгами вернулся на родину в бывший Мансуровский Подбелевец, в 4-х вер. от Новоселок.
— Боже! воскликнул я, — возможно ли, чтобы подобные Мартыновичу люди самобытно существовали на земном шаре? Он мог жить у Мансурова, у нас, у Каврайского; но я представить не могу, чтобы подобный человек жил где либо самостоятельно.
— Но за то такова эта и самостоятельность, заметил Иван Петрович. — По своему добродушию он поселился у родных своих братьев, бывших Мансуровских крестьян, и те, конечно, с того начали, что обобрали его вчистую, за исключением платья и медвежьей шубы, завещанных ему покойным барином, и которых он, не смотря на малый рост свой не переделывал с большого роста, а только подворачивая рукава и брюки проносил всю свою жизнь. Вообрази, что, не взирая на лета, он по наружности весьма мало изменился, и в рыжеватых его висках нет ни одного седого волоса. Зато ничто не может сравниться с его нищетою. Обобравшие его братья его не кормят. Я очень рад, продолжал Борисов, случаю поговорить с тобою о старике. Невозможно оставить его, беспомощного, в таком положении, и если мы с тобой дадим ему в месяц по 2 р. 50 к., то по крайней мере он не умрет голодной смертью.
Конечно, я с радостью принял это предложение и тут же выложил свою часть за два месяца. Слуга доложил, что Сергея Мартыновича накормили на кухне, и он пришел в переднюю. „Веди его, сюда в кабинет“, сказал Иван Петрович.
— Сергей Мартынович! воскликнул Борисов навстречу вошедшему и действительно мало изменившемуся старику. — Узнаете ли, кто перед вами?
— Слышал, надобно сказать. от людей и очень, надобно сказать, рад. Что ж охотитесь, Аф. Аф.? Плохая, надобно сказать, стала охота.
— Садитесь-ка, Сергей Мартынович, сказал Борисов. — Я вот сказывал брату, как вам плохо у братьев, и вы будете получать от нас месячное содержание.
— А я, сказал Мартынович, буду, надобно сказать, за вас Богу молить. Отняли братья все, надобно сказать, все отняли.
В это время прибежал в комнату Петруша и, искоса поглядывая на Мартыныча, прислонился к коленям отца.
— Вот нагулялись, надобно сказать, набегались, миленький. Слава Богу, миленький! Надо, миленький, уважать папашу, мамашу?»
Недружелюбие еще сильнее выразилось на лице ребенка, и он полуслезливым голосом воскликнул: «Фразы говорит! Фразы говорит!»
Иван Петрович позвонил слугу и сказал: «вели Федору запречь бурого в бегунки и отвезть Сергея Мартыновича в Подбелевец».
— Ну, Сергей Мартынович, сказал Иван Петрович, вручая старику пятирублевую ассигнацию: смотрите, не отдавайте братьям денег; а то они и эти отнимут.
— Отнимут, Иван Петрович!
— Вот вы и не давайте!
— Не дам, надобно сказать, не дам.
На другой день я рано утром уехал в Степановку.
Боткин писал из Петербурга от 13 сентября 1864 г.:
Здравствуйте, добрые друзья! Сегодня первую ночь ночевал на своей квартире и нахожу ее довольно удобною. Но она еще вовсе не устроена, а если дожидаться, когда мебельщик доставит заказанную мебель и проч., то мне должно жить еще долго в гостинице. Но и в таком виде в ней ночевать можно. Я утомился от всяческих хлопот по разным покупкам; главное, всегда затрудняет меня выбор и колебание между тем или другим решением, — это утомляет меня до изнеможения.
Я не утерпел и зашел к Николаеву узнать о твоем деле, ибо уверяли, что оно должно было поступить на консультацию 12 сентября. Но там узнал я только то, что оно на эту очередь не поступило. Но увы! больше ничего не узнал, да и узнать не от кого. Можно сказать, что оно в руках судьбы, и кроме того мнение П-ва бросает мрачную тень на его перспективу. Потребно необыкновенное стечение самых благоприятных внимание и расположений, чтобы вывести его из мрака лживости на разумный путь. Николаев сам ничего не знает, да и кто может знать, кроме самих консультантов, которые тоже дают каждый свое отдельное мнение. Будет ли большинство этих мнений согласно с П-ым, или против него, — это узнается только тогда, когда эти мнения в совокупности поступят к министру, за которого теперь управляет С-ий.
Хотя заграничный паспорт взят, но я все еще не решил, когда я поеду. Если что заставит меня ехать, так это неустроенная квартира. В настоящее время с мебельщиками беда: все торопится, все суетится и ничего нейдет. Мой мебельщик обещает сдать не ранее 2 или 3 недель, и, смотря на его умоляющее лицо, — теряешь возможность сердиться. Впрочем все равно, уеду ли я или нет, — твое письмо перешлют мне в Берлин.
Благополучно ли все в Степановке? И как ваша поездка на Тим? В мировую с Б-ым я не верю, а готовность его есть только слова и слова. Разве что условия мировой будут для него совершенно выгодны, а в противном случае вся выгода его-не мириться.
Итальянская опера уже открылась, но я еще не был. В таком смутном состоянии музыка не привлекает. Карточки твои отдал Б-й и провел у них весь вечер и даже ужинал. Вот типы добродушнейших женщин и безыскусственных! Но увы! я стою перед их земною, стихийною силой, как Фауст перед духом земли, которого он вызвал, — сознавая свою ничтожность. Для таких могучих организмов нужны Голиафы и Сампсоны. Для таких натур поэзия не существует. И слава Богу — они не говорят возвышенных Фраз и тем приятнее. Прощайте и пишите уже мне на мою квартиру в Караванную, 14.
Ваш В. Боткин.
II
Снова едем на Тим. — Мировой посредник С. С. Клушин. — Разверстание с крестьянами. — Мировая с Б-ым. — Возвращение домой. — Ночлег в деревне. — Письма. — Снова в Москву. — По дороге заезжаем в Спасское. — Поездка в Петербург к В. П. Боткину. — Возвращение в Степановку. — Анна Семеновна Белокопытова. — Приезд Тургеневых к нам.
С окончанием озимого посева и молотьбы в Степановке необходимо было позаботиться о тех недоделках, которые постоянно оставались в делах брата Петруши. Надо было подумать о разверстании с тимскими крестьянами, как о деле первой важности во всяком населенном имении.
На этот раз без Василия Петровича мы отправились туда с женою в небольшой коляске на своих лошадях, с тем же, поваром Михайлой на козлах причем приходилось не только кормить, но и ночевать дорогой на расстоянии 90 верст.
На Тиму, согласно цели поездки, я должен был ехать за 12 верст знакомиться с местным мировым посредником, Сергеем Семеновичем Клушиным. Не могу без душевного умиления вспомнить этого вполне русского и вполне прекрасного человека. Не удивительно, что такое трудно исполнимое дело скоро и блистательно окончено руками таких образцовых людей. Я застал Сергея Семеновича в его кабинете, а затем, когда мы успели более познакомиться, он все в том же парусинном костюме, доставлявшем прохладу его шарообразному телу, провел меня в большую залу, служившую вместе и гостиной, и представил своей матери старушке. Видно было, что прекрасный дом и другие немногочисленные постройки окончены недавно, и Сергей Сергеевич рассказывал, как он, но обладая большими средствами, в течение шести лет готовил строительный материал и исподволь производил постройку. Зато все было сделано обдуманно и выгодно, начиная с камерного отопления соломой и кончая прекрасными рамами и дверями.
Свой архитектурный талант Сергей Семенович, между прочим, проявил и на приходской церкви, в которой состоял церковным старостой и мимо которой мне каждый раз приходилось проезжать к нему. Он, не трогая каменного купола храма, переложил его весь, значительно увеличив размеры. По делам мне неоднократно приходилось бывать у Сергея Семеновича, даже в дни, когда он по службе уезжал в Дивны, и я оставался с глазу на глаз с его добрейшей матерью, боготворившей его. В один из таких приездов она расположилась в кресле у самой стеклянной двери на террасу, с которой через лужайку виднелся пчельник и прекрасная липовая аллея. Мать и сын так привыкли к своим пчелам, что ограничивались равнодушными замечаниями, что пчелы не кусают. И действительно, хотя мне случалось сидеть на террасе даже в обществе гостей, — я никогда ре слыхал, чтобы пчелы кого-либо укусили. На этот раз я спросил у старушки, что значат многочисленные белые свертки салфеток на клумбах перед террасой, — и получил в ответ, что она ежедневно завертывает георгины на случай утренних морозов.
— Сергей Семенович, заметила она, просил вас откушать, и право так совестно заставлять вас ждать; но он не такой человек, чтобы тратить время по пустому: должно быть дела задержали. Да и проедет он из Ливен 25 верст не более двух часов; он, вы знаете, охотник до хороших лошадей и по здешнему ездит всегда с тремя колокольчиками на дуге.
— Как не знать! я даже знаю, что они с братом моим давнишние приятель, и что он подбирал себе у брата пристяжных из кровных верховых. Рассказывал он мне, как он лечил одну из прежних пристяжных от норова.
— Как же, как же, перебила меня старушка: заноровилась как то у него пристяжная среди поля. Он и послал кучера на другой пристяжной в деревню раздобыться колом. Забили они этот кол утром да и привязали пристяжную и продержали до самого вечера без корма. С той поры норов как рукой сняло.
— Да, заметил я, такие вещи можно только делать с терпением Сергея Семеновича и с его страстью к лошадям.
Долго еще разговаривали мы со старушкой, отрывавшей по временам глаза от чулка, чтобы бросить взор в стеклянную дверь. Вдруг она вскочила с кресла и, как свеча вытянувшись во весь свой небольшой рост, восторженно крикнула: «Сергей Семенович! Кушать!» прибавила она по адресу старого слуги.
Как я ни старался вслушиваться, я в течении пяти минут не мог расслушать ни малейшего звука. Но не ошиблось любящее ухо матери: через некоторое время услыхал и я малинкой звон трех колокольчиков.
— Меня то задержали, сказал входящий Сергей Семенович, а вот вы то, маменька, и себя, и гостя истомили понапрасну.
— Ну уж извини Сергей Семенович! без тебя бы мне и обед не в обед.
— Да будет вам, маменька, отвечал Сергей Семенович, целуя дрожащую руку старушки (он всегда говорил «будет» вместо «довольно»).
Единственный раз в жизни мне пришлось видеть до того дрожащие руки, что старушка, черпая суп правой рукою, придерживала ее левой, чтобы бульон не расплескался дорогой до рта.
Благодаря спокойным приемам Сергея Семеновича, разверстание с крестьянами было окончено в один его приезд. «Крестьяне ваши жалуются, сказал Сергей Семенович, что в их наделе весною две десятины засыпает песком и просят о прирезке им сверх надела еще двух десятин. Поедемте посмотреть, что это за песчаный перенос».
По указанию сельского старосты и выборных, мы увидали песчаную гривку, шириною не более двух аршин, едва заметно желтеющую по огородному чернозему. Конечно, я ничего не возражал при крестьянах, но, вернувшись домой, не мог не сказать Сергею Семеновичу, что со стороны крестьян это очевидная прижимка для получения лишнего.
— Хе-хе-хе! захихикал Сергей Семенович, заметив мое волнение. — Да уж будет вам, будет! Где уж на свете эта абсолютная правда? Ну, конечно, придирка. Да плюньте вы на эти две десятины, и сейчас кончим все дело.
Через несколько дней сделка по обоюдному соглашению была окончательно оформлена.
Вначале этого приезда противник мой по мельничному процессу Б- неоднократно приезжал ко мне с предложением мировой. Не справляясь даже с мнением нашего арендатора А-ва, я не раз предлагал В-ву четыре аршина четыре вершка на его плотине, вместо прежних четырех аршин двух с половиною вершков. Но он и слышать не хотел, повторяя: «помилуйте, 12 вершков то мои неотъемлемые». — А когда я в совещаниях с А-вым только заикался о предоставлении Б-ву восьми вершков, А-в вопил, что тогда надо бросить мельницу и бежать. Однажды когда, по разверстании с крестьянами, мы собирались уже в Степановку, появился Б-в с теми же бесплодными толками.
— Не могу понять, сказал он, из-за чего мы с вами, Афан. Афан., судимся?
— Это вы, отвечал я, лучше меня знаете, так как желаете в пользу своей будущей крупчатки уничтожить мою, существующую десятки лет.
— Я ничего, отвечал Б-в, не желаю, а желаю только чтобы было «исправедливо». Ваша мельница пускай остается при своей воде; пустим ее на все поставы; а что затем из под всех колес в реку стечет, то мое.
— Если бы вы только этого хотели, отвечал я, то не тягались бы мы с вами по судам.
— А я больше ничего и не желаю, как чтобы было «исправедливо».
— Чего же справедливее! сказал я. — Вы знаете, под нашими наливными колесами печать. Пустим всю рабочую воду до этой печати, а затем отметим, сколько воды наберется при этом в конце рабочей канавы, на находящемся там столбе, и с этой метки вся вода в реке ваша.
— Помилуйте, возразил Б-в, — зачем же нам отмечать другой столб? Ведь вода везде ровна. Так уж будем набирать мою воду с того столба, что под вашими колесами, а не с того, что в устьях рабочей канавы.
Разговаривая не раз с арендатором о падении рабочей воды, я припомнил, что на небольшом протяжении рабочей канавы в каких либо двухстах саженях вода в канаве для предупреждения засорения имеет вершка четыре склона, и что пустить Б-ва с водою по верхнюю печать значит дать ему ворваться в нашу рабочую канаву и тем лишить ее навеки возможности расчистки.
— Вы, Алексей Кузьмич, просите воды в реке, а присчитываете мою рабочую канаву и сами говорите, что все равно, — верхняя или нижняя печать. Уж если вы желаете справедливости, то будем метить с того места, где кончается моя вода и где начинается ваша.
— Ну пускай будет так. Давайте на этом кончать мировою, сказал Б-в.
— Ну в добрый час, сказал я, протягивая руку. Если вы твердо решились на этом покончить, то я сегодня же вечером поеду к Сергею Семеновичу и попрошу его в качестве посредника и человека настолько же хорошо известного вам, как и мне, Оформить нашу мировую и закрепить ее установлением законных знаков. Я сегодня же, вернувшись, дам вам знать, на какой день вызовет нас обоих Сергей Семенович для написания мирового акта.
— Слава тебе Господи, сказал Б-в, раскланиваясь, что на этом решили. По крайней мере будет «исправедливо».
Сергей Семенович просил нас приехать на другой день после обеда, обещав к тому времени написать черновую нашей мировой в буквальном смысле моих слов, для того чтобы, в случае одобрения проекта Алексеем Кузьмичем, писарь имел. время переписать его набело для наших подписей.
— Ну что, Алексей Кузьмич, сказал на другой день посредник входящему Б-ву. Хорошее дело, кажется, вы, господа, затеяли. Прислушайте, что я написал начерно и поправьте, если что найдете не так.
При чтении проекта Б-в все время говорил: так-с, так-с, совершенно «исправедливо». Но дойдя до печатей, он обратился к Клушину со словами: «Сергей Семенович, как вы полагаете, следует обозначать начало моей воды от первой или второй печати?»
— Я, тоненьким и жирным фальцетом захихикал Клушин, — я обязан скреплять общее ваше желание, выраженное с надлежащей ясностью; а уж советовать, извините, никому из вас не могу.
— Да как же таперича? начал Б-в.
Эта канитель начинала меня бесить, и я невольно проговорил: «видите, Алексей Кузьмич, а вчера еще по рукам ударили; а я-то от своих слов не отпираюсь».
— Да будет вам! перебил нас Сергей Семенович. — Коли уговорились, то надо писать; а не решились, оставимте дело.
— Ну да уж что ж! перебил В-в. Видно так тому делу и быть: прикажите переписывать.
— А мы с вами, господа, сказал Сергей Семенович, — покуда чайку попьем.
Часам к десяти мы еще раз прослушали и подписали переписанную в двух экземплярах мировую. Как я ни рвался довести дело до надлежащего конца, оказалось, что исполнить его невозможно было с желаемой скоростью. Посредник счел нужным вызвать из Ливен исправника, депутата от купечества, пригласить трех свидетелей дворян и трех купцов и даже священника. А так как для приведения в исполнение проекта необходимо было не только спустить пруд на мельнице Б-ва до осушения нашей рабочей канавы, но приходилось поджидать и необычайного набора воды в собственном нашем пруду и в запруде выше лежащей по реке мельницы Селиванова, то раньше недели окончить дело нечего было и думать. Тем временем сентябрь подходил к концу, и ночные холода стали сильно давать себя чувствовать; а наш дом вообще и спальня в частности при одиночных рамах были весьма плохою защитой от стужи. Приехали мы по теплой погоде в летних платьях, а тут приходилось еще на ночь завешивать окно от врывающегося ветра.
Однажды ночью, когда все уже шло к концу, дрожа от холода поднявшейся осенней бури, мы услыхали сильные удары в стеклянную раму балконной двери. Выйдя наскоро из мрака в полусвет, я за стеклами различил огромный силуэт и на вопрос: «кто там?» — узнал голос нашего арендатора. Впустив его в заду, я спросил, — что ему нужно?
— У меня на плотине вода набрана по самые края, а при этой страшной буре ветер с верховья плещет водной через заставки. Я пришел просить у вас позволения спустить воду, а то плотина не выдержит, и мы разорим и свою, и В-векую плотину. А я до света пошлю Сергею Семеновичу донесение о случившемся.
Конечно, приведение в исполнение мировой было по необходимости отложено еще на два дня. Наконец, к полудню назначенного дня все вызванные к ее исполнению явились на Лимскую мельницу, и во избежание всяких недоразумений и подозрений положено было, чтобы мы с В-вым стояли при спуске воды на все наши поставы, наблюдая, чтобы набравшийся с колес слой воды не превысил находящейся под колесами казенной печати, и когда вода подымется до печати, то человек, по нашему общему с Б-вым соглашению, должен выстрелом из ружья родить знак посреднику, ожидающему с депутатами от купечества и с понятыми у нижнего столба, чтобы отметить высоту пришедшей туда из под колес воды. Пока мы шли с Б-вым к рабочим заставкам, он не без иронии передавал событие запрошлой ночи. «Спустил я по приказанию посредника всю воду, и вдруг в полночь, откуда ни возьмись, вода стала прибывать и прибывать. Думаю, да что же, Господи, это за чудо такое? И невдомек, что это Николай Иванович делает репетицию. Ведь на театре никогда не бывает представления без репетиции».
Мы приказали открыть заставки, и бросившаяся с силой на колеса вода стала быстро подниматься. Вот она подошла к печати, дошла до ее половины, затопила ее и стала подниматься все выше.
— Алексей Кузьмич, пора стрелять!
— Помилуйте, еще одну секунду!
— Вам то хорошо, возражал я, говорить про секунды, а печать то уж на четверть в воде.
— Ну, так и быть, стреляй! крикнул Б-в ружейнику, и вслед за выстрелом нам уже оставалось ожидать результатов наблюдений и действий посредника с понятыми. Через полчаса я увидал их идущими от устья канавы с Сергеем Семеновичем во главе шествия. Не смотря на свою полноту и одышку, он был бледен, как мертвец.
— Ну, сказал он, подходя ко мне: в силу Формального условия вы имеете право требовать буквального его исполнения и остановиться на его результатах; но я должен вам сказать, что ваш противник будет окончательно разоренный человек, ибо, не взирая на лишки, допущенные вами у верхней печати, вода в минуту выстрела едва докатилась к самой пятке нижнего столба не плотнее картонного листа. Мы не предвидели этого обстоятельства; но я решаюсь просить вас отложить исполнение мировой до завтра и тогда уже отмечать высоту воды на нижнем столбе, только когда она выравняется по всей рабочей канаве.
Я с охотою согласился на такую уступку, и так как время было еще не позднее, то ливенские купцы отправились на обед к Б-ву, а ближайшие помещики по домам. Зато Сергей Семенович предупредил, что на завтра дело протянется долго, ибо придется набирать и весь Б-кий пруд и забить в нем сваю с печатью для обозначения обязательной для Б-ва высоты воды. На таком основании на следующий день, не взирая на заботу, сосредоточенную на предстоящей в судьбе мельницы, нам с женой необходимо было подумать, как вечером накормить двенадцать человек, вынужденных по нашему делу провести на ветре и холоде целый день. На этот раз результатом нашей экспертизы оказалось, что вода в нашей рабочей канаве, предоставленная своему естественному течению, стала в устьях как раз в половину печати, поставленной при первоначальном определении прав нашей мельницы, защита которых составляла всю сущность процесса; но зато долго пришлось дожидаться полного набора воды на плотине Б-ва, согласно условию. Когда, просидев над водою до совершенной темноты, мы забили при всех депутатах и свидетелях окончательную сваю, причем Б-ву вышло четыре аршина три вершка, вместо предлагаемых мною ему неоднократно четырех вершков, — и прибыли в наш дом, я был изумлен ярко освещенным столом, накрытым на двенадцать приборов. Я только позднее узнал, что милейшая старушка Клушина снабдила нас всем необходимым, начиная с кухонной и столовой посуды, белья и серебра до огурцов мастерского засола. Недостаток шандалов был заменен бутылками, завернутыми в бумагу с бумажными розетками наверху. Как при общей подписи акта исполнения мировой. мы все, начиная с посредника, усердно ни просили нашего арендатора А-ва кончить и с своей стороны мировою, отказываясь от всяких по этому делу претензий, он согласия на мир не заявил и десятки раз, складывая пальцы как бы для писания, повторял: «мамаша не приказала брать в руки пера-с, а то нашему брату придется идти с медною посудою». — Так что наконец посредник спросил: «да что это вы, Николай Иванович, все медную посуду поминаете?»
— Нет-с, это так по нашему: значит крест да пуговицы.
Можно вообразить, с каким восторгом мы на другой день пустились обратно в Степановку. Но не так весело пришлось продолжать начатой путь. Уже с места, где мы кормили лошадей, хмурая с утра погода превратилась в проливной дождик, так что по невылазной грязи мы, ночью, добившись до деревни ночлега, рады были найти пустую холодную избу для нас и навес для коляски и лошадей. Хозяева натаскали нам на лавки полусухой соломы и заверили, что у них исправный самовар. Пожалев измокшего до костей повара, мы не послали его в коляску за нашим небольшим складным самоваром, а удовольствовались хозяйским. Не успели мы еще дождаться последнего, как уже стали чувствовать нападение беспощадных блохе, видимо обрадовавшихся свежим пришельцам. Раздеться в избе не было возможности по причине холода; сидеть или лежать было тоже невозможно по причине незримых мучителей. Когда внесли самовар, мы предались чаепитию, в надежде хотя сколько-нибудь отогреться, но не успел я еще докончить своего стакана, как почувствовал небывалую у меня резь в желудке; я догадался, что мы отравлены нелуженым и покрывшимся медянкой самоваром. Между тем я боялся сообщить об этом открытии жене, а только просил ее не допивать этого мутного чаю.
— Ах, помилуй, отвечала она, — я так рада хотя чем-нибудь согреться.
Уступив наконец настоятельным моим просьбам, она вскоре стала жаловаться на боль в желудке. Конечно, в этой пустой и холодной избе в непроглядную ночь под проливным дождем, хлеставшим в небольшое оконце, мне не трудно было понять всю нашу беспомощность Если мы сильно отравлены, приходилось ожидать мучительной смерти. Но через час наши боли стали униматься, и я всю ночь не мог присесть и проходил взад и вперед на тесном пространстве. К счастию, с нами оказалась банка персидской ромашки, и я уже к рассвету высыпал половину ее себе за пазуху. Хотя мучения и не прекратились, но заметно унялись. При первом появлении рассвета, мы отправились в последний 35-ти верстный переезд до Степановки, и тут после грязи наступила едва ли не худшая беда в виде пронзительного ветра с морозом, с каждым шагом все более превращавшим изрытую дорогу в мучительные колчи. Но как всему бывает конец, и мы часам к 12-ти добрались до своего крыльца, и первым моим воплем было: «белья и кофею!»
Очнувшись, я принялся за чтение полученных в наше отсутствие писем.
В. П. Боткин писал:
19 сентября 1864 г.
С.-Петербург.
Прежде всего скажу тебе, что я отложил свою поездку в Берлин и остаюсь здесь. Устройство квартиры требует таких хлопот и внимания, что нельзя гоняться за двумя зайцами. Надобно выбирать которого-нибудь одного и покончить с ним. Я выбрал то, что у меня перед носом, т. е. квартиру и хочу с нею покончить. Притом свой глаз необходим во всем, а я терпеть не могу полумер и не конча одного браться за другое. Легко сказать: я найму квартиру и устрою ее; но сделать это не легко и требует внимания и осмотрительности. Да и я сталь покойнее, когда решился не ехать. Я решился в комнату, назначаемую для тебя, положить ковер во весь пол, чтобы охранить тебя от всякого холода; притом у меня маленькая мысль, что может быть вздумает приехать Маша, и так буден для нее удобнее. Да, возни и хлопот и беготни очень много, но я и теперь уже ощущаю неиспытанное до сих пор удовольствие иметь свой угоде, свое гнездо, иметь свои вещи около себя, знать где что найти и не терпеть от беспрестанных перевозов и переносов. Дмитрий был для меня большою подмогою, он оказался человеком осмотрительным и старательным и умеющим все сделать и при этом не белоручкой, которых я терпеть не могу. Я уже переехал, хотя из заказанной мною мебели ничего не готово, но перевезенной из Москвы мебели для меня достаточно: есть на чем спать, есть столь и на первую обстановку довольно. Дней через десять, надеюсь, все будет устроено. Дома я еще не обедал, но и это, надеюсь, будет удовлетворительно. Сегодня накладывают ковры. Квартирой вообще я доволен. Жаль, что Б-ие уезжают на зиму: они добрые и хорошие люди, простые и тихие.
Дело твое поступило на консультацию, но результат неизвестен. На этой неделе узнаю и напишу.
24 сентября.
Вчера справлялся о деле; но оно еще не поступило к министру. Все еще остается во мраке неизвестности.
29 сентября.
Все эти дни я прохворал и не выходил, и, к счастию, простуда сосредоточилась в насморке. Сегодня опять думал было отправиться за справками, как раздается звонок и входит М-в, которому вчера С-ий сказал, что дело наконец было им прочтено, и что он даль мнение, несогласное с мнением П-ва, и что он считает твою сторону вполне справедливою. В прошлую пятницу я сам спрашивал С-ого, но тогда он еще не читал дела. Такая приятная весть меня обрадовала несказанно; С-ий думает даже, что с его мнением согласится П-в; во всяком случае, если, в случае его несогласия, дело должно будет поступить в Госуд. Совет, то министр, давший о нем свое мнение, будет защищать его.
Я от вас не имею до сих пор писем. Надеюсь, что ты дождешься известия, прежде нежели начать разговоры с Б-вым, который, узнавши о решении, будет как нельзя сговорчивее. Радость моя так велика, что я не в силах этого выразить.
Ваш В. Боткин.
30 сентября 1864 года.
Петербург.
Вчера М-в и я отправили к тебе по письму, извещая, что мнение консультации состоялось в твою пользу. Вчера в клубе после обеда я говорил об этом со С-им, и он просил меня написать тебе об этом и уведомить тебя дней через 10 или через две недели, а то противная сторона тотчас бросится действовать. В виду мнения, поданного министром, имеется между прочим склонить обер-прокурора и сенаторов согласиться с этим мнением, чтобы не пускать дела в Государственный Совет, потому что это новая возня, не слишком приятная также ч для министра юстиции. Вот почему чрезвычайно желательно и необходимо, чтобы известие о решении консультации дошло до Б-ва не ранее двух недель, и вообще, чтобы ранее двух недель ты об этом не извещал ни А-ва, ни кого-либо другого, через кого может эта весть сделаться известною. Подержи ее про себя: довольно, что оба вы, Миша и ты, — будете знать, и что вам будет это приятно. Пожалуйста исполни это непременно. Не знаю, в чем именно состоит мнение консультации, и куда, по какому направлению отсылают они дело; для меня довольно было узнать, что министр считает твою сторону совершенно правою.
Обнимаю вас от всего сердца. От тебя не получал ни одного письма после первого, написанного из Степановки. Какие у вас цены на хлеб?
Ваш В. Боткин.
Весною, при свидании со Львом Николаевичем, мы решились на заглазный промен, только основываясь на ненужности для нас меняемых вещей. Я обещал переслать ему через Борисова в Никольское 4-х летнего жеребчика, а он — выслать туда сеялку, которую он бросил употреблять. По поводу этого промена, Л. Толстой писал от 7 октября 1864 года из Самарского имения:
Мы с вами условились, любезный Афанасий Афанасьевич, разменяться. 20-го Борисов сказал мне, что, рассчитывая на мою неаккуратность, вы ему сказали, что пришлете 25-го. Я посмеялся вашей предусмотрительности и что же? — сеялка была в Никольском 24-го, и с вечера я, довольный собою, сказал управляющему послать ее к Борисову. Оказывается, что он забыл, и только нынче 7-го октября я узнал, что она не отослана. Виновата в этом судьба. Мы нынче уезжаем домой и не знаем, как доберемся до счастливого Ясного. Мои все здоровы и веселы и любят вас и помнят, чего и вам с Марьей Петровной желаю. Весною жду вас к себе. Мы постараемся, как ни трудно это, быть Москвой.
Л. Толстой.
Письмо Боткина:
4 ноября 1864 года.
С.-Петербург.
Давно уже не писал я к вам, милые друзья, зная, что вы на Тиму. Теперь получил от вас письмо из Степановки. В этот промежуток времени ты совершил весьма важное дело — мировую с Б-вым. Для меня важно то, что ты доволен всем, Мари также. Что касается до меня, то мне не верится, чтобы дело можно было считать поконченным, и чтобы мельница твоя была вполне ограждена. Ну да тогда видно будет, а пока худой мир лучше доброй ссоры.
Итак, я живу себе в Питере на своей новой квартире с тем же Дмитрием, которым я очень доволен, и поджидаю вас. Но я до сих пор не знаю, приедет ли сюда Маша? Неудобств бояться нечего, мы в первый год жили летом в Степановке, вероятно, с гораздо меньшими удобствами, нежели те, которые имеются у меня на квартире. Экипаж у меня есть: я уже нанял лошадей помесячно; обед будут нам носить из Английского клуба, где, как ты знаешь, обед отличный. Поживем вместе в тесноте, лишь бы не в обиде. Только я бы просил вас не оставаться долго в Степановке, а приехать сюда в конце ноября, одним словом, чем скорее, тем лучше. В январе хотел приехать Тургенев, перед его приездом ты можешь свезти Машу в Москву, где она проведет с месяц очень приятно, а сам вернешься сюда. Вот каков мой проект, не знаю, будет ли он одобрен вами. Мой совет: остановиться Маше у Мити, где ей во всех отношениях будет и приятно, и удобно. Вуду ждать на это вашего ответа.
Ваш В. Боткин.
P. S. Совсем было забыл написать вам о моей просьбе: сделайте милость, пошлите к Барыкову попросить у него его табаку, из которого ты сделала мне несколько папиросок. Мне этот табак кажется несравненно лучше всякого. Попросите у него по крайней мере Фунт. Сделайте милость! Я уже искал здесь нечто подобное, но здесь нет ничего, кроме турецкого или очень легкого. Не забудьте заплатить ему, если надо.
В. Боткин.
Последняя приписка Боткина заставляет меня вернуться несколько назад. Принимая к сердцу некоторые мои земледельческие нововведения, как например, пленяясь обширным укосом клевера, из которого, нагибаясь, сам выбирал побеги полыни, Боткин носился с мыслью купить по близости имение, вероятно, в намерении передать его нам. А так как со времени эмансипации, людей, желающих продать имение, оказалось много, то и мы в свою очередь однажды были изумлены приездом близкого, но совершенно нам незнакомого соседа Барыкова, о котором слыхали только, как о замечательном сельском хозяине. Подкатил он под крыльцо в плетеной на польский манер бричке, запряженной гнедою четверкою превосходных шестивершковых заводских маток. В гостиную, а оттуда на балкон, где сидел Василий Петрович, Барыков, седой, но еще бодрый, вошел в суконной венгерке с бранденбурами, что однако не мешало приемам человека, видимо привыкшего жить в порядочном обществе. Он ловко свел разговор на «Письма об Испании», заговорил о том, что насаженные нами деревца имеют здоровый вид, и о том, как в нашей безлесной стороне трудно добывать деревья для посадки, если не посылать в НовосельскиЙ уезд, в Меховое Шатилова. Уезжая, он любезно пригласил Вас. Петр. и меня побывать у него в соседнем имении на берегу Неручи, под названием «Гремучий ключ». На другой или на третий день после этого мы воспользовались приглашением и отправились верст за 14. Подъехали мы в крыльцу каменного дома, имевшего и снаружи, и снутри вид старинного аббатства. Кругом дома в значительном расстоянии была расположена каменная усадьба, в виде конного и скотного дворов, амбаров и служб. Но видно, все это поддерживалось в целях солидности, без всяких претензий на красоту. Подвижной старик хозяин принял нас чрезвычайно радушно в кабинете, имевшем вид капеллы аббатства. Когда Барыков заметил внимание, с каким я рассматривал резную стену кабинета, вероятно, отделявшую его спальню, он сказал: «это ведь у меня все свои резчики; у меня, начиная с первоклассных кузнецов и слесарей до краснодеревщиков, все свое. Я люблю во всем порядок и успел уже наделить крестьян землею, состоящей из неразрывной полосы, непосредственно прилегающей к правому берегу реки Неручи. Эта полоса в свою очередь состоит из трех продольных полос, соответствующих трем экономическим полям. Затем, посредством поперечных нарезок, каждому двору выделена соответственная вырезка в трех полях с одинаковым правом на водопой. Вспомните, что все это мною сделано еще до освобождения крестьян».
— Как это вы, Федор Иванович, спросил Боткин, при строго-охранительном характере всей вашей деятельности, выписываете такой красный журнал? При этом Боткин указал на лежащий перед ним на столе «Современник».
— Да разве он красный? воскликнул Барыков, — я усердно читаю его от доски до доски и этого не замечал.
— В настоящее время это самый красный, отвечал Боткин.
— Ах он, свинья! воскликнул Барыков, швырнув под стол «Современник».
Чтобы показать нам свое хозяйство, Барыков повел нас в насаженный им на песчаном берегу хвойный лес. Эти ели и сосны, давно переросшие строевой возраст, могли своим видом вполне вознаграждать труд и терпение хозяина. Это же могло относиться и к остальной части рощи и сада, где на каждом шагу заметно было присутствие опытной руки любителя.
— Теперь позвольте повязать вам замечательный источник, давший название всему селению, сказал Барыков.
Спустившись из рощи в небольшое ущелье, мы увидали по широкому желобу быстро текущую струю воды, падающую с 2-х аршинной высоты с громким плеском на каменную плиту. Это по сей день не только гремучий, но и совершенно чистый и холодный ключ.
— Какой это прекрасный табак вы курите? спросил Боткин.
— Это табак с моего огорода и собственного приготовления. Позвольте вам дать пригоршню для пробы.
Не стану утверждать, что к изысканной любезности Барыкова к Василию Петровичу примешивалось отчасти желание продать ему «Гремучий ключ». Помнится, что когда дома жена моя приготовила несколько папирос Василию Петровичу из крепкого Барыковского табаку, Боткин отозвался о них с похвалою.
Конечно, сейчас по получении Боткинского письма, я обратился с просьбою к Барыкову, — любезно уступить хотя Фунт табаку, какого Боткин достать в Петербурге не мог.
На это Барыков отвечал:
«Не имея в экономии продажного табаку, я очень горжусь предпочтением, оказываемым ему Василием Петровичем, которому прошу препроводить прилагаемых при этом четыре фунта; но так как у меня правило, что берущий табак обязан в то же время получить из моего питомника известное число деревьев, то вместе с сим прошу принять от меня 50 елок, простых и веймутовых сосен и лиственница».
Все эти подарки Барыкова со временем великолепно разрослись в Степановке, по аллее, ведущей к роще.
Письмо Л. Толстого:
17 ноября 1864.
Жду я и жена вас и Марью Петровну к 20-му. Неудобства к 20-му никакого не предвидится, а предвидится только великое удовольствие от вашего приезда. Так и велела сказать жена Марье Петровне.
Интересен мне очень «Заяц». Посмотрим, в состоянии ли будет все понять хотя не мой Сережа, а плетней мальчик. Еще интереснее велосипед {Я придумывал неудавшийся велосипед.}. Из вашего письма вижу, что вы бодры и весело деятельны. И я вам завидую. Я тоскую и ничего не пишу, а работаю мучительно. Вы не можете себе представить, как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я принужден сеять. Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаний, для того чтобы выбрать из них 1/1000000 — ужасно трудно. И этим я занят/ Попался мне на днях Беранже последний том. И я нашел там новое для меня: «Le bonheur». Я надеюсь, что вы его переведете.
Тоскую тоже от погоды. Дома же у меня все прекрасно, все здоровы. До свидания.
Ваш. Л. Толстой.
От Боткина:
С.-Петербург.
18 ноября 1864.
Сегодня получил для тебя письмо от Тургенева, которое при сем посылаю. Твое последнее письмо оставило меня в тревоге касательно твоей лихорадки. Вот с этой точки зрения мой взгляд на Степановку и вообще на деревню, — ее ладится с моими симпатиями к ней. Надеюсь, что ты получил мои письма, которые писал я уже около двух недель, и в которых взываю о вашем приезде сюда. Между тем Тургенев, возвестив, что он приедет сюда в январе, теперь, кажется, оставил это намерение; по крайней мере вот уже два письма я получил от него, и он ни слова более не упоминает о своем намерении приехать. Боже мой! какая дряблость, какое отсутствие всякого стержня, какая бедная усталость обнаруживается в письме, которое я посылаю.
Итак, буду ждать от вас известия о вашем выезде, если только твоя лихорадка не представляет ничего серьезного.
Вчера С-ий говорил мне, что от посредника ливонского уезда, Клушина, прислана бумага, извещающая о мировом. Но эта бумага вовсе не следует к нему, а в сенат, ибо министр юстиции не есть какой либо суд или присутственное место. Он об этом, кажется, уже отвечал Клушину.
Ваш В. Боткин.
От Тургенева:
Париж.
10 ноября 1864.
Нет, думаю я, эдак нельзя. Нельзя не писать да не писать к старому приятелю, не смотря на то, что он к тебе написал дважды. Да; но куда к нему адресоваться? Где он теперь? — В Москве, в Петербурге, в Отепановке, на реке Тиме? И сам ты где находишься? В спальне гувернантки твоей дочери, в крохотной: квартирке, в Париже, куда ты прискакал на несколько дней из Бадена! И теперь полночь, и на дворе скрипит и бормочет осенний дождь, и где-то в отдаленьи пьяный ревет… И притом что ты ему скажешь, этому старому приятелю? Что ты толстеешь, сопишь, холодеешь, ничего не делаешь, да и мало интересуешься наконец всем, что творится на земном шаре? Разве все это старому приятелю не известно? Да, но все-таки, пока живешь, нельзя не давать о себе вести, нельзя и не желать узнать, что, мол, делают другие, товарищи-бурлаки, впряженные в ту же лямку. Согласен: ну вот я и даю весть, ну вот я и стараюсь узнать, что поделывает товарищ-бурлак. Все так; но к чему цинизм тона и даже некоторая неопрятность выражения? Благо бы ты начитался новейших продуктов отечественной литературы; но ведь до тебя о ней доходят только редкие слухи, в виде внезапных отрыжек. А тут кстати Кожанчиков по поводу книжной торговли пишет, что омерзению русской публики к русской литературе нет границ, что денег ни у кого нет, и что всякие дела совершенно стали. Денег нет, а ты строишь себе в Бадене дом во вкусе Лудовика XIII-го и явно намереваешься провести остаток дней своих в этом здании! Да, конечно; и я даже надеюсь, что старые приятели когда-нибудь завернут ко мне, и достанется мне на долю великое удовольствие подчивать их киршвассером и аффенталером, — все это в том предположении, что вся штука не лопнет, и дом во вкусе Лудовика XIII-го не окажется преждевременной развалиной. А было бы жаль; потому что, надо сознаться, хорошо живется в Бадене: милые люди, милая природа, охота славная… Но однако как ты неправильно и беспорядочно пишешь, точно лирический поэт, у которого сосет под ложечкой. Ты пьян что ли? Нет, но мне спать хочется. А потому спешу второпях заявить, что я дней через пять возвращаюсь в Баден, что мне надо туда писать, что я старого приятеля лобызаю в уста сахарные и в нос сизый и низко кланяюсь его жене. Vanitas vanitatum!
Ив. Тургенев.
Баден-Баден.
28 ноября 1864.
Любезнейший Афан. Афан., вчера, вернувшись из Парижа, куда я ездил дней на десять, я нашел здесь ваше письмо из Степановки с стихотворением на мое имя. Нечего и говорить, что печатание этого стихотворения ничего кроме удовольствия мне доставить не может. Но в нем есть один жестокий стишок, который нужно исправить: «В телесных недугах животворящий ключ»… по-русски говорится: нед_у_гах, а недуги отзываются чем-то очень семинарским, вроде д_о_быча. Есть еще два маленьких пятнышка: отчего «твой вздох» не долетает? — Во-первых, я здесь не вздыхаю; а во-вторых, — этот стих не вытекает из предыдущего. Потом почему: лишь здесь? Стало быть надо понять, что только в Степановке вы желаете умереть, а в других местах желаете больше жить? — В таком случае всем почитателям вашего таланта следует молить судьбу, чтобы она разлучила вас со Степановкой? — Но это сущие мелочи, а все стихотворение очень мило и кроме того обрадовало меня известием, что у вас деревья разрослись «зеленым хороводом». Также очень приятно было узнать, что ваш процесс кончился мировою. Я написал вам на днях довольно сумасбродное письмо на имя Василия Великого, или Блаженного, или Блажного, проживающего в Питере на Караванной улице. Получили ли вы его? Черкните в ответ строчки две: я хотя и очень и телом, и душой отстал от России, но русские старые друзья остались мне дороги по-прежнему. Сегодняшнее письмо я адресую в Москву для большей верности. Поклонитесь от меня вашей милой жене — я здесь останусь до 8 января. Дружески жму вам руку.
Ив. Тургенев.
Толстой писал в конце ноября 1864 г:
Все сбиваюсь, сбиваюсь писать вам, любезный друг Афанасий Афанасьевич и откладываю, оттого что хочется много написать. А кроме многого надо написать малое нужное. Бот что: получив ваше письмо, мы ахнули.
Вот как он хорошо про собачий воротник, проеденный молью, говорит {Когда-то Толстые смеялись моему шуточному изображению приезда небогатых помещиков в театр с лакеем, у которого собачий воротник на ливрее, очевидно, сильно пострадал от моли.}, а едет таки в Москву.
Я, как более опытный человек, не удивился и не ахнул. Одно, что нас обоих занимает. это то, когда вы едете в Москву? и главное когда вы будете у нас? Надеемся, что поездка в Москву не изменит плана погостить у нас. Мы вас обоих еще раз оба очень об этом просим. Мы сами едем в Москву после праздников, т. е. в половине января и пробудем до Февраля. Когда же вы будете у нас: до или после? Пожалуйста напишите. Что вы поделываете? Как хозяйство? Не пишете ли что? У нас все хорошо. Дети и жена здоровы. Хозяйством я перед вами похвастаюсь, когда вы приедете. И я довольно много написал нынешнюю осень своего романа. «Ars longa vita brevis», — думаю я всякий день. Коли можно бы было успеть 1/100 долю исполнить того, что понимаешь, но выходит только 1/10000 часть. Все-таки это сознание, что могу, — составляет счастье нашего брата. Вы знаете это чувство. Я нынешний год с особенною силой его испытываю. Ну и прощайте! Обнимаю вас, кланяюсь вашей жене. Напишите же пожалуйста, когда наверное вы будете у нас. Мы хотим вас поместить получше, чтобы вы подольше у нас погостили. Не говорите: ничего не нужное и т. п. — вы лишите нас огромного удовольствия, на которое мы с осени рассчитывали, — подольше побыть с вами. У нас теперь гости: сестра с дочерьми, на праздник приедут Д-ы и Феты, и всем будет хорошо, ежели вы напишите наверное.
Л. Толстой.
Тем временем Дмитрий Петрович Боткин, окончательно устроившийся в своем доме у Покровских ворот, не переставал самым радушным образом подзывать нас на зиму к себе, и, конечно, дом таких беззаветно дружественных людей представлял нам московскую жизнь в еще более приятном свете. Не успела зима запорошить снежком травки большой грунтовой дороги, как мы, по примеру прошлых лет, нагрузили свою кибитку и весело тронулись в путь до Новоселок, но были наказаны за свое нетерпение. По травке доехать было можно, но по морозному шоссе нечего было и думать ехать до нового снега. В томительном ожидании последнего, мы просидели в Новоселках три недели. Наконец, проснувшись утром, мы увидали свежий и глубокий снег. Конечно, в тот же день мы уже обедали и ночевали в Тургеневском Спасском. Добродушного старика Ник. Ник. я застал в неописанном волнении.
— Сокрушает меня Иван, восклицал он; все толкует, что мало доходу, а вы сами теперь знаете, какие в настоящее время доходы с трехрублевою рожью и вольнонаемным хозяйством, на которое необходимо истратить значительный капитал, чтобы пустить его в ход. Половина нашей земли в Кадужских оброчных имениях, приносящих самые скудные лепты. Я пишу ему — «приезжай, огляди сам все и просмотри экономические книги», а он об этом и слышать ее хочет, а в каждом письме ноет, что мало доходу. Вы лучше его знаете наше Спасское хозяйство, в котором не было ни кола, ни двора, а теперь полная чаша. А ведь это даром не делается. Мог ли я когда либо подумать, продолжал старик, что попаду в такой ужасный переплет? Вы знаете мое небольшое именье под Карачевым Юшково. В виду малолетних детей, я принялся со всею энергией за этот уголок, в котором вы были с Иваном проездом на охоту. Там вы видели, что рядом с полусгнившим барским Флигелем я начал новый и не достроил его, так как Иван, закружившийся в роковой своей страсти, прибежал звать меня к совершенно расстроенным своим экономическим делам. Тут он не только говорил об обеспечении моих детей, но тотчас же, по прибытии моем в Спасское, выдал мне два векселя по 10 тысяч. В настоящую минуту векселям этим истекает десятилетний срок, а я ничего не желаю, как только разойтись по всей справедливости, не давая возможности возникновению слухов. могущих повредить моему доброму имени, этому единственному достоянию моих дочерей.
Подобно Ивану Сергеевичу, я не мог упрекать Ник. Ник. в малодоходности хлебопашества, так как сам, в течении трех лет с покупки Степановки, к первому ноября неуклонно, перед наймом годовых рабочих, тратил 10 рублей на наем перекладной до Спасского, чтобы занять у Ник. Ник. двести рублей, в которых он никогда мне не отказывал, в виду уплаты двухмесячного долга ранее срока при проезде в Москву.
— Будем надеяться, сказал я, что вся эта буря, поднятая недоразумением Ивана Сергеевича, сама собою затихнет. Что же касается до обеспечения ваших детей выданными векселями, то я полагаю, что вы не имеете никакого права лишать их того, что они получили в обмен за отказ ваш от устройства собственного имения. Поэтому я советую вам поехать во Мценск и посоветоваться с моим приятелем С-м, он юрист и научит вас, как продлить значительность векселей. Нельзя требовать, чтобы человек, окончательно разочарованный в обещаниях другого, продолжал смело ему верить в частности и заведомо уничтожать его обязательства.
На другой день мы рано утром добрались до почтовой станции и к вечеру следующего дня уже въезжали в дом Дмитрия Петровича у Покровских ворот. Трудно описать радость, которую причинил наш приезд этому милому и радушному человеку. Ёще не совсем оправившийся от болезни, он сам в халате, схвативши свечу, бросился впереди нас во второй этаж, чтобы указать приготовленное нам помещение. Напрасно жена его, постоянно дрожавшая над слабым его здоровьем, догоняя нас на лестнице, умоляла его не ходить самому: он продолжал бежать через ступеньку, так что и мы едва за ним поспевали, а за нами раздавалось полупечальное и полураздраженное: «Митя! Митя! Боже, Боже! ах, какой характер!»
В. П. Боткин писал:
С.-Петербуг.
30 декабри 1864.
Наконец вы в Москве!! Даже мне томительно было ваше положение — сидеть у моря и ждать погоду, а каково же вам! Досадно думать, что так много потеряно времени понапрасну. Теперь я занят одною мыслию о вашем приезде сюда.
Приятнейшим событием в моей одинокой жизни был для меня неожиданный приезд Каткова и Леонтьева. Они прожили у меня три дня, и тишина моей квартиры наполнилась шумным и беспрестанно сменявшимся раутом. Милейший и оригинальнейший Павел Михайлович Леонтьев безвыходно провел все три дня дома. Сколько толков, какая беседа и какая сладость и отрада!
Паша {Один из меньших Боткиных.} говорил вам, что я комфортабельно устроился; действительно, соседство с Английским клубом доставляет мне все возможные удобства, и уже одно то, что могу всегда иметь обед на столько человек, на сколько окажется надобность, без всяких хлопот с моей стороны. Дай Бог, чтобы квартиру мою нашла удобною Маша. Во всяком случае внутренняя теплота, которую найдете вы в этих маленьких комнатах, — авось ослабит для вас те неудобства, которые необходимо сопряжены не с своим гнездом.
У Тургенева опять наклевывается свадьба и, может быть, на этот раз состоится. Вот для этого то он и выезжает из Бадена в Париж. Он писал к Анненкову, что надеется приехать в Петербург в марте. Да кто же верит в его надежды и обещания? Сказать между нами, он просит Анненкова приискать ему управляющего и думает, что это очень легко, и что такие прииски можно делать заочно. Теперь он сознает, что поступил несколько неосмотрительно (это его выражение), начавши постройку, не имея в руках денег, — и через Анненкова обратился ко мне с вопросом, — не дам ли я ему взаймы 15 тысяч. Я отвечал, что я не могу. Ты, вероятно, осудишь меня за это. Но ведь это не нужда, а чистейшая прихоть, и с другой стороны, — приятно ли иметь денежные счеты с приятелем? А потом, я знаю, как ведет свои денежные дела Иван Сергеевич: со всей его доброй волей тут ни за что нельзя поручиться.
Ваш В. Боткин.
С.-Петербург.
1 января 1865 г.
Уступая исстари заведенной рутине поздравлять с новым годом, спешу вам принести мое поздравление, хотя в сущности я решительно не понимаю, с чем тут поздравлять, когда жизнь клонится уже под гору, когда призраки ее большею частью уже рассеялись. Вот если бы при каждом первом января вошло в обычай поздравлять с уменьшением иллюзий, — вот такое поздравление имело бы смысл. Но если вдумаешься, так выходит, что эти-то самые иллюзии и составляют всю заманчивую жажду жизни.
Помилуй, Маша! я с великим нетерпением жду тебя, считаю каждый день, приближающий вас к Петербургу, а ты снова поднимаешь вопрос о том, приехать ли тебе или нет. И тут замешался Тургенев. Уже кроме того, что все, что обещает он, есть положительно неправда, но, и в случае его приезда, неужели не нашлось бы комнаты для вас? Но успокойся, Тургенев, если только будет, то приедет не раньше половины марта. А теперь занят он свадьбою, если только опять не расстроится она, и свадьба эта назначена в конце февраля.
Фет писал мне, что вы не можете выехать ранее 7-го января. Конечно, вам это виднее, но для меня каждый день без вас есть истинная потеря. А потому, чем скорее приедете вы и чем дольше проживете у меня, тем мне будет усладительнее.
Не понимаю, чем и как напутало тебе министерство юстиции {Я писал Боткину, что независимо от мировой, стоящей по закону выше всего и недопускающей никакого перевершения, консультация в свою очередь нашла мою сторону правой; и ливонской полиции было предписано поставить у Б-на на мельнице знак в 2 ½ верш., т. е. на полвершка ниже определенного ему уровня по мировой, так что меня снова требовали для этой операции на Тим, хотя мне она была бесполезна, а Б-ву неприятна.}. Но об этом при свидании.
Вот уже три недели, как я принимаю хинин, а с неделю даже увеличенными дозами. Но теперь лихорадки совсем нет. — Приложенную записку отвези к Каткову и чем скорее, тем будет лучше.
Передайте милому Мите, что я благодарю его за поздравление и глубоко болею о его хилом здоровье. Я к вам вчера отправил письмо, надеюсь, что оно дошло до вас. Давно тебя ждет Шопенгауэр, которого я купил без малейшего затруднения за пять рублей.
Сегодня день моих именин, и в первый еще, сколько я помню этот день, я обедал в одиночестве. Вот уж десятый день, как безвыходно сижу дома; недостаток воздуха и движения совсем лишает меня аппетита, да и слабость и усталость. Итак, дело стоит только за вами. А между тем может быть тебе удастся прочесть Каткову начало своих военных воспоминаний. А потом мы сами прочтем их и решим. Пожалуйста, до скорого свидания.
Ваш В. Боткин.
Наконец-то собрались мы исполнить давнишнее желание Василия Петровича, зазывавшего нас к себе в Петербург на квартиру, при устройстве которой он положил столько старания. Впродолжение двух недель, проведенных нами у него, он видимо старался быть любезным. Но в виду раздражительности нашего амфитриона, мы тайно чувствовали безусловное радушие нашего московского хозяина, не отличавшего нас излишним вниманием, но зато предоставлявшего нам полную свободу. Как ни приятно было нам приехать в Петербург, мы все-таки оставили его не без некоторого нравственного облегчения.
В Москве ожидало нас письмо Тургенева:
Баден-Баден
2 январи 1865 г.
Милейший Афан. Афан., сейчас получил ваше письмо и отвечаю сейчас же. Прежде всего, так как вы этого желаете, сообщаю вам несколько подробностей о собственной особе и об ее намерениях. Я остаюсь здесь до начала февраля, потом еду в Париж и в конце февраля, если ничего не случится, выдаю дочь замуж, которая на этот раз уже помолвлена за молодого, серьезного француза, находящегося во главе значительной стеклянной фабрики. Он образован, хорошей фамилии, а главное, очень понравился моей дочери. Окончив это важное дело, я возвращаюсь на месяц в Баден, а вначале апреля еду в Петербург, а оттуда в Москву, а оттуда в Опасское, а оттуда в Степановку. В России я останусь месяца два, чтобы по мере возможности привести в ясность свои дела. Ваши слова: «что у нас теперь все в убыток», — нисколько меня не удивили, ибо я уже два года тому назад знал, что кроме выкупных денег (и вследствие этого избавления от казенного долга) ни на один грош дохода надеяться нельзя в течении пяти лет, а потому я умолял дядю тотчас все имение представить к выкупу, с уступкой пятой части. Но дядя, из очень похвального, но для меня очень горестного чувства сохранения моих выгод, ничего этого не сделал, или сделал только вполовину и посадил меня на мель самым убийственным образом. Но об этом после.
Присланное стихотворение очень и очень мне понравилось. Тонкое и верное сравнение. Но каким образом: все тише, все ясней в первой строфе — ладит с мраком во второй? Тут есть маленькое отсутствие гармонии и поэтического равновесия. Я думаю, это весьма легко исправить.
Мне хорошо живется, — я, здоров, надеюсь, что и вы также. Поклонитесь от меня вашей жене и всем московским приятелям и не забывайте
преданного вам Ив. Тургенева.
Л. Толстой писал нам в Москву:
23 января 1865.
Как вам не совестно, милый мой Фет, так жить со мной, как будто вы меня не любите, или как будто все мы проживем МаФусаиловы года. Зачем вы никогда не заезжаете ко мне? И не заезжаете так, чтобы прожить два, три дня, спокойно пожить. Так хорошо поступать с другими. Ну не увиделись в Ясной, встретимся где-нибудь на Подновинском; а со мной не встретитесь на Подновинском. Я тем счастлив, что прикован к Ясной Поляне. А вы человек свободный. А глядишь, умрет кто-нибудь из нас, вот как умер на днях Вал. Петр., сестрин муж, тогда и скажет: «что это я дурак, все об мельнице хлопотал, а к Толстому не заехал. Мы бы с ним поговорили». Право, это не шутка. Вы писали «и оплеуха тут была» и верно написали уже. Мне страшно хочется прочесть, но страшно боюсь, что вы многим значительным пренебрегли и многим незначительным увлеклись. Мне очень интересно.
А знаете, какой я вам про себя скажу сюрприз: как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку, когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я литератор. И я литератор, но уединенный, потихонечку литератор. На днях выйдет первая половина 1-й части 1805 года. Пожалуйста подробнее напишите свое мнение. Ваше мнение да еще мнение человека, которого я не люблю тем более, чем более я вырастаю большой, — мне дорого — Тургенева. Он поймет. Печатанное мною прежде я считаю только пробой пера; печатаемое теперь мне хотя и нравится более прежнего, но слабо кажется, без чего не может быть вступление. Но что дальше будет — беда!!! Напишите, что будут говорить в знакомых вам различных местах и, главное. как на массу. Верно пройдет незамеченно. Я жду этого и желаю, только бы не ругали, а то ругательства расстраивают… Прощайте, бывайте у наших. Вас от души любят. Марье Петровне мой поклон.
Я рад, что вы любите мою жену; хотя я ее меньше люблю моего романа, а все-таки, вы знаете, жена. — Приезжайте же ко мне. Нежели не заедете из Москвы с Марьей Петровной, право, без шуток, это будет очень глупо.
Л. Толстой.
В. П. Боткин писал:
С.-Петербург.
14 Феврали 1865.
Не знаю, застанет ли письмо это вас в Москве, во всяком случае желаю вам благополучно добраться до Степановки. Вероятно, вы провели масленицу довольно весело; но для тебя, Маша, которая всегда расстается с Москвою нелегко, я думаю, все это время мелькнуло с быстротою молнии. И я на масленице был три раза в театре, чтобы вознаградить себя за зиму, во всем остальном масленица прошла для меня тихо.
Начал читать роман Л. Толстого: как тонко подмечает он разные внутренние движения, — это поразительно. Но не смотря на то, что я прочел больше половины, нить романа нисколько не начинает выясняться, так что до сих пор подробности одни преобладают. Кроме того, к чему это обилие французского разговора? Довольно сказать, что разговор шел на французском языке. Это совершенно лишнее и действует неприятно. Вообще в языке русском большая небрежность. Это очевидно вступление, — фон будущей картины. Как ни превосходна обработка малейших подробностей, а нельзя не сказать, что этот фон занимает слишком большое место.
Морозы большие кончились, и теперь все будет приближаться к весне и меня приближать к Степановке. Вот как я располагаю: тотчас после Святой недели, — нынче Светлое Воскресение будет 7 апреля, — следовательно, Светлая неделя кончится 14 апреля, — я отправляюсь в Москву, остановлюсь у Мити и проживу дней около десяти или побольше. А к первому числу мая направлюсь к вам, — во-первых, потому, чтобы подышать весенним воздухом, а во-вторых, чтобы пожить с вами подолье, ибо в августе я намереваюсь съездить заграницу, и потому должен буду оставить Степановку еще в июле. Но об этом мы обстоятельно посудим и переговорим. — Если что забудете купить для Степановки, то напишите сюда, — поверьте, я человек аккуратный и все выполню.
Обнимаю вас от всего сердца.
В. Боткин.
Приходилось, воспользовавшись последним зимним путем по шоссе, пробираться в Степановну. Здесь я нашел одно из величайших хозяйственных бедствий, о котором в свое время, помнится, писал в своих письмах из деревни. Приказчик в мое отсутствие натрудил весьма доброго и старого, рыжего мерина, у которого с натуги показался сап, на который не было обращено до нашего приезда должного внимания. Я застал больную лошадь расхаживающею на конном дворе среди других; и все усилия мои к разведению лошадей разом лопнули самым горестным образом. Не взирая на нежелание оскорблять повара Михайлу, я вынужден был отвязать брату его Федору, занимавшему у нас место приказчика. Василий Петрович прозывал это событие землетрясением. Между тем он писал:
С.-Петербург.
17 марта 1865.
Получил от вас письмо и спешу благодарить за него. Слава Богу, вы уже вошли в нормальную колею, и время пошло для вас своим мирным движением. Здесь, напротив, оно идет большею частью лихорадочно. Хотя смешно мне, находящемуся вне его коловорота и политического, и всяческого, жаловаться на его лихорадочность, но в результате выходит, что человек связан таинственными нитями со своею средою и нет никакой возможности ему смотреть на все равнодушно. Вот я, ничего не делающий человек, а между тем я страдаю всеми болями настоящего времени. Увы! для России прошло то время, когда можно было уходить в созерцательную жизнь.
Поутру часов в 9 я обыкновенно Хожу гулять, и вот на одной из этих прогулок, сходя с моста, я поскользнулся на скользком от утреннего мороза граните и повредил себе правую руку. Боль и опухоль до сих пор мешают мне писать, что видно из моего дурного почерка. Несколько дней я не мог выходить. Ты, Маша, напрасно вспоминаешь о бальтазарах: обед в Степановке лучше всех бальтазаров, уже по тому одному, что он прост и, следовательно, здоровее и умеренное. Обед, состоящий из одного холодного ростбифа, есть идеал здорового обеда. У меня вчера обедали семь человек, и повар Английского клуба, по обыкновению, оказался исправным, не смотря на то, что обед был по 2 рубля с человека. В этом отношении я устроился очень практично. Тургенев сбирается приехать сюда на Святой неделе, но, вероятно, опоздает, а так как я думаю ехать в Москву в половине апреля, то и его вероятно не увижу здесь. Он и в правду кончил свое «Довольно» и прислал сюда в цензуру. Это очень коротенькая вещь, не повесть, а лирические излияния. Я не читал, но даже Анненков говорит, что очень слабо. Совсем расползся Иван Сергеевич, и внутренний нерв его завял и сделался дряблым и хилым.
20 марта.
Теперь стоят здесь солнечные дни, и уже езда на санях прекратилась, — словом, весна во всем ходу. Каково то у вас, — я думаю разливное море. Сегодня был у меня Некрасов и просидел три часа. Дело в том, что его вонючая лавочка «Современника» делается самому ему гадкою. Он слишком умен, чтобы не чувствовать ее омерзительности. Он говорит, что принялся за работу — поэму, начало которой напечатано в январской книжке Современника. Сегодня большой обед в Англ. клубе, празднуется день его основания. В этот день приглашается, обыкновенно, весь дипломатический корпус, будет кн. Горчаков; будут речи. Вчера связывал мне старшина, что за одну уху заплатили 1200 рублей. С членов берут только по 3 рубля за обед с вином, а вина все заграничной разливки, и шампанского вволю и вечером ponche-royal. Клубу обойдется это угощение в шесть тысяч. Ponche-royal будет всенародно возжен в зале. Все будут в иундирах я Фраках.
24 нарта.
Весна идет на всех парусах, дни стоят восхитительные. Легкая свежесть воздуха, безоблачное небо, и в Степановке, думаю, все это еще лучше, только, к сожалению, нет таких великолепных тротуаров и газового освещения. Пишешь ли ты «Из деревни?» Вчера я слышал похвалы, и какие! — этим статьям от людей, не подозревающих, что я тебя знаю. Это было у Бера, сенатора. Пожалуйста подготовь к моему приезду, чтобы можно было прочесть. Да какую это статью начал ты для «Библиотеки для чтения?». Получил две книжки Русск. Вестника, но твоей статьи «К Пизонам» — там нет. Теперь все мысли мои устремлены на отъезд из Петербурга, а Дмитрий захворал ревматизмом в мышцах спины, да так захворал, что едва может ходить. Сережа велел лечить его электричеством, и уже от одного раза стало легче. Сегодня пошел он на второй электрический сеанс. Дай Бог, чтобы он к отъезду выздоровел. Гербель приезжал ко мне узнать о твоем адресе: он будет писать тебе насчет твоего позволения включить твой перевод «Антоний и Клеопатра» — в издание Шекспира, и какие будут твои условия. Муза все еще продолжает быть благосклонною к божественному старцу Тютчеву, — его стихотворение во 2-й книжке Русск. Вестн. прелестно. Обнимаю вас от всего сердца.
В. Боткин.
С.-Петербург.
11 апреля 1865 года.
Ловлю последний день Святой недели, чтобы поздравить вас со Светлым праздником и пожелать всех благе. Здесь уже Нева вскрылась, и лед прошел, и вероятно вследствие этого постоянно дует сильный северо-западный ветер, холодный и пронзительный, а когда дует этот ветер, мне всегда нехорошо. Кроме этого весна действует на меня расслабительно. Так бы хотелось теплых дней, да куда ехать искать их? Собираюсь в Москву, но ведь пускаться в Степановку ранее первых чисел мая кажется невозможно: холодно будет ехать, а мне совсем неудобно брать с собою шубу. Притом я боюсь, что две недели в Москве покажутся мне бесконечными, даже принимая в расчет приветливость Софьи Сергеевны. Я располагаю выехать отсюда около 20-го. Не знаю, почему противны мне здешние долгие, светлые вечера, предтечи болезненно светлых ночей. Уж по этому одному провести лето в Петербурге было бы для меня несчастьем. Отсюда смотрю я на Степановку, как на благодатный приют, как на отдыхе после зимы. Казалось бы, от чего отдыхать, когда я относительно всего нахожусь в положении зрителя. Мы тоже были с тобою зрителями, когда смотрели Блондина, но я уже после не пошел смотреть на него. Но в этом отношении и в Степановке не избежать своего рода волнений.
20 апреля.
Вот уже и 20 апреля, а я все еще не выезжаю из Петербурга. Погода стоит очень холодная. Но что бы там ни было, а непременно думаю выехать между 25 и 28. Между тем слухи о Степановке доходят до меня невеселые. Митя писал мне, что ты отказал Федору. К сожалению, я не знаю никаких подробностей, но тем более меня печалит мысль, что верно ты решился отказать вследствие значительной неурядицы, происшедшей прямо от Федора. Я знаю, что в нужную минуту твоя энергия и решимость тебе не изменят.
Новый закон о печати произвел некоторого рода смятение между журналистикой. Многие думают оставаться под цензурой, не чувствуя себя способными стоять на своих ногах и принимать на себя ответственность за свои поступки. Замечательно, что журналы демагогического направления лучше хотят оставаться под цензурой: доказательство, что под эгидою цензуры удобнее им пропускать свои революционные доктрины. В этом отношении Некрасов с Современником находится совершенно как в муках рождения и чувствует себя на мели. Современник потерял этот год до 1500.-Вся буйная красота сосредоточилась в Русск. Слове, но оно то и думает остаться под цензурой, надеясь, что так будет безопаснее и особенно надеясь на глупость петербургских цензоров, или на их безмозглый прогрессизм. Некрасов даже сочинил следующее четверостишие, может быть для того, чтобы приготовить других к изменению Современника; своего же собственного мнения он никогда и ни о чем не имел.
«Беги от подлых шулеров,
От старых баб и франтов модных
И от начитанных глупцов:-
Лакеев мыслей благородных».
Следующее письмо напишу вам уже из Москвы, где надеюсь найти весть от тебя. Жму вам крепко руки. Я слышал достоверно, что железная дорога до Серпухова будет открыта непременно будущею весной, если только не нынешней осенью. О Тургеневе слухи затихли, но он писал Анненкову, что располагает быть здесь в мае и вероятно будет в Спасском, при виде которого он всегда чувствует невероятную скуку, как он мне говорил. — А что речь о продаже имения Кологривова? — неужели совсем затихла? А я все-таки не покидаю этой мысли и все надеюсь.
Прощайте. Ваш В. Боткин.
Я забыл сказать, что в прошлый приезд, услыхав, что в пятиверстном от нас соседстве сходно продается значительное имение Кологривова, Василий Петрович намеревался его купить, и мы ездили его осматривать. Единственно доступным ему критериумом оказались сильные и румяные яблоки, покрывавшие садовые деревья. Но как это были озимые, то Василию Петровичу приходилось закусывать и тотчас же бросать их. Тем не менее сходная цена, помнится, 45 р. за десятину, сильно его соблазняла, и он не ошибся бы в расчете, так как лет через 15 имение это было перепродано, помнится, по 140 р. за десятину. Конечно, намерение Василия Петровича подарить нам эту землю было совершенно прозрачно; но поэтому-то я и старался всеми силами его отговаривать от этой покупки, так что однажды, поняв в свою очередь мою щепетильность, он с раздражением сказал: «Да я для себя покупаю».
Проходя сызнова в настоящее время давно пройденный мною путь жизни, я невольно останавливаюсь на мелочах, незначительных для стороннего читателя, но имеющих для меня роковой смысл. Нетрудно понять, что, увлекись Василий Петрович кологривовским селом и передай его нам, мы бы, как и позднее несостоявшейся покупкой значительного имения Николая Сергеевича Тургенева, — были окончательно привязаны к Степановке, ибо большие имения не так легко при надобности продавать, как хорошо устроенное маленькое. Судьба, очевидно, все время гнала нас к югу и не дозволяла совершаться событиям, могущим преградить наше стремление на юг (Drang nach Süden).
В. П. Боткин писал:
Москва.
12 мая 1865.
Третьего дня приехал я сюда. С Катковым говорил о том, посылается ли тебе Русск. Вест. Когда я сказал, что ты не получаешь его, он послал при мне же справиться в контору и ужасно рассердился. Между тем контора отвечала, что посылает. Но я стоял на том, что ты не получаешь. Велено навести справки, почему и проч. Оказалось, что Каткова упрекать тут не в чем.
Я еще не решил своего выезда из Москвы. Если удастся выехать 7-го, то я заеду вечером 8-го на перепутьи в Спасское к почтеннейшему Николаю Николаевичу, хотя и совестно без зова приехать на именины. Но весьма быть может, что мне не удастся выехать 7-го, и тогда я уже не заеду в Спасское, а проеду прямо в Степановку. Хотя я в Москве с 28 апреля, но обедал дома только раз. Обедал у Каткова, а порядком поговорить с ним не успел. Во всяком случае до свидания или в Спасском, или в Степановке.
Ваш В. Боткин.
По давно заведенному порядку, мы и на этот раз приехали на своих лошадях сперва к Борисову, а затем на другой день вместе с последним на именины Николая Николаевича. Обычный круг гостей был отчасти изумлен неожиданным приездом Боткина, умевшего в добрый час быть чрезвычайно любезным. Будучи на своих лошадях, мы пригласили на другой день Василия Петровича обедать и ночевать в Новоселки, так как при этом переезд в Степановку превращался из 75-ти верст в 60 — в тот же самый день. Борисов с своей стороны пригласил Боткина, который тем не менее не преминул в Новоселках заметить, что уподобляется Чичикову, переезжающему от помещика к помещику.
В скорости затеи в Степановке было получено письмо Толстого:
16 мая 1865 г.
Простите меня любезный друг Афанасий Афанасьевич за то, что долго не отвечал вам. Не знаю, как это случилось. Правда, в это время было больно одно из детей, и я сам едва удержался от сильной горячки и лежал три дня в постели. Теперь у нас все хорошо и даже очень весело. У нас Таня, потом сестра с своими детьми, и наши дети здоровы и целый день на воздухе. Я все пишу понемножку и доволен своей работой. Вальдшнепы все еще тянут, и я каждый вечер стреляю по ним, т. е. преимущественно мимо. Хозяйство мое идет хорошо, т. е. мало тревожит меня, — все, что я от него требую. Вот все про меня. На ваш вопрос упомянуть о Ясной Поляне — школе, я отвечаю отрицательно. Хотя ваши доводы и справедливы, но про нее (Я. П.) журналы забыли, и мне не хочется напоминать, не потому, чтобы я отрекался от выраженного там, но напротив потому, что не перестаю думать об этом, и ежели Бог даст жизни, надеюсь еще из всего этого составить книгу, с тем заключением, которое вышло для меня из моего 3-х летнего страстного увлечения этим делом. Я не понял вполне то, что вы хотите сказать в статье, которую вы пишете, тем интереснее будет услышать от вас, когда свидимся. Наше дело землевладельческое теперь подобно делам акционера, который бы имел акции, потерявшие цену и не имеющие хода на бирже. Дело очень плохо. Я для себя решаю его только так, чтобы оно не требовало от меня столько внимания и участия, чтобы это участие лишало меня моего спокойствия. Последнее время я своими делами доволен, но общий ход дел, т. е. предстоящее народное бедствие голода с каждым днем мучает меня больше и больше. Так странно и даже хорошо и страшно. У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, молодые наши дамы в кисейных платьях, рады, что жарко и тень, а там этот злой черт голод делает уже свое дело, покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохнувшей земле и обдирает мозольные пятки мужиков и баб и трескает копыта у скотины. Право страшная у нас погода, хлеба и луга. Как у вас? Напишите покерное и поподробнее. Боткин у вас. Пожмите ему от меня руку. Зачем он ко мне не заехал? Я на днях еду в Никольское еще один без семьи и потому не надолго и в вам не приеду. Но то-то хорошо было бы, коли бы в это же время судьба принесла вас к Борисову. Кланяюсь от себя и жены Марье Петровне. Мы в июне намерены со всею семьей переехать в Никольское, тогда увидимся, и уже наверное буду у вас.
Что за злая судьба на вас? Из ваших разговоров я всегда видел, что одна только в хозяйстве была сторона, которую вы сильно любили, и которая радовала вас, — это коннозаводством, и на нее то и обрушилась беда. Приходится вам опять перепрятать свою колесницу, а «юхванство» перепрячь из оглобель на пристяжку; а мысль и художество уж дивно у вас переезжены в корень. Я уж перепрег и гораздо покойнее поехал.
«Довольно» мне не нравится. Личное, субъективное хорошо только тогда, когда оно полно жизни и страсти, а тут субъективность полная безжизненного страдания.
Л. Толстой.
Тургенев писал:
Спасское.
4 июня 1865 г.
Любезный Афан. Афан., я вчера прибыл благополучно сюда и, разумеется, жажду вас видеть, а также и Василия Петровича, который, говорят, находится теперь под вашим кровом. В день именин Марьи Петровны я, конечно, у вас. Напишите мне словечко. Я, вероятно, завтра или после завтра увижусь с Иваном Петровичем. До свиданья!
Преданный вам Ив. Тургенеев.
Согласно намерению своему, Боткин в половине июля уехал от нас заграницу, а мы, слыша, что на 22 июля многие из под Мценска собираются к нам, стали помаленьку готовиться к именинам. Так как с некоторыми мценскими, например, с весьма любезным и умевшим пожить уездным предводителем В. А. Ш-ым, мы познакомились через давнишнего его приятеля Александра Никитича Ш-а, то эти гости обыкновенно накануне приезжали к Александру Никитичу, великому мастеру угостить, который обыкновенно звал и нас к себе. Дня за четыре до праздника пришло известие из Спасского, что Иван Сергеевич по болезни быть не может, но будет дядя с женою и свояченицей.
Позволю себе сказать несколько слов об этой последней, о которой выше было говорено вскользь. Старше своей сестры Тургеневой, Анна Семеновна Белокопытова проживала в Спасском в отдельной маленькой комнате. Это была небольшого роста толстоватая пожилая девушка с добрейшим сердцем. Любовь ее не ограничивалась двумя племянницами Тургеневыми, но распространялась по возможности на всех страждущих и даже беззащитных животных. Отличный семьянин Ник. Ник. Тургенев сам многое спускал галкам за семейную нежность их парочек, а потому в Спасском всегда можно было, ко времени вылета из гнезд, найти на дорожке беспомощную галку. Вдобавок к канарейкам и ручным голубям, у Анны Семеновны постоянно проживала ручная галка, жадно глядевшая на руки при словах: «галочка, галочка». Но изумительнее всего было то, что на тихий зов Анны Семеновны: «ужинька, ужинька», — из под карниза пола действительно показывался уж и безбоязненно шел лакать молоко с поставленного на пол блюдечка. Не взирая на любезное отношение Николая Николаевича к своей свояченице, один костюм Анны Семеновны доказывал невозможность со стороны Николая Николаевича удовлетворять каким-либо затеям своих дам. Одно время Анна Семеновна гостила у нас в Степановке, и когда к определенному сроку Ник. Ник. прислал за нею коляску, Анна Семеновна изумила меня своею просьбой. У нас вставляли стекла в новые двойные рамы, и Анна Семеновна выпросила себе на картину вырезок стекла в полторы четверти в квадрате и повезла этот отрезок за 75 верст на коленях. Эта просьба в свое время поразила меня, и поныне восстает в моей памяти одним из доказательств бескорыстия Николая Николаевича. 21 июля до позднего вечера мы то прислушивались, то выглядывали на дорогу, уже сильно потемневшую от набежавших дождевых туч. Но когда нас окружила непроглядная тьма, на мгновение озаряемая молнией, сопровождаемой ударами грома и ревущим дождем, мы совершенно успокоились на мысли, что в такую погоду ночью ожидать гостей невозможно. В 12 часов все в доме спало, начиная с нас, за исключением кухни, откуда глухо раздавался стук ножей. Вдруг в 2 часа утра у подъезда раздался стук, и затем поднялась беготня по всему дому. «Что такое?» спросили мы стучавшего в дверь спальное слугу. — «Ник. Ник. с барынями изводили пожаловать», был ответ, вследствие которого через минуту сначала жена, а потом я выбежали из спальни с зажженными свечами. Так как Тургеневым заблаговременно все было приготовлено в пристройке Василия Петровича, то надо было проводить гостей через весь дом, освещая дорогу схваченной второпях свечей. Надо было снабдить промокших гостей сухим бельем и напоить их чаем. Понадеявшись на свою память, я оставил свечу, с которой провожал гостей, у них и бросился впотьмах по всему дому до спальни. В направлении я ошибиться не мог и инстинктивно держал перед собою левую руку. Вдруг я услыхал треск и сильнейший удар в руку, очутившуюся у меня на груди, причем всего меня оттолкнуло назад. По нестерпимой боли в кисти руки поняв, что наткнулся на одну из половинок полурастворенной новой дубовой двери, я подумал, что затрещали перерезанные раствором кости. К счастию, оказалось, что затрещала на своих солидных петлях дверь. Можно судить о силе удара. Не удивительно, что пришлось сейчас же погружать руку в воду со льдом, и что следы этого шрама сохранились на руке до сих пор.
Так как празднование именин мало отличалось от прежних, мною описанных, то прохожу его молчанием.
III
Поездка в Новоселки и в Никольское к Толстым. — Борисов с Петей приезжает к нам. — Письма. — Мое избрание в гласные. — Письма. — Предводитель А. В. Ш-в и мировой посредник Ал. Арк. Тимирязев. — Раздумье по поводу Тимской мельницы. — Письма. — Поездка в Москву. — Тяжелое свидание с Ник. Ник. Тургеневым.
Ездивший не менее нас в окрестности Мценска и преимущественно в красивую каменную усадьбу помянутого уже нами предводителя В. А. Ш-а, Александр Никитич, подобно нам, проезжал половину дороги на своих прекрасных лошадях, с тою разницей, что оставлял собственных лошадей у воспетого Тургеневым вольного ямщика Федота, тогда как мы, захвативши из дому мерку овса, кормили у Федота три часа. Так как наши выезды были по поводу какого-нибудь деревенского празднества, то Александр Никит. не раз догонял нас у Федота, и, требуя лошадей для себя, видимо раздражался нашей экономией, говоря: «ну что тебе стоит заплатить 3 рубля?»
— Стоит, отвечал я, то же, что и тебе: взад и вперед 6 рублей, и тратить их на каждую поездку я не нахожу для себя возможным.
Пока лошади кормились, мы обыкновенно просили самовара и сливок, к которым являлась захваченная нами из дому закуска на чистой салфетке и карты для пасьянса. Когда же через три часа поили лошадей и помазывали коляску, мы с женою уходили, по существовавшим тогда еще по большим дорогам екатерининским ракитовым аллеям, вперед, а коляска нагоняла нас уже версты за две от Федота.
Вскоре после именин, мы с женою решили навестить Борисова, а от него проехать в Никольское повидаться с Толстыми.
Бедного Борисова, утешенного умным щебетанием обожаемого им Пети, мы застали в сравнительно покойном состоянии духа. После обеда пришел старый Мартыныч и был снова усажен Борисовым в кабинете на стул. Тут он в первый раз увидал жену мою и, конечно, не преминул рассказать ей о блаженных днях, когда он сам: «надобно сказать, жил своим домком, на своей земле и, надобно сказать, младенца имел. И как умер благодетель Федор Васильевич Каврайский и, надобно сказать, и младенец, и жена. И вот теперь, надобно сказать, пришел к Ивану Петровичу просить помощи».
— Какой это, Сергей Мартыныч, помощи? спросил Борисов. — Вы получили свое месячное положение?
— Получи-и-и-л! выразительно протянул Мартыныч.
— Ну так что же?
— Братья отняли.
— Да ведь дать вам — они опять отнимут?
— Ня дам!
— Да ведь вы и в тот раз говорили: не дам.
— Да ведь я, Иван Петрович, прошу, — при этом он ущемлял щепотью правой руки оттопыренный кривой мизинец левой — только вот такой кусочек хлебца!
— Так, Сергей Мартыныч, нельзя!
— Нельзя! утвердительно говорил Мартыныч.
— Ведь так, что вам ни дай, все отнимут.
— Отнимут, грустно повторял Мартыныч. — Да ведь я, Иван Петрович, только вот такой кусочек черного хлебца прошу!
— Да ведь его отнимут.
— Ня дам!
С великим трудом выбрались мы из ложного круга красноречия Мартыныча. Когда он вышел из комнаты, Иван Петрович воскликнул: «ты видишь, он совершенный свирепый Ахан».
Во дни нашей юности в Москве, в газетах и отдельными объявлениями сообщалось публике о предстоящей за Рогожскою заставой травле собаками привязанного медведя, носившего название «Ахан». Конечно, к привязанному Ахану шел более эпитет несчастный, но для привлечения фабричной публики выставлялся заманчивый эпитет свирепый.
На другой день мы собрались с женою в Никольское к Толстым, причем остававшийся дома Иван Петр., в виду 60-ти верст, пройденных нашими лошадьми, любезно предложил свой тарантас тройкою. Пообедав пораньше, мы весело пустились в сравнительно недальний путь, начиная с довольно глубокого переезда в брод р. Зуши. Хотя мы оба с Борисовым много раз бывали в Никольском у дорогого графа Николая Николаевича, но это постоянно бывало верхом, и поэтому, подъехав к глубокому лесному оврагу, пересекаемому весьма мало наезженой дорогой, я нимало не усомнился в том, что такая старая, сильная и благонадежная лошадь, как давно знакомая мне Новосельская Звездочка, отлично спустит нас в тарантасе под гору, а добрые пристяжные выхватят и на гору. Но при виде крутой дорожки, спускавшейся по кустарникам в долину, жена моя отказалась сидеть в тарантасе, и я поневоле должен был сопровождать ее под гору пешком. Каковы же были сначала мое изумление, а затем и ужас, когда я увидал, что хомут слез Звездочке на шею, и как кучер ни старался сдерживать тройки, последняя стала прибавлять ходу и наконец во весь духе понеслась под гору. При этом на тычках, мало заметных с горы, сначала кучер акробатически взлетел и сел на траву, а затем и кожаная подушка с козел последовала его примеру. Надо было ожидать внизу окончательного калечества лошадей и экипажа. А какое приключение может быть язвительнее для небогатого хозяина? Вот еще два-три прыжка до оврага, у которого заворачивает вправо наша дорожка… но, о чудо! Доскакав до этого места, тройка круто поворачивает направо и, написав нисходящую в овраг одну ножку буквы Л, находит другую восходящую и выскакивает по ней снова на нашу опушку. Там, ощутив себя на нормальной плоскости, тройка самым флегматическим образом остановилась, а мы, подобрав в кустах сброшенную подушку, без всяких поломок отправились в Никольское объездом.
Не взирая на некоторую тесноту помещения, мы были приняты семейством графа с давно испытанною нами любезностью и радушием. С приезжими хозяевами был двухлетний сынок, требовавший постоянного надзора, и девочка у груди. Кроме того, у них гостила прелестная сестра хозяйки. К приятным воспоминаниям этого посещения у меня присоединяется и неприятное. Я вообще терпеть не могу кислаго вкуса или запаха, а тут, как нарочно, Лев Никол. задавался мыслью о целебности кумыса, и в просторных сенях за дверью стояла большая кадка с этим продуктом, покрытая рядном, и распространяла самый едкий, кислый запах. Как бы не довольствуясь самобытною кислотою кумыса, Лев Никол. восторженно объяснял простоту его приготовления, при котором в прокислое кобылье молоко следует только подливать свежего, и неистощимый целебный источник готов. При этом граф брал в руки торчавшее из кадки весло и собственноручно мешал содержимое, прибавляя: «попробуйте, как это хорошо!» Конечно, распространявшийся нестерпимый запах говорил гораздо сильнее приглашения.
Когда вечером детей уложили, я по намекам дам упросил графа прочесть что-либо из «Войны и мира». Через две минуты мы уже были унесены в волшебный мир поэзии, и поздно разошлись, унося в душе чудные образы романа.
На другой день мы заранее просили графиню поторопить с обедом, чтобы не запоздать в дорогу, которая нас напугала.
— Ах, как это будет хорошо, сказал граф. — Мы все вас проводим в большой линейке. Обвезем вас вокруг фатального леса и возвратимся домой с уверенностью вашего благополучного прибытия в Новоселки.
Но вот обед кончился, и я попросил слугу приказать запрягать.
— Да, да, всем запрягать! восклицал граф, — тройкой долгушу, и мы все вместе пятеро поедем вперед, а ваш тарантас за нами.
Прошло более часу, а экипажей не подают. Я выбежал в сени и, услыхав от слуги обычное: «сейчас!» — на некоторое время успокоился. Однако через полчаса я снова вышел в сени с вопросом: «что же лошади?» На новое: «сейчас!» я воскликнул: «помилуй, брат, я уже два часа жду! Узнай пожалуйста, что там такое?»
— Дьякона дома нет, горестно ответил слуга.
Я не без робости посмотрел на него.
— Изволите видеть, их сиятельства приехали сюда четверкой: а тут когда нужен коренной хомут, то берут его на время у дьякона; а сегодня, как на грех, дьякона дома нет.
Неразыскавшийся дьякон положил предел всем нашим веселым затеям, и мы, простившись с радушными хозяевами, еще заблаговременно отыскались в Новоселках, откуда на другой же день уехали в Степановну.
Через несколько дней по прибытии домой, мы были изумлены приездом Борисова с Петей и Федором Федоровичем. Иван Петрович объяснил свой приезд, рассказавши, что родной дед моих племянниц, малолетних Ш-ых, — М-ов скончался. В качестве опекуна малолетних, он поместил их к другой замужней дочери своей С-ой в Тульскую губернию, так что мы за последнее время совершенно потеряли малолетних из виду, и две старших скончались от крупа. В настоящее время Борисов назначен был опекуном малолетней Оли Ш-ой и, приходя в ужас от новой необходимости помещать у себя в доме воспитательницу, решил в самом скорейшем времени везти Петрушу и Олю в Москву в немецкие евангелические школы «Петра и Павла» для мальчиков и девочек.
— Касательно экзамена Пети, я совершенно покоен, сказал Иван Петровичъ: он и по-русски, и по-немецки читает хорошо. Но по-французски совсем читать не умеет. Поэтому я его привез к тебе недельки на две, и я уверен, что в течении этого времени ты его наладишь, как должно.
Действительно, смышленый ребенок в три-четыре урока совершенно усвоил себе механизм Французского чтения и, ни слова не понимая, читал довольно бойко.
Сдавши в Москве сына в школу, Иван Петрович отвез девочку к директрисе пансиона — и приблизительно подержал ей такую речь: «затруднений в расходах по содержанию девочки быть не может; но держать ее у себя в доме я не в состоянии, и потому я прошу вас взять ее окончательно на свои руки до ее совершеннолетия, так как я, даже по окончании ею учения, вывозить ее не могу. Мое же дело исправно платить, что будет назначено вами за ее содержание».
Тургенев писал:
Баден-Баден
10 октября 1865.
Любезнейший Фет, я действительно виноват перед вами, что не отвечал на ваше большое письмо в форме греческого диалога, и прибывшие вчера восемь страниц из мельницы на Тиму, как восемь стрел, вонзились в мою ленивую и зачерствелую совесть, и я воспрянул, схватил перо (что со мною теперь случается до крайности редко) — и, как видите, строчу вам это послание, хотя собственно не знаю, куда его адресовать: в Москву или в Орел… вернее всего будет к Борисову. Из письма вашего вижу, что вы озабочены двояко: вещественно — в виде предупреждения плутовства со стороны ваших арендаторов, — и духовно — в виде желания разрешения всех жизненных вопросов — философских и других (ибо вы большой философ sans le savoir) — разом. Первым заботам вашим я помочь не могу, либо сам очень плох по этой части; да и вторым заботам тоже. Одно разве: повторить вам мою старую песню: «Поэт, будь свободен! Зачем ты относишься подозрительно и чуть не презрительно к одной из неотъемлемых способностей человеческого мозга, называя ее ковырянием, рассудительностью, отрицанием, — критике? Я бы понимал тебя, если бы ты был ортодокс, или фанатик, или славянофильствующий народолюбец, — но ты поэт, ты вольная птица, — и твоему гармоническому носу неприлично свистать в эту старую, Жан-Жак-Руссовскую, лженатуральную и всякими пошлыми слюнями загаженную дудку. Ты чувствуешь потребность лирических излияний и детской радостной веры — качай! Ты желаешь под каждое чувство подкопаться, все обнюхать, разорить, расколотить, как орехе, — валяй! Главное, будь правдив с самим собою и не давай никакой, даже собственным иждивением произведенной, системе оседлать твой благородный затылок! Поверь: в постоянной боязни рассудительности гораздо больше именно этой рассудительности, перед которой ты так трепещешь, чем всякого другого чувства. Пора перестать хвалить Шекспира за то, что он, мол, дурак, это такой же вздор, как утверждать, что российский крестьянин между двумя рыготинами сказал как бы во сне последнее слово цивилизации. „Das ist eitel Larifari!“ говорят мои друзья немцы».
Вот вам, душа моя, profession de foi, — для вас впрочем не новая, делайте из нее, что хотите. А что вам некоторые звуки в «Довольно» пришлись по уху, — меня радует. Я готов даже сказать вам по секрету, что не только один Боткин, но даже сто Боткиных (Господи! какое это было бы зрелище!) не в состоянии уверить меня, что «Довольно» один «набор слов». Не так оно писалось, ну да в сторону это! А propos de bottes… kine, я получил от этого франта письмо из Парижа, в котором он меня уведомляет, что едет в ноябре в Петербург, и что у него происходит бурчание в животе.
«Призраки» уже переведены Мериме и даже (между нами!) были читаны им — кому бы вы думали? — императору и императрице французов. Спешу прибавить для успокоения людей, могущих мне завидовать, что Revue des deux mondes отказал в помещении тех же самых «Призраков», — как гили несуразной. Передайте сии факты M-me Энгельгардт с моим усердным поклоном.
Впрочем о себе скажу вам, что я здоров, не смотря на приближающуюся холеру, достраиваю свой дом и хожу часто на охоту. На днях я убил довольно оригинальное количество дичи: 1 дикого козла, 1 зайца, 1 дикую кошку, 1 сазана, 1 вальдшнепа и 1 куропатку. Дружески кланяюсь Марье Петровне и вас обнимаю.
Преданный вам Ив. Тургенев.
Боткин писал:
С.-Петербург.
12 ноября 1865 года.
Любезные друзья, вчера вечером наконец возвратился я восвояси и спешу дать вам весть о себе, в надежде получить и от вас как можно скорее. Я не писал вам с дороги, потому что, находясь в переездах, я не знал, куда назначить вам адрес. Заехал я на возвратном пути к Тургеневу и провел с ним три дня. Дом его готов, но только одни стены, а внутри ничего еще и не начато, начиная с рам. Дай Вое, чтобы он мог быт готов через год, тем более, что мебель еще и не заказывалась. Тургенев жалуется, что дом будет стоить гораздо дороже, нежели он предполагал. Поставщик деревьев в сад его бессовестно надул, посадив вместо дерев лозенки и какие-то веточки, так что Тургенев принужден был дать вновь заказ в Страсбург. Увы! как только за чем-нибудь не досмотришь, во всех странах ожидает тебя то же самое. От Тургенева я имел известие о тебе — и неприятное, будто у тебя опять процесс по мельнице. Обо всем жажду знать. Что касается до меня, то я проехал по Тиролю до Ломбардии и от невыносимых жаров принужден был вернуться в Швейцарию, где прожил до октября. Недели четыре провел в Париже и дней 12 в Берлине, где познакомился с некоторыми лекциями профессоров, посещая их ежедневно и по две лекции в день. Но я так устал от переезда двухсуточного из Берлина, что еще не в состоянии писать, а потому кончаю.
Ваш В. Боткин.
С.-Петербург.
7 декабря 1865 года.
Пишу к вам хотя несколько слов, ее желая откладывать; так темно, что нельзя иначе писать, как при лампе, — отчего болят у меня глаза. Тысячу спасибо за письма ваши. Хорошо, что едете в Москву, но еще будет лучше, если вы приедете ко мне в Петербург. Теперь вы знаете мое помещение, и если вам оно не противно, то приезжайте опять на старое место. Притом же Митя может быть поедет в Петербург под наблюдение Сережи, почему бы и вам не ехать ко мне? Но надо заметить, что грудь Мити внушаете большое опасение Сереже и очень может статься, что, если Сережа сочтет нужным, — то отправит Митю в теплый климат. Сережа намерен съездить в Москву на праздники, и это может решиться там. Сказать не могу, как мне жаль Митиньку.
С каким живейшим интересом я читал твое письмо! Я с своей стороны нахожу очень хорошим, что ты намереваешься искать должности мирового судьи, здравого суждения не занимать, — а это всего нужнее. Здоровье мое ничего-ковыляет. Да уладь ты с Катковым, надо извинять недостатки в таких людях. Ничего не надо ставить в упор. Ты кроток, как голубь, но на тебя находит иногда столбняк, делающий тебе подчас несносным. Катков Бог знает как рад сойтиться с тобою, а уступить ты должен, ибо они все-таки хозяева журнала. Люди порядка и здравомыслия не должны ссориться, в виду стаи собак, окружающей их. С Александра Никитича Ш-а ты получил 1000 руб., - это для меня неожиданный сюрприз. Буду ждать от вас письма из Москвы. До свидания.
Весь ваш В. Боткин.
Во избежание скучных повторений, не буду говорить о выпавшем снеге и неизменном переезде в кибитке через Новоселки и Спасское в Москву на праздники[222]; оттуда через три недели мы, по окончании праздников, тем же порядком вернулись в Степановку, заехавши к Толстым в Ясную Поляну.
В. П. Боткин писал нам в Москву:
С.-Петербург
17 января 1866 г.
Давно не писал я вам и давно не получал вестей от вас, так что не знаю, когда вы будете сбираться в обратный путь. Стихотворение твое в последней книжке Русского Вестника очень мило и с поэтическим запахом. Русск. Вестник продолжает быть каким-то тяжелым сборником, я об этом говорил Каткову. Если так пойдет, то будет худо. Дай весточку, а то скучно ничего не слыхать о вас. Современник совсем перерождается, и нигилистическо-коммунический дух будет из него выкурен. Русск. Слово тоже находится при последнем издыхании. Это пока добрый знак.
Ваш В. Боткин.
Он же писал в Степановку:
С.-Петербург.
1 февраля 1866 г.
Уж я несколько раз принимался тревожиться относительно твоего молчания, как наконец вчера получил твое письмо. Слава Богу! все благополучно. Стихи к Тютчеву, по моему мнению, хороши, кроме последней строфы, которая кажется слабою. «Зов единый» эпитет слишком неопределенный и ничего не говорящий. Нельзя заключать стихотворение таким слабым и бесцветным аккордом. Так кажется мне, а может быть я ошибаюсь.
Ну-с, дни проходят повторяясь и почти не различаясь между собою. Здоровье мое нынешнюю зиму значительно слабее, особенно глаза. Редкий день не томит меня слабость и не заставляет лежать часа по два на диване. Глаза так слабы, что едва осиливаю передовую статью в Московских Ведомостях, а политические известия уже оставил давно. Словом, годы все более и более дают себя чувствовать. Поэтому не брани меня за редкость моих писем. Погода же все стоит теплая, гнилая, дождливая.
Скажу вам, что я еще не решил для себя, поеду ли в Степановку? Манит меня тишина и спокойствие ее, но с другой стороны перспектива переезда заставляет задумываться. Этот переезд так тяжело отзывается на мне: прошлый раз я дней десять не мог поправиться. Одним словом, и хочется, и колется. Притом же я чувствую, что я как-то упал духом, ничто меня не радует, не занимает, все представляется в мрачном виде, всюду темный перспективы, — словом, скучно жить. Авось веяние весны освежит меня и выведет из итого тяжкого душевного состояния. К удивлению моему, я не получал еще от Базунова {Базунов — книгопродавец.} статьи твоей о «Что делать». Не знаю, что думать об этом замедлении.
Освобождение от цензуры приносит уже добрые плоды. Два предостережения Современнику и Русск. Слову заставили этих господ одуматься. Некрасов начал похаживать ко мне и протестует против гадких тенденций своего журнала, — я же, пользуясь моим знакомством с членами совета по книгопечатанию, стараюсь поддержать их в их энергии. Не знаю, как в провинциях, но здесь нигилизм положительно ослабевает, старается замаскироваться. Обращаю твое внимание на статьи об Огрызко, перепечатанные в Московск. Ведом.: они заставляют призадуматься. Вот против каких тайных врагов должна бороться Россия!
Мне досадно, почему ты не отправил свою рукопись сам, а предоставил сделать это Каткову? Вот теперь и дожидайся, да еще и неизвестно, пришлется ли она.
От Тургенева было недавно письмо Анненкову: он здоров, ходит на охоту и жалуется на медленность постройки своего дома и по-прежнему на дядю.
Со вчерашнего дня здесь начались морозы: вчера было 12°, а сегодня 16° при ничтожном снеге. У меня такая пустота в голове, что и хочется писать, да не пишется.
Ваш В. Боткин.
С.-Петербург.
10 февраля 1866 г.
Я теперь испытываю на себе, как в известные периоды жизни поэтическое чувство оставляет человека или по крайней мере отдаляется от него. Тем более в известные эпохи переживается обществом. Для поэтического чувства необходимы тишина и сосредоточение. Но как найти душевную тишину и сосредоточение в такое время, какое переживаем мы? Увы! бессмертная эпоха русской поэзии прошла и Бог знает, вернется ли когда-нибудь. Даже и те, которые могут повторять:
«Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов!»
— стали едва заметной кучкой, а скоро и эта кучка исчезнет. Поэтическая струя исчезла и из европейских литератур, замутила ее проклятая политика; признаюсь откровенно, все эти вопросы политико-экономические, финансовые, политические — внутренно нисколько меня не интересуют. А здесь все только ими и заняты. А я между тем понимаю ясно, что они составляют настоятельную необходимость, — да я чужой в них. Люди, вполне умные в одной сфере, несут такую дичь, когда касаются другой и особенно эстетической, что не знаешь, что сказать. Теперь все и обо всем заболтало на разные лады.
Наконец получил твою статью от Каткова и вчера отдал ее Дудышкину (редактору «Библиотеки для чтения»), какой будет ответ от него — сообщу.
Я слышал, что до Серпухова железная дорога будет открыта не ближе конца лета или осенью.
Ваш В. Боткин.
С.-Петербург.
26 февраля 1866 г.
Письмо твое изо Мценска я получил и с удовольствием узнал из него, что тебя выбрали в секретари Земского Собрания, и притом с таким, кажется, хорошим помощником, как Кутлер. Как ты хочешь, а в ваших выборах есть большой смысл, — ведь ты именно отлично можешь справить должность секретаря, и для тебя бумажное дело не новость. Я и руками, и ногами аплодирую твоему избранию, ты покажешь, что поэт может быть и деловым человеком. Что же касается до того, что ты должен будешь часто отлучаться, то, мне кажется, заседания Уездного Собрания не будут постоянные, а только кратковременные. Теперь любопытно мне знать, кого выберут в председатели. «Что касается до меня, то тяжелая волна жизни, которая меня охватила, начинает стихать. Без причины пришла н без причины уходит. Атония есть болезнь старчества, а на плечах моих не одно старчество, но и расстройство организма, болезненность нерв. Жизнь моя проходит так однообразно, что о себе нечего и говорить. Слабость нерв не покидает меня, но странно, что музыкальные впечатления необыкновенно сильны. Может быть, это надо приписать совершенному отсутствию поэтических впечатлений, а потребность этих впечатлений ищет удовлетворения. Ведь и музыкальные впечатления принадлежать к одному роду с поэтическими, с тою разницей, что музыкальные гораздо сильнее, глубже, хотя и неопределимое. Да, именно, оттого и сильнее. Особенно испытал я это в прошлую субботу от трех квартетов Бетховена. Это было не просто удовольствие, это было какое то сладострастное ощущение и, как сладострастие, оно действует изнурительно. Дело в том» что все, что играется на публичных вечерах и концертах — меня не удовлетворяет, — вот я и решился устроить два квартетных вечера у Сережи, с тем, чтобы он никого не приглашал. И действительно, слушателями были только их двое, я да Балакирев и Бородин — отличные музыканты. Для последнего квартета menu сделал я. А мне из моих знакомых даже некого было бы и пригласить. Балакирев — музыкант ex-professo, а Бородин — профессор химии и вместе отличный музикус. Можете представить себе, как интересен переход из этого мира неопределенных, но могучих ощущений в среду общественных и экономических материй, около которых вращается здешняя жизнь! Я знаю, что все это необходимо нужно, как насущный хлеб, но не этот хлеб питает мою душу. Графе Б-ий, например. занят теперь устройством общества поземельного кредита, и вчера в этом почтенном собрании я сидел у него, бессмысленно хлопая глазами, и рад был возможности уйти к дамам. И вся моя жизнь есть доказательство неспособности к делам.
3 нарта.
Мне пришла в голову следующая мысль: при некотором развитии для человека одного непосредственного процесса жизни, — у него беспрестанно гвоздем сидит вопрос: для чего жить? Вот это то и есть грехопадение человека, которым он отделился от бессознательной природы. И чем более человек утратил эту бессознательность, тем более преследует его это: «для чего?» — и поэтому мы непрерывно создаем себе разные пели и предприятия. Но как скоро прекращается эта непрерывность, — наступает то, что называется пустотою головы, или то, что назвал ты атонией, что одно и то же. Чем старее человек, тем чаще должна посещать его эта атония, потому что ему труднее уже надувать себя призраками. Вот к какому заключению я пришел, разбирая свою «атонию». Не иметь желаний — вот где корень.
Я все еще не решил, как и где проведу я наступающее лето. И не мудрено, что, при такой нерешительности и соскучась ею. — я отправлюсь в Степановку. С другой стороны, знакомые зазывают жить в Петергофе. Несчастный я человек с этой нерешительностью! А между тем в воздухе уже чувствуется поворот к весне. Очень меня интересует проехать по Волге до Крыма, потом по Кавказу и воротиться через Вену. Но без товарища предпринять такой путь скучно и жутко. Пока прощайте.
Ваш В. Боткин.
Я забыл сказать что 200 десятин земли в Степановке представляли как раз поземельный ценз для гласного, и влиятельные люди в уезде, начиная с предводителя дворянства Вл. Ал. Шеншина, стали просить меня баллотироваться в гласные, чему я и не противился, хотя даже не понимал значения и обязанностей такого избранного лица. Избран я был значительным большинством, и так как на следующий год предстояло избрание мировых судей, то те же лица склонили меня искать и этой должности. Поэтому, для того чтобы иметь соответствующий ей ценз, я должен был хлопотать в Ливнах о свидетельстве, что я владею мельницей, представляющей 30.000 руб.
В. П. Боткин:
С.-Петербург.
10 марта 1866.
В тот день, как я послал мое последнее письмо к вам, — вечером пришло письмо от вас, и письмо покойное, веселое и радушное, такое, что мне отрадно было читать его, не смотря на скверные, бледные чернила, которыми, Маша, писала ты, и потому не могу не попросить тебя бросить эти чернила, как совершенно негодные. Особенно приятно то, что это ясное состояние духа доставлено вам Степановкой, едва ли не впервые с тех пор, как вы там живете. Я и сам эти дни как будто чувствую себя получше, меньше томящей слабости, меньше потребности лежать.
Два предостережения, данные Современнику, образумили Некрасова, а приостановление Русск. Слова на 5 месяцев образумило наконец и его подвальных сотрудников. Что касается до него, то у него это было делом расчета, спекуляции, скандала; на скандал падка публика, а как скоро опасно стало производить скандалы, он и унялся. Это только гадко, но подвальные писатели Современника и Русск. Слова гораздо опаснее.
Со вчерашнего дня появился новый журнал: «Вестник Европы» — издается Стасюлевичем и Костомаровым; четыре книжки в год. Он преимущественно посвящается историческим статьям. Костомаров талантливый, но умственно шаткий человек и украйнофил. Можно полагать, что журнал этот будет центром разных разлагающих доктрин под маскою либерализма. Увы! Мы дошли до такого времени, когда решительно некуда деться от политики; под тем или другим видом она преследует всюду, для объективного взгляда не осталось ни одного места. Общество распалось на партии и кружки; всякое суждение невольно принимает ту или другую окраску; сами партии подразделяются на множество оттенков. А при общем недостатке культуры твердых начал, выработанных предшествующим развитием, словом, все представляет какое то хаотическое брожение. — Не смотря на то, что я представляю из себя олицетворение басни «Муха и Дорожные», — тем не менее кипячусь и волнуюсь и решительно ничего не в состоянии делать, и чувствую величайшую потребность в душевном спокойствии. А как и где найти его?
Дудышкин возвратил мне статью твою о романе «Что делать». Он не может напечатать ее. Во-первых, потому, что очень много там выписок из романа, которые потому излишни, что смысл романа и без того для всех обнаружился. А потом для всех ясно, к чему повело учреждение так называемых «общих комнат», женских мастерских и «новых» людей, действовавших заодно с поляками. Словом, тенденция романа есть тенденция «Панургова стада», а сам Чернышевский был одним из пастухов его. Статья, в той Форме, как она написана, могла бы быть помещена тотчас по выходе романа, но не теперь. Теперь все это износилось, опошлилось не для одних здравомыслящих.
Здесь в свинине продолжают все более и более находить трихины. На днях профессор химии Зинин купил кусок свинины на рынке, и в ней оказались трихины. Прежде полагали, что трихины водятся только в свинине, привозимой из Германии. Дело в том, что свинину теперь велено продавать такую, которая освидетельствована микроскопом. Трихины находятся даже и в вареной свинине. Перестаньте есть сами и не давайте ее рабочим.
Ваш В. Боткин.
Тургенев писал из Баден-Бадена:
25 марта 1866.
В день, когда, по народной поговорке, и ворон гнезда не вьет, пишу к вам, любезнейший Аф. Аф.! Письмо я ваше получил дней десять тому назад, из чего вы можете заключить, что леность моя не умалилась; не умалилась однако и привязанность моя к вам. С истинным удовольствием усмотрел я, что вы довольны своим здоровьем, устройством своих дел, не менее порадовался я (за наш уезд) облачению вашему в сан гласного; а что до неприбытия Василия Петровича в Степановку, — я полагаю, струить слезы вы не будете. Дай вам Бог всего хорошего в вашем степном гнездышке! А мы будем здесь почитывать в Русск. Вестнике ваши письма «Из деревни», которые собственно я ожидаю с великим нетерпением.
Стихотворение, написанное вами к Тютчеву, прекрасно;- от него веет старым или, лучше сказать, молодым Фетом.
Кажется, я в нынешнем году в Россию не приеду и потому не увижу вас;-разве вы соберетесь и к нам пожалуете. Мы с Виардо принаняли еще охоту к той, которую до сих пор имели, и теперь можем угостить приятеля. Одних зайцев мы уколотим до 300-т.
В нынешнем году я получаю журналы и вновь слежу за российской литературой: отрадного мало. Самое приятное явление — возобновление «Вестника Европы» — Костомарова. Первая часть «Преступления и Наказания» Достоевского замечательна; вторая часть опять отдает прелым самоковырянием. Вторая часть 1805 года тоже слаба: как это все мелко и хитро и неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том, — трус, мол, я или нет? — Вся эта патология сражения? Где тут черты эпохи? где краски исторические? Фигура Денисова бойко начерчена, но она была бы хороша как узор на фоне, — а фона то и нет.
Однако basta! Что это я вдаюсь сегодня в критиканство? Кончаю тем, что обнимаю вас дружески и кланяюсь вашей жене.
Ив. Тургенев.
В. П. Боткин писал:
С.-Петербург.
19 апреля 1866 года.
Давно уже я в долгу у вас: все собирался написать обстоятельное письмо, — и до сих пор не собрался. Вы уже знаете из газет об ужасном деле, которое, к великому счастию России, не совершилось, и я посылаю вам портрет Комисарова, рукою которого отвращен удар, направленный на Государя. Назначение графа М. И. Муравьева председателем следственной комиссии всех обрадовало и успокоило. Все торжествует избавление Государя от угрожавшей опасности, но тревожно задумываешься о нашей молодежи, или о той части нашей молодежи, которая отравлена самыми бессмысленными доктринами. При моей нервной болезненности, это подействовало на меня сильно и тяжело. А в таком состоянии я не могу писать. — Посылаю вам «Собаку» Тургенева, которую Анненков вздумал напечатать в Петербургск. Ведом. По моену, это очень плохо во всех отношениях.
Проект странствия в Крым оставлен: я просто боюсь пуститься в такой пространный путь. Твое сопутствие сначала подогрело было меня, — но сообразив, что мы бы должны были отправиться в июле, т. е. в сильные жары, и сильнейшие жары быть в Крыму, — признаюсь, это соображение совсем охладило меня. — Ничто так не радует меня, как добрые вести о Степановке. Не браните меня за такое краткое письмо: скоро напишу подлиннее, а теперь чувствую такую слабость, что с усилием лишь могу ходить, да и то немного.
Весь ваш В. Боткин.
Баден-Баден.
8 июня 1866 года.
Вот я и в Бадене! Но вам, в вашем мирном приюте, трудно представить себе, какое тяжкое время теперь переживает Германия! Мы в России не можем представить себе, что значит война для этой переполненной населением и разнообразнейшими интересами Германии. Все дела словно замерли, все остановилось, сотни тысяч рабочих без всякого дела, и к грозящим ужасам войны присоединяется еще ужас от голодающих собратий. Но я оставлю в стороне все это мрачное положение и буду говорить только о себе. Итак, что касается до меня, я пока очень доволен своим путешествием, и здоровье обстоит благополучно. Я поехал через Варшаву в Вену; до сего времени только один раз пришлось мне провести ночь в вагоне, и таким образом тихонько добрался сюда. Здесь все зелено, свежо, привольно, прогулка восхитительная, на две версты в тени, музыка; отель, где я живу, совершенно комфортабельный; стол отличный. Окно моей комнаты выходит на лихтентальскую долину: шум изредка проезжающих экипажей едва доносится до меня;- тихо, как в Степановке. Теперь здесь косят, кажется, уже в третий раз, жару нет, а только теплая свежесть; земляника превосходная;- словом, для полного счастия недостает только вас. Дом Тургенева достраивается прекрасно и будет готов к 1 октября, он здоров и полон, Виардо тоже благоденствуют. Но на Баден грозящая война имеет бедственное влияние, в нашем огромном отеле мы обедаем за table d'hôte'ом только четверо, и везде такая же пустота; содержатели их разоряются, приезжих вовсе нет. Сообщения с Берлином прерваны; туда не принимают ни писем, ни телеграмм. Сообщения с Россией пока существуют еще через Вену: но после сражения, которого ожидают в Силезии, Бог знает, сохранится ли это сообщение, так что я не уверен, дойдет ли до вас это письмо, а потому я не франкирую его.
9 июня.
Опять получаются Берлинские газеты; следовательно, сообщение восстановлено. Но я думаю, эта проклятая политика нисколько вас не интересует. Да и я ее терпеть не могу: она мешает жить. В бытность мою в Вене, в одной тамошней газете я прочел восторженный разбор двух томов повестей Тургенева, явившихся в немецком переводе. Он положительно нравится в Германии, и его «Призраки» явились в Revue des deux mondes, в переводе Мериме. А тот же Мериме нашел «Казаков» Л. Толстого неинтересными. Вот вам и оценка, и известность! Выходит, что огромная часть людей подкупаются на savoir faire. Между тем он пишет повесть, но даже сам говорит, что медленно. Сюжет он рассказывал мне еще осенью. Это будет повесть характеров, а не тенденций, — но выйдет ли что-нибудь из нее, сказать не могу. Он по-прежнему не пришел еще ни к какому определенному мировоззрению и никак не может примириться с тем, что в и молодом поколении он потерял всякое значение. Нечего сказать, есть чем дорожить! Я бы желал, чтобы мне уяснили, какое значение имеет большинство нашего молодого поколения, с его тупостью, всяческим невежеством, наглостью и самоуверенностью дураков?
Я здесь беспрестанно вспоминаю нашу жизнь в Степановке, и наши прогулки, и сенокос, и знойный, степной, струистый воздух, и томящий жар, — одним словом, я полон отголосков Степановки. А каковы-то всходы хлебов у вас? В конце июля думаю я отправиться в морю, не купаться, потому что это мне запрещено, — а дышать отрадным морским воздухом и по временам брать теплые морские ванны, — и поеду в Трувиль. Ничего не может быть придумано для лета лучше Бадена. Ну где найти все удобства городской жизни и вместе свежесть и тень деревенской жизни, поле, и лес, и горы? Здесь жар далеко не так ощутителен, как например, в Вене, где я просто задыхался. Даже в больших отелях здесь жизнь относительно вовсе недорога; мне обходится она 100 франков с комнатой в первом этаже. Правда, что эти удобства имеются благодаря рулетке и rouge et noire, но я довольствуюсь только одним смотреньем на них и ни разу еще не пускался в игру да и не пущусь. Через год, по решению Баденских палат, игра должна быть закрыта, и неизвестно, удержит ли Баден свое теперешнее положение. Политика Пруссии произвела такую кашу между мелкими помещиками-правителями, что ничего не поймешь. О начале военных действий пока ничего не слышно. Баденский герцог, зять прусского короля, и очевидно желает быть на его стороне, а армия, т. е. До 8-ми тысяч войска его, хочет идти против них; вот он всячески и замедляет, выжидая, кто выиграет сражение: прусаки или австрийцы.
По газетным известиям, на юге России всходы хорошие, каковы-то у вас? С тех пор, как правительство стало серьезно относиться к нигилистам, я стал спокойнее. И за это мы должны опять таки благодарить графа Муравьева. Буду ждать от вас письма в Бадене, потому что, как кажется, Бадена никто не потревожит.
Весь ваш В. Боткин.
P. S. Сейчас прочел в русских газетах распоряжение о прекращении Современника и Русск. Слова. Насилу то спохватились! Эти два журнала принесли неисчислимый вред молодому поколению. Шаткость понятий и нашей цензуры, и совета книгопечатания, лучше всего доказывается столь больным существованием этих двух журналов, очевидно, враждебных всякому общественному устройству. Все, что бунтующий пролетариат и самая дикая демагогия выработали в себе разлагающего для неопытных и слабоумных голов, — все это проповедывалось в них за высочайшую истину. И воспитанники учебных заведений только их и читали. Что за ералаш происходил в этих юных головах, и к чему могут годиться эти развинченные головы, — и сказать больно. А класс большей части учителей разве лучше, разве не от них вышел позорный авторитет этих двух журналов? Разве эти дикие учения не проникли уже в наших женщин, девиц, в часть нашего чиновничества? Разве покушение 4-го апреля не прямо вытекает из этих доктрин? Говорят, что они мало встречали себе опровержения в других изданиях. Но во-первых, этих опровержений адепты и мальчишки не читали бы, а во-вторых, скучно доказывать, что 2x2=4, а не 5; а, в-третьих, для этого нужно время и досуг и, наконец, известного рода политический талант. Один Катков касался этого предмета, когда время ему дозволяло. Слава Богу, теперь правительство, кажется, обратило на них серьезное внимание, только надолго ли?
Бог знает, как случилось это, но только американцы к вам действительно расположены, и доказательство этому я вижу беспрестанно. При каждой встрече с американскими семействами, как скоро узнают, что я русский, тотчас разговор устанавливается на дружественный тон, тотчас заявляют о своих симпатиях, о враждебности Европе. Я всеми силами стараюсь поддерживать это расположение, и к счастию, мое знание английского языка облегчает мне это. Вчера весь вечер провел в американском женском обществе. Теперь множество путешествующих американских семейств, и любо смотреть, как много победоносно окончившаяся борьба с югом придала им авторитета и самоуверенности. Это прекрасно, но что касается до культуры мужчин и женщин, то, к сожалению, им далеко еще до старой Европы. У мужчин далее политики разговор поддерживаться не может и чисто практических предметов. У женщин он вращается в обычной женской, светской сфере. Дамы, например, возмущаются, как здесь мужчины являются к обеду и на вечернюю музыку, — не в черном, а в цветных жакетках. Напрасно я возражал, что это простые, бесхитростные немцы, которые не разумеют тонкости приличия; но дамы не убедились и остались возмущенными и рассказали мне, что на их морских купаньях к обеду мужчины непременно (за table d'hôte) являются во Фраках, а дамы в бальных платьях. Наши нигилисты полагают, что всклокоченные волосы и неряшество есть отличие демократии. Ну, инда глаза режет и ломит. Писать не в состоянии.
Боткин.
Л. Толстой писал:
25 июля 1866.
Любезный друг Афанасий Афанасьевич, — увы! я не могу к вам заехать. И нечего вам внушать, как мне это грустно. Не могу же я заехать потому, что нынче 25-е, а я еще не выезжал из дома. Желудочная боль, которая началась у меня еще при вас, до сих пор продолжается и делает меня неспособным быстро поворачиваться. Я, как и предполагал, ездил с Дьяковым к Шатилову, но вместо того чтобы все это сделать в три дня, проездил пять и от этого опоздал. Поездка эта была, ежели бы не нездоровье, чрезвычайно приятна и поучительна. Многое вам расскажу при свидании. Но когда же? Я предлагаю вам приехать к Киреевскому между 28 и 3 августа. Мы бы там увиделись. Ежели же вы не приедете, то я заеду к вам на обратном пути. У нас овес весь в копнах, и рожь подкошена. Ежели так простоит, то на следующей неделе все будет в гумне. Овес обходится меньше семи копен. До свидания. Жена, Таня и я душевно кланяемся Марье Петровне.
Л. Толстой.
Тургенев писал:
Баден-Баден.
27 июня 1866.
Любезнейший Аф. Аф., Мих. Ал. Языков, помнится, так однажды отозвался о наших давно прошедших литературных петербургских вечерах: «соберутся, разлягутся, да вдруг один встанет и, ни слова не говоря, другому череп долой». — Наша переписка приняла этот анатомический характер, и это пока не беда: я даже сегодня хочу продолжать в этом роде. И не подумайте, что я это в отместку за ваше мнение о «Собаке»; я это мнение почти вполне разделяю, оттого я эту вещь и не поместил в собрании своих сочинений, а появление ее в С.-Петербург. Ведом. служит только новым доказательством моего неумения сказать: «нет». Моя претензия на вас состоит в том, что вы все еще с прежним, уже носящим все признаки собачьей старости, упорством нападаете на то, что вы величаете «рассудительством», но что в сущности ничто иное, как человеческая мысль и человеческое знание; моя претензия состоит в том, что вы не только не устыдились произнести сообщаемый вами «спич», но даже цитируете этот спич несколько месяцев спустя, как нечто замечательно остроумное, не обращая даже внимания на то, что теперь около вас происходит, и какие господа тянут с вами эту канитель. Вы видите, что наш «старый спор» еще не взвешен судьбою и вероятно не скоро прекратится. В ответ на все эти нападки на рассудок, на эти рекомендации инстинкта и непосредственности, мы здесь на западе отвечаем спокойно: «Wir wissen's besser; das ist ein alter Dudelsack», — и, извините, отсылаем вас в школу. — Роман Толстого плох не потому, что он также заразился «рассудительством»: этой беды ему бояться нечего; он плох потому, что автор ничего не изучил, ничего не знает и под именем Кутузова и Багратиона выводит нам каких то рабски списанных, современных генеральчиков. Вы называете себя умершим поэтом, — что несправедливо, но и с умершими поэтами могут случиться беды: пример: наш ex-друг Некрасов.
Однако довольно, этак пожалуй договоришься до чертиков, а мне бы этого не хотелось, ибо вы знаете, что я вас люблю искренно, несмотря на ваш талант заставлять меня перхать кровью. Мне очень было приятно узнать, что вы провели несколько времени у моего доброго старика дяди в Афинах вольнонаемнаго труда {Так я называл Спасское.}. (Между нами сказать, эти «Афины», к сожалению, до сих пор приносят ежегодно несколько сотен рублей… убытку; не все то золото, что блестит). Он вас искренно любит и дорожит вами и всем вашим семейством. А я окончательно прирос б Баденской почве, никуда отсюда в нынешнем году не выеду и был бы совершенно счастлив, если бы мог поспорить с вами хорошенько — изустно здесь под моим кровом; надеюсь, что это когда-нибудь случится, если не в нынешнем году, так в будущем. А пока будьте здоровы, не гневайтесь на вашего древнего оппонента и благоденствуйте. Кланяюсь Марье Петровне, жму вам руку.
Ваш Ив. Тургенев.
В. П. Боткин писал:
Трувиль.
23 августа 1866.
Статочное ли дело, что я с отъезда моего из Петербурга не получаю от вас никакого известия!? А с тех пор сколько совершилось событий! Я приехал в Баден при самом начале немецкой смуты и прожил там почти шесть недель. Вокруг ходили политические тучи, раздавались громы оружия, но ясный горизонт Бадена не омрачался, все шло своим обычным порядком, и строй жизни не изменялся, только посетителей было гораздо меньше обыкновенного. Из Бадена послано было мною два письма к вам, и они, как видится, пропали, тем более, что одно из них было адресовано via Wien, потому что в то время сообщение с Франкфуртом было прервано. Но Бог с ними, с этими политическими событиями, о них и без нас есть кому заботиться: поговорим лучше о себе. Сладко прожил я в Бадене, — во-первых, потому, что это Германия, а во-вторых, потому, что воздух там удивительный, лесной, не говоря уже о музыкальных удовольствиях. Здесь погода стала тихая и жаркая; море лежит зеркалом, и я принужден был одеться в платье, подобное твоему зефиру. Сюда приехали А… с семейством, и они составляют мой единственный ресурс; там я часто обедаю, ездим в окрестности, которые здесь прелестны. Морской воздух и морские теплые ванны действуют на меня живительно. Легкая скука и отсутствие развлечений тоже недурны, как «отдых души». Беспрестанно мысленно переношусь к вам в Степановку, вся сфера ее так живо отпечатлелась во мне; ее пустынная окрестность и мои уединенные прогулки, и ваши обеды и вечера, и наш тихий строй дня, в котором выезд к Александру Никитичу или к М-вым составляли некоторого рода «события». Сколько поучительного принесла мне Степановка во всех отношениях! И сколько в этом поучительном участвовал непосредственно ты своим здравым смыслом и своим чистым, добрым, наивным сердцем!
Вчера приехал сюда брат Сережа. Он жил в Кунцеве, простудился, и лихорадка мучила его более двух недель, и слабость продолжается до сих пор. Поэтому он и решился ехать купаться в море. Какое это удивительное средство для восстановления сил, — даже просто жить у моря укрепительно.
Из Петербурга я взял историю Соловьева: 13, 14 и 15-й том. 13-й прочел, теперь читаю 14-й с величайшим интересом. Признаюсь, к стыду моему, что я не читал прежних томов, но эти написаны прекрасно с истинно государственным и историческим смыслом. Чтобы быть справедливыми, вам должно смотреть на Россию не с современного развития Европы, а с недавнего прошедшего России, именно хотя бы с самого начала 18-го века, с того времени, как застал Россию Петр. Только из прошедшего можно понять настоящее.
Париж.
13 сентября.
Вчера получил я наконец письмо от вас, — первое с выезда моего из России. С жадностью читал я его и прочтя обрадовался, что все обстоит благополучно. Хотя французы и говорят: point de nouvelles — bonne nouvelle, — ho это скорее характеризует французский эгоизм. С радостью узнал я, что представляется возможность прикупить десятин 40 земли, хотя чересполосица меня несколько пугает. Ну что если этот господин по какому-нибудь капризу вздумает не пускать твоего стада через свою землю? Мне кажется, быть в подобной зависимости от другого человека несколько тревожно. Впрочем, тебе это виднее, и все эти обстоятельства ты несравненно лучше меня знаешь. Самый же факт прикупки земли, и даже в большем количестве, мне кажется в высшей степени полезным. Я так давно с тобою не беседовал, что и не знаю, о чем говорить, так много предметов, о которых хотелось бы поговорить. Начну с того, что пять недель, проведенных мною в Трувиле, имели на меня благодетельное влияние и значительно подкрепили меня. Но самый городишка Трувиль, за исключением окрестностей, есть совершенная гадость. Я вернулся в Париж, не могши долее выносить скуки Трувильской жизни. С месяц останусь я здесь, а затем в возвратный путь. Пока прощайте. Искренно и сердечно преданный вам
В. Боткин.
Тургенев писал:
Баден-Баден.
24 августа 1866.
Любезнейший друг Афан. Афан., давно бы следовало мне отвечать на ваше письмо, да всякие помехи повстречались, между прочим даже нездоровье, — дело редкостное в Бадене! Но теперь поправился и хочу вам настрочить несколько слов. Не буду вдаваться ни в философию, ни в политику: сия без нас делается;- клянусь вам честью, что Бисмарк со иною не советовался, когда создавал новую Пруссию или, пожалуй, новую Германию, а оная ни к какому удовлетворительному результату не приводит, разве только к тому, что вот два старых приятеля, не глупых, кажись, человека, — двадцать лет сряду мелют, мелют языком и никак даже понять друг друга не могут. Будем лучше беседовать об охоте и, пожалуй, о литературе.
Я успел быть до болезни семь раз на охоте: в 1-й раз ухлопал 3 куроп. и 2 зайца; во 2-й раз — 6 куроп. и 5 зайц.; в 3-й — 8 кур. и 3 зайца; в 4-й — 11 кур., 5 зайцев и 1 перепела; в 5-й — 5 кур. и 1 перепела; в 6-й — 9 кур.; в 7-й — 14 кур., 4-х фазанов, 4 зайц. и 1 перепела = 81 штука. Это неогромно, но и недурно. Что-то будет дальше? Охота только что начинается. Пес у меня все тот же, превосходнейший, ружье я себе завел новое, отличное, и стал я стрелять чрезвычайно удовлетворительно, — редко даю промах. Проклятая болезнь лишила меня по крайней мере двух или трех хороших охот. Мы с Виардо наняли очень порядочную новую охоту. Ну вот и об охоте. А о литературе что сказать? сиречь о российской? Махнуть рукой и прочь пойти. Я однако понемногу высиживаю какое-то несчастное, полуискалеченное детище.
Кстати об «Афинах земледелия!» Эти Афины поедают у меня в год слишком на 1000 рублей, — вот вам и доходы! Трудно — между нами — представить что-нибудь более неправдоподобно безобразное, чем управление моими имениями. Это становится невозможным, и я с ранней весной отъявляюсь в Спасское, для того чтобы принять посильные меры против околенья голодною смертью. Тут нет никакого преувеличения: тут голые Факты, которые я вам как-нибудь представлю воочию. — Мне очень приятно слышать, что ваши дела идут порядочно, и что Степановка процветает. Дай вам Бог насладиться вполне этой пристанью после всех, впрочем более воображаемых, треволнений! — Я от Боткина получил письмо, из которого видно, что он снова собирается сюда, перед возвращением в любезное отечество. — А засим прощайте, будьте здоровы, дружески кланяюсь вашей жене и крепко жму вам руку.
Преданный вам Ив. Турьенев.
Купивши ненаселенную землю Степановского хутора, я тем самым избежал непосредственного соприкосновения с мировыми посредниками, за исключением редких случаев недоумения по вольному найму, но в качестве земца не могу не сказать несколько слов об учреждении, так блистательно вынесшем на своих плечах такую, можно сказать, невероятную реформу во всех ее подробностях. В уездном земском собрании мне пришлось познакомиться с выдающимися уездными личностями, с которыми в моем уединении, чтобы не сказать захолустьи, — я мог бы и не повстречаться. Говоря о посредниках, нельзя не упомянуть нашего бывшего губернского предводителя дворянства А. B. Ш-ва. Это был молодой человек, богатый, обладавший самым находчивым и предприимчивым умом. Жаль, что на многочисленных поприщах, на которых он старался, посредством капитала, расширить круг своей деятельности, предприятия его не всегда увенчивались успехом. Но о его находчивости, в качестве посредника первого избрания, может свидетельствовать следующее событие.
В одном селении, находящемся в расстоянии 25-ти верст от его усадьбы, где он успел уже завестись инвентарем вольнонаемного труда, крестьяне, по утверждении уставной грамоты, отказались наотрез сеять бывшую их надельную землю, отошедшую к помещику. А так как тогда же, на первых порах, под веянием, нисходившим с высших административных сфер, уже проходилась молчанием возможность сопротивления массами законным требованиям, то и посредники были поставлены в необходимость вертеться перед неразрешимою задачей, — принудить без принуждения. Свою задачу А. В. исполнил следующим образом: он на заре, велевши наложить сохи и бороны на парные подводы, послал их на барский двор упрямой деревни и приказал дожидать себя к шести часам утра. Прибывши в коляске к означенному часу, А. B. приказал экономическому старосте отворить амбар, а своим рабочим насыпать зерно для посева, а вслед затем поехал в поле наблюдать за работой. Через несколько времени из-за угла на околице показался крестьянин, а вслед затем другой и третий, и наконец собралась целая толпа. Вот, отделившись от кучи, один, снявши шапку, подошел к коляске и спросил: «какие ж такие это сеют»?
— Мои, отвечал Ш-в;- это дорогие рабочие: они приехали за 25 верст.
— А кто же, батюшка, им платить то будет?
— За кого они работают, тот и заплатит. Как окончат сев, так и пришлю к вам за расчетом.
— Так это лучше мы сами поедем сеять-то.
— Это дело ваше, и мне кажется, что вам выгоднее самим посеять.
— Сейчас всем миром выедем, а к вечеру все засеем.
Через полчаса подводы стали сбираться к амбарам, и Ал. Bac. дождавшись, покуда последняя десятина была забросана семенами, поехал домой, приказав сельскому старосте донести сейчас же по запашке последней борозды. Нельзя не упомянуть о заслужившем общую признательность дворян и крестьян своего участка посреднике Ал. Арк. Тимирязеве, которому 3 Февраля 1866 г. был поднесен серебряный кубок при следующем адресе:
Милостивый Государь
Александр Аркадьевич!
Желание наше выразить то чувство уважения и признательности, которое приобрела ваша общественная деятельность, — исполнилось. Нам приятно видеть, что чувство это разделяют и представители крестьян. Поэтому мы имеем полное право сказать, что деятельность ваша не тяготела только к одной стороне, что основанием ее было стремление к правде, результатом ее — справедливость.
Позвольте же вам просить вас принять предлагаемый кубок, как воспоминание о труде, понесенном вами для пользы общества; как выражение нашего общего желания видеть продолжение этого добросовестного труда.
Впоследствии, когда Ал. Арк. был выбран в уездные предводители, мне, в качестве мирового судьи и опекуна, приходилось весьма часто соприкасаться с этой почтенной личностью, к которой мои воспоминания постоянно обращаются с живейшей признательностью. Передаю рассказ соседнего с Новоселками не богатого землевладельца Р-а, часто заезжавшего к Борисову по пути во Мценск и сохранившего поныне добрую о Борисове память.
Заезжаю я, рассказывал Р-ь, однажды из Мценска в Новоселки, проведать Ивана Петровича. — «Ну, как ваше хозяйство?» — спрашиваю. — «Да что, батюшка, отвечает Иван Петрович: у меня вчера такое чудо случилось, что и ума не приложу. Вы знаете, каково ладить с Новосельскими мужиками: и на выкуп нейдуть, и работать не хотят. Вчера миром пришли во двор, да ни с того, ни с сего повалились в ноги: „прости, говорят, нас, Иван Петрович, мы сдуру да за ум взялись, и коли какие есть за нами неотработки, все отработаем и пополним“. И до сих пор не знаю, что подумать». — «Ну так я вам, Иван Петрович, не объясню ли дело Мценскою новостью: третьего дня Александр Аркадьевич Тимирязев назначен посредником». И действительно, с назначением Александра Аркадьевича, строй и дух участка мгновенно изменились. Посредник, как и следовало, стал живым центром старшин и сельских старост, которые шага не смели ступить без его ведома. Сельским старостам назначалась семирублевая премия за открытие всякого воровства, о котором староста немедля должен был тайно доносить посреднику; а тот, указывая хозяину, где найти украденную вещь, прослыл мужиков за колдуна. Если проездом он замечал дурную пахоту, то, не дожидаясь жалобы хозяина поля, тут же на месте наказывал нерадивого рабочего. Накануне Троицына дня он проводил ночь на дороге, ведущей из Мценского уезда в Орловский, около деревни Лунёвой, где провозили березки, краденые в лесах помещиков, и подвергал похитителей строгому взысканию; на третий год его службы воровство лесов почти прекратилось. Александр Аркадьевич совершенно ясно понимал роль посредника между двумя сословиями; он никак не думал, что право взыскания с неисправных рабочих отнято у помещика для того, чтобы взыскание совсем прекратилось и повлекло за собою полный экономический кризис, — а только затем, чтобы передать его в совершенно беспристрастные третьи руки. Но не будем забегать вперед, так как на позднейших страницах воспоминаний нам не раз придется встретиться с почтенной личностью Александра Аркадьевича.
Опыт и в особенности горький — самый лучший учитель. Мне, прямо со школьной скамьи пересевшему на фронтового коня и потому совершенному новичку в гражданской тоге да еще и притом в годину самых коренных реформ, пришлось отказываться от самых пылких мечтаний и дорогих убеждений. Так в настоящее время человеку, желающему подарить мне самую великолепную мельницу с тем, чтобы я только мог отдавать ее в аренду, я бы сказал, что владеть мельницею может только человек, лично управляющий ею. Видевший устройство Тимской мельницы при поступлении ее в аренду в Н. И. А-ву или хоть, подобно мне, захвативший остатки этого устройства, — вынужден бы был признать, что мельница выстроена самым роскошным образом. Не только слань к рабочим заставкам, но и шлюзы в устьях рабочей канавы были обшиты толстыми дубовыми досками. Нечего говорить о самом пятиэтажном мельничном амбаре из толстого дубового леса. Положим, в арендном условии сказано содержать в исправности и сдать в том же виде, в каком принята мельница, но вы приезжаете и видите, что бок третьего этажа подперт громадным дубовым бревном. — «Николай Иванович, что же это?» спрашиваете вы. — «Мы, знаете-с, для вас хлопочем; известное дело, подалась стена, — так как бы чего грехом не случилось. Потрудитесь взглянуть в середину: там даже углы из пазов вышли».
— Николай Иванович, да как же им не выйти из пазов, когда вы в закрома на пятом этаже постоянно сыпете до трех тысяч четвертей пшеницы? Ведь это 30 тысяч пудов весу.
— Помилуйте! мы никогда более тысячи там не держим.
— А мельницу между тем необходимо перестраивать.
И вот я снова на Тиму, и мне случилось весьма сходно, верст за 20, купить сот пять превосходнейших дубов, которые и были привезены на мою усадьбу зимою. Уже в то время Никол. Иван. заговаривал, не лучше ли променять мельницу (как он выражался) — на деньги, т. е. продать ему. Но, конечно, увлекаясь мечтами о вечной арендной собственности (Ник. Ив. платил 2 тысячи руб. аренды) с прибавлением живописной усадьбы, я отклонил предложение. Между тем Ник. Ив. весьма категорически доказал мне, что перестройка мельницы потребует 20 тысяч расходу (которых у меня не было), — и на вопрос об арендной сумме, которую он затем будет платить, — пояснил, что сумма останется все те же 2 тысячи рублей, — «ибо, говорил он, мы платим аренду с годового заработка, и нам все равно, крепка ли у хозяина мельница, на которой мы работаем, а платить за ее благонадежность нам не под расчет-с». Понятно, что, хотя я видимо весьма мало обратил внимания на эти слова, они внутренно были для меня ушатом холодной воды на голову. И с той поры я навсегда превратился в ожесточенного врага мельниц с помещичьей точки.
Тургенев писал:
Баден-Баден.
30 сентября 1866 года.
Получил я ваше письмо, любезнейший Афан. Афан., оно очень многоречиво и внушено вам чувством искреннего участия, но я отвечу вам Фактами, после которых вы вероятно, по обещанию вашему, «красноречиво умолкнете».
1. Мне писал дядя, что он мне выслал 4 тысячи рублей на имя Ахенбаха; я никак не мог предполагать, что он выслал мне нечто другое, а не именно эти деньги 4 тыс. руб. сер., - ибо 20-ти процентное уменьшение выкупных и прочих сумм есть факт, известный даже нашим государственным людям; и с какой стати я буду писать другому, что я ему высылаю 4 тыс. рублей, если знаю наверное, что высылаю всего 3500? Впрочем я с тех пор получил от дяди письмо, в котором он говорит о вашем посещении; но, конечно, даже полусловом не упоминает о моем письме, яко бы его «убившем».
2. Я с прошлого июля до нынешнего октября месяца получил всего доходных денег с моих имений около 2-х тысяч руб. сер.; все остальные поступившие деньги происходили от выкупов и продаж земли. Находите ли вы подобный доход достаточным?
3. «Афины русского земледелия»; как вы изящно прозвали Спасское, не только ничего не приносят, но я даже не могу добиться отчета о действиях и ходе пресловутой фермы. Лучшим доказательством справедливости моих слов служит сделанное мне на днях предложение моим дядей: отдать Спасское, имение, лежащее в 10-ти верстах от Мценска и состоящее из 1200 десятин отличной земли в круглой меже, — какому то арендатору на девять лет и девять месяцев (!) — за какую, вы полагаете, сумму? — За 1400 руб. сер. в год, т. е. за сумму, которую вы бы вероятно с хохотом отвергли, если бы ее предложили вам за вашу Степановку.
Мне кажется достаточно этих трех Фактов, в которых прошу не сомневаться ни одной секунды, чтобы устранить навсегда замечания насчет требований доходов августе, рассуждения о том, что как возможно русскому в Бадене не знать, что выкупные бумажки продаются на 80 руб. и т. д. и т. д.
А подумаешь, сколько вами при этом случае потрачено красноречия, сколько даже философии! Тут и цифры, и цитаты из Гете, и даже рука, положенная на совесть! А, кажется, самое имя Ахенбаха должно было несколько охладить ваше рвение, напомнив вам знаменитое искание Баденских банкиров по московским конторам чайных магазинов. — Но довольно об этом. Уверяю вас, что я не так легкомыслен, как вы полагаете, и при нашем свидании весною вы убедитесь на деле в строжайшей справедливости моих воззрений. А думать вслух вы можете при мне совершенно свободно: я умею выслушивать все, и особенно от человека, которого люблю искренно, как вас.
Вот и не осталось места для сообщения других, более приятных новостей. Скажу вам, что я пока здоров и убил всего 162 штуки разной дичи: 103 куропатки, 46 зайцев, 9 фазанов и 4 перепела. Засим кланяюсь вашей жене и дружески жму вам руку. Виардо вам кланяются. Положенное ею на музыку ваше: «Тихо вечер догорает»… производит фурор в Париже.
Ваш Ив. Тургенев.
В. П. Боткин писал:
С.-Петербург.
24 октября 1866 года.
Я приехал в Петербург вчера и очень обрадовался, увидев на своем письменном столе письмо от вас, из которого увидал, что вы здоровы и все у вас благополучно. Я тоже чувствую себя недурно, и этим я обязан, во-первых, тихо, приятно и спокойно проведенному лету, лесному воздуху Бадена, но в особенности живительному воздуху моря. Такую крепость, какую ощущаю я теперь в себе, я помнил только в давно прошедшем. Даже спешный переезд из Берлина сюда очень мало расстроил меня; даже жестокий мороз, прохвативший меня до костей в ночной переезд из Кёльна до Берлина, только на два дня сделал меня больным.
Что тебе сказать по поводу твоих меланхолических соображений по поводу мельницы? Когда года два назад я советовал тебе продать ее, — в то время она представлялась тебе в блестящих перспективах; теперь, как видно, — напротив, ибо она требует огромной реставрации. Вообще ты так же легко поддаешься розовому освещению, как и мрачному, но замечательно, что, находясь в том или другом настроении, ты делаешься неприступен спокойному и рассудительному обсуждению. То случилось и с мельницей, в которой ты видел одно только золотое дно.
На квартире своей все нашел я благополучно и в порядке, все на своем месте. С большим удовольствием встречаюсь с своими знакомыми. Не смею звать вас сюда, — это иного хлопот из пустого. Приведется свидеться в Москве; только жаль, что вы так поздно располагаете туда приехать. У Дмитрия слюнки потекли, когда я рассказал ему об изобилии в вашем леску вальдшнепов в нынешнем году. А мне так скучно не видеть около себя собаки, что я решаюсь завести какую-нибудь, разумеется, порядочную. Приехавши сюда, я простудился: кашель и головная боль. В Петербурге все занято приближением свадебного праздника Наследника: народу съехалось множество, и погода стоит ясная и свежая. Пока прощайте.
Ваш В. Боткин.
Л. Толстой писал:
7 ноября 1866 года.
Милый друг Афанасий Афанасьевич, я не отвечал на ваше последнее письмо сто лет тому назад и виноват за это тем более, что, помню, в этом письме вы мне пишете очень мне интересные вещи о моем романе и еще пишете irritabilie poetarum gens. Ну уж не я. Я помню, что порадовался, напротив, вашему суждению об одном из моих героев — князе Андрее, — и вывел для себя поучительное из вашего суждения. Он однообразен, скучен и только un homme comme il faut во всей 1-й части. Это правда, но виноват в этом не он, а я. Кроме замысла характеров в движения их, кроне замысла столкновений характеров, есть у меня еще замысел исторический, который чрезвычайно усложняет мою работу, и с которой я не справляюсь, как кажется. И от этого в 1-й части я занялся исторической стороной, а характер стоит и не движется. И это недостаток, который я ясно понял вследствие вашего письма и надеюсь, что исправил. Пожалуйста пишите мне, милый друг, все, что вы думаете обо мне, т. е. о моем писании дурного. Мне всегда это в великую пользу, а кроме вас у меня никого нет. Я вам не пишу по четыре месяца и рискую, что вы проедете в Москву, не заехав ко мне, а все-таки вы человек, которого, не говоря о другом, по уму я ценю выше всех моих знакомых, и который в личном общении дает один мне тот другой хлеб, которым кроме единого будет сыт человек. Пишу вам главное затем, чтобы умолять вас заехать к нам, когда вы поедете «обнимать». На что это похоже, что мы так подолгу не видимся! Жена и я слезно просим Марью Петровну заехать к нам. Я на днях один, т. е. с сестрой Таней еду на короткое время в Москву. Ее я отвожу к родителям, а сам еду для того, чтобы печатать 2-ю часть своего романа. Что вы делаете? Не по земству, не по хозяйству, — это все дела несвободные человека. Это вы и мы делаем так же стихийно и несвободно, как муравьи копают кочку, и в этом роде дел нет ни хорошего, ни дурного;- а что вы делаете мыслью, самой пружиной своей Фетовой, которая только одна и была, и есть, и будет на свете. Жива ли эта пружина? Просится ли наружу? Как выражается? И не разучилась ли выражаться? Это главное. Прощайте, милый друг, обнимаю вас; и от себя, и от жены прошу передать душевный поклон Марье Петровне, которую мы надеемся у себя видеть и очень о том просим.
Л. Толстой.
И я также очень прошу вас, милая Марья Петровна и Афан. Афан., заехать к нам, если вы поедете в Москву. Мы всю зиму будем дома, и вы сделали бы нам большое удовольствие, если бы поступили по-дружески и не проехали бы мимо Ясной Поляны, не порадовав нас своим присутствием. Мы будем вас ждать с нетерпением.
Гр. С. Толстая.
B. П. Боткин писал:
12 ноября 1866 г.
С.-Петербург.
Уже второе письмо от тебя получил я с приезда моего сюда, а я еще не собрался писать тебе после первого моего письма по возвращении. Виноват, но вместе с тем и неисправим; потому что для меня писанье писем есть своего рода предприятие, сопряженное с разного рода случайностями, как-то: состояние духа, здоровье, ясная погода и т. п. А погода здесь стоит такая, что с самого утра стоит какой то денной сумрак, что то среднее между днем и ночью. А потом перемена образа жизни и климата действуют на меня болезненно, и организм мой далеко не пришел еще в свою норму, хотя, говоря вообще, петербургский климат я во многом предпочитаю московскому, гораздо более сухому. Живя в чужих краях, более или менее находишься в напряженном состоянии, дома же разом принимаешь спокойное положение и беззаботное «ну»; а такие радикальные перемены не проходят мимо организма, не затронув его. Ты в последнем письме своем говоришь, что чтение газет очень волнует тебя, и поэтому ты решаешься вовсе не читать газет. Увы! это невозможно: но я кажется достиг до того, что теперь волнуюсь гораздо менее. Роль мухи при дорожных надоела мне до пресыщения. Что толку мучить себя и волноваться, и тревожиться, когда я не в силах помочь делу или направить его по моему желанию? Занятие политикой есть дело или бессмысленных, или гениальных людей, вращающих судьбами государств и народов. Нынче всякий долгом своим считает толковать о политике, а никто не думает о том, что для разговора о каком либо предмете прежде всего нужно знать его и иметь о нем ясное понятие. Но с другой стороны это самый легкий предмет для разговоров и суждений, столь же легкий, как разговор о погоде, но более интересный, ибо всякий может в нем излить накопившуюся у него желчь, сообразно состоянию его желудка. Есть люди недовольные по свойству своего организма и все видящие в черном цвете. Мы из нашего прежнего смешного оптимизма впали теперь в совершенно противоположную сторону. Но, в сущности, Россия находится теперь в несравненно лучшем положении, чем прежде. Этого для меня довольно. Известная фраза, что под старость человек делается эгоистом, имеет глубокий смысл, тот именно, что под старость человек более обращает внимания на то, что у него под носом. Пусть называют это младенчеством (и младенец занимается только тем, что у него под носом), но разница здесь в том, что младенец бессмысленно занимается близкими к нему вещами, а старик доходит до этого вследствие долгого опыта и размышлений.
Я забыл тебе сказать, что я нынешним летом познакомился с твоим бароном Бюлером и нашел в нем действительно прекраснейшего человека.
Во второй половине декабря думаю я поехать в Москву. К этому времени надеюсь, что вы уже будете в Москве, следовательно поживем вместе. Если бы была у тебя охота проехаться в Петербург перед этим, то мы бы вместе потом отправились в Москву. Ты так уже давно зажился в деревне, что тебе будет, может быть, приятно дней десять пожить жизнью большого города. Граф Алексей Толстой останется здесь всю зиму. Он ставит на сцену свою драму: «Смерть Иоанна Грозного».
Здесь стоит настоящая зима и отличный санный путь; морозы, к счастию, не превышают 5° и 6°. Прощайте, милые друзья. Не обмани моей надежды, приезжай сюда, тебе даже и нужно проветриться, а меня ты этим усладишь.
Весь ваш В. Боткин.
Проездом по первому зимнему пути в Москву, мы, по обычаю, остановились на сутки в Новоселках у Борисова. А как пустынножительствующий Борисов состоял в непрестанной переписке с Тургеневым, то и не удивительно, что Иван Петрович знал гораздо более меня о практических делах Тургенева. Услыхав от Борисова, что Тургенев в самом непродолжительном времени высылает в Спасское управляющего, избегая под всякими предлогами личной приемки расчетов и имения от дяди, — я стал доказывать Борисову, что такие вещи делаются и по отношению к сторонним управляющим только с заведомо злонамеренными людьми, в предупреждение новых хищений, но даже немыслимы по отношению к дяде, на которого все время смотришь как на отца. Признаюсь, тогдашнее мнение об этом Борисова возмущало меня почти более, чем самая выходка Ивана Сергеевича. С детства я не знал ни одного предосудительного поступка Борисова, а тут только потому, что он видимо подчинялся авторитету Тургенева, мы переставали понимать друг друга. Как ни силился я доказывать, что возмущает меня не перемена Иваном Сергеевичем управления имением, а эта малодушная боязнь приступить к собственному делу, не боящаяся в то же самое время на глазах всех оскорблять старика, которому он обязан хотя бы наружным уважением; как ни спрашивал я, почему же он не хочет принять от дяди отчетов, — Борисов с раздражением в голосе повторял: «он просто не хочет». Как будто бы единичная воля Ивана Сергеевича способна была изменить все сложные общественные отношения, в которых мы живем. Признаюсь, такое суждение Борисова осталось в моем воспоминании о нем навсегда неприятным, хотя быть может и незаслуженным пятном.
На другой день мы, по заведенному обыкновению, переехали к обеду в Спасское. Тяжело припоминать положение, в котором мы встретили на этот раз семейство Нив. Ник. Надо было, подобно мне, в течении восьми лет усвоить себе коренастую фигуру старика, ломавшего некогда подковы и сохранившего еще значительную часть силы, чтобы быть пораженным при виде того же старика, начинавшего громко рыдать каждый раз, когда он касался в речах грозящей ему сдачи управления не лично Ивану. А он беспрестанно возвращался к этому вопросу.
Говорите что хотите, но так притворяться нельзя! Признаюсь, я так был потрясен только что пережитой сценой, что чувствовал потребность заехать в Ясную Поляну и искать третейскаго суда у графа Толстого.
Конечно, как я и ожидал, граф сказал, что всякий распоряжаться своим имением волен, но что отказывать таким образом дяде невозможно, и что Тургенев, вероятно, и не сделает этого, а примет управление от дяди имением прилично и родственно.
На этот раз в Серпухове ожидала нас самая отрадная новость. Сдавши на некоторое время на хранение нашу заветную кибитку, мы, из морозной тесноты и от самого мучительного передвижения на еле плетущейся тройке, пересели в топленый и удобный вагон и покатили в Москву, где вскоре получили письмо от В. П. Боткина:
Петербург.
15 декабря 1866 г.
Мой милейший друг, с величайшей радостью получил я твое письмо из Москвы: значит, что мы теперь скоро увидимся. А потому я спешу написать тебе о моем распределении времени. Но прежде начнем с тебя: так как ты пишешь, что ты совершенно свободен, то, предполагая, что тебе в Москве довольно монотонно и, исключая семейного друга, там мало найдется для тебя занимательного, я предлагаю тебе, отдохнув и осмотрясь в Москве, отправиться сюда ко мне и прожить недели две, которые пролетят здесь для тебя незаметно, приняв в соображение множество людей, которые тебя знают, любят и ценят. Как же скоро тебе соскучится здесь или надоест, — то мы и отправимся вместе в Москву. А на праздники потому я не еду, что терпеть не могу этого собрания беспрестанных гостей и больших обедов. Мне хочется пожить в семействе Мити, а для этого я предпочитаю тихое время. Мне кажется, что ты тоже не охотник до толпы и потому предлагаю тебе провести это время здесь в тишине и в среде людей простых и добрых. Письмо твое так меня обрадовало, что я уже воображаю тебя здесь, и предо мною рисуется уже перспектива нашего сожительства. Ручаюсь, что тебе не будет скучно. Пожалуйста приезжай поскорее.
Не знаю, читал ли ты «Смерть Грозного» — Ал. Толстого, пиесу, имеющую многие достоинства. Теперь она ставится здесь на сцену и на постановку ее ассигновано дирекцией 30 тысяч. Декорации и костюмы будут сделаны со всею археологическою точностью. Я слышал чтение Васильева 2-го, играющего роль Грозного: оно очень хорошо.
Вчера Полонский принес мне две главы своей новой поэмы, напечатанной в одном дрянном журнале «Женский вестник». Поэма называется «Братья» и происходит в Риме. Вообще мило, попадаются поэтические образы, простодушно. но бледно и незначительно. Поэма не его род. Я записал его адрес, зная, что ты любишь его. Он женился. До скорого свидания. Жду тебя 3-го января.
Твой В. Боткин.
Так как память не представляет мне за эту зиму выдающегося, то я о нашем пребывании в Москве умалчиваю.
Найдя в Серпухове заветную кибитку в целости, мы прежним порядком добрались до Степановки.
IV
Письма. — Вскрытие полей. — Разрыв Тургенева с дядей. — Мое избрание в мировые судьи.
В. П. Боткин писал:
С.-Петербург.
14 марта 1867.
Давно уже я не писал к вам, милые друзья, да и сказать правду, — нечего было сообщить вам интересного о себе. Жизнь моя тянулась своим заведенным порядком. В последнее время этот порядок и однообразие нарушились приездом Ивана Сегеевича, который прожил у меня дней десять с сильнейшею подагрою в ноге. Наконец боль и опухоль уменьшились, и он выехал в Москву, — а в настоящее время находится в Спасском. Он принял твердое намерение заменить Николая Николаевича новым управляющим. Эта перемена имеет характер революции, ибо Ник. Ник. оказывает ей решительное сопротивление. Такое дело очень трудно судить со стороны. В денежных и хозяйственных делах Иван Сергеевич положительно ничего не смыслит, и, что еще хуже, они в его понятиях отражаются совершенно фантастически, вообще на его суждения фантазия имеет преобладающее влияние. Это существенный порок относительно практической жизни и деловых отношений, но с другой стороны, этот порок есть главное условие его таланта. Вообще надо принимать человека таким, какой он есть, и рассматривать его в его собственном соусе, который может быть и не по нашему вкусу, но ведь в этом виноваты мы, а он не в силах переделать его. Как бы то ни было, ложно или справедливо. Иван Сергеевич недоволен управлением Никол. Ннкол и хочет поставить другого управляющего. Вот тут и обнаружились раздражение и гнев Никод. Никол., не хочет он своей смены, поднялась буря, начались речи о каких то правах, о каком то оскорблении, угрозы и проч. Положим, что Иван Сергеевич поступает глупо, но он хозяин, притом же он одинок, безсемеен, и наделять ему своими имениями после себя некого. Я видел отчеты Ник. Ник. по управлению за два года: они составлены до крайности плохо и неточно; со Спасского, например, никакого дохода не показано. Вообще деловые отношения очень плохо вяжутся с родственными, и Иван Сергеевич, будучи хозяином, был постоянно в нравственной и материальной зависимости от Ник. Ник. Эта зависимость всегда чувствовалась и наконец надоела, захотелось быть на свободе и развязать себе руки. Это в природе человека, а тем более 48-ми летнего человека. По личным отношениям к Ник. Ник., ты можешь жалеть об этом, но обвинять Ивана Сергеевича, мне кажется, ты не вправе. Можно ли утверждать, что управление Ник. Ник. было во всех отношениях хорошо? Что касается до меня, то я ни в каком случае не возьму на себя такого гадательного утверждения. Притом же Ник. Ник. 76 лет, он подвержен неизбежным болезням старости, всякая поездка стала для него уже трудным предприятием, одно это обстоятельство уже заподозривает в моем мнении дельность управления. Вообще во всяком деле надо выслушивать обе стороны. В известные лета человеку хочется поступать так, как он признает за лучшее, а не так, как указывают ему другие. Вся буря поднята женским отделением, которое решительно подняло старика на дыбы, и тот же Ник. Ник., который говорил, что во всяком деле причину надо непременно искать в женщине, и вот теперь эта она оказалась и в его собственном деле. А там еще их две, и при известной своей глупости на что не могут они подбить старика!!
Статью твою «Об изучении древних языков» я дал Краевскому. Так как он уже две недели держит ее у себя, то, вероятно, он напечатает в Отеч. Записках. Это будет курьезно! Отеч. Записки все карали за реальные гимназии. Но Краевский признался мне, что статья очень хорошо написана, и потому ему хочется, хотя с оговоркою, поместить ее. Мне кажется, лучше печататься в Отеч. Зап., потому что у них более 5 тысяч подписчиков.
Иван Сергеевич читал мне свою новую повесть. Тут нет и тени похожего на «Призраки» или «Собаку». Это настоящая сочная повесть с его известными достоинствами и с меньшими против прежнего недостатками. Она будет напечатана в мартовской книжке Русск. Вестника.
16 марта.
Вчера вечером встретил Краевского и спросил его о твоей статье. Он сказал, что не может ее напечатать, ибо она в разрез идет с реальными мнениями журнала. Это он говорит не свое, — ему так наговорили его писуны.
Я забыл сказать, что Иван Серг. дает Ник. Ник. пенсию 1000 р. в год и кроме этого дал ему еще прежде заемное письмо в 10 тысяч. И всем этим они еще недовольны! Прощайте.
Ваш В. Боткин.
Не могу сказать, до какой степени я был обрадован, получив от Борисова следующее письмо Тургенева:
Москва 7 марта.
1867 г.
Милый Иван Петрович, я приехал в Москву сегодня утром и выезжаю в субботу в Спасское. Начиная с понедельника или со вторника, меня можно будет там застать; я очень, очень буду рад вас видеть; дайте знать также Фету, но остаюсь я в деревне весьма немного времени, не более недели. — Дела не позволяют. Итак, в надежде скоро увидать вас, хотя не надолго, жму вам руку и остаюсь
преданный вам
Ив. Тургенев.
А внизу приписка Борисова:
Спешу препроводить к тебе сию весть и буду ждать тебя завтра, чтобы во вторник вместе кувыркнуть в Спасское. Зима, кажется, еще продержится хоть недельку. И Марье Петровне можно бы рискнуть, Бог весть когда опять увидим его.
Вот она, думалось мне, наилучшая развязка этого запутанного дела. Как хорошо придумал Иван Серг. вызвать нас с Борисовым в качестве беспристрастных посредников, за плечами которых так удобно можно укрыться от неприятных подробностей. Ник. Ник. ничего не может возразить против нашей поверки экономических счетов; а тоскливая неспособность Тургенева может при этом случае драпироваться в благородное доверие.
Как вдруг получаю следующее письмо от Тургенева из Москвы:
31 марта 1867 года
Так, любезный Афанасий Афанасьевич, и не пришлось нам увидать друг друга! Вот говорите после этого, чти судьбы нету! Не схвати меня простуда в Серпухове, от которой я до сих пор не отделался, — непременно прибыл бы в Спасское, если б не сломал себе шеи на дороге! А уж как хотелось мне видеть вас, поспорить с вами, с хрипом, криком, визгом и удушьем, как следует, и с постоянным чувством симпатии и дружбы к спорящему субъекту! Что делать! Авось в будущем году свидимся, либо в деревне, только летом, — зимой я больше в Россию не ездок, — либо в Бадене, если счастливая звезда вас умчит туда. С тех пор, как я в России, — я развиваю (это галлицизм, вроде галлицизмов моего перевода сказок Перро, который я увидал впервые только в печати и узнал, что есть лошади серые с яблоками, тсс… тсс! это тайна!!) — я развиваю ужасающую деятельность: печатаюсь (посмотрим, что вы скажете о моей повести в мартовской книжке Русск. Вестн., - чай, обругаете), продаю новое издание, читаю публично и приватно, болею (нога у меня совсем отказывается), ввожу нового управляющего… Кстати, чтобы раз навсегда покончить с этим предметом, так чтобы уже толков об этом между нами больше не было, и вам не приходилось величать меня, как в письме Боткину, осатанелым, — вот вам решительные цифры, заставившие меня принять означенное решение:
В 11 1/2 лет я получил — 122,000 руб. сер.!
Из них капитальной суммы — 62,000 руб. сер.!!
Доходной суммы — 60,000 руб. сер.!!!
Что составляет в год — 5,500 руб. сер.!!!!
Я нахожу, что с имения в 5,500 десят., из коих 3,500 совершенно свободны, этот доход слишком мал!!!!
Так как притом имение в упадке, скота нигде нету, и брат получает до 20,000!!!!! — Дяде 76 лет!!!!!! — я решился взять другого управляющего!!!! Положим, я ужасный преступник, но все же не следует меня мгновенно предавать анафеме, тем более, что я будущность дяди обеспечил и никакого отчета от него не требую.- Sapienti sap!
Ну, а засим, что сказать, что сказать вам? Видел я в Петербурге Полонского, он все такой же милый, кланяется вам. О прочих литературных зверях не упоминаю: вы их не любите. Но что за погода! Спасители! А в Бадене, пишут мне, все в полном расцвете.
Я сегодня уезжаю в Петербург (где останавливаюсь у Боткина), а в понедельник в Баден… Когда вас ждать? Поклонитесь от меня вашей жене, крепко жму вам руку.
Ваш Ив. Тургенев.
Вскрытие полей этого года врезалось в воспоминании моем в виде первой вешней поездки с женою в шарабане к Александру Никитичу. Дорога шла вдоль межи нашего ржаного поля, и на протяжении всего клина глаза мои были поражены самым необычайным и — увы! — грустным зрелищем.
По стаянии снегов, озими в первое время обыкновенно зеленеют, но затем звездообразная зелень ржи (куст) нередко от утренних морозов увядает и принимает вид тусклой бронзы. Но это не беда;- если вырвать куст и разодрать его сверху, то окажется в середине сердцевина, которая, в теплые дни поднявшись из земли, снова весело зеленеет. Озимь, можно сказать, не боится морозов, зато застывшая на ней корою дождевая вода, если не изноет весною под снегом от теплых дождей, — является величайшим врагом осенних посевов. Можно подумать, что нагретая сквозь лед земля развивает теплоту, не имеющую исхода, и молодое растение в ней задыхается и сопревает.
На этот раз ржаное поле представилось мне покрытым не медными, а серебряными звездами. Передав возжи жене, я в разных местах стал кнутовищем выкапывать ржаные кусты и тут же разрывать их сердцевину. Увы! — сколько я ни повторял опыта, я всюду добывал безжизненный корень, вроде небеленой нитки. Ждать урожая, очевидно, было уже невозможно. С небольших оазисов мы едва собрали осенью семена и ржи для собственного продовольствия. Замечательно, что вокруг ржаных оазисов все поле покрылось не лебедой, неохотно поедаемой крупным скотом, а какою-то густою и кудрявою травой, которую скот ел всю зиму с величайшим удовольствием.
Боткин писал от 27 апреля 1867 г. из Петербурга:
Милые друзья, на днях получил ваше письмо и особенно благодарю тебя, милая Маша, за то, что ты потрудилась написать мне. Твои письма — увы! Редкие — гораздо больше отражают в себе Степановку. Фет же особенно занят теперь разрешением Спасского вопроса. Так как дело это не касается до меня лично, и я смотрю на него со стороны, то поэтому и отношусь к нему с большим беспристрастием. Что дела по управлению Ник. Ник. находятся в величайшем беспорядке, это для меня не подлежит ни малейшему сомнению. Не подлежит для меня сомнению и то, что Иван Серг. сделал Ник. Ник. большое одолжение, поручив ему управление своими имениями, каковое управление Ник. Ник. вел весьма плохо и беспорядочно, потому что он стар, медлителен и ленив, и давно уже не годится на это дело. Да если бы и годился, все-таки Иван Серг. имел несомненное право взять другого управляющего, который примет имения так, как захочет их сдать ему Ник. Ник. Что полное снисхождение оказывается старику, о том не может быть и вопроса. Очень скверно поступил Иван Серг., не приехав сам в Спасское, вследствие своего пустого характера, трусости и легкомыслия. Но в сущности приезд его с новым управляющим, который предназначался заменить Ник. Ник., разве мог позолотить пилюлю, которую в конце концов все-таки должно было проглотить Ник. Ник.? Повторяю: что Ник. Ник. заблагорассудит сдать, то и будет принято, и ничего похожего на споры и домогательства со стороны нового управляющего быть не может. Я не могу понять, на чем основываются претензии Ник. Ник. Вместо того, чтобы покориться необходимости и показать благоразумие, он положительно делает глупости и безрассудства.
30 апреля я уезжаю и, как предполагал, проведу лето в Бадене, потом к морю в Диеп, а осенью в Париж и к зиме опять восвояси. Письма ко мне адресуйте в Баден. Здесь в Петербурге постоянно стоит холодная погода. Полонский не показывается, и после того, как он приходил объявить мне, что пристроил статью твою в Библиотеке, — я его не видал.
Еще о Спасском вопросе: по моему мнению, трехдневное присутствие в Спасском нисколько бы положение Ник. Ник. не изменило относительно общества. С деловой точки зрения Ив. Серг. несомненно прав, а по родственным отношениям он поступает с Ник. Ник. со всевозможною деликатностью, снисхождением и добротою. Ты знаешь, что я не охотник до характера Ивана Сергеевича; но в этом деле он тысячу раз прав. Ты говоришь, что он только обещаёт, а не дает Но он совершенно вправе и ничего не обещать; это в его доброй воле. Да и есть ли ему какая возможность дать теперь? Но своим упорством и безрассудством Ник. Ник. только может окончательно раздражить его и испортить свое дело. Ник. Ник. уже грозит ему процессом и взысканием.
Пока прощайте. Крепко вас обнимаю.
Ваш В. Боткин.
Приведенные письма, находящиеся в настоящую минуту перед беспристрастными глазами читателя, не могли в свое время не повлиять на меня. Из одного письма Боткина ухе видно, что болезнь, на которую ссылается Тургенев, как на причину неприезда в Спасское, — один предлог, а мне достоверно известно, что в Серпухове Тургенев на станции встретился с князем Черкасским, ехавшим с юга. Черкасский, под свежим впечатлением ухабов и не зная отношения Тургенева к дяде, посоветовал ему вернуться с ним вместе в Москву, что без сомнения было приятнее поездки в Спасское. Так как поступок Тургенева надломил навсегда мое беззаветно дружеское к нему чувство, и я поневоле сам сажусь перед читателем на скамью подсудимых, то разъясняя снова мотивы, приведшие меня к такому чувству, я ищу не оправдания, а правды. Сам Иван Сергеевич в течении десяти лет приучил меня смотреть на Ник. Ник., как на его отца, а не управляющего. Неудивительно ли мое изумление, когда я вдруг увидал такую перемену декорации. И Тургенев, и Боткин в своих письмах употребляют известный софистический прием, оспаривая сторону дела, с которою противник давно согласен, и обходи молчанием спорную, которая таким образом является как бы доказанной. Мне в голову не приходило оспаривать у Ивана Серг. право на его имущество. Я только утверждал, что таких пилюль, о которых наивно упоминает Боткин, порядочные люди между собою не подносят. К этому присоединялось темное убеждение, что высланный в Спасское Зайчинский не улучшит имущественного положения Тургенева. Последствия блистательно оправдали такое предположение.
Л. Толстой писал:
27 июня 1867 года.
Ежели бы я вам писал, милый друг Афан. Афан., всякий раз, как я о вас думаю, то вы бы получали от меня по два письма в день. А всего не выскажешь и кроме того то лень, а то слишком занят, как теперь. На днях я приехал из Москвы и предпринял строгое лечение, под руководством Захарьина, и главное, печатаю роман в типографии Риса, готовлю и посылаю рукопись и корректуры, и должен так день за день под страхом штрафа и несвоевременного выхода. Это и приятно, и тяжело, как вы знаете.
О «Дыме» я вам писать хотел давно и, разумеется, то самое, что вы мне пишете. От этого то мы и любим друг друга, что одинаково думаем умом сердца, как вы называете. (Еще за это письмо вам спасибо большое. Ум ума и ум сердца — это мне многое объяснило). Я про «Дым» думаю то, что сила поэзии лежит и в любви; направление этой силы зависит от характера. Вез силы любви нет поэзии; ложно направленная сила, — неприятный, слабый характер поэта претит. В «Дыме» нет ни к чему почти любви и нет почти поэзии. Есть любовь только к прелюбодеянию легкому и игривому, и потому поэзия этой повести противна. Вы видите, — это то же, что вы пишете. Я боюсь только высказывать это мнение, потому что я не могу трезво смотреть на автора, личность которого не люблю; но кажется, мое впечатление общее всем. Еще один кончил. Желаю и надеюсь, что никогда не придет мой черед. И о вас тоже думаю. Я от вас все жду, как от 20тилетняго поэта, и не верю, чтобы вы кончили. Я свежее и сильнее вас не знаю человека. Поток ваш все течет, давая то же известное количество ведер воды — силы. — Колесо на которое он падал, сломалось, расстроилось, принято прочь, но поток все течет, и ежели он ушел в землю, он где-нибудь опять выйдет и завертит другие колеса. Ради Бога не думайте, чтобы я это вам говорил потому, что долг платежом красен, и что вы мне всегда говорите подбадривающие вещи, нет, я всегда и об одном вас так думаю. — Хотел еще писать, но приехали гости и помешали. Прощайте, обнимаю вас, милый друг, и целую руку Марьи Петровны и прошу за меня пожать руку Борисову, у которого надеюсь быть осенью. Я адресую во Мценск, потому что вы там на выборах.
Мне так хочется вас видеть, что я бы приехал к вам, ежели бы было возможно. Благодетель, голубчик, приезжайте ко мне на денек!
Л. Толстой.
В воспоминаниях моих я подхожу к событию, которое по справедливости может быть названо эпохой, отделяющей предыдущий период жизни и в нравственном, и в материальном отношении от последующего. Сколько раз с тех пор приходилось мне напоминать своему прежнему мценскому соседу и младшему товарищу И. П. Новосильцову, как в начале шестидесятых годов мы, еще при заслуженном отце его, сиживали в его Воинском парке на фаянсовых табуретках в виде бочонков, и как я на каждое его слово против стеснения прав губернатора находил двадцать горячих слов в защиту всемогущества судебного следователя. Замечательно, что, благодаря тогдашнему веянию, отец Новосильцова, сам бывший губернатор, был горячим моим защитником в споре с его сыном. Нечего говорить, что свободный выбор уездными гласными наилучших людей в мировые судьи, которым предоставлялось судить публично по внутреннему убеждению, являлся на глазах наивных искателей должности судьи чем-то священным и возвышающим избираемого в его собственных глазах.
С этими чувствами я приехал к И. П. Борисову в Новоселки за день до земского собрания во Мценске для избрания судей. Постоянно любезный ко мне предводитель дворянства В. А. Шеншин и лично, и через Александра Никитича, и даже через Борисова советовал мне попытать счастья в выборе на должность мирового судьи в южном участке уезда, причем главным, но весьма серьезным конкурентом являлся местный посредник Ал. Н. М-ов, нарочно вышедший в отставку, чтобы иметь возможность баллотироваться. При этом Алекс. Никит. Шеншин, не имевший воспитательного ценза для должности судьи, был назначен мировым посредником вместо М-ва, баллотировавшегося и выбранного в должность орловского городского судьи. На стороне М-ова были опытность и известность в участке; но было, если не ошибаюсь, и неудовольствие за радикальный оттенок. Но ведь и я сам, не будучи радикалом, был самым наивнейшим либералом до мозга костей. Не странно ли, что, постоянно толкуя Тургеневу о том, что в деле художественной критики выеденного яйца не дам за общественный приговор, — я в то же время с простодушием ребенка верил в общественные выборы и приговоры. Более скептический Борисов старался охладить мой либеральный пыл, уверяя, что тут никаких общественных выборов не предстоит, а что все заранее прилажено и приказано крестьянам мировыми посредниками, и, таким образом, при такой решающей массе шаров свободная борьба невозможна. Под влиянием возникающего негодования, я сейчас же написал самую жестокую филиппику против недобросовестного давления на общественное мнение и решил прочесть свою статью в земском собрании перед самыми выборами.
Борисов сообщил мне, что переводит Петю из Peter-Schule в лицей Каткова, на что уже получил согласие последнего.
На другой день мы оба с Борисовым в качестве гласных отправились в собрание. Каково было мое изумление, негодование и разочарование, когда, выпросив у председателя разрешения прочесть свою речь, я заметил, начавши чтение, что все власть имеющие употребляли всевозможные усилия, для того чтобы речь моя не была в зале слышна. Ноги задвигались под столами и стульями, жестокий кашель напал на всех, секретари всех ведомств, сосредоточивающихся в руках предводителя, заходили со своими докладами. Я преднамеренно сократил чтение и сел на свое место.
Принесли ящики с шарами, и баллотировка началась. Смущенный и едва соображая происходящее, я вышел в другую комнату, когда провозгласили мое имя. Видимо раздраженный и побледневший Борисов подошел ко мне, пока меня баллотировали, и сказал: «Это такая гадость, что отныне нога моя не будет ни в каком собрании. Удивляюсь, как ты не отказался от выборов».
В эту минуту кто-то из властей подошел ко мне и объявил, что, за исключением трех «черняков», я выбран подавляющим большинством. Другие конкуренты, искавшие счастья, провалились, а М-ов, в виду моего блистательного избрания, наотрез отказался от баллотировки.
Выходя из отдельной комнаты, я до того был смущен внезапным переходом от необъяснимой враждебности к общему сочувствию, что заставил сидевшего на подоконнике мирового посредника Ал. Арк. Тимирязева сказать мне: «Избранные обыкновенно благодарят за избрание». Тут только я очнулся и стал благодарить избирателей. Увы! в то наивное время я не понимал, что нет общественного избрания без партий, из которых каждая желает успеха всему кандидату. Без этого желания она бы не подошла к избирательной урне, а подходя, она не может, подобно мне, не знать, что если не употребит с своей стороны всех законных и незаконных мер, противная партия наверное употребит их в свою пользу. Такое нелиберальное давление на общественные выборы происходит в громадных размерах в самых либеральнейших на словах государствах.
Конечно, в скорости после выборов я уехал в Москву заказать мундир и купить необходимые для судебной практики книги и бланки[223].
По утверждении выборов назначено было распорядительное заседание, и неоконченные дела бывшего земского суда розданы по четырем участковым судьям, и я получил цепь третьего мирового участка, почти в середине которого приходилась Степановка, куда я и отправился, приискав письмоводителя, более или менее знакомого с канцелярскими формальностями.
Я уверен, что читатель, удостоивший до сих пор мои воспоминания своего внимания, не испугается небольшого ряда судебных случаев, приводимых здесь мною в качестве лестницы, по которой я, руководимый наглядным опытом, мало-помалу в течение 10 1/2 лет спускался с идеальных высот моих упований до самого низменного и безотрадного уровня действительности. Как ни тяжко было иное разочарование человека, до той поры совершенно незнакомого с народными массами и их мировоззрением, я все-таки с благодарностью озираюсь на время моего постепенного отрезвления, так как правда в жизни дороже всякой высокопарной лжи. Наглядевшись в течение шести лет на великолепные результаты единоличного управления посредников, я, принимая единоличную власть судьи, был уверен, что, помимо всех формальностей, ясно понимаю основную мысль Державного Законодателя: дать народу вместо канцелярских волокит — суд скорый, милостивый к пострадавшему, а по тому самому и правый. Я понимал, что главная гарантия суда — в его гласности и постоянной возможности обжалования; что самые законы суть только компас и морская карта для ограждения кормчего от утесов и отмелей; но что эти формальности только излишняя связь там, где кормчий и без этих пособий видит прямейший путь в пристань.
Если бы я имел возможность представить на суд читателя хотя не все, а наиболее интересные судебные случаи в хронологическом порядке моей 10-летней практики, то не сделал бы этого по следующим причинам: такое продолжительное испещрение воспоминаний судебными разбирательствами, не связанное единством мысли, надоело бы читателю и только мешало бы ему составить себе ясное понятие о моей судебной деятельности. Кроме того, так как некоторые подсудимые многократно появлялись в качестве обвиняемых, то я позволю себе до конца проследить судьбу их, насколько она мне известна. Вставляя здесь свою судебную деятельность отдельным эпизодом, я даю читателю возможность пропустить весь этот эпизод, невзирая на его воспитательное по отношению ко мне значение. Исходя из мысли, что тяжбы между помещиками встречаются гораздо чаще в комических повестях, чем на деле, и что, за исключением таковых, мировые посредники разбирали всевозможные дела и жалобы, — большинство сельских мировых судей считали, что все обыватели участка равно нуждаются в суде скором, правом и милостивом, а потому, подобно мне, принимали к разбирательству всевозможные дела, впоследствии окончательно исключенные из ведомства мировых судей.
V
Дело о краже бревен. — Раздел отца с сыном. — Украденная лошадь. — Размежевание земли. — Просьба о разводе. — Сгоревшая деревня. — Бороды старост, как вещественные доказательства. — Кража гречихи. — Жалоба помещицы. — Приказчик железнодорожного подрядчика. — Украденные лошади. — Истязание жены мужем. — Колодки с пчелами. — Колодезь с журавлем. — Мост в селе Золотареве. — Жалоба дьячка. — Украденные шворни. — Червивая капуста. — Украденные колеса. — Взбунтовавшиеся рабочие. — Дело Горчан. — Дело между купцом и крестьянами.
Первое уголовное дело поступило по жалобе молодого иностранца И. А. Ост на кражу бревен со двора его доверителя соседним крестьянином, у которого означенные бревна были разысканы на дворе. Дело по своей ясности не представляло никаких затруднений, и вор, который месяц тому назад был бы наказан при волости посредником и, вероятно, нашел бы воровство неповадным, теперь должен был отсидеть три месяца в тюрьме. Замечательно, что, когда он вернулся в деревню, бабы тыкали в него пальцами, как бы сомневаясь — жив ли он?
Чтобы избежать подавляющей массы крестьянских жалоб, я все мелкие обращал к разбирательству волостного суда. Зато, замечая явное неправосудие последних в данном случае, я нимало не стеснялся разбирательством крестьянского дела, хотя бы оно было уже решено волостным судом. Новое крестьянское положение, допускающее дележи не токмо между братьями, но даже между отцом и сыном, по желанию лишь последнего вело не только к семейному разорению, но в то же самое время возмущало нравственное чувство стариков.
* * *
Помню худощавого, черноволосого и высокого крестьянина соседнего Степановского хутора, просившего рассудить его с сыном, которому общество разрешало брать при разделе с отцом то, что последний считал несправедливым. Как ни старался я растолковать негодующему старику, что это дело волостное, он продолжал с протянутой рукою указывать костлявым пальцем в сторону своей деревни и повторял: «ты меня, батюшка, по закону рассуди. Там у нас ров, а на рову то водка, а в водке то суд. Вот там то они меня в водке то и судят».
Конечно, я не понял бы старика, если бы не знал, что вышедшие на выкуп крестьяне открыли у себя на самом окопе кабак, который и превратился в храм сельской Фемиды.
— Какой же это суд! восклицал раздраженный старик:- слыханое ли дело, — вчера он со мною в кабаке дрался, а сегодня сидит и судит меня лапотным судом.
Прошло много лет, пока крестьяне не пригляделись и не притерпелись к крестьянскому самосуду, который постоянно обзывали «лапотным судом».
* * *
Помню случай, когда племянник крестьянин разыскал у родного дяди свою украденную последним, лошадь. Крестьянский суд возвратил лошадь племяннику, но чтобы наказать вора дядю, общество стало пропивать все его имущество; а когда пропивать, вероятно, стало больше нечего, общество потребовало водки от облагодетельствованного правым судом его племянника. В таком виде дело поступило во мне по жалобе племянника. Конечно, я наперед был уверен, что с вора дяди взять уже нечего, но чтобы показать крестьянам, что я с конокрадством вовсе не шучу, я присудил дядю на три месяца в острог, взыскав с него же в пользу племянника, в виде потери заработных денег, суммы, издержанные на угощение общества.
* * *
Состоявшие давно на выкупе ближайшие к нашей Степановке крестьяне деревни Крестов владели с давних пор кроме надельной еще и собственною землею, приобретенною когда-то на имя помещика и находящуюся в настоящее время в подворном владении. С годами от перепахивания межей друг у друга и наследственных разделов дворы лишь номинально владели известным количеством земли, которая в действительности служила только неистощимым источником споров, негодований и чуть не поножовщины. На слезные просьбы крестьян разделить их землю с определением границ каждого владения я, растолковавши им, что это дело подлежит разбирательству окружного суда, объявил крестьянам, что если они положатся на мой третейский суд, против которого впоследствии никаких возражений быть не может, то я готов по совести разбить всю их дачу на дачи с ведома всего общества, состоящие за каждым двором. На основании такого соглашения я на другой день, захватив с собою землемерскую цепь, выехал на спорную землю и, проходя отдельные ярусы, спрашивал как самого владельца, так и прочих: — «Чья это земля и сколько ее у хозяина?» Убедившись примерно, что у хозяина полторы или три с половиною десятины, я тотчас же отмеривал дачу цепью и, выставивши вехи, приказывал пропахать борозды, а в протоколе записать: у Ивана Фомичева в таком-то ярусе в ширину столько-то и в длину столько-то. Затем то же самое у соседа — и так перерезал все поле. Конечно, человека два-три заявили притязание на большее количество земли против показанного за ними соседями; но я обещал им только тогда прибавить, когда в даче за общим наделом останется излишек. Этого однако не случилось, и я, выдавши им формальную копию с разверстания, объявил, что желающий двор может получить таковую для себя в качестве несомненного документа, основанного на третейском приговоре.
В первое время, не оглядевшись на занимаемом месте, я, подобно другим мировым судьям, стал говорить крестьянам на суде: «вы», в подражание французским судьям, говорящим «вы», так как там это местоимение прилагается ко всем, но нимало не стесняющимся прибавлять: «вы — негодяй, внушающий омерзение» и т. д. Но когда свидетельница-старуха крестьянка сказала мне: «Я уж тебе два раза говорила, что была одна, а ты мне все „вы“», — я исцелился совершенно от этого приема, даже непонятного русскому человеку. И вот в настоящее время, через 22 года, я с удовольствием заметил, что целый мировой съезд в публичном заседании отвергает эту вычуру и обращается к крестьянам точно так же, как они обращаются к судьям со словом «ты».
* * *
Вера во всемогущество судьи проникала тогда все сословия, и потому являлись самые курьезные прошения. Так, из усадьбы соседки нашей О-вой явился старый кучер с просьбою, чтобы я развел его дочь с ее молодым мужем, наносящим ей истязания. Конечно, такое дело могло быть принято мною лишь в видах склонения к миру. В назначенный час явилась передо мною в прекрасном шерстяном салопе с капюшоном, обшитым шелковою бахромою, очень молодая брюнетка, весьма красивая. Обвинителем со стороны несовершеннолетней дочери явился отец, и на вопрос, в чем состояли истязания? — показал, что они с женою «воспитывали дочь, ничего до нее „не допущая“, а муж заставляет ее доить корову и снимать с него сапоги и даже запрещает ей ходить к родителям; а когда на прошлой неделе она пошла к отцу, муж догнал ее на улице и за руку привел домой». — «А потому разведите ее с мужем, судья милостивый!»
— Разводить я никого не могу, а не желаешь ли ты помириться с мужем? — спросил я красавицу.
— Меня хоть в Сибирь, а я с ним жить не желаю, — был ответ.
— А ты желаешь жить с женою? — спросил я столяра.
— Очень желаю, — отвечал парень.
— У отца твоего была корова? — спросил я молодую.
— Никогда не было, — был ответ.
— Так муж тебе завел корову, а ты это называешь мученьем. Если тебя отец ни до чего не допускал, тем хуже; а ты должна слушаться мужа, а не отца, который ходит да тебя смущает.
— От него-то вся и беда! — воскликнул парень.
— А ты зачем его к себе пускаешь? Гони его вон!
— Как! меня-то?
— Известно, тебя-то!
— Как же это так?
— Кулаком по шее! Ты отдал добровольно дочь в чужой дом, а в чужой дом можно ходить только угождая хозяину, а супротивника закон дозволяет наладить в шею. Поэтому в последний раз говорю вам: не желаете ли подобру-поздорову помириться?
— Меня, — снова восклицает молодая, — куда угодно, но только не с ним жить.
— Это, матушка, дело твое! Я вызвал вас только для мировой; а то дело ваше крестьянское, и я его сейчас же передам на волостной суд. А ты знаешь, что там непокорных баб дерут, и помяни мое слово, что тебя в следующее же воскресенье отлично высекут. Так вот, либо миритесь хоть на время, либо передам ваше дело на волость.
Последовала мировая. А месяца через полтора бывшая у нас в гостях помещица О-ва сказала мне: «А уж как вас столяр с молодою женою благодарят! Как голубки живут».
* * *
Случалось мне расспрашивать мнения выборных; но только в совещательном, а не в решающем смысле. Однажды старшина заявил жалобу на крестьянина, не исполняющего законных требований его, старшины и сельского старосты. Хотя меня, по военным преданиям, изумила жалоба начальника, снабженного карательной властью против ослушного подчиненного; но так как, с одной стороны, сопротивление административной власти, соединенное с насилием, я считаю тяжким самостоятельным преступлением, а с другой — я желал удостовериться, были ли требования старшины законны, — то принял дело к своему рассмотрению. Оказалось, по положению, изданному земской управой, крестьянам сгоревшей деревни предписывалось, вместо прежних беспорядочных проулков между дворами, строиться вновь по два двора с промежутками между ними в три сажени и в десять саженей между каждою парою. Вследствие такого распределения, обвиняемому в непослушании приходилось сходить своим двором с прежнего огорода и усадьбы, которой некоторые строения были сложены из местного плитняка и должны были задаром доставаться соседу. Понятно, до какой степени такое обстоятельство было обидно крестьянину, уже начавшему ставить избу на прежней своей усадебной земле. Я нарочно ко дню разбирательства вызвал двенадцать человек так называемых стариков того же селения. Признаюсь, мне сердечно жаль было обвиняемого, но старшина, под личной ответственностью за исполнение постановлений земства, не мог простить крестьянину неповиновения. Не желая разом звать всех выборных в небольшую камеру, я вышел к ним на террасу, спросить их мнения; но из этого совещания, кроме галдения, ничего не вышло. Одни кричали, что малого-то уж очень жалко, и другие — что, точно, он не слухает старшины и строится на неуказанном месте. То и другое было мне давно известно. Оставив всех за дверью, я позвал в камеру одного старшину и спросил, — какого он мнения, если я, снявши с него ответственность, сделаю судебное постановление: вместо приходящегося по земскому плану десятисаженного проулка перед усадьбой обвиняемого оставить его только на три сажени. — Глаза старшины радостно сверкнули.
— Да ведь тогда Герасиму-то как раз придется сесть на старую усадьбу!
Когда я составил в этом смысле постановление и вышел прочесть его старикам, они хором воскликнули: «Уж так-то хорошо, что лучше и не надо! Никому от этого обиды не будет!»
* * *
В находящееся от нашей Степановки в 4-х верстах Ивановское Ал. Ник. Шеншина мы продолжали ездить обедать по-прежнему через воскресенье и оставались там до вечернего чаю. Особенно приятно это бывало зимою, когда мы ездили с женою туда на одиночке в санках без кучера и, возвращаясь к себе, в темноте пускали лошадь по Млечному Пути, приводившему нас прямо к нашей рощице. Даже самая метель нас не смущала, так как не было примера, чтобы чалый мерин сбился с дороги.
В следующее воскресенье очередь была за ивановскими, приезжающими уже в двух санях, так как на одних без кучера ехал Александр Никитич, а на других с кучером — Любинька с гувернанткой и с маленьким сыном.
Независимо от этих более или менее формальных визитов, Александр Никитич редкий день не приезжал к жене моей завтракать и отводить душу жалобами на выходки жены, которыми он не щадил ее и в глаза. Конечно, недостаток в сносной прислуге составлял в то время самое больное место в наших хозяйствах; и Александр Никитич не переставал уверять, что «у Любовь Афанасьевны там — все есть: там и превосходные слуги, и отличные садовники, и прекрасные скотники и коровницы, — там этого всего много, а вот тут у нас-то — ничего нет».
Так или сяк, как раз в 12 часов дверь в переднюю отворялась, и, мимо отворенной двери судебной камеры, Алекс. Никитич проходил в столовую к завтраку, к которому, объявляя перерыв в заседании, я постоянно приглашал приличных людей, бывших по делам в камере.
Крестьяне, успевшие, со времени зоркого наблюдения посредников первого выбора за сельскими обществами, опуститься и приглядеться к ближайшим своим начальникам, сельским старостам, стали позволять себе не только неповиновение по отношению к последним, но даже и побои. Явно, что виною этому главным образом была неспособность русского крестьянина, хотя бы и снабженного, подобно сельскому старосте, правами взыскания с подчиненных, удержаться в достоинстве начальника. Всякий начальник, норовящий сорвать с подчиненного выпивку в кабаке и заводящий при этом в нетрезвом виде ссоры, рискует получить потасовку. Так как случаи эти были нередки, то я поставил себе правилом справляться, — был ли пострадавший в медали или нет? В последнем случае я считал дело дракой между крестьянами и направлял его в волость. Жалоба сопровождалась обыкновенно вещественным доказательством, в виде доставаемого из полотенца клока бороды, которого при этом действительно не доставало на одной стороне подбородка.
Однажды сельский староста, держа в руке клок вырванной у него бороды, на увещания мои в неумении их держать себя с достоинством, после каждого нового пункта моих доводов, с ударением повторял: «чувствительная правда!» Как раз в самую патетическую минуту Александр Никитич, снимавший, вероятно, в передней верхнее платье и слышавший нашу беседу, проходя мимо двери камеры, воскликнул: «охота тебе с ним, подлецом, разговаривать! Ты пришли его ко мне, и я его отбузую». — Таких разбирательств, к сожалению, было немало, и в архиве съезда при многих делах моих приложены бороды старост, в виде вещественных доказательств. Признаюсь, меня сильно покоробило от такой выходки А. Н., хотя она обращалась только к нам двум со старостой. Но в непродолжительном затем времени я сам был выведен из терпения и дозволил себе в камере далеко не законную выходку.
* * *
Соседний прикащик, отставной унтер-офицер, заявил мне жалобу на воровство из экономического одонка, примерно, полкопны гречихи. При этом он поставил свидетелем сельского старосту. Из обстоятельств дела разъяснилось, что прикащик, заметив кражу гречишных снопов и след по зимней дороге к гумну соседнего мужика, пригласил сельского старосту идти по этому следу. Добравшись по раструшенным по снегу соломинкам до крестьянского овина, в котором оставалась пара снопов, и заметив новый след к задворку, они через задние ворота вошли туда и нашли частью целые, частью растрепанные гречишные снопы в конской комяге. При этом прикащик достал из комяги сноп и показал его сельскому старосте. Кроме того, гречишные снопы отличаются от других тем, что, принимая от давления самые причудливые многоугольные формы, они, вынутые из хлебного столба, как разложатся на старое место и не могут быть заменены другим снопом. Прикащик показывал старосте, как один из краденых снопов как раз пришелся на свое старое место.
— Хотя, говорил прикащик, уворовано всего рубля за полтора, но я сам, как ответственное лицо, не могу оставить этого воровства без взыскания. Если вор повинится, то прошу вас не сажать его в острог, а прикажите ему отходить на полтора рубля на работу.
Я сам разделял мнение прикащика и потому употреблял все усилия склонить мужика к сознанию. Но напрасно доказывал я ему, что если он не сознается, то не минует острога, он наладил обычную фразу: «меня хоть в Сибирь, я знать не знаю». Чтобы выставить в глазах крестьянина еще яснее все улики, я стал последовательно расспрашивать сельского старосту:
— Ты видел уроненные по снегу гречишные соломинки?
— Видел какие-то старые затоптанные.
— А показывал тебе прикащик гречишный сноп из комяги и прикладывал ли он его на старое место в одонок?
— Да, он, точно, что-то показывал и прикладывал. «И вот до чего, подумал я, успела дойти полицейская охранительная власть сельского старосты. Вместо того, чтобы предупреждать и открывать преступления, он заведомо желает их безнаказанности. Не есть-ли это явное издевательство над правосудием?»
Впоследствии мне пришлось привыкнуть к подобным вещам, но на первых порах такая недобросовестность, вывела меня из терпения. Я вскочил с своего места и, подбежав к старосте, крикнул: «ах ты, негодяй! я сейчас тебя отправлю к посреднику, и тот, снявши с себя медаль, покажет тебе правду на волости!»
— Виноват! видел и следы, и гречишные снопы, вот у него на дворе.
— Виноват! крикнул в ту же минуту упавший на колени крестьянин.
— Ну, не скоты ли вы оба! Но так и быть, на первых порах вам прощаю.
В решении воровство оказалось недоказанным, а крестьянин — должным экономии полтора рубля.
* * *
По справедливости нельзя не сказать, что курьезы встречались не в одном только низшем сословии, а, хотя сравнительно весьма редко, и между интеллигенцией. Помню дело вдовы помещицы, искавшей с сына дохода с своей седьмой части. При полнейшем желании угодить вдове, я в нескольких последовательных заседаниях достигнуть этого не мог. Последнее происходило, как нарочно, при нескольких соседних землевладельцах.
— Я бы попросил вас, сударыня, с большею ясностью объяснить ваши требования.
— Я ничего в бумажных делах не понимаю, а прошу только, чтобы сын уплатил мне седьмую часть дохода.
— Вы признаете ваш долг? — обратился я к сыну.
— Я до такой степени признаю его, что не понимаю, зачем матушка вызвала нас сюда.
— Нет, нет! Боже мой! я желаю все по закону.
— Вы совершенно, сударыня, правы. Мы можем радоваться, что в заседании случилось столько опытных землевладельцев, и нам легко будет определить вашу седьмую часть дохода способом, который вы признаёте за более для вас желательный. Первый способ будет состоять в том, что, зная точное количество всей земли и приблизительную по определению сведущих людей подесятинную доходность, мы из суммы общего дохода исключим вашу седьмую часть.
— Ах, нет, нет, я так не желаю.
— Вы, сударыня, совершенно правы, так как я хочу предложить вам другой способ, который сам считаю более точным. Нам по записям известен в этом году общий урожай всего вашего имения. Не менее известны и экономические расходы на уборку этого урожая. Поэтому мы можем предложить вам, с согласия сына вашего, получить седьмую часть всего урожая, с уплатою вами причитающихся расходов. Если же вам не угодно будет получить седьмой части урожая натурой, то сведущие люди не затруднятся определить ее денежную стоимость.
— Ах, нет! Боже мой! Боже мой! я на это не согласна.
— Быть может, сударыня, вы знаете какой-либо иной, нам неведомый, способ точного определения седьмой вашей части? Прошу вас определить, чего вы желаете.
— Ах! Боже мой! не мучьте меня! я сама не знаю, чего я желаю.
Она подписала протокол и затем обжаловала мой отказ разбирать иск неизвестно чего, с уверенностью, что она на всякое решение заявит неудовольствие.
* * *
Признаюсь, внутреннее чувство мое никогда не мирилось с законом, по которому обиженный не может искать по своей обиде при посредстве хотя бы полицейского лица, а непременно должен явиться сам на судебное разбирательство; хотя бы последнее почему-либо было для него неисполнимо.
Во время постройки Орловско-Елецкой дороги, проходящей в какой-либо полуверсте от селенья Чижей и двора вольного ямщика Федота (упоминаемого в рассказах Тургенева), — приказчик железнодорожного подрядчика уселся в песчаной расселине крутого ската и оттуда направлял в гору по большой дороге многочисленные подводы с песком. Конечно, эти подводы взбирались на гору по самой торной тропинке, которая тем не менее не составляла какой-либо привилегии этих подвод. Но не так смотрел на дорогу приказчик подрядчика. Под предлогом задержки извозчиков спускающимися немногочисленными встречными подводами, он подвергал, по усмотрению своему, подобных подводчиков штрафу от 50 коп. и до рубля за подводу. Так до сведения моего дошло, что на прошлой неделе он оштрафовал спускавшегося с горы на трех воловых подводах чумака с грушевым деревом, и когда тот не дал денег, то приказчик снял с него свитку. Конечно, несчастный чумак не мог бросить своих медлительных волов на большой дороге и ехать с жалобой к мировому судье, чтобы затем трое, четверо суток дожидаться судебного разбирательства. Случай не позволил, однако, этому молодцу оставаться безнаказанным. По прошествии некоторого времени оборванец из отставных чиновников жаловался, что когда он по знакомству зашел в песчаную карьеру к чижовскому приказчику, последний снял с него полушубок. На судебном разбирательстве обвиняемый приказчик объяснил, что в сущности не стоило и брать полушубка с такого человека. «Взял я, господин судья, этот самый полушубок в руки и вижу, по нем неприятности ползают».
— Вы, батюшка, — сказал я приказчику, — повадились самоуправно снимать с проезжающих хохлов платье, а теперь принялись и за чиновников, не зная, быть может, что за такие дела вы можете попасть на три месяца под арест. Но я не желаю вашим арестом мешать постройке Орловско-Елецкой дороги и буду рад, если обвинитель согласится на примирение на известных условиях.
Конечно, замухрышка запросил 500 рублей, но, помнится, я помирил их на 25-ти и уверен, что приказчик с тех пор ни с кого не снимал платья.
* * *
Хорошо городским судьям, имеющим под руками целую полицию, успокаиваться на строгой законности своих распоряжений. Но спрашивается, что должен делать сельский судья, которому потерпевший заявляет, что его, украденные в нынешнюю ночь, лошади уведены в соседний уезд? Если это сделать спешно и осторожно, — их можно разыскать у такого-то крестьянина. Поручить обыск местному старшине или сельскому старосте, значит, наверное помочь вору переправить лошадей в дальнейшие места. Приходится самого потерпевшего превращать в судебного следователя, снабдив его предписанием ближайшим от вора властям о допущении подателя к осмотру всей деревни.
Становя судью на высоту полного беспристрастия, закон запрещает ему при допросах обвиняемого всякого рода ухищрения; но ведь это хорошо только там, где следователь давно поймал обвиняемого в напутанные им же самим петли, как это выставлено в романе Достоевского «Преступление и наказание». Но как не извинить судью, на глазах которого явный преступник успел сгородить целую непроницаемую защиту, если этот судья одним ловким толчком рассыплет весь щит, оставив проступок совершенно обнаженным.
Управляющий г. М-ва пояснил, что с пятницы на субботу 19-го числа в экономическую их избу попросился вдвоем переночевать живший у них за год тому назад крестьянин Орловского уезда, и что оба ночевавшие на зорьке поднялись и ушли; а вслед за тем хватились, что двух лошадей из господского табуна нет. Соседняя крестьянка показала, что когда рано утром в субботу она проходила по соседнему лугу, то мимо нее проскакали два верховых мужика: один на рыжей, а другой на гнедой лошадях, и что хотя они, проезжая мимо нее, закрывали лица руками, она все-таки признала на рыжей лошади Ивана, жившего год тому назад у М-ва. Снабдивши обвинителя правом розыска в Орловский уезд, я поручил ему сообщить мне немедля о его последствиях. На другой день управляющий сообщил, что он в Орловском уезде у стороннего крестьянина отобрал свою рыжую лошадь, но гнедую разыскать не мог. Конечно, я в ту же минуту распорядился о приводе обвиняемого и предварительном его заключении в ближайшей ко мне волости. Тем не менее ко дню разбирательства явилась целая толпа односельчан конокрада, который, как оказалось в справках о судимости, уже судился по тому же преступлению в своем уезде. Когда начался допрос свидетелей поодиночке, на мое счастье попался грамотный и на свою ученость рассчитывавший крестьянин.
— Как же можно, ваше высокоблагородие, ему было 20-го красть лошадей, когда в этот самый день все наше село гуляло в воскресенье, и я ж таки сам, услыхавши, что он чистит колодезь соседу, нагнулся и попенял ему в колодезь: «Что ж это ты, Иван, говорю, в праздник пачкаешься?» — А он мне оттуда кричит: «И в праздник не грех добрым людям водицу добывать».
Таким образом, по мнению этого свидетеля и к радости обвиняемого, alibi 20-го числа было доказано. Принявши вид убежденного человека, я не мешал обвиняемому подсказывать это alibi следующим свидетелям во всех подробностях; и только, по подписании протокола показаний первым грамотным свидетелем за всех остальных товарищей, — нежданно оказалось, что чистка колодца в воскресенье нимало не противоречит краже, совершенной в субботу. На приговор в тюрьму на год вор энергически объявил, что будет жаловаться съезду; но по истечении трех дней не просил копии и без возражения отправился в тюрьму.
Выше я позволил себе сравнить мою судебную деятельность с лестницею, по ступеням которой я постепенно спускался из идеального мира в реальный. В настоящую минуту не берусь с точностью указать ступень, на которой руководившее мною непосредственное чувство достигло полной определенности. Для меня важно только то, что оно в бессознательном и сознательном виде было тем же самым. С первых шагов я чувствовал громадную разницу между желательным и действительным, и если другие области могут задаваться требованиями желаемого, то судья должен оставаться на почве возможного, если не хочет быть изменником своего дела. Он взял на себя обязанность перед обществом ограждать последнее от насилий и, убедившись в совершении проступка известным лицом, должен руководиться в своем суждении не степенью нравственной виновности преступника, что воспрещается и законом божественным, а степенью опасности самого преступника для общества. Один, утопая, бессознательно схватил за горло и задушил своего спасителя, а другой задушил человека в пьяном виде. Судья обязан понять, что для повторения первого преступления необходимо самое невероятное стечение обстоятельств; тогда как второй преступник, снова напившись пьяным, может сделать то же самое. Отпустить на все четыре стороны психопата, значит, желать повторения его проступка. Судья, если только это в его власти, должен поставить такое наказание, которое отпугнуло бы не только самого виновного от повторения проступка, но и большинство способных его совершить.
* * *
Крестьянка принесла жалобу на истязание зятем ее своей жены, а ее дочери.
— Судья праведный! — воскликнул на разбирательстве упавший на колени обвиняемый, указывая на молодую и тщедушную жену свою: — бью я ее точно; да помилосердуйте! Как же мне ее не бить, коли она больная! Поглядите на ее пальцы: они все в ранах, и работать она ничего не может. А мы отделились и живем вдвоем. Приду намаявшись с своей мужицкой работы, а в доме ничего не сделано. Принимаюсь топить печку, воду носить, стряпать, скотину кормить, корову доить; а она сидит, больная, голосит. Возьмет меня за сердце, я и поколочу ее.
Не трудно было понять, что это один из тысячей примеров беспомощной свободы, и что тут никакое наказание не поможет злу, а, напротив, только увеличит его. Я попробовал посоветовать матери взять к себе больную дочь до ее выздоровления, а мужу — отпустить к матери больную жену. К счастью, примирение состоялось на этом основании.
* * *
Вернувшийся в бессрочный отпуск солдат, отделенный от старшего брата еще до поступления на службу, заявил, что во время раздела у брата оставались после отца пустые колодки, которые в настоящее время стоят у него на пасеке с пчелами, и потому солдат просит о присуждении ему десяти колодок пчел, на сумму пятидесяти рублей. Я объяснил ему, что, вероятно, колодки, о которых он говорит, имелись в виду в числе вещей, подлежащих разделу, и потому никакая претензия на них в настоящее время невозможна. Явно было, что справедливость претензии менее всего занимала бессрочно отпускного; но что, по мнению его, стоило хорошенько попросить судью, и тот поможет ему сорвать с брата желаемое; но как подступить к делу, он недоумевал, и потому, переминаясь с ноги на ногу, выразительно спросил: «Как же теперь это оборотить?»
— Ты где выучился таким мудреным словам? Что значит оборотить? Просьбы твоей принять не могу, а оборотить тебя лицом к дверям, если желаешь, могу.
Так дело и кончилось.
* * *
Из воспоминания моего совершенно было исчезла сценка, когда-то насмешившая моего письмоводителя. Но просматривая письма Тургенева, я нашел в одном из них напоминание об этой сцене, над которой он в свою очередь когда-то смеялся.
Передо мною лохматый, черномазый и неповоротливый ответчик мужик и небольшого роста рыжеватый и юркий соседний приказчик, в поношенном коричневом сюртуке. Лицо его, слегка испещренное веснушками, обладает довольно своеобразным носом, точно срезанным вдоль и представляющим затем плоскую дорожку ото лба и до широких ноздрей. Дорожка эта, приближаясь к концу, образует как бы ухаб или впадину, постоянно покрытую мелкой росою.
— Помилуйте, г. судья, — говорит приказчик, — я вот их самих не обвиняю; но от их ребят на огороде у нас житья нет. Какой ход им на наш огород, а как ни посмотришь, — они тут как тут. Известно, на огороде колодезь с журавлем. Так как вам доложить! Даже ужас берет: один засядет в ведро, а другой с другого конца на пень, и, держась за веревку, сидя на пне верхом, носятся по воздуху, точно нехристь какая! Ну помилуйте, порвись или поломайся журавль, того гляди — полетят в колодезь или убьются до смерти. Кто же должен идти к уголовному ответу? Ведь если бы (сильно разводя руками) они попросили моркови, луку, огурцов или редьки, я бы сказал: «Кушайте, кушайте, милые дети!» А то глянул вчера под лопухи с краю огорода, а там навалено невидимо этого добра и уже завяло. Разве так возможно, г. судья? А вот они самые их отец и есть.
Растерявшийся ответчик:
— Да разве я их этому учил али рад тому?
— А вы бы (баритоном и подымая правую руку) божией милостью и родительской властью (фальцетом и быстро крутя рукой) за вихор, за вихор, за вихор.
Я оштрафовал мужика на рубль серебром в пользу приказчика.
Когда-то на Мценском земском собрании было объяснено, что в имении некогда весьма денежного владельца. На великолепный деревянный мост в селе Золотареве по разверстании угодий отошел в крестьянский надел. Но так как крестьянское общество не в состоянии поддерживать такого дорогого моста, то земство положило единовременно выдать крестьянам 1.000 рублей. В непродолжительном времени по принятию мною должности, местный становой принес мне жалобу на проезжего приказчика, по неисполнению им требований полиции. Оказалось, что в самую Страстную субботу, когда, по случаю полой воды, под главным деревянным пролетом моста, уже значительно ослабевшего, были сняты деревянные подпорки, которые не могли бы удержаться при ледоходе, — из Орла в Золотаревку прибыл управляющий соседнего уезда с молотильного машиною и паровиком, чтобы переехать на противоположную сторону реки. По просьбе крестьян и во избежание катастрофы становой приказал сотскому объявить приказчику, чтобы он переждал два дня, после которых подпорки будут поставлены. Но в самую темень, когда народ пошел к Светлой заутрене, приказчик выставил водки охотникам, а те перекатили на руках машину и паровик, причинив повреждение мосту, которое оценено было экспертами в 50 рублей.
Вызванный на разбирательство обвиняемый приказчик не явился, и мне, по мнению моему, нечего было ломать голову над проступком, казавшимся мне совершенно ясным, а потому я постановил заочным решением взыскать с виновного десять рублей штрафу за неисполнение законных требований полиции и 50 руб. убытку в пользу золотаревских крестьян. Решение это было обжаловано; и каково же было мое разочарование, когда съезд отменил его, мотивируя свое постановление тем, что мост должен выносить всякую тяжесть. Я должен был воочию прийти к убеждению, что коллегиальное решение не всегда справедливее единоличного.
* * *
Тщедушный дьячок представил на суд сохранную расписку, выданную покойному отцу его управляющим в настоящее время богатым имением и написанную сначала и до конца рукою этого управляющего, в получении им пяти полуимпериалов с покойного. Жирный ответчик явился с золотым перстнем на указательном пальце.
— Что вы имеете сказать по отношению к этому долгу?
— Я признаю, господин судья, что расписка писана моею рукою, но за нею нельзя признать качества бессрочной сохранной; так как в ней не указан год чекана монеты, а потому самому она должна считаться простою распиской, которая, за истечением 10-ти летней давности, потеряла всякое значение.
— Но ведь вы по ней не уплатили, — иначе она была бы у вас в руках.
— Уплативши по ней перед самым истечением 10-ти летнего срока, я не счел нужным уничтожать ее.
Формально приказчик был совершенно прав, и хотя золотые стоили, помнится, по шести рублей, несчастный дьячок должен был лишиться и тех 25-ти рублей, о которых просил. Я пустился на отчаянное средство. Признавая недействительность сохранной расписки, я счел ее поступающею в простое обязательство с минуты моего непризнания и потому постановил взыскать 25 руб. Ответчик заявил, что подаст на кассацию. Прочтя свой приговор в окончательной форме, я, снявши цепь, заявил о перерыве заседания. «Через три дня, — сказал я приказчику, — вы получите копию, и очень может быть, что мировой съезд отменит мое решение (я в этом был уверен), но тем не менее я не желал бы быть на мировом съезде на вашем месте. Если я пришел к полному убеждению, что пять золотых не были возвращены этому бедному вами, человеком сравнительно богатым, — то нет сомнения, что все присутствующие на разбирательстве съезда придут к такому же заключению. И чем же вы, так твердо знающий форму сохранной расписки, убедите слушателей, что годы чекана пропущены вами по недоразумению?»
На третий день в камеру вошел приказчик в сопровождении дьячка.
— Ваша копия готова, — сказал я.
— Нет, благодарю вас, г. судья; я уж решился кончить дело миром и заплатить вторые деньги.
Записав его заявление в протокол, я дал ему подписать его.
— Ваше высокоблагородие! — воскликнул дьячок, — прикажите ему сейчас отдать 25 рублей!
— Да ведь сказал — отдам, — ну и отдам!
— Не беспокойся, — обратился я к дьячку, — я прикажу сейчас же взыскать с него эти деньги.
— Нет, ваше выс-дие! явите божескую милость! прикажите сейчас же отдать!
— Ах, какой скучный человек! — воскликнул приказчик, доставая из бумажника 25 р. и кладя их передо мною на стол.
Я заставил дьячка расписаться в получении и, приняв ассигнацию, он повалился мне в ноги.
* * *
У ночевавших около постоялого двора подвод утром оказались украденными все железные шворни, и обвинялся крестьянин, известный во всей деревне тем, что был нечист на руку. Хотя я, в свою очередь, считал его повыдергавшим шворни, но за полным отсутствием улик находил невозможным посадить его в острог. При подробном расспросе свидетелей-односельчан я случайно узнал, что обвиняемый несколько дней тому назад нанял у соседнего крестьянина амбар и засыпал в нем закром своим овсом. В виду такого известия я отсрочил на два дня заседание и предписал волостному старшине перемерить самым тщательным образом весь овес в наемном закроме крестьянина. На другой день старшина донес, что на дне закрома отысканы все шесть шворней, которые и представлены на суд в виде вещественных доказательств. Обвиняемый в краже сознался.
* * *
Рабочий ближайшего соседа, помещика Афанасьева, явился с жалобой на то, что их кормят щами из червивой капусты. На этот счет у меня, по опыту, сложились известные убеждения, которые считаю нелишним здесь передать. Не во гнев будь сказано медицинскому надзору, ежедневно истребляющему порченое мясо. В деревнях, не только там, где нет ледника, но и на ледниках в июне не найдется ни одного куска не червивой солонины. Но во всю мою жизнь я не сдыхал, чтобы от такой солонины люди заболевали, как не сдыхал о болезни от лимбургского сыра. Правда, порченое мясо противно; но я лично предпочитаю испорченных рябчиков (faisandées), — свежим. Зная, что батраки к рабочей поре измышляют всевозможные средства нарушить условия найма, я никогда не слыхивал о червивой капусте. Все это вместе заставило меня проехать в усадьбу Афанасьева к полдню, чтобы лично удостовериться в основательности жалобы. Въехав во двор, я действительно застал всех рабочих за большою мискою щей, сидевших кружком на земле под широкою тенью развесистой ракиты. Не успел я объясниться с хозяйкою дома, как уже один из рабочих подбежал ко мне, прося подойти к миске, из которой вынул ложкою огромного зеленого червяка.
— Так вот эти черви у вас во щах? спросил я рабочих.
— Эти самые, отвечали некоторые голоса.
— Подсади-ка вот этого малого на ракиту, сказал я одному из рабочих, указывая на другого; и когда последний стоял босыми ногами на одном из больших сучьев, я крикнул ему: «тряхни сук-то хорошенько!» Вслед затем огромный лиственный веер зашумел и на землю упало несколько червяков, между прочим и в чашку со щами, совершенно таких же, как вынутый ложкою зеленый с желтою по спине полоскою.
— Если вы хотите, чтобы у вас во щах не было ракитных червей, то не обедайте в тени под ракитой. Как же вам не стыдно? живете вы на свете и ракитных червяков не знаете, да еще таскаетесь с пустыми жалобами.
С этими словами я уехал домой.
* * *
Приказчик купеческой фермы принес следующую жалобу. За три дня тому назад, с субботы на воскресенье в ночь, все новые колеса на пяти фурах, стоявших около сарая, были украдены, а на место их надеты старые, находившиеся в сарае. В этой краже он подозревает всех своих рабочих, утверждая, что они совершили ее по наущению хозяина крайнего к ферме крестьянского двора. Обвинение крестьянина он основывает на том, что свидетель видел, как он дал пятиалтынный одному из рабочих, когда последний пахал огород, и, кроме того, у этого же хозяина в твориле старого овина найдена пара пропавших колес. В данном случае увеличивающим вину обстоятельством являлась кража у своего хозяина; но главным руководителем ее, очевидно, был хозяин крестьянского двора. На разбирательстве я убеждал обвиняемых чистосердечно раскаяться в своем проступке, обещая в таком случае смягчить наказание до крайних законных пределов. Работники тоскливым голосом повторяли свое: «Знать не знаю и ведать не ведаю», а главный и к тому же зажиточный вор-хозяин отпирался самым нахальным образом. Так как понадобилось допросить свидетеля, видевшего передачу пятиалтынного, я отложил дело до следующего дня.
На другой день представленный из-под ареста старшиною главный обвиняемый громко воскликнул: «Вот вы, ваше высокородие, обзывали меня вчера вором, а вор-то настоящий и нашелся: вот он!» — прибавил он, указывая на небольшого роста оборванного мужичонка.
Волостной старшина тихо подошел и шепнул мне на ухо: «Вчера вечером посаженный за бродяжничество мною в арестантскую».
Что это подкупленное главным вором лицо, готовое за деньги отсидеть в тюрьме, было для меня ясно. Но нужно было до последней ясности обличить это двойное вранье. При вчерашнем разбирательстве обнаружились следующие подробности о сокрытии колес в старом овине обвиняемого. Земляной спуск к яме овина загорожен был, как показывали, дровами; но, очевидно, никто, кроме меня, не обратил внимания на то, откуда взялись эти дрова и в каком порядке они загораживали спускной двор. Между тем, желая скрыть следы, вор, скативши колеса в овин и не находя ничего под руками, заметил колья, наставленные вдоль стенок входа, чтобы предохранить последний от обвалов земли. Колья эти показались отступающему назад вору самым подходящим материалом, и он стал ломать их последовательно вдоль левой стены правой рукою, а вдоль правой — левою; пригибая верхние концы к противоположной стене и образуя таким образом крестообразную рогатку.
— Как же ты это так, — обратился я к самозваному вору, — решился на чужой стороне в одиночку снимать столько колес?
— Виноват, г. судья! — отвечал проходимец, — ночь была светлая, а я проходил мимо; колеса чудесные, вот мне и захотелось попользоваться.
— Да как же ты не побоялся застучать? Ведь колесо-то снимешь, ось-то грохнет об земь!
— А тут я слежку нашел и дугу. Приподыму сначала ось, сниму колесо, да конец-то оси тихонько на травку и спущу; а там другое, третье и четвертое. Так-то сначала все фуры на зем положил, а там уж и принялся катать колеса. Ночь-то большая!
— А фуры-то так на земле и оставил?
— А что ж мне? Мне на них не ездить.
Вранье выходило очевидное. Вор рассказывал о том, как он в одиночку снял и укатил двадцать колес, хотя бы и за полверсты, чего он за всю ночь в одиночку исполнить не мог. Он явно не видал самых фур, на которых украденные колеса были заменены старыми.
— Ну, а как же ты вышел из овина?
— Я устье завалил дровами.
— Да где же ты их взял?
— Да они тут же наружи лежали около устья.
— Как же ты их клал?
— Да клал поперек входа; сначала одно полено, а на него другое, и так до самого верха.
Записавши все эти показания, я попытался снова склонить обвиняемых к сознанию своей вины и, выбрав лицо рабочего помоложе и подобродушнее, стал доказывать ему, что при запирательстве он на долгое время попадет в острог, разбалуется там и сделается навсегда пропащим человеком, тогда как при чистосердечном раскаянии можно надеяться, что кратковременное наказание будет ему уроком.
— Знать не знаю и ведать не ведаю!
— Ну, стало быть, ты желаешь сесть на год в острог. Это добрая воля твоя! Стало быть, прикажешь писать: Софрон Иванов — желаю на год в острог. Да бишь: знать не знаю, ведать не ведаю. Ну, писать, что ли? — говорю я, обмакивая перо.
— Ваше высокородие, виноват! пишите: виноват.
Эта проделка с малыми изменениями повторилась с всеми рабочими, за исключением главного виновника воровства. Никакие убеждения на него не подействовали, и, невзирая ни на что, он продолжал свое: «Знать не знаю и ведать не ведаю».
В решении я постановил подставного вора от суда по этому делу освободить, рабочих выдержать по полтора месяца в остроге, а главного виновника — к заключению в тюрьму на год.
— Много довольны! — воскликнули работники, очевидно ждавшие более строгого наказания.
— Я этим судом недоволен! — воскликнул главный обвиняемый. — Пожалуйте копию!
— Хорошо, — сказал я старшине, — пришли через три дня за копией.
Когда все присутствующие гурьбою повалили в дверь, главный обвиняемый уже за дверью, повернувшись лицом и поднявши руку, крикнул: «Ваше выс-дие, что там толковать! пишите: много доволен!»
— Ну не шут ли ты? — крикнул я ему в свою очередь. — Отсидел бы ты три месяца, а теперь много доволен сидеть год.
* * *
Громадная каменная труба на Золотаревском овраге едва ли не самое значительное сооружение на Орловско-Елецкой железной дороге. Однажды, к поре сельской уборки, подрядчик работы на этой трубе, принадлежавший очевидно к интеллигенции, уже судя по одному, довольно хорошо пригнанному, рыжеватому паричку, просил моей помощи против взбунтовавшихся более чем шестисот человек рабочих. Всякого рода разбирательства между нанимателями и рабочими подлежат ведению мирового судьи. Поэтому, хотя я и чувствовал всю трудность предстоящей задачи, но ни по закону, ни по совести не мог отказаться от разбирательства дела.
Рано утром на другой день я вместе с письмоводителем и портфелем явился в тарантасе перед дверями огромного и прекрасно выстроенного дощатого барака. Заявив собравшимся рабочим, что никто не может быть судьею в собственном деле, и что на суд нельзя идти толпою, я предложил им избрать из себя поверенных для предъявления общих претензий. Когда в присутствии письмоводителя рабочие, разделившись на три шумные группы, в конце концов дали руки трем своим поверенным, я велел спросить, — нет ли еще каких рабочих, желающих иметь особого поверенного? После ответа, что новых поверенных никто избирать не желает, имена трех избранных записаны, и они введены ко мне в барак, где я, надев цепь, уже открыл заседание. Новые требования рабочих, вопреки имеющихся у них на руках рабочих книжек, были чрезвычайно обременительны для подрядчика. Но после долгого колебания дела, один из поверенных, поставив свой ультиматум, просил меня об утверждении оного, прибавив, что в таком случае наша де артель сейчас же возьмет лопатки и пойдет на работу. Употребивши все усилия, мне удалось склонить и подрядчика на такое соглашение. Не успел я скрепить мировой первой артели, как представители двух остальных изъявили согласие на мировую на тех же основаниях. Конечно, я понимал, что с моей стороны тут никакой заслуги не было, а была только удача, но удача была так полна и неожиданна, что публичное объявление мировой было для меня одной из приятнейших минут моей жизни. Проходя к тарантасу по разостланным для меня от самого барака рогожкам, я считал себя чем-то вроде римского триумфатора. Кучи рабочих дружелюбно провожали меня поклонами; но вот почти к концу шествия натыкаюсь на кучку, человек в пятнадцать.
— Ваше выс-дие!
— Что вам надо?
— Мы на эту мировую несогласны и на работу не пойдем.
— Да ведь ваши же выборные согласились!
— А что нам выборные! пускай выборные идут работать, а мы не пойдем.
Чувствуя, что малейшая уступка опрокинет все дело, стоившее мне столько труда, я обратился к трем старшинам ближайших волостей, собравшимся, вероятно, по любопытству на такое многолюдное судбище. «Старшины, сказал я, разберите этих людей по пяти человек и арестуйте их при ваших волостях». С этими словами я сел в тарантас и покатил домой. Но в душе моей уже все было возмущено. Станция Змиевка вновь открытой Курской дороги была в 12-ти верстовом расстоянии от Степаноки; и вот, переменив лошадей и пораньше пообедав, я поспешил на поезд, и в 8 час. вечера в чудесный июньский день вошел уже к орловскому прокурору, которого застал за семейным чайным столом. Когда я вкратце изложил ему свое дело, он с воодушевлением воскликнул: «вы поступили прекрасно, энергично и разумно!» и прибавил как бы про себя: «но незаконно».
— Покорно вас благодарю за последнее замечание. Призванный для того, чтобы не только самому стараться о восстановлении правды и законных прав каждого, заставляя уважать власть закона его нарушителей, я, как оказывается, сам первый подаю пример нарушения закона. Извините, что я вас обеспокоил. Бегу к губернатору.
Орловским губернатором на этот раз был мой давнишний знакомый и приятель Лонгинов.
— Дома губернатор? спрашиваю я жандарма.
— Михаил Николаевич прошли к знакомому, сказал слуга. — Пожалуйте в кабинет, а я сейчас дам ему знать о вашем приезде.
— Как я рад! воскликнул входящий Лонгинов. — Садитесь, будем чай пить.
Я объяснил ему дело.
— Прекрасно! — воскликнул он. — Общественное сооружение и явное сопротивление властям. Я обязан дать вам в помощь военную команду; на это прямой закон, я вам сейчас его покажу, продолжал он, направляясь к книжной полке и снимая толстый том.
Порывшись некоторое время, он сказал уже минорным тоном: «а ведь я должен вам сказать предосадную вещь: команда высылается только в случае сопротивления при сборе казенных податей. А в данном случае я оказываюсь безсильным».
— Стало быть это дело конченное. Но позвольте поговорить с вами не как с губернатором, а как с Михаилом Николаевичем. Закон признает известные действия правонарушением и самоуправством, он указывает потерпевшему на лицо, к которому ему следует обратиться для защиты своего права, и в то же время лишает восстановителя прав всяких средств к исполнению приговора, основанного даже на мировой сделке, признаваемой тем же законом за последнее слово. Неужели вы не видите тут вопиющего противоречия?
— Конечно, — был ответ, — я не могу не видеть тут противоречия, и вчуже понимаю, как вам обидно за вашу должность, которую вы так серьезно принимаете к сердцу.
— Ведь я, уезжая к вам, приказал старшинам утром привести всех этих молодцов; и оказывается, что я их должен отпустить. Какой же выйдет результат, как вы полагаете, Михаил Николаевич?
— Результат не трудно предвидеть, сказал Лонгинов: в тот же день все 600 человек уйдут, и это может повториться по всей железной дороге.
— Ну, а если я на следующий раз в подобном случае откажу обвинителю в принятии жалобы?
— Съезд может подвергнуть вас за такой отказ дисциплинарному взысканию, а потерпевший — искать с вас убытки, которые могут быть громадны.
С тяжелым сердцем отправился я ночевать в гостиницу. На другое утро две партии из приведенных объявили, что идут сейчас на работу; но последние пять человек не поддались никаким увещаниям. Я отпустил их и на другой день все рабочие с Золотаревской трубы разбежались.
* * *
Самая фамилия старухи генеральши Горчан доказывает, что муж ее, сумевший на доходном губернском месте нажить большое состояние, был родом малоросс. Волей-неволей мне пришлось познакомиться в разные времена как с самою старухою за 70 лет, которую все величали: ваше превосходительство, — так и с двумя сыновьями: старшим, отставным штабс-капитаном в дорогом мелко завитом черном парике, — и младшим, рыжеватым, не служившим нигде коллежским регистратором. Известно было, что старший избегал общества, а меньшой, приходя к столу при гостях, постоянно молчал и хорошо делал, так как по слабоумию молол всякий вздор.
Большой деревянный дом примыкал террасою к старинному фруктовому саду с деревянной беседкой посредине и аллеями, ведущими к церкви, куда старушка, по слабости ног, каждое воскресенье приезжала в карете на паре гнедых, не уступавших хозяйке в старости и дряхлости. Держалась этих лошадей старуха из боязни, чтобы молодые ее не растрепали. Признаюсь, я, хотя весьма редко, но не без удовольствия бывал у генеральши, которой весь домашний обиход напоминал мне старосветскую деревенскую жизнь. По случаю привольного житья вся прежняя крепостная прислуга осталась в доме, начиная с весьма сносного повара. К зале примыкала длинная и широкая стеклянная галерея с громадными лимонными деревьями в два ряда и песчаною дорожкою посредине. В той же зале стояла большая музыкальная машина. В гостиной на подзеркальниках и тумбочках стояли дорогие бронзовые канделябры времен Империи. Сравнительное нововведение в виде четырехтысячного органа не отменяло старосветского и притом довольно сносного крепостного оркестра; а так как такое множество прислуги, проходя во всякую погоду по комнатам, могло бы, по отсутствию калош, измазать паркет, то обширная передняя была, как стойло, застлана соломой, о которую всяк входящий мог по желанию вытирать ноги. Если к помянутому домашнему персоналу добавить управляющего молодого швейцарца Ив. Ал. Оста и старичка отставного часовщика-швейцарца же Матвея Мартын. Вюргера, то все живущие в доме будут перечислены. Старик Вюргер был за небольшую плату приглашен наблюдать за механизмом музыкальной машины, которая, благодаря его умению и внимательности, была всегда в полной исправности. Но он, видимо, гораздо более тяготился другим возложенным на него старухою поручением: наблюдением за скудоумным Иваном Николаевичем. Ежегодно в конце лета старушка перебиралась всем домом, за исключением управляющего Ив. Ал., в собственный дом в Орле, и там-то Иван Никол, более всего заботил добрейшего Матвея Мартын. Правда, ходя по улицам и магазинам, добродушный Ив. Ник. не делал никаких бесчинств; но как можно было поручиться за фантазии человека, болтающего невозможный вздор? На весьма малые карманные деньги Иван Никол, главным образом старался приобрести побольше фотографий красивых актрис и затем собственноручно подписывал на карточках самые блестящие, по его мнению, имена. Так, одна была «дева Дуная»; другая — «северная звезда» и даже «Ринальдо-Ринальдини».
В деревне Ив. Ник. с Матвеем Март, жили на антресолях рядом с биллиардной. Пока, бывало, добрый старичок углубляется в чтение немецкой книги, а не то в токарную или иную работу, Ив. Ник. не переставал громогласно предаваться своим фантазиям, с которыми постоянно обращался к своему пестуну.
— Матвей Март.! наши канарейки достойны уважения, но такой, как покойная Жюли, уж нет. В саду-то мы ее похоронили, а вот памятника-то нет. Я ей стихи написал и сейчас вам принесу и прочту;
«Спи, спи, моя утешительница, Ее уж нет».— Хороши стихи, Матвей Мартынович?
— Хороши, хороши, — отвечает старик, не отрывая глаз от своего дела.
— Брат подарил мне свой ночной колпак; я надел, его и спрашиваю у нашего Ефима: «Ефим, строг я?» — Он даже испугался и говорит: «Строги, батюшка, Иван Никол.» — Правда это, Матвей Мартын.?
— So schweige Dummkopf! — говорит выведенный из терпения старик[224].
— Что вы говорите, Матвей Мартын.?
— Ну да, ну да, прекрасно! — восклицает в отчаянии старик.
Однажды, на глазах камердинера Ефима, неуклюжий Иван Никол, споткнулся на высокой и узкой лестнице — с антресолей в бельэтаж и, прокатившись до низу, растянулся во весь рост.
— Ах, батюшка, Ив. Никол.! расшиблись, родной, должно быть! — восклицает Ефим. — Позвольте я помогу вам встать.
— Нет! — воскликнул Иван Ник., - позови Матвея Мартыновича! пускай он посмотрит, как я лежу. А то он не поверит, что я упал.
И Иван Ник. упорно не позволял себя приподнять, пока в действительности не приходил Матвей Мартынович. Такие порывы упрямства хотя находили на Ивана Ник. редко, тем не менее приводили окружающих его в большое затруднение, особливо когда сопротивление переходило в буйство. Всех лучше изучил натуру Ивана Никол, и умел воспользоваться своим на него влиянием Иван Алекс. Позднее я узнал, что я сам был бессознательным орудием укрощения разбушевавшегося Ивана Николаевича. Юркий Иван Алекс. всегда умел воспользоваться моими редкими приездами к старушке Горчан.
— Вот, Иван Никол., вы теперь и у праздника! — восклицал Иван Алекс. — Я вам говорил, что теперь шуметь нельзя: везде пошли мировые судьи. Я, любя вас, намедни говорил вам: не шумите! А вот судья-то, должно быть, услыхал про ваши дела, — да и приехал.
— Голубчик, Ив. Алекс. что ж мне теперь будет?
— Конечно, я попрошу судью, чтобы он не очень строго вас наказывал, — но лишения прав состояния и Сибири вам не миновать.
— Голубчик, Ив. Ал., честное, благородное слово, шуметь больше никогда не буду.
Впоследствии, после смерти старухи, Иван Александр, оканчивал свои устрашения советом попросить прощения у хозяина дома старшего брата Ник. Ник., и огромный Ив. Ник. шел в кабинет брата, становился на колени и восклицал: «Великодушный брат, прости!»
При жизни старухи мы редко встречались с Никол. Никол., тщательно избегавшим гостей, которых так любила принимать его мать. Этот страх перед людьми, присущий характеру Ник. Ник., при жизни матери как бы питался следующим обстоятельством. Вступив в интимные отношения с дочерью крепостной скотницы и приживши с нею двух детей, Ник. Ник. старался посредством законного брака ввести ее в дом, но старуха и слышать об этом не хотела, хотя приказывала по временам приводить с дворни и ласкала малолетнюю свою внучку. Зато по смерти матери, когда Ник. Ник. действительно женился и ввел свою семью в дом, постоянная его застенчивость перед порядочными людьми может быть объяснена только его прирожденным характером. Судя по необычайному его тщеславию и стремлению к роскоши, — можно бы подумать, что он избегает порядочных людей из боязни выказать свое полное нравственное банкротство. Во всю жизнь он не прочел ни одной книги; тем не менее подписывался на все журналы и, определивши большую комнату для библиотеки, просил Ивана Алекс. устроить ему такую в наилучшем виде. Ловкий Иван Алекс. не затруднился: он купил в Орле на базаре несколько тысяч старых переводных книг 18-го века и отдал их великолепно переплести. В прекрасных стеклянных шкафах выставлены были все эти богатства не по содержанию, а по росту переплетов, и библиотека оказалась хоть куда. Так как со смертью старушки мне ни разу не приходилось обедать у Горчан, то и не берусь судить о их столе, но знаю, что всякого рода вина, начиная с шампанского, в доме было вдоволь, и в какое бы время дня вы ни явились в кабинет Ник. Ник., дворецкий приносил на подносе стаканы и бутылку «Редерера», причем хозяин говорил: «Не прикажете ли прохладиться?» Не выезжая и не показываясь никуда, он и жена его весьма много тратили на свои костюмы, причем для последней выписывались даже бриллианты; такое тщеславие требовало общества, перед которым можно было блеснуть роскошью. И вот по временам в доме затевались домашние спектакли, для участия в которых приглашались артисты из орловского театрального персонажа, частию по приязни, а частию и за деньги, причем зрителями из того же Орла являлись никому не ведомые личности и между прочим немец Вейдеман, хваливший за ужином вина хозяина, что было неудивительно, так как он сам был поставщиком его погреба. В первые годы по смерти матери, Ник. Ник. получал весьма порядочные доходы, тем более что без церемонии заставил полоумного Ивана Ник. уступить ему свою часть состояния. Идиот радовался своей эмансипации и говорил, что «маменька уже не будет теперь заставлять меня читать ежедневно главу из евангелия, а брат положил мне пять рублей в месяц жалованья». Тридцать тысяч дохода, которые получал Горчан, совершенно достаточны для человека, живущего, подобно ему, и в деревне, и в городе в строгом уединении. Но люди умеют проживаться при всяких условиях. При хороших винах Вейдемана, барыня со скотного двора не удержалась и покатилась в ежедневное пьянство; не отставал от нее и супруг.
Однажды, ходя по хозяйству, Иван Александр, увидал, что наружная штукатурка деревянного дома в одном месте от стены отвалилась. Своею тростью с железным наконечником Ост стал машинально вертеть обнажившуюся стену; дерево легко подавалось, и палка, пролезая все далее, вышла концом в гостиную. Такое положение стародавнего дома привело Оста в ужас, и ему нетрудно было убедить Горчана в необходимости перестройки всего дома, за исключением недавно пристроенной части, куда семейству на время пришлось перейти. За одно лето дом был перестроен с башнями по концам, в которых явились жилые помещения. При таких значительных затратах, а главное, невоздержно безалаберной жизни неудивительно, что семейство с каждым годом приходило к большему оскудению, продавая одно за другим свои прекрасные имения.
Однажды, покинувший уже Горчан, Ост поразил меня своим рассказом. «На днях, — говорил он, — я по старой памяти заехал к Ник. Ник. и застал его в трезвом виде. По своей всегдашней со мною откровенности, он воскликнул: „Вы знаете, Ив. Александр., сколько у меня в одном Орле по лавкам набралось долгов, а жить совершенно стало нечем. Дом вы сами строили и застраховали в тридцати тысячах, а у меня тут, как вы знаете, проживает в виде воспитанника 13-ти летний мальчик из орловских мещан; мальчик шустрый; я хочу обещать ему 500 руб. и подговорить его поджечь дом“».
— Признаюсь, — говорил Ост, — я выпучил на Горчана глаза и не знал, чему больше удивляться: безнравственности или глупости этого идиота? Так как читать мораль было бы излишне, то, желая его образумить, я воскликнул: «Как же вы можете идти на такое страшное дело и не боитесь выдавать себя головою мальчишке? При первом допросе он все свалит на вас, а сам останется прав, как малолетний».
Рассказ этот запал у меня в памяти. Привыкший некогда, в должности полкового адъютанта, сразу определять по окладу лица, цвету волос и росту, в какой эскадрон должен поступить вновь прибывший рекрут, я, и будучи судьей, до известной степени судил о нравственности обвиняемого по его наружности.
Однажды соседний сельский староста заявил мне жалобу на кражу у него двух черных овец односельчанином Куряткиным. Насколько стройный, молодой и степенный сельский староста произвел на меня приятное впечатление, напоминая смуглой кудрявой головою Ивановского Иоанна, настолько же отталкивающе подействовал на меня рыжеватый с проседью, сутулый до горбатости, обвиняемый Куряткин, с своими бегающими зеленоватыми глазами. Садясь на скамью в камере и видя меня в цепи, он наставительно провозгласил: «Ишь ты, на все хворма». По несомненным доказательствам кражи им у старосты черных овец, начиная с найденных свежих шкурок, Куряткин для первого моего с ним знакомства был посажен на два месяца в острог. Не прошло и полгода после потерпенного им наказания, как уже снова он был посажен мною в острог за конокрадство; а вслед за тем он, заявивший неудовольствие на третий мой приговор к тюрьме, был отправлен во Мценск, в места предварительного заключения. Здесь благодушно взявшись принести заключенным воды, он, увидав новые сапоги спящего товарища, надел их, а свои худые поставил у дверей и преспокойно отправился в Москву. Задержанный полицией, на вопрос — откуда он и куда, — он отвечал, что из города Мценска идет в Петербург с жалобой к царю на мирового судью Фета. Конечно, он из Москвы был препровожден во Мценск, в места заключения, истрепал чужие сапоги. Когда, высидев по приговору съезда в тюрьме, он явился в свою деревню, то осенью того же года сельский староста, о котором уже говорено, принес следующую жалобу:
— Сегодня утром жена моя с 12-ти летнею дочерью вышла на огород и видит, что один из наших одонков снизу загорелся, и старуха жена Куряткина, сгорбившись, как индюшка, бежит через прогалок от наших одоньев из-за нашей конопли к своей. «Злодейка! что ж ты это делаешь?» — крикнула ей жена. А та только глазами сверкнула и, еще больше сгорбившись, ушла за коноплю. Тут и жена и девочка закричали благим матом, но пока народ сбежался, одонья наши сгорели.
— Жалко мне тебя, любезный друг, — сказал я, — но судить поджога я не могу. Коли хочешь, заяви судебному следователю. Да вряд ли из твоей жалобы выйдет толк. Домашним твоим не поверят, — и вся недолга.
— Нет, ваше выс-дие, вся наша деревня знает, что он разбойник, и я этого дела так не брошу.
В скорости наступили темные ночи, и мне дали знать, что противник Куряткина сельский староста найден утонувшим в колодце. Конечно, принимая во внимание трезвость сельского старосты, надо полагать, что он попал в колодец не случайно.
Зимою, во время пребывания семейства Горчан в Орле, застрахованный в 30-ти тыс. деревенский дом его сгорел дотла. По следствию, возбужденному страховым обществом, оказалось следующее. Из запертого сгоревшего дома у Куряткина оказалась пара дорогих канделябров. Когда народ, сорвавши двери, вломился в дом, то горели обои на стенах, и когда стали выносить дорогие зеркала, экономический староста крикнул: «Что вы тут путаетесь! бросьте!» — и зеркало разлетелось вдребезги. Говорили даже, что, кому следует, подарено было пианино. Тем не менее дело кончилось бы ничем, если бы не ожидавший нападения Куряткин не был захвачен с дорогими канделябрами. Смекнувши, что ему, много раз именованному в справках о судимости, все равно придется, по приговору окружного суда, отправиться в ссылку, Куряткин совершенно изменил свою тактику наглого запирательства. Он громогласно объявил, что подкуплен был на поджог Ник. Ник. Горчаном, при посредстве экономического его старосты. Он указывал на орловскую лавку, в которой вместе со старостой покупал керосин, что, мокая в него половыми щетками, они размазали керосин по стенным обоям и разлили по всем углам, а когда подожгли в середине дом и заперли его, то во всю ночь просидели в садовой беседке. Показаниям этим, со слов адвоката, основанным на личной вражде к экономическому старосте, веры придано не было. Несостоятельный Куряткин был признан единственным виновником происшествия и сослан на поселение; а Ник. Ник. Горчан получил 30 тыс. со страхового общества.
* * *
В видах неразрывности воспоминаний о судебных разбирательствах, — приходится говорить о времени, когда предводителем во Мценском уезде был уже бывший посредник Ал. Арк. Тимирязев. Мировой судья второго участка, не дослужив полгода до выборов, вышел в отставку, и я, как ближайший ко второму участку судья, принял по просьбе предводителя разбирательство дел второго участка. Так как имение Тимирязева находилось во втором мировом участке, в 35-ти верстах от Степановки, то Алекс. Арк. для большого удобства предложил мне приезжать к нему в усадьбу, где в одном из флигелей не только устроил для меня камеру, но и огородил мой стол балюстрадой, чего у меня не было в Степановке. Так как во втором участке был свой письмоводитель, то, оставляя своего в Степановке для принятия прошений, я обыкновенно каждую пятницу отправлялся к Тимирязевым в Алешню на ночь, где пользовался самым изысканным вниманием и гостеприимством. Так, например, подъезжая ночью к раз навсегда предоставленному мне для ночлега флигелю, я не только находил ставни герметически закрытыми от мух, но и накрытый салфетками на отдельном столе приготовленный ужин. Впоследствии я упросил любезную хозяйку не беспокоиться об этом, так как я никогда не ужинаю. Понятно, что единственный предназначенный для разбирательств день был занят делами с раннего утра до вечера; и я делал перерыв только в пять часов и отправлялся к хозяйскому обеду. Случалось, что хозяева были в гостях у своих ближайших родственников князей В-их, и тогда я пользовался гостеприимством старой горничной и ключницы Полички, отличавшейся легкостью и тактом.
В один из приездов, в отсутствие хозяев, я разбирал дело между старым мценским купцом, недавно купившим бывшее заселенное имение, — и крестьянами того же села, исполнявшими у него по найму сельские работы. Я давно знал лично этого купца, бывшего некогда мценским городским головою и напоминавшего своим самодурством Тита Титыча в комедии Островского. Подобно Титу Титычу, он нанял самого красноречивого адвоката, зачесывавшего на лбу подстриженные волосы копром и потому носившего на съезде прозвание: «Чуб». По горькому опыту я давно уже в данное время пришел к заключению о совершенном бессилии, а потому и полной непригодности мировых учреждений в сельском быту. Пока существовали посредники, можно было, в видах предупреждения зла, просить о более строгом надзоре за старшинами, утверждающими обязательство одного и того же крестьянина у разных лиц с получением денег за год вперед, причем волость не обращает внимания на то, что сумма обязательных таким образом для крестьянина по отработке десятин давно превышает его рабочую силу. И вот в рабочую пору возникает неразрешимый хаос. Обыватель верит в должность мирового судьи и приносит ему законную жалобу, не спрашивая, — какие средства в руках судьи восстановить нарушенное право истца.
Судя по общему духу законодательства, стоящего всегда на стороне формальных условий, обеспечивающих исполнение приговора, сельский обыватель не знает, что чем в данном случае принято более законных мер к обеспечению иска, тем хуже. Выгнать явного обманщика на работу судья не имеет права, а при постановлении, в силу которого присутствие по крест, делам (какая процедура!) определяет подлежащее у крестьян продаже, — чем большая в условии поставлена неустойка, тем несбыточнее взыскание по исполнительному листу судьи. В нашем уезде был случай указания уездным по крестьянским делам присутствием на двух поросят, подлежащих аукционной продаже, каковые и были проданы приставом за 40 коп., по исполнительному листу в 1200 рублей неуплаченного оброка. В таких тесных обстоятельствах, при желании помочь терпящему разорение, — необходимо было изыскивать уязвимое у ответчика место. Таким уязвимым местом постоянно являлось незнание крестьянами законов. Является с вечера или утром на заре экономический приказчик или староста — с жалобой: что вот такие-то крестьяне по именному условию нейдут косить рожь. Я тотчас же снабжал сельского старосту запиской о высылке поименованных крестьян на работу, или же ко мне на разбирательство. Понятно, что в горячую пору крестьяне предпочитали идти на работу, чем протаскаться в дорогой день на суд. Крестьяне, очевидно, не знали, что за неявкой их на суд последовало бы заочное решение о взыскании с них неустойки, которой никогда никто бы не получил. Все это при долговременной практике я знал, как говорится, наизусть, когда мне пришлось выслушивать витиеватое красноречие Чуба. Расчет Чуба был очень прост: чем в большей сумме получит он исполнительный лист в пользу своего доверителя, тем больше будет его гонорар; а потому красноречию его не было конца при выставлении всевозможных убытков, причиненных крестьянами Титу Титычу.
Объявив вопрос исчерпанным и заседание на полчаса прерванным, я ушел за угол флигеля в аллею освежиться от комнатной духоты и велел попросить к себе адвоката. Закуривая папироску, я предложил ему другую.
— Вы прекрасно, — сказал я, — как адвокат вели дело вашего доверителя. Все, сказанное вами, делает честь вашему знанию и искусству; но мы с вами не в камере, а глаз на глаз, и, конечно, вы согласитесь, что ваша речь не стоит выеденного яйца.
— Это совершенно справедливо, — отвечал Чуб.
— Если вы действительно желаете пользы вашему доверителю, то оставим в стороне все ваши сотенные неустойки, и я постараюсь сбить крестьян, не желающих, как вы видели, слышать ни о каком соглашении, — на то, чтобы они неотработанное в этом году отработали в будущем. А за неустойку свезли бы в гумно вашего доверителя все овсяные копны с его полей.
— Помилуйте! это невозможно.
— Как хотите. При несогласии вашем на эту мировую, вам придется переносить дело на съезд, а тут в два дня овес будет свезен и все-таки мужикам будет острастка.
Подумавши некоторое время, Чуб, видя непреклонность мою, уступил. Вернувшись в камеру, я прямо поставил крестьянам ультиматум в виде высказанного адвокату.
— Не так же вы, братцы, глупы, чтобы не понять, как я стою за вас и вас выручаю; но если вы меня будете теснить до крайности, то я сейчас постановлю взыскать с вас те 483 рубля, о которых просит адвокат.
— Ну, благодарим покорно, — отвечали крестьяне, — за два дня свезем ему овес.
VI
Письма. — Чтение в пользу голодающих крестьян. — Письма. — Жалоба рабочей артели с Орловско-Грязской железной дороги. — Граф Ал. Конст. Толстой. — Поездка в Елец. — Продажа мельницы. — Письма. — Смерть Нади. — Приезд в Степановку Влад. П. Боткина. — Смерть Николая Боткина. — Разговор с Борисовым по поводу места погребения Нади. — Письма.
В. П. Боткин писал:
Диепп.
2 августа 1867.
Каждые два дня ходил я на почту в Бадене спрашивать, — нет ли письма, — и каждый раз получал в ответ, что нет. Отчего такое продолжительное молчание? Вы скажете, — да почему я сам не писал? Да я и сам не знаю, почему, — хотя вы никогда не выходили у меня из памяти. Теперь авось хоть в ответ получу я от вас весточку. В Бадене я прожил около двух месяцев, потом десять дней в Париже, посмотрел выставку, и два дня как нахожусь в Диеппе, который так напоминает мне вас. В Трувиль я не поехал, потому что там такая разнокалиберная толпа и такая толкотня, и такое зловоние в этом грязном городишке, — поэтому я рассудил отправиться в Диепп. Диепп теперь далеко не то, что был при вас; Трувиль оттянул от него всех модных посетителей: это стало теперь тихое, степенное, семейное место, правда, очень скучное, — но это последнее обстоятельство для меня гораздо сноснее, нежели толкотня и суетливость. Начал брать теплые морские ванны, а погода здесь стоит суровая.
Дело Ивана Сергеевича относительно перемены управляющего разрешилось так, как следовало ожидать, то есть что Ник. Ник. подал ко взысканию векселя, выданные ему Ив. Серг. для получение по ним после его смерти. Как человек практический, он предпочел верное сомнительному, и по моему мнению, он поступил практически. Мне сказал об этом Ив. Серг., который этого никак не ожидал. Легкомыслие и необдуманность так свойственны Ив. Серг., ставили его уже не раз в самые затруднительные положение, и, не смотря на свои седины, он и теперь еще легкомысленный мальчик, который не знает веса своих поступков.
О выставке скажу вам, что это действительно замечательная вещь. Прежде всего это в самом деле всемирная выставка, даже есть китайские и японские девушки с их домашнею обстановкой. Какие интересные типы! Для специального обзора всей выставки, я думаю, ни у кого не достанет сил и внимание, можно осматривать только те части, которые кого интересуют. Я был пять раз на выставке и всякий раз возвращался с ломотою в глазах — и наконец бросил. Увы! глаза мои становятся все слабее и слабее.
Пожалуйста прервите свое молчание и напишите мне о себе. В письме вашем для меня будет больше интересного, чем во всей этой европейской жизни, которой я чужд и которой я только очень равнодушный зритель. Степановка для меня несравненно интереснее всей Франции с ее Наполеоном. Что хозяйство? что урожай? что выборы в мировые судьи?
Спешу отправить письмо, авось оно прекратит это глупое молчание, и жажду от вас нескольких строк.
Навсегда ваш В. Боткин.
Париж.
23 сентября 1867.
Наконец после продолжительного перерыва, сношения наши восстановились, мои милые и дорогие друзья! Не знаю, получили ли вы мое письмо из Диеппа? Твое письмо из Москвы я получил и тотчас же распорядился высылкою сюда из Бадена ваших писем, которые наконец мне прислали сюда. Таким образом ни одно ваше письмо не пропало. С каким любопытством я читал ваши письма — об этом нечего и говорить. Прежде всего поздравляю тебя, Фет, с лестною должностью мирового судьи. И я не ожидал этого также, как и ты, ибо шансы М-ва были гораздо сильнее твоих. Но должно быть здравомыслие у избирателей превозмогло. Что ты будешь хорошим мировым судьею, — в этом я совершенно уверен. Жаль, что ты не писал мне, с какого же времени открывается у вас мировой суд, — и прошу тебя об этом написать. Как я радуюсь теперь тому, что сделал у вас пристройку, потому что она оказывается теперь решительно необходимою. Только, по моему мнению, ты напрасно сделаешь, если поместишь секретаря в свой кабинет, то есть в туже комнату, где будет суд: комната судьи не должна быть жилою, надо приискать для секретаря другое помещение. Сделайте милость, распоряжайтесь моею пристройкою, как найдете удобнее для себя: я несказанно рад тому, что она вам на что-нибудь пригодится.
Уже с неделю, как я воротился из Диеппа и теперь буду жить в Париже до возвращение в Петербург; выставку понемногу осматриваю, насколько позволяют глаза. Вы уже знаете, что я около двух месяцев прожил в Бадене. Не скажу, чтобы баденский воздух был мне по организму: по лесистости и отчасти по своему горному положению, этот воздух дает нервам какую-то напряженность и возбудительность. Для меня гораздо удобнее водянистый, сырой воздух, и что ни говорят о петербургском климате, но мне там гораздо легче дышать, чем, наприм., в Москве, именно потому, что в петербургском воздухе несравненно более водянистых частей. Вот у моря дышится мне отрадно. Но зато в Диеппе так скучно одному.
Из письма твоего я не мог понять, в чем состояла сущность твоей речи, сказанной на предварительном собрании, и весьма был бы рад прочесть ее в печати.
Я здесь видел несколько раз брата Николая. Вы, я думаю, слышали, что с ним был удар, — он совсем поправился, но следы заметны в голове. Голова стала заметно слабее прежнего (а она и прежде была не очень тверда в понятиях), и он сделался еще ближе к ребячеству, нежели прежде.
В Париже по причине выставки все еще продолжается большой наплыв иностранцев, и отели переполнены, и все дороже. По воскресеньям нет возможности бывать на выставке от толпы. Вообще же о выставке скажу, что видеть ее, конечно, интересно, но и для того, кто не увидит ее….
20 сентября.
Письмо это уже прерывалось несколько раз приходом разных знакомых, между прочими генерала Саля, начальника дивизии, находящейся в Орле, и живущего там. Это во всех отношениях прекрасный человек и дельный военный специалист, каких желательно, чтобы у нас было более. Если представится случай, пожалуйста познакомься с ним. Я думаю пробыть здесь до конца октября. Обнимаю вас от всей души.
Ваш В. Боткин.
Тургенев писал от 21 сентября из Бадена 1867 г.
Любезнейший Фет, о как приятно вести дружескую, но ругательеую переписку! — Оно и освежительно, и согревательно, и носит несомненный отпечаток истины, — словом, очень хорошо. Будем же по-прежнему любить и ругать друг друга.
Погляжу я на вас — ловкий вы мальчик! — Видите ли: мне предоставляет утилитарность, политику, а сам берет бесполезность, пену, искусство, т. е. высочайшее la part du lion, ибо не бесполезное искусство есть дрянь, бесполезность есть именно алмаз его венца. Каков добренький! Я сосчитал, сколько у меня политических, тенденциозных страниц: оказалось на 160-29, а остальное такая же бесполезная чепуха, как любое лирическое стихотворение автора «Вечеров и Ночей». Да, милейший собрат мой, не говорите с кажущимся уничижением и действительной надменностью: ты полезен, а я бесполезен; — скажите: мы оба плохи, — и поцелуемтесь. Вот, например, дядя мой — тот настоящий художник, жрец чистого искусства. Прислал сюда через посланника требование описать здешнее мое имущество — 12 листов грубейшей серой бумаги, за которую пришлось заплатить чуть не 2 руб. весовых и совершенно бесполезно! зато прелестно! Посланник сделал мне официальный запрос: что, мол, сей сон значит? Я отвечал, что ничего не понимаю; и посланник согласился, что понять ничего нельзя. А бедному Зайчинскоиу тот же дядя и ответа не дает: «что, мол, изводите ли вы драть с моего доверителя проценты? Или удовлетворяетесь капиталом?» «А, говорит дядя, сие в моей воле». И как истый художник, оставляет все возведенным в перл создания. Вот, батюшка, с кого надо брать пример. Борис Федорович Годунов — Никол. Никол. Тургенев, извольте идти царствовать, извольте получать Холодово, которое стоит вдвое больше ваших безденежных векселей. — «Нет отвечает Годунов XIX века, — мои седины обесчещены, а вот я все из дому у племянника выскреб да благодарность в газетах выканючил, а теперь я вот подожду, — не выйдет ли возможность Спасское с аукциона приобрести». — Великий художник! Только одно худо: оказывается, что первая просьба о том, что я не плач_у_ и что следует наложить запрещение была подана — когда вы думаете? — 12 окт. 1866 г., т. е. в самый разгар моей слепой доверенности к орловскому Фидиасу. Учитесь, учитесь, Афанасий Афанасьевич!
Ну, засим можно обнять вас дружески, поклониться вашей милой жене и пожелать вам всевозможных успехов на судейском поприще. Только с условием: dunkeleng Drang — в лоханку… вода к воде.
Ваш Ив. Тургенев.
Боткин писал из Петербурга от 27 ноября 1867 г.
Вот уже несколько писем получил я от тебя, а я не успел отвечать тебе. Да тебя и не поймешь: то ты во Мценске, то в Орле, то, наконец, в Москве. Так как здесь писали, что новый суд открывается у вас 20 ноября, то я полагал, что тебе нельзя будет отлучиться. Но я рад за тебя и за Машу, что тебе можно было урваться в Москву и, как ты пишешь, до 5 декабря пробыть там. Мне Бог знает как хотелось быть в Москве в одно время с тобою. Но теперь едва ли это исполнимо. Я как-то поймал себе ревматизм в левом плече, который меня очень беспокоит, ибо совсем, мешает владеть левой рукой. Скверность большая! А впрочем, со мною все обстоит по возможности благополучно, и жизнь моя идет своим обычным порядком. Всего чаще бываю я у Толстых, где всего приятнее, и я несказанно рад, что они нынешнюю зиму проводят в Петербурге; часто вспоминаем о тебе, потому что он очень сочувствует поэтической струе, бьющей в твоих стихах. Надо сказать, что дом Толстых есть единственный дом в Петербурге, где поэзия не есть дикое бессмысленное слово, где можно говорить о ней; и к удивлению, здесь же нашла себе приют и хорошая музыка. Правда, здесь много занимаются музыкой, но как-то странно, по-петербургски; на этой почве все принимает отвлеченный характер, головной, совершенно односторонний, тенденциозный. Я дорожу искусством за наслаждение, которое оно мне доставляет, и до всего прочего мне нет дела. — Как я рад тому, что вы из Тулы уже приехали по железной дороге.
Ваш В. Боткин.
Чем ближе подходила зима[225], тем очевиднее становилось общественное бедствие, которого с весны должен был ожидать всякий зрячий. Можно только удивляться живучести человека, способного в крайности поддерживать свое существование невероятными суррогатами хлеба. Как диковины, набрали мы по пути до Мценска крестьянского печеного хлеба, более похожего на засохшие комки чернозема, чем на что-либо иное: там была и мякина, и главным образом лебеда, про которую старина говорила: «Лебеда в хлебе не беда». И этим ужасным хлебом питалось не только взрослое население, но и дети; а между тем об увеличившейся смертности слуху не было. Тем не менее, при виде такого хлеба я подумал, что прежде чем судить людей, надо при малейшей к тому возможности накормить их, хотя бы только в пределах своего участка, помогая наиболее нуждающимся. Мысль эта занимала меня по дороге в Москву, хотя средства к осуществлению ее я еще ясно не различал. Доехали мы на этот раз в повозке только до Тулы, а там уже пересели в вагон. Графа Льва Николаевича Толстого с женою и детьми я застал на Кисловке на квартире.
Было воскресенье, и у Толстых я, к изумлению и удовольствию своему, нашел Петю Борисова, которого с дозволения Ивана Петровича графиня брала по воскресеньям к своим детям. Когда детей повели гулять, графиня со смехом рассказала мне грозный эпизод в детской в прошлое воскресенье. «Кто-то привез детям конфект, — говорила она, — и, уезжая со двора, я разрешила детям взять из коробки по конфекте. Возвращаюсь и вижу, что коробка пуста. Моя дети лгать не приучены, и они легко сознались бы в своей вине. Но при самых настоятельных расспросах моих виновного между моими не оказалось. „Петя, сказала я, уж не ты ли поел конфекты?“ — к чести его надо сказать, что он тотчас же сознался, и я самым бесцеремонным образом объяснила ему все дурные стороны его поступка. Он разревелся, и я думала, что он уже не пойдет к нам в дом. Но дети не злопамятны, и вот он, как видите, опять у нас».
Лев Никол. был в самом разгаре писания «Войны и Мира»; и я, знававший его в периоды непосредственного творчества, постоянно любовался им, любовался его чуткостью и впечатлительностью, которую можно бы сравнить с большим и тонким стеклянным колоколом, звучащим при малейшем сотрясении. Когда я наконец объявил ему, что решился устроить литературное чтение в пользу голодающих своего участка, он иронически отнесся к моей затее и уверял, что я создал во Мценском уезде голод. Эта ирония не помешала ему, однако, так красноречиво и горячо отнестись через год после того к самарскому голоду и тем самым помочь краю пережить ужасное время. Если в моем положении нетрудно было напасть на мысль публичного чтения, то осуществить эту мысль было далеко не легко. Кому читать, что читать и где читать? Не размышляя долго, я отправился вечером в артистический клуб и там обратился к известной Васильевой, с которой когда-то познакомился в Карлсбаде, куда она возила больного мужа. Принявши самое живое во мне участие, она, по кратком совещании со старшинами, объявила мне, что клуб в назначенный мною вечер отдает в мое распоряжение свое помещение с освещением и прислугой. Покойный Пров Михайлович Садовский вызвался читать на моем вечере; и поэт и драматический писатель князь Кугушев изъявил согласие читать по выбору моему. Отыскавши таким образом почву для моего литературного вечера, я старался упросить Льва Ник. Толстого обеспечить успех предприятия обещанием прочесть что-либо на вечере; но сказавши, что он не только никогда не читал, но даже никогда на это не решится, он любезно предложил мне еще бывшую только в корректуре пятую главу второй части изумительного описания отступления войск от Смоленска по страшной засухе. Наконец день чтения был объявлен в газетах, и билеты по рублю серебром напечатаны. Когда в клубе накануне об этом зашла речь, один из меньших братьев Боткиных, Владимир, обратившись ко мне, сказал: «Вы не продавали еще билетов?» — «Нет». — «Позвольте мне сделать почин в вашем деле и примите 25 руб. за билет». Тут же в клубе примеру этому последовали еще два-три человека. В назначенный вечер я сам встал за прилавком. Но публика подходила как-то вяло; а стали подходить все какие-то мальчишки, прося принять обратно билет хотя бы за 50 и даже 30 коп. Не трудно было понять, что люди, уплатившие 25 руб. с благотворительной целью и получившие 25 билетов, раздавали их служащим у них мальчикам, которые 30 коп. предпочитали всякой духовной пище. Конечно, я им отказывал в возможности купить пряник на деньги, предназначенные на полпуда хлеба. Но вот подходит брюнет среднего роста и протягивает ко мне пачку ассигнаций со словами: «Пожалуйте мне билет». — «Сколько прикажете сдачи?» — «Никакой. Здесь 500 рублей, и я прошу дать мне билет. А вот еще 500 руб. от брата моего. Наша фамилия Голяшкины. Потрудитесь дать нам третий билет: эти триста рублей от наших служащих».
Таким образом я в течение минуты получил 1300 р. Должно быть, посетителей набралось около тысячи человек, так как при поверке кассы у меня оказалось около 3300 руб. Как наиболее подходящее к сбору в пользу голодающих, я прочел перевод первой главы «Германа и Доротеи» об участии к нуждам переселенцев. Садовский и Васильева с живительным мастерством прочли: первый — Чичикова у Бедрищева, а вторая — приятную барыню и барыню приятную во всех отношениях. Громом рукоплесканий было покрыто чтение из «Войны и Мира» — князем Кугушевым. Я тотчас же составил проект устава, по которому эта сумма должна была раздаваться наиболее нуждающимся на год без процентов, а на следующие два года, по истечении коих долг должен бы был быть уплачен, — взималось бы по пяти процентов. Самый же капитал должен был по этому уставу оставаться навсегда в третьем мценском мировом участке, на случай нового голода.
Боткин писал 9 февраля 1868 г. из Петербурга:
Сию минуту получил твое письмо и немедленно отвечаю. Да будет благословенно твое доброе намерение, и я не сомневаюсь, что ему постарается помочь всякий, кто еще не утратил человеческое сознание. Вести твои о голоде привели меня в содрогание: здесь вовсе не имеют понятия о таком положении. Я не могу тронуться из Петербурга, ибо у меня опухоль в сочленениях, вследствие ревматизма; принимаю йод и еще другое посильнее. При таком лечении и болезни куда думать о выезде.
Знаешь ли, чем я все это время был занят? — Изучением греческих и скифских древностей, отрытых в курганах около Керчи и по южной России. Все эти находки отлично награвированы и изданы в отчетах Археологической комиссии с 1859 по 1864 г. и разъяснения Стефани, отличного знатока греческой древности и настоящего ученого. Там есть вазы, изумительные по изяществу рисунка и, очевидно, относящиеся к 4-му веку до Рожд. Хр. Таких ваз нет ни в одном европейском музее. Признаюсь, что при этом изучении я тоскую, что нет со мною моей библиотеки, а поставить здесь ее некуда. Прощайте, милые, сердечные друзья.
Вам навсегда преданный
В. Боткин.
Тургенев писал из Бадена от 12 Февраля 1868 года:
Ну-с, добродетельнейший и милейший А. А., будем мы вам писать на Алисовскую станцию. С великим удовольствием вижу я, что дух ваш покоен и как то мягко и важно снисходителен, как оно и подобает служителю Фемиды.
О деле с Ник. Ник. — мы, если только будет стоить труда, поговорим лично, теперь ограничусь одним словом, которое, уверяю вас, я бы не решился употребить легкомысленно: он поступил как бесчестный человек. Мне жутко говорить так о человеке, которого я так давно и так искренно любил и уважал, но истина вынуждает меня именно так выразиться: «Ник. Ник. Тургенев — бесчестный человек».
12 апреля.
Ровно два месяца протекло с тех пор, как я начал это письмо к вам, которое я только потому не кончил и не отправил, что не знал, где вы находитесь: в Москве ли, в Петербурге ли? и т. д. — Теперь я знаю, что вы снова в Степановке, увенчавшись добропорядочным успехом в Москве, — и вот я берусь за перо.
Что произошло в эти два месяца? — Дело с дядюшкой, слава Богу, кончено. Он обобрал меня как липку, — я получил векселя. К сожалению, нет никакой причины изменить хотя бы одну букву в вышеупомянутом отзыве о нем. Впрочем, я никогда его более не увижу, — и пусть он добреет с награбленных денег!
Я был в Париже, а теперь поселился в своем, т. е. нанятом мною у Виардо доме (я принужден был продать этот дом) — и помещением доволен.
Я еду в Россию через месяц и в Спасском буду в конце мая. Не сомневаюсь в том, что вы приедете ко мне с Борисовым. То-то мы поспорим! Впрочем, Бог знает: я очень стал тихенький.
Я только что кончил 4й том «Войны и Мира». Есть вещи невыносимые и есть вещи удивительные, и удивительные эти вещи, которые в сущности преобладают, так великолепно хороши, что ничего лучшего у нас никогда не было написано никем: да вряд ли было написано что-нибудь столь хорошее. 4-й и 1-й том слабее 2-го и особенно 3-го; 3-й том почти весь chef d'oeuvre.
Засим говорю вам до свиданья и прошу передать мой поклон вашей жене.
Преданный вам.
Ив. Тургенев.
Боткин писал из Петербурга от 26 марта 1868 г.
Сейчас получил ваше письмо и читал его с признательностью и веселием. Прежде всего я бываю рад тому, что у вас все обстоит благополучно, а теперь к этому присоединяется и уверенность, что мужики вашего участка голодать уже не будут. Вот что значит добрая воля и добрая решимость человека! Я никак не надеялся, что ты в одной Москве соберешь такую сумму. Как весело должно биться теперь твое сердце!
Лихорадка моя, кажется, кончилась, по крайней мере вот уже неделя, как жар не возвращается. Но странно, что во все продолжение ее ревматизмы мои словно замерли, и я их не чувствовал. Но как только прошла она, — все они возвратились с сугубым ощущением боли. Брат Сережа торопит меня отъездом за границу, потому что петербургская весна самая опасная для этого. И я собирался выехать в конце этой недели в Висбаден и шесть недель буду брать ванны.
Искренно радует и успокаивает меня то обстоятельство, что твоя судейская практика идет удовлетворительно и не тяготит тебя. В здравомыслии твоем я никогда не сомневался, но признаюсь, боялся опрометчивости и излишней нервозности. Но как ты пишешь, у вас по большей части дела все однородные, и, следовательно, примениться к ним нетрудно. — Я слышал, что Ив. Серг. кончил с дядей на 20-ти тысячах наличными деньгами за всю претензию. Его ждут в апреле сюда и слышно, что он пишет какую-то повестушку. При той внутренней запутанности, в какой он находится, едва ли может он сделать что-нибудь порядочное. Между тем успех романа Толстого действительно необыкновенный: здесь все читают его и не только просто читают, но приходят в восторг. Как я рад за Толстого! но от литературных людей и военных специалистов слышатся критики. Последние говорят, что, напр., Бородинская битва описана совсем неверно, и приложенный Толстым план ее произволен и несогласен с действительностью. Первые находят, что умозрительный элемент романа очень слаб, что философия истории мелка и поверхностна, что отрицание преобладающего влияния личности в событиях есть не более как мистическое хитроумие; но помимо всего этого художественный талант автора вне всякого спора. Вчера у меня обедали и был также Тютчев, — и я сообщаю отзыв компании. Сам я романа не читал. Пробежал в Литерат. Библиотеке статью твою «Из деревни». Очень, очень мило. Ехать мне заграницу очень не хочется — что за удовольствие путешествовать больному. Вероятно, я проберусь в Париж, потому что там теплее, нежели в Германии, и там останусь до Висбадена, т. е. до того времени, как можно брать ванны, на которые моя единственная надежда. Граф Ал. Толстой окончил свою драму «Федор Иоаннович» и читал ее у меня. Концепция характера Федора весьма удачна, хотя, как все произведения Ал. Толстого, не оживит читателя ни одним поэтическим ощущением. За то этот род талантов по плечу большинства. Впрочем, сам Ал. Толстой чувствует поэтическое и принадлежит к немногим почитателям твоих стихотворений. — Ты так разборчиво написала, милая Маша, что не могу не возблагодарить тебя, — совершенная противоположность Фету, который только хвастается тем, что скоро пишет свои письма. Нынешнюю зиму самый приятнейший дом был у Толстых, лето и будущую зиму они проводят в Курской губернии. Прощайте пока, мои милые друзья. Дай Бог нам дожить до свидания будущей зимой.
Навсегда ваш В. Боткин.
5 июня он писал из Висбадена:
Давно чувствую потребность писать к вам, и, как часто бывает, потребность эта остается неудовлетворенною. Добрался я до Висбадена в самом немощном положении, приехав в Берлин, я принужден был взять себе слугу, ибо мои руки и ноги совсем без силы и даже не в состоянии снять с себя рубашки. Теплая погода, спокойствие и лечение несколько восстановили меня; говорю несколько, потому что пятиминутная прогулка меня утомляет, и опухоль ног и рук без изменения. Не знаю, как подействуют ванны: я взял их уже 14, осталось еще столько же, но хуже мне нет. Живу я здесь совершенно уединенно, и Бог знает как рад тому, что у меня здесь нет знакомых: мне тяжело вести разговоры. Немножко читаю, иногда слушаю плохую военную музыку (другой нет), больше лежу, ибо постоянно чувствую утомление и усталость. В 10 часов вечера я уже в постели и не нарадуюсь этому. Напишите мне о себе и о своем житье. Все ли у вас благополучно? Не браните меня за краткость моего письма, — писать тяжело, — вот поговорить бы хотелось с вами и послушать ваши милые речи, потому что все вас окружающее мне близко к сердцу.
Всей душой ваш В. Боткин.
Однажды, в конце августа, арендатор Тимской мельницы, Н. И. А-в, приехал и положительно заговорил о своем намерении купить Тим. Я обещал ему сам приехать вначале сентября в Ливны для окончательных переговоров. И действительно, придя к полному убеждению, что работать на мельнице, помимо решительной ее гибели, может только сам владелец, а не арендатор, я вначале сентября отправился в Ливны. Конечно, попавши между двух братьев покупщиков, я вначале никак не предполагал той сравнительно скудной цены, которую предложили мне за имение. Явно по предварительному соглашению, они остановились на сумме 31-й тысячи, в виду того, что, по моим объявлениям о продаже, других покупателей не являлось. Даже строительный, приготовленный мною, дубовый лес пошел в ту же цену. Признаюсь, я был очень огорчен таким исходом дела, и когда, ударив по рукам и получив запродажную запись с выдачей задатка, братья А-вы по обычаю предложили мне распить бутылочку шампанского, — я ушел, отказавшись от всякого угощения. Совершение купчей назначено было на 28-е января.
Боткин писал от 15 сентября 1868 года из Парижа:
Если я не пишу к вам, милые, добрые друзья, — то доказывает только, что мне писать очень трудно от общей слабости. Но вы постоянно у меня на сердце. И с каким удовольствием читаю я ваши редкие письма. Хорошо ты сделал, что разделался с Тимом. Воображаю, как вы рады открытию железной дороги! Ей-Богу, не могу больше писать. О себе не говорю: очень худо и не в состоянии сойти с места.
Душевно преданный В. Боткин.
Из Рима от 28 октября 1868 года:
Милые друзья мои! с чувством искреннейшей радости получил ваше письмо и считаю совершенно излишним благодарить вас за ваше участие: действительно, так пришло плохо, что далее идти по этой дороге долго невозможно; точно я чувствую внутри себя какой-то злой недуг, который сосет мои жизненные силы. Странно, что в процессе моей болезни постоянное ухудшение. Сверх моего чаяния, приезд брата Миши решил мою поездку в Рим. Как Миша довез меня, я до сих пор не могу понять этого, тем более, что меня из вагона в вагон переносили: мои ноги и руки были без всякого движения. Я знал, что не найду в Риме дельного врача; но я уже потерял веру в медицинское пособие. Я хотел быть с Мишей и, слава Богу, достиг этого. Как мне было интересно читать подробности о жизни в Степановке; странное дело: не смотря на безобразие ее местоположения, я Степановку люблю ужасно. Яздесь живу, как никогда не жил от роду: занимаю квартиру первую в Риме; а Миша такого повара нашел здесь, что каждый обед вызывает знаки восклицания и умиления. Ты можешь себе представить, как у меня затрепетало сердце, когда я прочел сначала предложение Фета, а потом твое, Маша, приехать ко мне. Милый мой Фет! я знаю, что это неосуществимо, но за это великодушное предложение я не знаю, как благодарить тебя. Конечно, если бы я был в Париже, это было бы сколько-нибудь возможно: близость расстояния, спокойствие переезда, — но увы! Рим все это сделал невозможным. Я не говорю, каким бы счастием было для меня твое присутствие, но увы! такая дальняя дорога… Положим, что ты могла бы взять кого-нибудь для компании; но одно простое решение возбуждает некоторый ужас. Как бедному Фету оставаться одному? но на всякий случай, если это осуществимо, то все расходы, разумеется, должны быть непременно на мой счет, и если удастся найти компанионку, то это было бы еще лучше. Хотя все больные делаются невыносимыми эгоистами, но мой эгоизм так далеко не смеет идти. Пожалуйста пишите мне чаще. Сам писать я не в состоянии от опухоли в руках, а еще более от слабости и изнурения. Прощайте, милые друзья. Ты замечаешь, что я не жалуюсь на свое положение? — Но ведь это совершенно бесполезно.
Ваш навсегда В. Боткин.
Надо отдать справедливость Степановке в том, что деревья, саженные в ней, росли и развивались с неимоверной быстротою. Первою моею заботой было провести с проселка к дому широкий проезд и, окопав его рвами, обсадить ветлами. В восемнадцатилетнее пребывание наше в Степановке ветлы разрослись пышною аллеей. Как ни красивы эти ветлы были в летнее время, но остались они в моем воспоминании осенними, желтолистными, мокрыми, роняющими холодные капли на сотни лежащих под ними до костей промокших людей, большею частию в рваной одежде и худой обуви. Картина далеко не привлекательная и тем более тяжкая для человека, поставленного в мнимую обязанность защищать неправо обиженных людей. Выше я старался в приведенных судебных разбирательствах показать бессилие судьи защитить частное лицо от хищничества масс. Картина моих ветл с валяющимися под ними промокшими до костей и частию тифозными железнодорожными рабочими заставляет меня сказать несколько слов, из которых настолько же ясно будет бессилие мирового судьи защитить массу от грабежа одного лица. Рабочая артель с Орловско-Грязской железной дороги с лишком в 300 человек привалила ко мне с предъявлением иска в 2500 р. со своего бывшего подрядчика, крестьянина Тульской губ., Новосильского уезда, который ушел домой, не рассчитавши никого и, как слышно, забравши деньги по своему участку в главной орловской строительной конторе. В виду искомой суммы, я направил несчастных людей по осенней грязи и дождю за 35 верст в орловский окружной суд, который, поясняя, что сумма эта состоит из отдельных исков 300 человек, направил истцов снова к мировому судье. Тем временем я успел снестись с главною орловскою конторой, которая, кратко поясняя, что рядчику (имя рек) следует дополучить с конторы 1350 руб., - препроводила ко мне эти деньги для зависящего употребления. Не трудно было расчесть, что каждому по его рабочей книжке приходится получить только 54 коп. за рубль. Но каково одному человеку в течение трех суток разъяснять это тремстам голодным и холодным людям. Люди эти с полным правом не желают знать каких-то условных тонкостей, по которым у них следует отнять половину трудовых денег. Они рассказывают, что рядчик успел уже на имя жены накупить земли в своей губернии; и если бы я снабдил каждого из них или всех вместе исполнительными листами, то это привело бы их только к новым переходам и бедствиям в ненастное время. Самое получение мною бесконтрольной суммы 1350 руб. с орловской конторы было с моей стороны уже самовольным выступлением в административную область, тогда как моя роль по закону ограничивалась только заочным признанием долга подрядчика на основании рабочих книжек. Да и то я мог разбирать дело не прежде обратного получения повестки рядчику из Новосильского уезда, чего невозможно было ожидать раньше двух недель. А между тем мокрые и голодные рабочие день и ночь сидели и лежали около канавы аллеи в ожидании помощи. Предоставляю всякому судить, до какой степени легко было вразумить рабочих, что только случайным образом я могу дать каждому 54 коп. за рубль его заработка, и затем надо расчесть каждого, согласно его заработку, по книжке. Мы сели с письмоводителем за работу в 7 час. утра и, за перерывами завтрака, обеда и вечернего чая, — просидели до трех часов ночи. Какое счастье, можно сказать, что рабочие только занесли тиф в нашу усадьбу, где человек пять переболело этою страшною болезнью. Спрашивается, что бы мог сделать судья, не снабженный никакою административною властью, если бы несколько тифозных не были бы в состоянии подняться и уйти из-под ракиток? Не значит ли это, под предлогом высокой справедливости, отказывать во всякой действительной справедливости?
Привязанный хозяйственными заботами и служебными обязанностями к Степановке и Мценску, я только в середине зимы мог на неделю или на две отрываться в Москву и, конечно, не имел времени и побуждения бывать в других городах. Не помню, почему именно осенью 1868 года я в бытность в Орле ночевал в тамошней почтовой гостинице. Проходя по коридору, я вдруг остановился в изумлении перед человеком, шедшим мне навстречу и, по-видимому, изумленным не менее меня. Промедлив секунду, мы, не говоря ни слова, бросились обнимать друг друга. Человек этот был граф Ал. Конст. Толстой[226].
— Вы не завтракаете? Спросил он меня. — Чем же вас угощать?
Я попросил кофею. «Кофею, крикнул он вошедшему слуге, — самого лучшего кофею».
Не берусь передавать подробности нашей задушевной беседы. Тут мы узнали друг от друга, что, не взирая на различие путей жизни, мы ни на минуту не переставали носить в груди самые живейшие взаимные симпатии, которая должна была загораться от первого благосклонного соприкосновения.
Я так счастлив, что, сохранивши письма друзей, могу подлинными словами их заменять мои собственные, которых, по прошествии долгого времени, я и сам не решился бы считать непогрешимыми. Если в письмах моих друзей окажутся преувеличенные мне похвалы, то они свидетельствуют не о моей высоте, а о высоте духовного строя пишущих. Нельзя же требовать от прирожденного поэта, который, как искрометное вино, рвет пробку, прежде чем польется в стакан, чтобы он даже в дружеском письме, охорашивал и подвивал слова, как куафер свою восковую куклу. Но нам пришлось расставаться, и мы обещали друг другу наши карточки, а по временам и письма.
Граф писал мне от 20 декабря 1868 года из ЧерниговскоЙ губ.:
Любезный и дорогой Афанасий Афанасьевич, спешу воспользоваться вашим адресом и посылаю вам Коринфскую невесту и Проект постановки Федора.
Жена, когда думала, что вы будете к нам на масляницу, очень обрадовалась и приказала вас благодарить. Обнимаю вас от всего сердца.
Ваш Ал. Толстой.
Он же от 19 Февраля 1869 года:
Дражайший Афанасий Афанасьевич, какая досада, что вы собираетесь к нам, когда мы должны ехать в Одессу. Я послал нарочного в Брянск с телеграммой в Змиевку, но мне ее возвратили с объяснением: туда де не принимают. Как это умно! Мы остаемся в Одессе одну неделю и вначале марта будем ожидать вас в Красный Рог. До того я или вас увижу, или к вам напишу. Везу мою жену в Одессу от бессонницы. Обнимаю вас, жена вам дружески кланяется и ждет вас.
Ал. Толстой.
От 18 марта 69 года:
Любезный, давно любезный Афанасий Афанасьевич, не стану оправдываться в том, что доселе не отвечал на ваше любезное письмо, сопровождавшее вашу карточку, потому не стану оправдываться, что нет у меня оправдании. Спасибо вам и за все, и за то, что вам с нами хорошо и просто. Покажите же это на деле и приезжайте в Красный Рог. Дорога не сложная: Орел, Брянск, Выгоничи, Красный Рог. А здесь весною очень, очень хорошо и глухарей будет довольно и вальдшнепов. Пожалуйста не отменяйте вашего доброго намерения. Мы вас любили за глаза, а в глаза еще более полюбили. Скажу вам еще под секретом, что здесь в лесу весною образуются такие красивые озера, каких я нигде не видал. Позвольте вас обнять дружески, именно, как старинного знакомого, и ожидать вас с распростертыми объятиями. Жена и мы все сердечно вам кланяемся.
Наш Ал. Толстой.
Красный Рог.
16 марта, день смерти Иоанна Грозного.
От 12 мая 69 г. он писал:
Красный Рог.
Ждем вас к 8 июля, милый и дорогой Афанасий Афанасьевич, ждем вас unguibus et rostro! Unguibus — чтобы вас обнять, rostro — чтобы расцеловать. Говорю, по крайней мере, за себя. Когда вы приедете, erit bibendum et pede libero pulsanda tellus! Я останусь не только до 8 июля, но до половины или конца июля. Выводки у нас будут не только тетеревиные, но и щхариные. Глухарей нынешний год было много. А потом, коли вам не претит, я буду вам читать, сколько написалось, Царя Бориса, и три новые баллады. У вас также, вероятно, есть кое-что, а мне не нужно вам говорить, что мы все ваши самые искренние почитатели. Не думаю, чтобы во всей России нашелся кто либо, кто бы оценил вас, как я и жена. Мы намедни считали, кто из современных иностранных и русских писателей останется и кто забудется. Первых оказалось немного, но когда было произнесено ваше имя, мы в один голос закричали: «Останется, останется навсегда!» И вы как будто сами себе не знаете цену! Жена кланяется вам и жмет вашу руку. Смотрите же, не забудьте:
«Justum et tenacem propositi virum —
Si fractus illabatur orbis,
Impavidum ferient rainae» *).
*) «Муж правоты, неотступный в обдуманном, —
Он, если б небо со треском разрушилось,
И под обломками не испугается».
Горац. Кн. 3, Ода 3.
Не переставайте быть tenax proposite!
Душевно ваш
Ал. Толстой.
По страсти к охоте, я, конечно, описал бы все сохранившиеся у меня в памяти охотничьи эпизоды с Тургеневым; но отчасти он передал сам их, рассказав, например, как лесной прикащик в Понырах, на вопрос — есть ли дичина? — направляя открытую ладонь к болоту, воскликнул: «а на счет всякой дикой птицы не извольте сумневаться! в отличном изобилии имеется». И как это изобилие оказалось тем, что охотники называют: ни пера. Я бы рассказал, как в Полесье за Карачевым мы, пробравшись с версту по мучительному кочкарнику, по которому из двух шагов один раз нога срывалась с вершины кочки и вязла выше щиколотки в промежуточной грязи, выбрались, наконец, на громадное и утомительное моховое болото, где я убил одну холостую тетерьку, а Тургенев с Афанасием по одному несчастному бекасу. Я живо помню, когда, отставая на возвратном пути от измучившегося Тургенева, я услыхал его голос: «идите, несчастный! а то вы тут без вас пропадете!» И как с коченеющими ногами мне предстояло пройти обратно версту по убийственному кочкарнику. Я никогда не забуду, как Тургенев, уже в прежние годы дававший заклятия не охотиться более в России, усевшись со мною на истерзанную оводами тройку, едва слышным шепелявым голосом стал уверять меня, что это последняя его охота в России. Совестясь, вероятно, кучера, он давал обеты на французском языке. «Вы и в прошлом году, возражал я, говорили то же самое».
«Нет, отвечал он, теперь я уже поклялся великою клятвой матери моей. Этой клятве я никогда не изменял. Вот видите ли, возьмите мою собаку, мое ружье и мои снаряды».
Вот до какой степени мы были разочарованы исчезновением дичи. Понятно после этого, в каких ярких красках я рисовал Борисову любезное приглашение графа Алексея Константиновича, распространявшееся и на Борисова, без которого такая дальняя дорога показалась бы мне скучной. Сам Иван Петрович был давнишним читателем и почитателем Ал. Толстого.
Граф Ал. Конст. Толстой писал от 23 июня 1869 года.
Красный Рог.
Милый, добрейший Афанасий Афанасьевич, ускорьте ваш приезд, вместе с гм Борисовым, ибо молодые глухари не только летают, но летают высоко и далеко. Теперь самая пора их стрелять. Сверх того, есть полевые тетерева и молодые бекасы и дупели. Уток гибель. Можно за ними охотиться в лодке в так называемом Каменном болоте. Одним словом, не отлагайте вашего приезда. Есть у меня три акта Царя Бориса, которые я вам прочел бы с наслаждением, и три новые баллады. Я смотрю, и мы все смотрим на ваш приезд, как на праздник, и будем ожидать вас с распростертыми объятиями.
Весь ваш Ал. Толстой.
В условный день мы съехались с Борисовым в Орле и по Витебской дороге отправились к Брянску с самыми розовыми мечтами, в надежде на моего Гектора[227]. За несколько станций до Брянска поезд что-то надолго остановился, и, не находя места от полдневного зноя, остановился и я в каком-то оцепенении посреди залы 1-го класса. Несмотря на возвышенную температуру всего тела, я почувствовал какое-то необыкновенно мягкое тепло, охватившее средний палец правой руки. Опустивши глаза книзу, я увидал, что небольшой желтый, как пшеничная солома, медвежонок, усевшись на задние ноги, смотрит вверх своими сероватыми глазками и с самозабвением сосет мой палец, принимая меня, вероятно, за свою мать. Раздался звонок, и я должен был покинуть моего бедного гостя.
В Брянске нас ожидала прекрасная графская тройка в коляске-тарантасе. Во всю дорогу до Красного Рога нам приходилось убеждаться по пересекаемой древесными корнями и в несколько верст застланной бревенчатым накатом дороге в невозможности ездить по ней на рессорах. Невзирая на некоторое однообразие хвойных лесов, дорога все-таки не лишена была самобытной прелести. Густая стена елей порою раздвигалась, давая место озерцу, покрытому водорослями, откуда, при грохоте экипажа, почти из-под самых ног лошадей, с кряканьем вылетали огромные дикие утки; а по временам на высоких вершинах виднелись мощные отдыхающие орлы. Излишне говорить, до какой степени любезны и гостеприимны были наши хозяева.
Невзирая на старинный и с барскими затеями выстроенный красивый деревянный дом, мы с Борисовым помещены были в отдельном флигеле, где могли, не тревожа никого, подыматься раннею зарею на охоту, а равно и отдыхать по возвращении с нее. Из посторонних мы в доме застали блестяще образованного молодого человека Х-о, занимающего в настоящее время весьма видное место в нашей дипломатии. Трудно было выбирать между беседами графа в его кабинете, где, говоря о самых серьезных предметах, он умел вдруг озарять беседу неожиданностью à la Прутков, — и салоном, где графиня умела оживить свой чайный стол каким-нибудь тонким замечанием о старинном живописце, или каком-либо историческом лице, или, подойдя к роялю, мастерскою игрою и пением заставить слушателя задышать лучшею жизнью. Надо мимоходом заметить, что граф, не будучи сам охотником, принужден был руководствоваться в суждениях о состоянии охоты словами лесных сторожей, тоже не охотников; и введенный с первого же утра в высокий строевой лес, я сразу увидал, что тут никакой охоты на тетеревей быть не может, во-первых, потому, что выводков ищут по кустам и гарям; а во-вторых, потому, что если мы случайно и нападали на выводок, то он сейчас же скрывался в вершинах деревьев — и конец. Время было нестерпимо знойное, и мы довольно рано возвращались с охоты в свой флигель. После завтрака дня с два устраивалось чтение графом сначала «Федора Иоанновича», а затем еще не оконченного «Царя Бориса».
Однажды состоялась прогулка в большой линейке по лесным дачам. Молодой Х-о ехал верхом, а нас всех везла прекрасная четверка. По страсти к лошадям, я спросил графа о цене левой пристяжной.
— Этого я совершенно не знаю, — был ответ, — так как хозяйством решительно не занимаюсь.
Когда дорога пошла между стенами ельника, граф затянул чрезвычайно удобную для хорового пения тирольскую песню про Андрея Гофера. Графиня завторила, и затем запели все в экипаже и верхом, и песня весьма гармонично сопровождалась эхом. Там, где леса разбегались широкими сенокосами, я изумлялся обилию стогов сена. На это мне пояснили, что сено накопляют в продолжение двух-трех лет, а затем (кто бы поверил?), за неимением места для склада, старые стога сжигают. Этого хозяйственного приема толстого господина, проживавшего в одном из больших флигелей усадьбы, которого я иногда встречал за графским столом в качестве главного управляющего, я и тогда не понимал и до сих пор не понимаю.
Перед одним из балконов находился прекрасно содержимый английский сад, куда граф выходил гулять после обеда с большой настойчивостью. Не желая отказываться от его вдохновенной беседы, я не отставал от него, хотя никогда не любил прогулок. Жалко было видеть, что прилежная ходьба графа вызывалась нестерпимыми головными болями; и хотя бы он порою болезненно не хватался за лоб, уже один багровый цвет лица свидетельствовал о сильнейшем приливе крови. Эти ужасные головные боли не уступали никаким лечениям и минеральным водам, куда граф тем не менее пробовал обращаться. И вот одна из причин, по которым переписка наша понемногу замолкла.
В 1873 году Алексей Константинович переслал мне свою прелестную поэму: «Сон Попова» при следующих строках:
Добрый, хороший, милый, любезный Афанасий Афанасьевич! Прежде всего позвольте мне вас обнять и поблагодарить за добрую память и за стихотворение: «Только встречу улыбку твою»… Вы знаете, как я и жена высоко ценим вас и как человека, и как поэта, и вы можете себе вообразить, какое удовольствие доставили нам ваши строки. А теперь я должен вам сказать, отчего я до сих пор вам не отвечал: с мая месяца у меня почти не перестает болеть голова, но последние два месяца, особенно конец сентября и начало октября, были для меня настоящею пыткой, так что ни на час, ни на четверть часа я не был свободен от самых яростных невралгических болей в голове. Я не только не мог для вас списать «Попова», но не мог написать ни одной строчки. Теперь, по крайней мере, я на несколько часов бываю свободен и пользуюсь именно таким промежутком, чтобы извиниться перед вами. На днях, жена и я, мы едем заграницу на зиму, пока в Швейцарию, в Montrenx, а там может быть и в Италию. Что вы последнее время так мало пишете? Вам бы не следовало переставать; а так как вы поэт лирический par exelence, то все, что вас окружает, хотя бы и проза, и свинство — может вам служить отрицательным вызовом для поэзии. Неужели бестиальский взгляд на вас русских фельетонов может у вас отбить охоту? Да он-то и должен был вас подзадорить! Обнимаю вас сердечно, жена вам дружески жмет руку, все мы вас любим.
Ваш Ал. Толстой.
Предоставляя более подробное описание характеристики Алексея Толстого его биографам, я остановился в моих воспоминаниях на немногих точках наших более или менее случайных встреч и считаю себя счастливым, что встретился в жизни с таким нравственно здоровым, широко образованным, рыцарски благородным и женственно нежным человеком, каким был покойный граф Алексей Константинович.
24 января 1869 года, запасшись необходимыми бумагами и главною купчею Тима, я с вечерним курьерским поездом Московско-Рязанской дороги отправился по направлению к Грязям и оттуда в Елец, куда по уговору ожидал и Н. И. Ак-ва для совершения купчей в окружном суде. Вспоминаю небольшое приключение свое на этом ночном поезде. Помню, что в вагоне 1-го класса было довольно тесновато и, как мне показалось, душно. Помню, что, почувствовав себя дурно, я встал и пошел в уборную и на рассвете, раскрывая глаза, увидал себя занимающим два места рядом. От слабости я едва поднимал голову, хотя боли никакой не чувствовал. Оказалось, что, падая в обмороке навзничь, я спиною завалил дверку уборной, отворявшуюся внутрь; и уже не знаю, каким образом кондуктор вынул меня оттуда. Покойно отдыхая на диване, я понимал, что обязан этим благотворительности нескольких молодых спутников и спутниц: они оказались елецкими помещиками и вероятно в свою очередь спросили об имени, — так как я совершенно ясно помню их рассуждения о том, что до сих пор они были убеждены, что Фет только литературный псевдоним Шеншина.
По приезде в Елец, помню только ожидавшие их две прекрасные тройки в санях, обитых красный сукном. Благодетели мои поместили меня в одни из саней и отвезли в лучшую гостиницу, помнится, — Петербургскую. Конечно, они мне сказали свою фамилию, и я усердно благодарил их, но в полусознательном состоянии я не удержал этого имени в памяти и был бы очень счастлив, чтобы хотя из этих записок они увидали, что я не забыл их благодеяния.
Добравшись до теплого номера, я, конечно, почти весь день пролежал в постели. Зато на другой день бросился к старшему нотариусу приуготовить беспрепятственное совершение купчей. Посмотревши прежнюю купчую, старший нотариус наотрез заявил, что без вводного диета совершать купчей не станет. И когда я стал его просить, — нельзя ли в архиве поискать дело о продаже мне Тима, — он пояснил, что дела свалены в величайшем беспорядке, и чиновники архива невозможные пьяницы. Испытавши не раз, что никакие формальности при купчей не гарантируют покупатели от возникновения всяческих препятствий на купленное имущество, — и никак не мог понять, почему, при существовании законной купчей, нотариусы требуют так настойчиво и вводного листа? Но так как успех деда зависел от взгляда нотариуса, а не моего, то и пришлось отправляться в морозный нетопленный архив и не только обещать чиновникам известное вознаграждение на отыскание дела, но ежеминутно давать им денег на водку, необходимую, по их словам, чтобы согреться над работой в морозном архиве. Когда часа через два после выдачи денег я являлся в архив, то находил тружеников почти без языка. «Помилуйте, восклицал в заглядывавший в архив старший нотариус:- вы распоили мне моих чиновников».
— Вы же сами, отвечал я, вынуждаете меня рыться в хаотическом архиве.
Там провел я два дни в этом милом уголке, который наверное был бы не забыт Дантом в его аду, если бы только был ему известен. К этому следует присоединить еще и другую заботу. С часу на час ждал я приезда Ник. Ив. Ак-ва, а его-то, как нарочно, и не было. Наступил срочный день, условленный запродажною записью, а о Николае Ивановиче ни слуху, ни духу.
Часов в 9 утра я уселся за свой утренний кофей, желая развлечься хотя каким-нибудь механическим действием. Вдруг огненно красная портьера в переднюю зашевелилась, и из за нее выглянуло лаком покрытое лицо Николая Ивановича.
— Николай Иванович! да что ж вы это? я измучился.
— Помилуйте-с, кажется в самый срок!
— Я тут, истомился с этим поляком нотариусом да с его пьяными чиновниками, отыскивая отметку вводного листа.
— Помилуйте-с, он у меня-с! Вы сами его мне передали.
Вечером того же дня с деньгами, но уже без приключений я отправился обратно в Москву.
Тургенев писал от 13 января 1869 г. из Карлсруэ:
Хотел было отвечать стихами по старой памяти на ваши милые стихи, любезнейший Аф. Аф., но как я ни шпорил своего Пегаса (не собаку мою, которая так называется, а Аполлонова коня) — ни с места! Нечего делать, приходится прибегнуть к oratio pedestis. Прежде всего позвольте выразить удовольствие, доставленное мне возобновлением нашей переписки, а также и тем, что ваша поездка в Елец и бедствования по россейским трактирам не остались бесплодными, а, напротив, разрешились для вас великолепной сделкой, наполнившей ваши карманы ручьями «цаковых» {Тургенев всегда говорил, что будто бы никто не произносит с таким выражением, как я, слово целковый, ичто ему каждый раз кажется, что я уже положил его в карман.}. Теперь, стало быть, можно вам успокоиться. Неужели Боткин так плох, и нельзя ли мне узнать его адрес? Я провожу зиму в Карлсруе, охочусь много, работаю мало. В январской книжке Русск. Вестника будет моя штука. Написана она горячо и без всякой задней мысли, — а, быть, может, тоже не понравится. Г-жа Виардо ее не одобрила, и потому в моих глазах суд над нею уже произнесен. По крайней мере не длинно. Только можно читать, что Л.Толстого, когда он не философствует, — да Решетникова. Вы читали что-нибудь сего последнего? Правда, дальше идти не может. Черт знает что такое! Вез шуток, очень замечательный талант.
Ну а вы, мировая судия, что поделываете? Как то вы лишились вашего возлюбленного предводителя? Вам непременно надо написать свои мемуары и записки, как судьи.- Sine et ira studio, и не думая ни о нигилистах, ни о Некрасове, ни даже о Минаеве. И когда я приеду весной в деревню — в Степановку, — вы должны уже мне прочесть несколько отрывков. Славно будет!
Ну а засим прощайте. Милой вашей жене кланяюсь низехонько, а вам дружески жму руку.
Ваш Ив. Тургенев.
P. S. Я посылаю письмо через Борисова, ибо не знаю наверное, где вы витаете.
Проезжающий по Московско-Курской дороге, взглянув на пятой версте от Мценска к Орлу налево, увидит каменную церковь села Волкова и на минуту мелькнувший на просеке парка прекрасный каменный дом. Это и была усадьба уездного предводителя В. А. Ш-а, с которым мы уже встречались в этих воспоминаниях. Сколько лиц пировало в этой большой зале за хлебосольным столом хозяина, любившего и умевшего угостить! Предводитель, подобно Тургеневу, был любитель шахматной игры, и поэтому мы не раз с Тургеневым встречались в этом доме, не забывая притом и приятного влияния Редерера. Мало заинтересованный закулисными пружинами общественной жизни, я положительно не знал и не знаю до сих пор причин, по которым, в бытность мою в Москве, отслуживший пять трехлетий, Влад. Ал. не продолжал своего служения, уступая место Ал. Арк. Тимирязеву, с которым мы познакомились выше. Не знаю, кто из нас чаще бывал у бывшего предводителя: я или Тургенев. Что Тургенев не чуждался своей дворянской роли, заключаю потому, что видел его в Спасском, охорашивающимся перед зеркалом в только что полученном от портного дворянском мундире, в котором, как он говорил, он едет в экстренное дворянское собрание. Поэтому я никак не могу понять Фразы последнего его письма: «Както вы лишились вашего возлюбленного предводителя?» Тогда как с одинаковым правом он бы мог сказать моею или, по крайней мере, нашею.
Тургенев из Карлсруэ писал от 18 Февраля 1869 г.:
В ответ на возглас соловьиный
(Он устарел, но голосист!)
Шлет щур седой с полей чужбины
Хоть хриплый, но приветный свист.
Эх! плохи стали птицы обе
И уж не ноюнеть им вновь!
Но движется у каждой в зобе
Все то же сердце, та же кровь….
И знай: едва весна вернется
И заиграет жизнь в лесах, —
Щур отряхнется, встрепенется
И в гости к соловью мах-мах!
Вот, верите ли, любезнейший Аф. Аф., ваше премилое стихотворение и меня расшевелило! Я очень рад, что мы между собою совершили опять то, что в 1866 году никак не удалось Баварской и Баденской армии — eine Fühlung {Fühlung — осязание, нащупывание.}. Весною, если никакого не встретится препятствия, эта Fühlung непременно превратится в Zuzammenkunft.
Я воспользовался присланным адресом и сегодня же написал письмо Василию Петровичу; да кстати уже двум другим калекам: Николаю Милютину да Александру Герцену; этот последний больше всех искалечен жизнью. Нет, решительно, жизнь не шутит. И когда начинает она щелкать, только держись! Все старые грехи помянет, ни одного не пропустит! Перевалившись за 50 лет, человек живет как в крепости, которую осаждает смерть и непременно возьмет… Остается защищаться да и без вылазок.
Немецкую книгу, которую вы желаете иметь, привезу вам непременно и очень любопытствую прочесть ваши заметки о мировом законодательстве. Что касается до моей посильной деятельности, то вам вероятно уже известно, что я тиснул штуку в первом номере Русск. Вестника, а в мартовской книжке Вестника Европы будут помещены мои «Воспоминания о Белинском». Это, я полагаю, вас несколько больше заинтересует. Но что меня теперь интересует — это первое представление нашей оперетки («Последний колдун» с музыкою г-жи Виардо) на Веймарском театре 8 апреля. Я непременно туда поеду и буду трепетать, хотя успех вероятен: музыка прелестная. Если оперетка понравится, то это может иметь важное влияние на будущую карьеру Виардо: она займется композицией. Посылаю вам, как поэту и любителю изящного, фотографическую карточку старшей дочери г-жи Виардо; что за прелесть! Вот на кого нужно стихи писать. И талантом к живописи она обладает необычайным, и вообще существо удивительное. Кланяюсь вашей жене.
Ваш Ив. Тургенев.
Не успели мы вернуться в Степановку, как пришла весть о смерти бедной Нади в заведении «Всех Скорбящих», где она провела последние свои годы[228]. Из желания привлечь внимание читателя я начал свои воспоминания со встречи моей с выдающимися литературными деятелями моего времени, и не знаю, доведется ли мне начать свою автобиографию с детства и отрочества. Но в настоящую минуту, даже занимаясь исключительно второю половиной моей жизни, я поневоле иногда озираюсь на первую, находя в ней однородные явления. Я никогда не забуду минуты, когда, только что кончивший курс 23-х летний юноша, я готов был, уступая мольбам болезненно умирающей матери, отказаться от всей карьеры и, зарядив пистолет, одним верным ударом покончить ее страдания. Можно представить, с каким радостным умилением я смотрел на ее дорогое и просветленное лицо, когда она лежала в гробу. Не странно ли, что впоследствии я не встретил ни одной смерти близких мне людей без внутреннего примирения, чтобы не сказать — без радости. Так было и с бедною Надей.
Толстой писал от 5 марта 1869 года:
Ради Бога не измените, милый друг. С 13-го на 14-е в ночь вас будут дожидаться лошади в Ясенках. А то кончится тем, что мы с вами с удивлением встретимся на том свете. — «А, вы уж здесь, Афан. Афан.?» — Виноват я за то, что не писал вам, но не наказывайте меня и приезжайте не на день, а на два. Много надо поговорить. Наши душевные поклоны с женою Марье Петровне. Ждем вас с большою радостью.
Ваш Л. Толстой.
С первых дней открытия мценского мирового съезда, ежемесячные заседания его остались верными по сей день 12-му числу каждого месяца. Письмо графа, очевидно, приглашало меня воспользоваться прямо со съезда сравнительной близостью Ясенков от Мценска.
В мае месяце в Степановку прибыл с молодою женою один из меньших братьев Боткиных, Владимир, славившийся между знакомыми физическою силой и гимнастическими упражнениями. Я помню, как, возвращаясь теплой вечернею зарею в половине мая со степной прогулки, он остановился и, глубоко вздохнув, воскликнул, обращаясь к жене своей: «неправда ли, что подобный воздух прибавляет десять лет жизни?» Такое идиллическое расположение духа юного силача заставило нас рассказывать об осеннем приезде в Степановку второго из старших братьев Боткиных — Николая, с которым мы не раз встречались в наших воспоминаниях, как с человеком, находившим величайшую отраду в доставлении удовольствия другим. В последнее время он и в Москве появлялся редко, а предавался своим нескончаемым путешествиям по Малой Азии и Египту, так как Европа уже видимо ему надоела. В единственный приезд свой прошлою осенью в Степановку, он прямо объявил, что приехал проститься перед отъездом в Египет. Но при этом он был неузнаваем: он до того был мрачен, не взирая на все усилия сопровождавшего его услужливого компаньона, что даже три дня, проведенные им в Степановке, показались нам тяжелыми.
Настоящая весна и лето, начавшиеся смертью Нади, не переставали напоминать о смерти. Не успели мы проводить в Москву молодую чету Боткиных, как получено было известие о следующем приключении с туристом Ник. Петр. Боткиным. Проездом из Александрии, он остановился в Пеште в большой гостинице. Почему-то накануне он отказал своему слуге-французу, помещавшемуся в той же гостинице несколькими этажами выше. Ночью во время бессонницы, мучимый, вероятно, сожалением о своем отказе, он, подымаясь в верхние этажи, стад отыскивать дверь слуги француза, и уверенный, что нашел ее, впотьмах вошел в номер. Ночевавший в номере венгерец, считая пришедшего за вора, стал громко звать на помощь. Этот крик в свою очередь до того напугал Боткина, что, принимая оконную раму с низким подоконником за дверь, он, как сильный человек, стад кулаком бить по переплету и выламывать раму. Швейцар гостиницы, услыхавши вверху лестницы погром, со свечей и с криком бросился вверх, что, быть может, еще усилило потерянность Боткина. Швейцар застал последнего в ту минуту, когда он вместе с выломленною рамой упал на мостовую с пятого этажа и, разумеется, остался мертвым на месте. Происшествие это было так неожиданно и представляло такую путаницу, что гостивший у нас две недели тому назад Владимир Боткин тотчас же отправился в Пешт и привез оттуда в Москву тело брата.
Боткин писал от 9 июня 1869 г. из Италии:
Милые друзья! я теперь беру ванны на острове Исхии и хотя взял уже 28 ванн, но на ревматизм они влияния не имели. Отсюда через три дня отправляемся обратно тихими переездами до Мюнхена, где условились свидеться с Сережей. Куда он назначит, туда и поеду. — Плох я, страшно слаб, лишенный всякого малейшего движения, не могу не только передвигать ноги, но даже стоять; словом, болезнь так сильно овладела мною, что я не имею никаких надежд на поправление. Еще здесь со мною брат Миша, которому я и диктую это письмо; а что будет без него, я боюсь и думать. Оттого мне хочется на зиму в Петербург. Мне возражают — климат, — а мне всю зиму постоянно только делалось хуже. А в Петербурге я, по крайней мере, буду у себя дома. Вообще все это должно решиться при свидании с Сережей, — где мне придется зимовать. Как я часто вспоминаю Степановку и вашу тихую жизнь, и время, которое я жил там, и вы не можете представить себе, как мне приятно все это вспоминать, и все это стало для меня невозвратным прошедшим.
Мы только на днях кончили «Войну и Мир». Исключая страниц о масонстве, которые мало интересны и как-то скучно изложены, — этот роман во всех отношениях превосходен. Но неужели Толстой остановится на пятой части? Мне кажется, это невозможно. Какая яркость и вместе глубина характеристики! Какой характер Наташи и как выдержан! Да, все в этом превосходном произведении возбуждает глубочайший интерес. Даже его военные соображения полны интереса, и мне в большей части случаев кажется, что он совершенно прав. И потом какое это глубоко-русское произведение.
К немалому моему огорчению, Обрыв Гончарова (увы! я сам не читаю, все это читает мне Миша) — оказался длинной, многословной рапсодией, утомительной до тошноты. Впрочем мы могли одолеть только две части. А между тем однакож какой талант, какая изобразительность описаний! Ему описание вещей удается более людей. Райский есть просто нелепость.
Вы не смотрите на мое молчание и будьте великодушны — пишите мне. Ведь вы знаете, что вы мне близкие и дорогие люди. Если Сережа не позволит мне зимовать в Петербурге, то я приеду на зиму в Париж и там постараюсь устроиться. Может быть ты, Маша, навестишь меня? Я теперь не знаю, где я буду, и потому, как определится мое местопребывание, то я вам тотчас напишу. Пока прощайте, добрые друзья мои.
Преданный вам всем сердцем В. Боткин.
Не прошло и двух месяцев с трагической смерти Николая Боткина, как пришла весть о внезапно заболевшем тифом Владимире Петровиче, который через несколько дней и скончался.
Вместе с приехавшим к нам из своей Грайворонки братом Петром Афан., мы отправились обедать к Александру Никитичу и сестре Любиньке. Конечно, в нашем семейном кругу разговор тотчас же склонился к смерти дорогой Нади. И по этому случаю Любинька первая подняла знамя бунта насчет отчужденности дорогой усопшей от семейного кладбища. Это, по выражению ее, было нам, близким ее, — непростительно. «И мы должны, — говорила она, — употребить все усилия и пойти на все издержки для перенесения ее тела из Петербурга сюда». Конечно, под живым впечатлением недавней утраты никто даже не спросил, — что значит: сюда? Правда, в родовом селе Клейменове покоится не отец, а дядя нашего отца и затем наши родители: отец и мать. Но более из нашего рода никого там нет. Судьба точно позаботилась раскидать всех наших усопших по всей стране от Петербурга и до Кавказа. Но увлечение так и называется только потому, что уносит нас мимо всяких соображений и препятствий. Положа разделить расход на три части и зная мои дружеские отношения к Борисову, — меня просили съездить к нему и передать ему нашу общую просьбу.
Борисов, никогда не бывший особенно сообщительным, вел, со времени разлуки с женою и отдачи сына в училище, жизнь замечательно уединенную. Из трех главных усадебных новосельских построек, среднюю, т. е. дом о десяти комнатах, Борисов, как слишком большую для себя, запер; а старый флигель, в котором когда-то жил отец наш, был частию обращен в кухню, а частию в жилище повара и единственного слуги. Сам же Иван Петрович помещался в новом флигеле, отстоящем шагов на сто как от дома, так и от старого флигеля. Во флигеле этом, состоящем всего из двух больших и двух маленьких комнат, умерла когда-то наша мать, прожили мы с женою два лета и проживал в настоящее время Иван Петрович. Зимою нельзя было себе представить ничего пустыннее этого флигеля, стоящего неподалеку от опушки леса. Прислуга с крыльца старого флигеля, когда окна Ивана Петровича еще светились, нередко видала на дорожке перед его сенями флегматически стоящих волков, — когда одного, а когда и двух. Часы для подачи обеда и самоваров были заранее определены, а в экстренных случаях призыва слуги Борисов выходил на свое крылечко и стрелял из ружья. Через несколько минут являлся слуга.
В первой комнате на диване мне приготовили постель, но прежде чем отойти ко сну, мне хотелось разъяснить вопрос, ради которого я приехал. Только энергически сдержанной и исстрадавшейся натурой можно объяснить исход моей мирной и дружелюбной речи. Не давая себе труда объяснить своего отказа, Борисов напрямик объявил, что чего бы родные его жены ни предпринимали, он авторитетом мужа трогать тело жены с места погребения не позволит, и наконец спросил: «Ты только передаешь решение всех остальных или же и сам в нем участвуешь?» — Конечно, я отвечал, что участвую. «Ну так, — сказал он с дрожью в голосе и с брызнувшими слезами, — не знай же ты более ни меня, ни моего сына. Никто не знает, что я сделал гораздо более, чем позволяют наши средства».
С этими словами он круто повернулся и ушел в свою комнату; и до отъезда моего ранним утром мы не обменялись ни одним словом, и я слышал ясно его сдержанные рыдания. Чего бы, кажется, проще было переступить через порог, обнять друга детства и даже разбранить его за неуместное трагическое восприятие плана, в котором не было ни малейшего желания оскорбить его. Но я сам был ошеломлен всем случившимся, и, к стыду моему, мне не раз в жизни случалось (как сказалось у меня в одном из стихотворений):
«Шептать и поправлять былые выражения Речей моих с тобой, исполненных смущенья…»[229]Тургенев писал от 23 августа 1869 года из Бадена:
«20 сентября нашего стиля я подъеду у вашему Баденскому дому». — Фраза эта, вычитанная мною в вашем письме, любезнейший Аф. Аф., повергла меня в совершеннейшее недоумение. 20 сентября нашего стиля равняется 2-му октября европейского, — значит с небольшим через три недели? Охота у нас в Бадене тогда в самом разгаре, и вы бы имели все возможные случаи отличиться. Но как же вы впродолжение письма говорите о ваших работах по мировой части до самой весны и вообще уже более не упоминаете об этом путешествии? Непонятно, решительно непонятно! Жили бы вы, конечно, у меня в доме, все бы вам обрадовались, но все-таки это мне кажется темнотою, и потому я не могу предаться никаким приятным мечтам по этому поводу.
Здоровье мое исправилось, и я, хотя осторожно, могу с разрешения доктора ходить на охоту. Был всего два раза: в первый раз стрелялось отлично — из 14 выстрелов попал 11 раз; во второй раз стрелял гораздо хуже: 27 выстрелов — убито 15 штук. Долго ходить не могу. Однако после завтра отправляюсь опять. Литературной занимаюсь мало и до сих пор не могу окончить дурацких моих «Воспоминаний». Театр у г-жи Виардо устроен окончательно. Ездил в Мюнхен, видел много хорошего. Жизнь вообще ничего: то ползет, то течет и, главное, проходит.
Мой сад здесь также разрастается: приезжайте, посмотрите.
Но какую же вы мне задали загвоздку! На всякий случай к 20-му сентября старого стиля комната будет готова.
Преданный вам Ив. Тургенев.
Толстой писал от 30 августа 1869 года:
Получил ваше письмо и отвечаю не столько на него, сколько на свои мысли о вас. Уж верно я не менее вашего тужу о том, что мы так мало видимся. Я делал планы приехать к вам и делаю еще. Но до сих пор вот не готов шестой том, который я думал кончить месяц тому назад, — до сих пор, хотя весь давно набран, — не кончен.
Знаете ли что было для меня нынешнее лето? — Не перестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю (прочел и Канта). И верно ни один студент в свой курс не учился так много и столь многого не узнал, как я в нынешнее лето. Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр гениальнейший из людей. Вы говорили, что он так себе кое-что писал о философских предметах. Как кое-что? Это весь мир в невероятно ясном и красивом отражении. Я начал переводить его. Не возьметесь ли и вы за перевод его? Мы бы издали вместе. Читая его, мне непостижимо, каким образом может оставаться имя его неизвестным? Объяснение только одно, то самое, которое он так часто повторяет, что кроме идиотов на свете почти никого нет. Жду вас с нетерпением к себе. Иногда душит неудовлетворенная потребность в родственной натуре, как ваша, чтобы высказать все накопившееся.
Ваш Л. Толстой.
Уже написав это письмо, — решил окончательно свою поездку в Пензенскую губернию для осмотра имения, которое я намереваюсь купить в тамошней глуши. Я еду завтра 31-го и вернусь около 14-го. Вас же жду к себе и прошу вместе с женой к ее именинам, т. е. приехать 15-го и пробыть у нас по крайней мере дня три.
Л. Толстой.
Тургенев писал из Бадена от 3 октября 1869 года.
Никакой вашей «кульпы» {Извиняясь в неясности предшествующего моего письма, я начал свои ответ словами: «mea culpa» (моя вина).} нет, дорогой Афан. Афан., а моя необдуманность. Не мог же я в самом деле предполагать, что вам возможно будет в нынешнем году оторваться от ваших мировых действий — и очутиться здесь, на мирных, но отдаленных берегах! Но коли не в нынешнем году, то уже в будущем я наивернейшим образом на вас рассчитываю и уже мысленно рисую вас то с ружьем в руке, то просто беседующего о том, что Шекспир был глупец, и что, говоря словами Л. Н. Толстого, только та деятельность приносит плоды, которая бессознательна. Как это, подумаешь, северные американцы во сне, без всякого сознания, провели железную дорогу от Нью-Йорка до С.-Франциско? Или это не плод? Но в сторону философствования, успеем предаться им при свидании. Плохо то, что вы никакой охоты не имеете; придется вам уже отложить эти попечения до приезда в наши бусурманские края. Меня доктора было огорошили запрещением ходить на охоту, под предлогом, что у меня «Verdichtung der rechten Herz-klappe», однако теперь дело словно исправляется, да и жары свалили. Работал я, конечно, очень мало, загляните в Литературные Воспоминания, помещенные в виде предисловия к новому изданию (вам будет прислан от моего имени Салаевым экземпляр). Может быть иное сорвет с ваших уст улыбку.
Письмо мое, вероятно, не застанет вас в Степановке; вы будете в Петербурге дивиться превратности времен, при взгляде на развалины Боткина. Опишите это свидание, хотя, вероятно, радостного в нем будет мало.
Семейство Виардо здравствует и процветает и шлет вам поклоны. Мы продолжаем музицировать, занимаемся оперетками и т. д. Сегодня, например, у нас представление на новопостроенном театре, в присутствии короля и королевы Прусской. Вот в каких мы, батюшка, гонёрах!
Зиму я думаю провести здесь, а может быть в Веймаре. Поклонитесь от меня вашей милой супруге. А что Муза — совсем умолкла?
Крепко жму вам руку и желаю всего хорошего.
Ваш Ив. Тургенев.
VII
Смерть В. П. Боткина. — Болезнь Петруши Борисова. — Письма. — Встреча с англичанином у Тургенева. — У Каткова на даче. — Болезнь жены. — Я еду в Москву за доктором. — Письма. — Болезнь и смерть И. П. Борисова. — Петруша Борисов. — Письма.
Воспоминания мои подходят к эпизоду, подробно мне знакомому, хотя я лично в нем роли не играл. Я говорю о смерти Василия Петровича, подробности которой слышал со всех сторон, начиная с любимого им брата Дмитрия Петровича, которого он за несколько дней до своей кончины вызвал в Петербург. Василий Петрович, у которого все сочленения и в особенности руки были сведены ревматизмом, был перевезен в Петербург с особенными предосторожностями и переносился с места на место на коже с прикрепленными к ней ручками. В Петербурге, по его предварительному распоряжению, нанята была для него великолепная квартира, убранная со всевозможным комфортом и роскошью. Повара он нанял из кухни цесаревича и ежедневно проверял обеденную карту. Он устроил себе прекрасный квартет из мастерских исполнителей и сам назначал любимые свои пьесы. За великолепными обедами, на которых Вас. Петр. присутствовал более как зритель, ежедневно собирались интересовавшие его друзья, и он настойчиво рекомендовал блюдо, казавшееся ему наиболее удачным.
«Митя, — говорил он брату, — вот меня осуждали за бережливость. Зато ты видишь, как я обстановил свою жизнь перед концом. Ты не можешь себе представить, до какой степени мне это приятно. Райские птицы поют у меня на душе».
«4-го октября, — рассказывал ходивший за больным Дмитрий Кириллович, — у нас заказан был квартет, и к обеду ожидалось много гостей. Зная, что у Василия Петровича от долговременной неподвижности на постели отекали члены, я, покуда он еще не вставал, перекладывал его на подушке. Переложив его таким образом, я через каких-нибудь полчаса вздумал поправить его снова. Но когда я подходил к нему, он показался мне чрезмерно тих. Я пригнулся, чтобы прислушаться к его дыханию. Дыхания не было, а руки и лоб уже похолодели. Я и не заметил, как он кончился».
Толстой писал от 21 октября 1869 г.:
Я в Москве чуть-чуть не застал вас, как мне сказал Борисов. А у вас в семействе смерть за смертью. Меня ужасно поразил характер смерти В. П. Боткина. Если правда, что рассказывают, то это ужасно. Как не нашлось между всеми друзьями одного, который бы придал этому высочайшему моменту в жизни тот характер, который ему подобает.
Борисова мне очень жалко и не могу верить, чтобы туча эта не прошла мимо. Насчет портрета я прямо говорил и говорю: нет {Я просил графа дозволить снять с него живописный портрет.}. Если это вам неприятно, то прошу прощенья. Есть какое-то чувство, сильнее рассуждения, которое мне говорит, что это не годится. Жена вам кланяется.
Покупка моего Пензенского имения разладилась. Шестой том окончательно отдал, и к 1-му ноября верно выйдет. Вальдшнепов было и есть пропасть. Я убивал по восьми штук и нынче нашел 4-х и убил одного.
Для меня теперь самое мертвое время: не думаю и не пишу и чувствую себя приятно глупым. На первый свой отдых после работы, вероятно, через месяц, приеду к вам. Теперь не еду, потому что только что приехал, и хозяйственные дела. А если вы поедете в Москву, то следовало бы вам заехать к нам с Марьей Петровной. Только напишите — когда, и я выеду за вами в Тулу иди на Ясенки, или даже, если вы без багажа, — на полустанцию Козловку, от которой две версты до нас. Передайте же наши с женою поклоны и просьбы Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
Итак, вот перед нами два мировоззрения, два поучения, две этики. Прежде чем судить о них, надо их понять; а это кажется всего легче из их сопоставления, чтобы не сказать противопоставления. Известно, до какой степени умственное развитие и в особенности знакомство с философским мышлением влияют на нравственный характер человека. Положим, что этот опытный характер в сущности остается верен прирожденному умопостигаемому. Смотря по этому коренному характеру, человек делает и употребление из накопляемых умственных богатств. Одни, подобно Боткину, стараются уложить эти богатства в кладовую и притом так, чтобы они как-нибудь своими выдающимися частями не задерживали свободного бега основного характера, а при случае даже помогали оправдывать некоторое излишество единственным мотивом безвредности их для других лиц.
Другие же, под влиянием основного характера, подобно графу Толстому, накопляют приобретаемые богатства тут же под руками, для того чтобы во всякую минуту находить в них новое оправдание прирожденному чувству самоотрицания в пользу другого, причем неудержимый порыв самоотрицания не затруднится обработать новый материал так, чтобы он именно служил любимому делу.
Хотя в том и в другом случае все дело зависит как бы от химической пропорции тех же самых элементов, но на деле разница выходит громадна. Обозначать то и другое направление словами: эгоизм и самоотрицание (альтруизм) — было бы слишком грубо и неверно. Называть, например, Боткина эгоистом несправедливо. Правда, он стремительно нападал на все, что считал посягательством на свое «я»; но при этом добровольно готов был на всякие лишения, чтобы помочь действительно по его мнению нуждающемуся. Фактические к тому доказательства были уже приводимы госпожою Ольгой N., а некоторые пропущены мною в его письмах в пользу будущего биографа. Не личности Боткина и графа Толстого занимают меня в настоящую минуту, а те вечные мировые вопросы этики, которых наглядными представителями являются эти два типа. Благотворящий Боткин как бы говорит: «Да, я чувствую потребность помочь этому человеку. Для этого мне придется ущербить собственное благосостояние. Последнее очень досадно и прискорбно; но я покорюсь и перетерплю ввиду благой цели. Я даже постараюсь поскорее забыть и о своем благодеянии и о связанном с ним страдании, так как не стоит портить мимолетную и сулящую всевозможные отрады жизнь подобною дрянью».
«Лишения и мучения, претерпеваемые нами в пользу всей одушевленной братии, способной страдать, — говорит Толстой, — только одни представляют истинное наслаждение и конечную цель жизни. Цель эта должна быть преследуема нами во всех возможных случаях и направлениях».
Эти два главнейших направления, как известно, разделили между собою вселенную. Невозможно при малейшей справедливости обзывать всего востока, начиная с еврейского до греко-римского, за исключением Индии, лишенным чувства благотворительности. А между тем все эти миллионы миллионов людей не имели и до сих пор не имеют никакого понятия об учении аскетизма, проявившемся с последнего двухтысячелетия. Правда, учение стоиков близко, по-видимому, к нему подходило, хотя стоики воздерживались от наслаждений лишь во имя их неблагонадежности и малоценности. А это совершенно не то, что видеть в самоотрицании независимый подвиг. Боткин, подобно древнему римлянину, даже не понял бы, что хочет сказать человек, проповедующий, что перед смертью не надо венчаться розами, слушать вдохновенную музыку или стихи, или вдыхать пар лакомых блюд. Мы слишком далеко отклонились бы от нашей стези, пускаясь в более тонкие рассмотрения предмета. Мы даже воздерживаемся от вопроса, — каким из этих двух принципов руководствуется современное нам человечество рядом с аскетическою проповедью?
Набальзамированное тело Боткина было привезено в Москву для погребения на семейном кладбище в Покровском монастыре. Лицо его, по выражению полного примирения и светлой мысли, было поистине прекрасно. Обедню совершал соборне глубокочтимый и изящный епископ Леонид. При конце богослужения мне приятно было представиться бывшему моему университетскому законоучителю Петру Матвеевичу Терновскому.
Я забыл сказать, что когда Иван Петров. Борисов перевел своего Петю из немецкой школы в лицей Каткова, сестра Любинька положила во что бы то ни стало перевести сына своего Володю из той же школы в тот же лицей. Напрасно и я, и муж ее, Алекс. Никит., указывали на то, что Володя воспитывался под непосредственным наблюдением ученого и достопочтенного директора Лёша, одобрявшего его успехи, и к которому сам мальчик привязался. Ничто не помогло. Володя был переведен в лицей. При посещении Володи, я узнал от него о долговременной и жестокой болезни Петруши Борисова, от которой последний уже начинал оправляться. Когда мальчик лежал в тифе, подавая лишь слабые признаки жизни, несчастный Иван Петрович простоял две недели на коленях перед его кроватью, глядя на его изнеможенное лицо. В настоящую же минуту Борисов проводил уже ночи у себя в гостинице на Тверской и являлся в больницу лицея только в определенные часы дня. Узнавши про это, я не выдержал и решился поехать утром к Борисову, чтобы окончить разом наше нелепое недоразумение. Конечно, он с первых же слов обнял меня со слезами и на другой день приехал в дом Дмитрия Петровича, которого особенно любил.
Тургенев писал от 3 ноября 1869 г. из Баден-Бадена:
Любезный Афан. Афан., получил я ваше письмецо. Итак. Василия Петровича не стало. Жалко его, не как человека, а как товарища… Себялюбивое сожаление! Умница был, а хоть и говорят, что «l'esprit court les rues», но только не у нас в России… Да у нас и улиц мало. Признаюсь, меня не столько занимает его кончина, как мысль о том, что станется с несчастным Борисовым, если его сын умрет? Я писал к нему два раза, но ответа не получил, и потому чувствую большую тревогу. Мне сдается, что уже все кончено. Пожалуйста не поленитесь мне написать тотчас — как и что. Экая судьба трагическая этого бедняка! И как ему жить после этого?
Мне неприятно слышать, что вы нездоровы, и, — что вы там ни говорите, — что в вашем соседстве нет врача. Мольер смеялся над медициной не потому, что она была наука, а потому, что она в его время была религия, т. е. лечила лихорадку змеиными глазами и т. д. Девиз науки: 2x2=4; угол падения равен углу отражения и т. д.; над этими вещами еще никому не приходилось смеяться. Впрочем, это все предмет будущих споров в Бадене, если вы только приедете. К сожалению, я уже по-прежнему спорить не могу и не умею; флегма одолела до того, что несколько раз в день приходится с некоторым усилием расклеивать губы, слипшиеся от долгого молчания.
Охота идет помаленьку; погода только часто мешает. На днях был удачный день: мы убили 3-х кабанов, 2-х лисиц, 4-х диких коз, 6 фазанов, 2-х вальдшнепов, 2-х куропаток и 58 зайцев. На мою долю пришлось: 1 дикая коза, 1 фазан, 1 куропатка и 7 зайцев.
Правда ли, что в Орле появилась холера?
Засим, в ожидании ответа, дружески жму вам руку и кланяюсь вашей жене.
Ваш Ив. Тургенев.
Баден-Баден.
29 ноября 1869 года.
Третьего дня я вернулся из Веймара, куда я ездил на неделю, для того чтобы устроить переселение семейства Виардо в Веймар на 2 1/2 месяца, начиная с 1-го февраля. Собственно это делается для того, чтобы дать возможность старшей дочери Виардо брать уроки живописи (в Веймаре устроена отличная школа), да и Баден больно уже пуст зимою. В половине апреля они возвратятся в Баден.
Как идет ваша мировая деятельность? Я очень смеялся вашим двум-трем очеркам, особенно прикащику с переменным баритоном и фальцетом. Вам бы собрать все эти сценки да в книгу. Вышло бы прелесть! Но только поменьше умозрений, ибо вы философ sans le savoir и даже нападая на философию! Вот вы, например, из того факта, что вы хотите заключить контракты только с миром, а не с отдельными лицами, выводите следствие, что община и круговая порука вещи прелестные, и бьете себя по груди и кричите: mea culpa! Да кто же сомневается в том, что и община и круговая порука очень выгодны для помещика, для власти, для другого, одним словом; но выгодны ли они для самих субъектов? — Вот в чем вопрос! Оказывается, что больно невыгодны, да так, что разоряя крестьян и мешая всякому развитию хозяйства, становятся уже невыгодными и для других.
Радует меня очень известие о постепенном вздорожании земли у нас и о громадных покупках, совершаемых крестьянами. Смущает меня в то же время тот Факт, что Борисов в письме своем, полученном одновременно с вашим, сообщает мне известие о невозможности для Дрейлинга продать свое подгородное великолепное имение хоть за что-нибудь! Я запродал было свое именьице в 30-ти верстах от Орла, за 35 руб. десятину, — покупщик отступился! А вы тут такие громадные цифры в глаза мечете, что голова идет кругом! Будьте здоровы. Дружески жму вам руку.
Ваш Ив. Тургенев.
Баден-Баден.
21 декабря 1869 года.
Из вашего последнего письма я, грешный человек, прямо говоря, понял мало. Чую в нем веяние того духа, которым наполнена половина «Войны и мира» Толстого, — и потому уже и не суюсь. На вас не действуют жестокие слова: «Европа, пистолет, цивилизация»; зато действуют другие: «Русь, гашник, ерунда»; у всякого свой вкус. Душевно радуюсь преуспеянию вашего крестьянского быта, о котором вы повествуете, и ни на волос не верю ни в общину, ни в тот пар, который, по вашему, так необходим. Знаю только, что все эти хваленые особенности нашей жизни нисколько не свойственны исключительно нам, и что все это можно до последней йоты найти в настоящем, или в прошедшем той Европы, от которой вы так судорожно отпираетесь. Община существует у арабов (отчего они и мерли с голоду, а Кабилы, у которых ее нет, не мерли). Пар, круговая порука, — все это было и есть в Англии, в Германии большей частью было, потому что отменено. Нового ничего нет под луною, поверьте, даже в Степановке; даже ваши три философских этажа не новы. Предоставьте Толстому открывать, как говаривал Вас. П. Боткин, — Средиземное море.
А вот что вы сказали о своем значении как поэт, — правда; и тут нет никакой гордости. Только Кольцова вы напрасно забыли.
Ну, а теперь, я думаю, можно прекратить наши полемические препирания.
В половине апреля пущусь в Русь православную. И тогда-то будет под лад соловьиного пения стоять гул и стон спора на берегах и в окрестностях Зуши.
А до тех пор дружески вас обнимаю и кланяюсь Марье Петровне.
Ваш Ив. Тургенев.
Оглядываясь на наше, можно сказать, пророческое прошлое, невозможно не остановиться на многозначительных словах только что приведенного письма Тургенева. Не знаешь, чему поистине более удивляться: тому ли бестолковому и беспорядочному, риторическому и софистическому хламу, которым щеголяет письмо, или тем дорогим и несомненным истинам, которые местами таятся в этом хламе. Как бы защищая науку от моих нападок, Тургенев сам образцом науки выставляет — 2 x 2 = 4 и угол падения равен углу отражения. Но разве современная медицина хоть малость подходит под эту категорию? Почему наугад лечить бычачьей кровью, гипнотизмом, гомеопатией лучше и наукообразнее, чем змеиными глазами во времена Мольера? Тургенев укоряет меня в водобоязни перед Европой. А у меня, к сожалению, в сараях европейские и американские земледельческие орудия, несовместимые с общинным владением и круговою порукою, очевидно, давно отжившими свой век, и гальванизированные на время настоящими европофобами. И так будет продолжаться еще долго, пока наши европолюбцы с одной стороны, а мнимые славянофилы с другой — не откажутся от жестоких слов. Всему свое время, и Тургенев тысячу раз прав, указывая на то, что община и круговая порука возможны в пользу владельца только при нижайшей степени общественности. У человека, жаждущего выхода на рыночный простор, община и круговая порука действительно немыслимы. Это гораздо несбыточнее немецких бегов взапуски с ногами и телом, завязанным по горло в мешке. Но почему же Тургенев в свою очередь, упрекая меня в боязни жестоких слов: «Европа, пистолет, цивилизация», — упрекает кто же время в сочувствии к другим: «Русь, ерунда, гашник?» Доживи он до нашего времени, то убедился бы в увлечении Европы и в особенности то презираемой, то превозносимой им Франции к этой Руси, которой так же невозможно отрицать, как ревности, которую старался уничтожить Чернышевский. Следя по порядку за предметами Тургеневских упреков, мы останавливаемся на слове гашник, быть может, даже непонятном иному читателю. Гашник — та нитяная тесьма или веревка, которую русский крестьянин продергивает в верхний край своего исподнего платья, чтобы удержать последнее на поясе. Тургенев прав, назвавши гашник, как одну из самых закоренелых русских вещей, к каким принадлежат между прочим: правила, дуга, черезседелень и т. д. Но ведь все хорошо на своем месте и в своей обстановке. Немец и Француз носит помочи и пуговицы; но откуда возьмет пуговиц русский крестьянин для белья, которое баба немилосердно колотит вальком на камне; тогда как гашник ничего не стоит и все терпит. Честь ему и слава! Как же после этого не сказать, что пристрастие к ерунде скорее на стороне Ивана Сергеевича?
Толстой писал мне 1870 года 4 февраля:
Письмо ваше, любезный Афанасий Афанасьевич, получил я 1-го февраля. Но даже если бы подучил и несколько прежде, я не мог бы ехать. Вы мне пишете: «я один, один!!» А я читаю и думаю: вот счастливец — один. А у меня жена, трое детей, четвертый грудной, две старухи тетки, нянька и две горничные. И все это вместе больно: лихорадка и жар, слабость, головная боль, кашель. В таком положении зачитало меня ваше письмо. Теперь начинают поправляться; но за столом еще обедаю я со старухой теткой из десяти человек. Да и я второй день болен грудью и боком. Как только поправимся, то приеду к вам. Многое, очень многое хочется вам сообщить. Я очень много читал Шекспира, Гете, Пушкина, Гоголя, Мольера, — и обо всем этом многое хочется вам сказать. Я нынешний год не получаю ни одного журнала и ни одной газеты и нахожу, что это очень полезно. Пожалуйста пишите мне изредка, чтобы мне знать, можно ли застать вас дома.
Ваш Л. Толстой.
Тургенев писал:
Баден-Баден.
4 Февраля 1870.
Любезнейший Фет, письмо ваше застало меня еще здесь, но на самом кануне отъезда в Веймар, куда мы все купно перебираемся на два месяца. Имею вам сказать два слова о Луизе Геритт, дочери г-жи Виардо. Эта несчастная и сумасбродная женщина много причинила горя всему своему семейству, и кончит тем, что себя погубит. Выйдя замуж по собственному настойчивому желанию за г-на Геритта (я за несколько дней до ее решения ездил к ней с предложением от другого француза, прекрасного человека, которого она, казалось, любила до тех пор), — она внезапно возненавидела своего мужа, хотя ни в чем упрекнуть его не могла, убежала с Мыса Доброй Надежды, где он был консулом, и явилась в Баден; потом покинула родительский дом и после разных странствований очутилась в Петербурге, где поступила в профессоры пения в консерваторию (она хорошая музыкантша). До того времени она аккуратно получала от мужа, — который ни в чем ей не препятствовал и не пользовался страшными правами, признанными за супругами мужеского пола французским кодексом, — проценты с своего приданого и пенсию; все вместе равнялось 10,000 франкам. Но тут она вдруг объявила ему, что довольствуется жалованьем и не хочет от него ни копейки. Между тем здоровье ее не выдержало петербургского климата, и она, будучи принуждена отказаться от своего места, внезапно ускакала к каким-то знакомым в Екатеринославскую губернию, у которых она будет жить на хлебах, так как гордость не позволяет ей обратиться снова к мужу, который назначен генеральным консулом в Данию и живет в Копенгагене с своим и ее сыном. Должно отдать ему справедливость, что он во всем этом деле поступил безукоризненно: до сих пор не отказывается ни платить ей пенсию, ни снова принять ее в дом, позволяет ей жить, где ей заблагорассудится, с одним только условием: не поступать на театр, к которому она впрочем не имеет никакого расположения. Вот правдивая история этой несчастной женщины, которая, хотя и не русского происхождения, однако нигилистка. Чем это все кончится? Может быть, самоубийством…
А теперь позвольте мне поворчать немного. Я охотно допускаю всякое преувеличение, всякую так называемую «комическую ярость», особенно когда речь идет о людях или о вещах в сущности любимых; но ваши отзывы о наших собратьях русских литераторах, о нашем бедном Обществе, — говоря без прикрас, — возмутительны. Было бы великим счастьем, если бы действительно вы были самым бедным русским литератором!.. Не сердитесь на меня… Я потому и говорю вам так, что люблю вас искренно. Жму вам дружески руку.
Ваш Ив. Тургенев.
Л. Толстой писал от 17 февраля 1870 года:
Я вам не писал тотчас же, потому что надеялся поехать к вам 14-го в ночь, но не мог. Как я вам писал, мы все были больны, — я последний; и я вчера в первый раз вышел. Остановила же меня боль глаз, которая усиливается от ветра и бессонницы. Теперь откладываю невольно и с большою грустью поездку к вам до поста. Мне же теперь необходимо съездить в Москву проводить тетушку к сестре и показать свои глаза окулисту. Пишите мне пожалуйста почаще, чтобы я знал, дома ли вы и что предпринимаете, с тем чтобы я, если глаза лучше, мог все-таки приехать. Мне так этого хочется. Горе то, что к вам нельзя приехать иначе, как после бессонной, папиросо-накуренной, жарко-поддувающей, вагонной, подло-пошлой, разговорной ночи. Вы мне хотите прочесть повесть из кавалерийского быта. Я жду от этого добра, если только просто без замысла положений и характеров. А я ничего прочесть вам не хочу и ничего потому, что я ничего не пишу; но поговорить о Шекспире, о Гете и вообще о драме — очень хочется. Целую зиму нынешнюю я занят только драмой вообще. И как это всегда случается с людьми, которые до 40 лет никогда не думали о каком-нибудь предмете, не составили себе о нем никакого понятия, вдруг с 40-летней ясностью обратят внимание на новый ненанюханный предмет, им всегда кажется, что они видят в нем много нового. Всю зиму наслаждаюсь тем, что лежу, засыпаю, играю в безик, хожу на лыжах, на коньках бегаю и больше всего лежу в постели (больной), и лица драмы или комедии начинают действовать. И очень хорошо представляют. Вот про это-то мне с вами хочется поговорить. Вы в этом, как и во всем, классик и понимаете сущность дела очень глубоко. Хотелось бы мне тоже почитать Софокла и Эврипида.
Прощайте, наш поклон Марье Петровне. Если письмо мое очень дико, то это происходит от того, что пишу натощак.
Ваш Л. Толстой.
От 21 февраля он же:
Я, уезжая от вас, забыл вам сказать еще раз, что ваш рассказ по содержанию своему очень хорош, и что жалко будет, если вы бросите его, или отдадите печатать кое-как, и что он стоит того, чтобы им заняться, ибо содержание серьезное и поэтическое; и что если вы можете написать такие сцены, как старушка с поджатыми локтями и девушка, то и все вы можете обделать соответственно этому; и лишнее должны все выкинуть и сделать изо всего, как Анненков говорит, перло. Добывайте золото просеванием. Просто сядьте и весь рассказ сначала перепишите, критикуя сами себя, и тогда дайте мне прочесть.
Ваш Л. Толстой.
Тургенев писал от 21 марта 1870 года:
Любезнейший Фет, вы начинаете ваше письмо восклицанием: «Fatum!» и я повторяю это слово за вами. Наши письменные беседы с вами очень забавного и странного свойства. Я например начинаю так: «эта лошадь белая»… «Как? восклицаете вы с негодованием: вы решаетесь утверждать, что этот поросенок зеленый!?» — «Но и у птиц бывают носы»… замечаю я убедительным голосом. — «Никогда! подхватываете вы — на спине да, но в воздухе ни под каким видом!» и т. д., и т. д. А потому, я полагаю, лучше отложить наши прения до нашего свидания, которое совершится — «Богу изволящу» — к Николину дню 9 мая.
Я однако вынес убеждение изо всей пены и хлюпанья ваших речей, а именно: что М. Н. Катков заслуживает бронзовой статуи. «Ну и пущай!» как говорит один герой Островского. Но до чего может пасть талант! Читали ли вы последнюю его комедию «Бешеные деньги»?
Но самый великий Факт последнего времени — это изречение Бонапарта по поводу 200,000 граждан, сопровождавших гроб убитого им В. Нуара: «c'est une curiosité malsaine, que je blame!». Это достойно Шекспира; Ричард III-й лучше ничего не сказал.
А засим дружески вам кланяюсь.
Преданный вам Ив. Тургенев.
Л. Толстой писал от 11 мая 1870 года:
Я получил ваше письмо, любезный друг Афанасий Афанасьевич, возвращаясь потный с работы, с топором и заступом, следовательно за 1000 верст от всего искусственного и в особенности от нашего дела. Развернув письмо, я первое прочитал стихотворение, и у меня защипало в носу, я пришел к жене и хотел прочесть, но не мог от слез умиления. Стихотворение — одно из тех редких, в которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя; оно живое само и прелестно. Оно так хорошо, что, мне кажется, это не случайное стихотворение, а что это первая струя давно задержанного потока. Грустно подумать, что после того впечатления, которое произвело на меня это стихотворение, оно будет напечатано на бумаге в каком-нибудь Вестнике, и его будут судить С-ны и скажут: «А Фет все-таки мило пишет».
«Ты нежная»… Да и все прелестно. Я не знаю у вас лучшего. Прелестно все.
С этой почтой пишу в Никольское, чтобы послали за кобылой, и радуюсь и благодарю вас и Петра Афанасьевича. О цене все-таки вы напишите.
Я только что отслужил неделю присяжным, и было очень, очень для меня интересно и поучительно. 15 мая я еду в Харьков, а после устрою так, чтобы побывать у вас. Не оставляйте давать о себе знать. Передайте пожалуйста наши поклоны с женою Марье Петровне. Желаю вам только посещения Музы. Вы спрашиваете моего мнения о стихотворении; но ведь я знаю то счастье, которое оно вам дало, сознанием того, что оно прекрасно, и что оно вылезло таки из вас, что оно — вы. Прощайте до свидания.
Ваш Л. Толстой.
Приехавший в Спасское Тургенев от 8 июня 1870 года писал мне следующее:
«Фет, ну что ваш Шопенгауер?
Приезжайте посмотреть,
Как умеет русский Bauer
Кушать, пить, плясать и петь!
В будущее воскресенье,
В Спасском всем на удивленье
Будет задан дивный пир.
Потешайся Мценский мир!»
У меня гостит англичанин Ральстон, который хочет посмотреть на подобные штуки. Борисов с Петей приедут из Москвы прямо на праздник. Приезжайте и вы хотя с лирой, хоть на гитаре, хоть просто так. Дело будет происходить в воскресенье 14 числа.
Итак, надеюсь, до свиданья.
Преданный вам Ив. Тургенев.
Вместо 14-го, на которое приглашал меня Тургенев[230], я приехал 12-го к мировому съезду и очень был удивлен, увидавши Тургенева на скамьях, предназначенных для публики. Нетрудно было догадаться, что сидящий с ним рядом средних лет мужчина — англичанин Ральстон, которого, показывая ему всякого рода русские диковинки, Иван Сергеевич привел и на мировой съезд. Когда, возвращаясь со съезда, я встретил около моста идущего к своему экипажу на постоялый двор Тургенева, последний, по присущей ему манере, не преминул воскликнуть, указывая на вереницу выходивших из Зуши на берег гусей: «Какие это жалкие и запачканные гуси! В целой Европе не найдешь таких несчастных гусей».
Не помню, почему именно я не попал 14-го на крестьянский праздник в Спасском, куда приглашал меня Тургенев. Вероятно, просто не захотел, так как чувствую полное нерасположение к подобным затеям. Помню, в детстве ежегодно на святой перед барским домом накрывались столы с пасхами, яйцами, ветчиною и водкой. При этом бабы были разодеты по-праздничному, и когда все, перехристосовавшись со всеми нами, кончали розговины, то подымались веселые песни с присвистом и плясками. Но этим дело и кончалось. Были люди выпившие, но не было ни одного пьяного; но то дела давно минувших лет. Я и теперь понимаю удовольствие поднести хорошему рабочему подсильную чарку водки; но не понимаю удовольствия искусственно собирать толпу и при настоящей бесконтрольности спаивать ее до положения скота, а затем самому пугливо сторониться от искусственно пробужденного зверя. Можно сказать, на днях мне пришлось быть невольным свидетелем подобного угощения пятисот человек крестьян; правда, при этом была и полиция и жандармерия. Тем не менее к вечеру оказалось три на смерть опившихся человека. Я приехал в Спасское, когда праздник давно прошел, и даже Иван Петрович с Петей уехали в Новоселки; но слышал, что толпа ревела и требовала водки, что Тургенев посылал за нею еще раз во Мценск и что при раздаче бабам лент он сам с изумленным Ральстоном едва спасся на балконе.
Ездили мы с Ральстоном к водяной мельнице Тургенева, не представляющей, разумеется, ничего живописного или необыкновенного. Вообще эта поездка в Спасское вышла для меня совершенно пресною и безвкусной, без сомнения по противоположности с былым оживлением этого дома. Ральстон утверждал, что он понимает русскую речь, когда выговаривают каждое слово, как диктуют начинающему и плохо грамотному ученику. Поневоле приходилось говорить с ним по-французски. Не знаю, или лучше сказать не припомню, что говорил Тургенев Ральстону, но когда по возвращении с мельницы мы вошли в гостиную, а Тургенев пошел, не затворяя за собою дверей в coседнюю спальню, помыть руки, Ральстон, вероятно в связи с предшествующим разговором, спросил у меня: строга ли наша цензура?
Всякий грамотный теперь знает, каковы были тогдашние строгости цензуры и какие прекрасные плоды принесла нам эта цензура. Что же я мог отвечать на вопрос иностранца? Конечно, я отвечал, что цензура наша существует только по имени, и дозволяется печатать все, что придет в голову. Не помню, куда в свою очередь скрылся и Ральстон, а Тургенев, вытирая пальцы мохнатым полотенцем, вышел из спальни и, подошедши ко мне, стоявшему у окна, сказал: «Я слышал, что вы говорили Ральстону. Зачем вы ему это говорили? Какое право имеете вы говорить ему это в моем доме?»
— Если вы, Иван Сергеевич, полагаете, что у вас в доме я не имею права высказывать своих мыслей, то оставим этот разговор.
Зная, как мало истинно талантливых людей, я всегда дорожил хорошими к ним отношениями и спускал им многое.
Не помню в настоящее время повода, по которому в этом году я во второй половине лета был в Москве. Семейство Дм. Петр. Боткина проживало на собственной даче в Кунцеве, и я дал слово приехать к ним в воскресенье обедать и остаться ночевать. Но в три часа дня я вспомнил, что не видался еще с Катковым и Леонтьевым, проживавшими на даче в Петровском парке. Поэтому я велел ехать извозчику в парк, откуда объявил ему, что мы проедем в Кунцево. Большая, белая извозчичья лошадь оказалась до того изможденной летами, что я не слишком скоро добрался до дачи Катковых, но зато в кабинете я встретил обоих соредакторов.
— А, Афан. Афан.! воскликнул Катков, дружелюбно протягивая мне руку и обращая на меня тот мутно серый взгляд, который Вас. Петр. Боткин обзывал стертым пятиалтынным. — Надеюсь, вы останетесь обедать? продолжал он.
Но я сказал, что уже дал слово. Чтобы сказать что-нибудь, я спросил Каткова: «что слышно по части европейской политики?»
— Политический небосклон совершенно чист, отвечал Михаил НикиФорович, и на горизонте не видать ни одной черной точки (Выражение, заимствованное тогдашними политическими людьми у Наполеона III).
— А между тем в недальнем будущем предстоит жестокая война между двумя могущественными европейскими державами.
— Откуда же вы почерпнули такие изумительные сведения? спросил подхахатывая Леонтьев.
— Из самого верного, раскрытого для всех источника: из Брюсова календаря.
— Да, разве из этого источника, заметил уже хохочущий Павел Михайлович.
Этих насмешек над Врюсом я не простил ни Каткову, ни Леонтьеву, поминая им о них, когда через два месяца после того возгорелась страшная прусско-французская война.
Между тем пора было ехать и в Кунцево.
— Ну, эта лошадка-то не разбежится, заметил вышедший меня проводить на крыльцо Катков.
Я и не предполагал, как далеко прямым путем из Петровского парка в Кунцево. Но вот мы дотащились до парома через Москву реку. Подъезжаем — стой! — ехать некуда: паром на той стороне, а по всей реке непрерывной и медлительной лентой тянется сплавной лес. Более 1 1/2 часа пришлось дожидаться, пока лента плотов оборвалась и дала возможность переправиться на ту сторону. Казавшееся с реки столь близким Кунцево оказалось далеко не близким, и когда наконец белый Россинанте дотащил нас до незнакомых улиц или просек Кунцева, мы, как это весьма часто бывает на Руси, никак не могли добиться от местных жителей, куда нам ехать к даче Солдатенкова. Как это ни мало вероятно, но было так; и я прибыл к Боткиным, когда обед давно был кончен, и меня уже не ждали.
Л. Толстой писал от 2 октября 1870 г.:
Вы аккуратный человек, но всегда перепутаете, теперь пишете: 13 сентября я буду в Ясенках, а на письме 24-го. Ну, да это ничего. Я только рад видеть соломенку в глазу настоящего ближняго моего. Ради Бога не передумывайте. 13-го я вас жду в Ясенках. Давно не видались, и в моем зимнем состоянии, в которое я начинаю входить, мне особенно радостно видеться с вами. Я охочусь, но уж сок начинает капать, и я подставляю сосуды. Скверный ли, хороший ли сок, все равно, а весело выпускать его по длинным, чудесным осенним вечерам. У меня горе: кобылка больна; коновал говорит: запал, — а я не мог запалить ее. Наши поклоны с женою Марье Петровне. Досвиданья.
Ваш Л. Толстой.
В первых числах октября жена моя вернулась из Москвы, куда ездила на годовое поминовение Василия Петровича Боткина. Она рассказывала, что должна была сопровождать племянницу в какой-то концерт в Дворянском Собрании, и что, так как жандармы, по поводу приезда иностранного принца в собрание, распорядились угнать лакеев с шубами, то ей, по выходе на лестницу, подали холодную шубу. «Хорошо, что обошлось благополучно», сказал я; и спустя неделю должен был в свою очередь ехать на мировой съезд. В течении этой недели, вследствие выпадавших дождей, перемешанных со снегом, и наступившей затем стужи, — образовалась такая гололедица, что ехать ни на чем было нельзя, и бедные лошади скользили на каждом шагу. 12 верст до железной дороги я проехал на розвальнях. Та же самая тройка ожидала моего возвращения на Змиевку. Когда под нашим леском пришлось пробираться шагом по колоти, я спросил кучера: «все ли у нас благополучно?»
— Слава Богу, отвечал он, — только вот, говорят, барыня нездорова.
— Как нездорова? воскликнул я.
— Сказывают, в постели лежит.
В передней встретил меня письмоводитель и, указывая на дверь спальни, сказал шепотом: «с утра слегла в постель. Вчера, продолжал он, она гуляла в саду, писала письма и вечером играла на фортепьянах; но сегодня дала горничной ключи от чайницы, чтобы сделать чаю и велела поставить себе горчичники, говоря, что долго и тяжко проболеет». Когда я к ней вошел, голова ее страшно горела и болела. Начались по невозможной гололедице скачки за докторами: за своим земским и затем привозили доктора из Орла. Орловский медик не нашел ничего лучшего, как начинять слабую больную селитрой. Больная не чувствовала уже никакой боли, но зато начался бред и бессознательное состояние. Как утопающий хватается за соломинку, и я судорожно схватился за мысль привезти медика из Москвы, хотя внутренно был уверен в бесполезности этой попытки. Если бы дело шло обо мне, то я конечно бы не стал ни откуда выписывать врача, уверенный, что они везде одни и те же. Но приглашением врача из Москвы я хотел сказать и себе и другим: «я все сделал, что только можно было».
Выехавши около пяти часов со Змиевки, я в девятом часу следующего утра захватил еще Дмитрия Петр. Боткина перед отправлением его в контору. Услыхав о моем намерении сегодня же вечером увезти с собою врача, он счел это невозможным, так как общезнакомый нам врач, которому успели передать мое приглашение, от него отказался. «Поеду, сказал я, и без врача не вернусь». Севши на извозчика, я погнал в клиники на Рождественку и, завидевши их железные ворота и ограду, как ястреб заранее уже озирал двор и расправлял пальцы, чтобы схватить. Когда извозчик остановил лошадь в воротах, через проезд, по направлению к левому флигелю, проворно проходил какой-то приличный господин средних лет в шинели с многоэтажным коротким капюшоном. Соскочив с дрожек, я стремительно бросился на перерез проходившему; но он успел уже дойти до двери флигеля и готов был поставить ногу на чугунную ступень лестницы в бельэтаж, как рука моя схватилась за его куцый капюшон.
— Что вам угодно? обратился он ко мне не без изумления.
— Простите великодушно, доктор… и я, вкратце изложив дело, сказал в заключение: дайте мне какого-нибудь врача.
Слова эти явно свидетельствуют о моем маловерии в медицинскую помощь.
— Вам не какого-нибудь врача надо, любезно ответил мой собеседник, — а надо вам дать хорошего, и я могу вам указать на такого в лице только что ушедшего из клиник. Я продиктую вам его адрес (при этих словах я достал свою записную книжку) — и советую вам сейчас же торопиться к нему, на первую Мещанскую. Это очень далеко, и он может уехать на практику.
— Пошел, пошел, кричал я всю дорогу и, въехавши наконец во двор указанного дома, я увидал у подъезда красивую вороную лошадь. Звоню.
— Дома доктор?
— Они сейчас выезжают.
— Все равно: мне на минуту.
— Пожалуйте в кабинет, сказал мне проходивший по зале доктор, указывая на дверь.
Когда в возможно кратких словах я передал дело, доктор стал сомнительно покачивать головой.
— Я должен вам сказать, заметил он, что я сам богатый человек.
В ответ на это сам, я счел нужным сказать правду, что хотя я и далеко не богатый человек, но в настоящем положении готов сделать все от меня зависящее, т. е. предложить дорогу туда и обратно и триста рублей за время, которое сам доктор сочтет нужным пробыть около больной.
— Позвольте вас попросить, сказал доктор, обождать немного здесь в кабинете, пока я схожу и посоветуюсь с женою, и только тогда я могу вам дать окончательный ответ.
— Ради Бога, доктор, поторопитесь ответом, в виду драгоценности для меня каждой истекающей минуты.
Полчаса, которые я взад и вперед проходил по кабинету, показались мне целою вечностью. Наконец дверь отворилась, и вошедший доктор проговорил: «еду». На убедительную просьбу мою быть точным, он сказал, чтобы я не сомневался, что так как курский поезд наш уходит в 5 час. пополудни, то без десяти минут пять доктор будет в доме Боткиных у Покровских ворот, держа в руках свой небольшой мешок.
При возвращении с поисков, я застал телеграмму сестры Любиньки такого содержания: «хорошого ничего нет, приезжай немедля». В виду того, что и моим домашним, начиная с письмоводителя, была известна моя решимость выехать обыденкой из Москвы и потому об ускорении моего отъезда говорить было излишне, я по здравому смыслу мог только понять телеграмму так: «брось все излишние хлопоты, больная умерла». Но зная, с кем я имею дело, я продолжал свои хлопоты.
Конечно, к назначенному времени извозчик уже ожидал меня у подъезда, а слуга с двумя билетами до Змиевки на вокзале. Часы показывали 50 минут пятого, и началась еще худшая мука ожидания; но без пяти минут пять доктор вошел с своим мешком, и мы благополучно попали на поезд. По случаю продолжавшейся гололедицы, на Змиевке нас ожидали те же розвальни, на которых, не взирая на солому и ковер, приходилось сидеть чуть ли не на земле. В поле был сильный и резкий ветер, и мой доктор, очевидно непривычный к степным переездам, с запрокинутым на голову капюшоном нередко сидел в виде черного тюльпана; а когда тюльпан отцветал, и мы проезжали по деревням, я несколько раз кричал: «доктор, продвиньтесь вперед и подберите ваш капюшон; собаки непременно его порвут!» — «Ничего!» был каждый раз ответ на мои увещания, и я должен был, сожалея о чужом добре, выслушивать за нашими спинами сперва резвое: гав-гав! а потом ворчание, сопровождавшееся звуками: трр-трр!
Но всему бывает конец, и вот мы у Степановского крыльца.
— Позвольте мне первоначально обогреться, сказал доктор, сбросивши свою шубу в передней и становясь в гостиной спиною к горячей печке.
— Доктор, сказал я минут через десять, когда последний, совершенно согревшись, пожелал идти к больной, — прошу вас сказать мне откровенно ваше заключение, каково бы оно ни было. Я не ребенок, и если я беспокоил вас, то главнейшею целью моей было прекратить тяжелую неизвестность.
— Я вам передам то, что увижу, сказал доктор, уходя в спальню.
Выйдя через добрых полчаса от больной и ставши снова передо мною в прежнюю позу у печки, доктор, слегка покачивая головою, сказал: «тут определить ничего невозможно: у нее воспаление плевры около правой лопатки, и если есть пятьдесят процентов жизни, то таких же пятьдесят процентов смерти. Я приказал вымазать ее прованским маслом и обложить мушками. Жаль только, что вы приглашали местных врачей, а они надавали ей, как я видел по рецепту, селитры, произведшей вздутость живота, от которой, по слабости больной, ее в настоящее время избавить невозможно. Приходится ждать завтра решительного оборота болезни, так как завтра девятый день. У вас здесь слишком жарко и недостаток в свежем воздухе, продолжал он, проходя в переднюю и отворяя дверь настежь в сени. Мне, прибавил он, позвольте ночевать в вашей судейской на диване, так как это самая ближайшая комната от больной, около которой я намерен провести большую часть ночи».
— Поступайте совершенно по своему усмотрению, ответил я, но позвольте вам заметить, доктор, что, растворяя настежь двери в сени, вы так настудите переднюю и комнату вашего ночлега, что попомните мои слова.
К утру укладываясь на диване, доктор вынужден был сверх теплого одеяла навалить на себя свою шубу и тем не менее вышел к утреннему чаю синий. Напившись чаю, он снова отправился к больной.
— Ну, теперь наше дело идет к лучшему, и можно сказать, что шансов жизни 60 против сорока смертных. Если дело пойдет этим ходом, то завтра утром я могу придти к заключению о бесполезности моего дальнейшего здесь пребывания.
На следующий день, выходя от больной, доктор сказал: «теперь я могу вас поздравить: кризис совершился, и выздоровление теперь только дело времени и точного исполнения моих наставлений, которые для верности я вам выпишу».
Когда я спросил его, что делать с волосами больной, которые, вероятно, будут падать от горячечного состояния, он положительно сказал, что их надо остричь, иначе они будут, как он выразился, «гунявые».
К четырем часам дня доктор был уже на Змиевке в ожидании поезда.
Только человек, близко наблюдающий опасно больного, может воочию убедиться, с какою апатией относятся к жизни уходящие силы и как стремятся к ней возвращающиеся. Так в первом случае противна всякая мысль о пище, а во втором — в первый день разрешенная единая виноградина без кожечки и косточки доставляет неописанное блаженство.
Л. Толстой писал от 26 ноября 1870 года:
Сейчас получил ваше печальное, но более радостное для нас письмо. Мы от Кузьминского знали о болезни Марьи Петровны, и оба с женою беспрестанно ахали и мучились беспокойством о вас.
Получив ваше письмо, я сейчас же решил ехать к вам и теперь бы сбирался на железную дорогу, если бы не Урусов, которого я вызвал к себе для поездки в Оптину Пустынь, и который может приехать завтра. Если он не приедет, или после нашей поездки, я непременно приеду к вам. Благодарю вас, что вы мне так написали. Я все понял, что вы мне писали, и много того, что вы не писали. Я знаю вас и Марью Петровну и потому понимаю, что такое для вас угроза разлуки с нею. Удивляюсь, как вы решились уехать в Москву и радуюсь тому, что это вам так удалось. Пожалуйста пишите о ее состоянии. Из вашего письма еще не видно, вполне ли миновалась опасность. По этому страшному слуху, сообщенному нам Кузьминским, мы оба с женою удивились, узнав, как много мы любим вас и ее. Помогай вам Бог.
Ваш Л. Толстой.
Он же в декабре 1870 г.:
Получил ваше письмо уже с неделю, но не отвечал, потому что с утра до ночи учусь по-гречески. Я ничего не пишу, а только учусь. И судя по сведениям, дошедшим до меня от Борисова, ваша кожа, отдаваемая на пергамент для моего диплома греческого, находится в опасности. Невероятно и ни на что не похоже. Но я прочел Ксенофонта и теперь à livre ouvert читаю его. Для Гомера же нужен лексикон и немного напряжения. Жду с нетерпением случая показать кому-нибудь этот фокус. Но как я счастлив, что на меня Бог наслал эту дурь. Во-первых, я наслаждаюсь, во-вторых, — убедился, что изо всего истинно прекрасного и простого прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как и все — и знают, но не понимают;- в-третьих, — тому, что я не пишу и писать дребедени многословной никогда не стану. И виноват, и ей-Богу никогда не буду. Ради Бога объясните мне, почему никто не знает басен Эзопа, ни даже прелестного Ксенофонта, не говорю уже о Платоне, Гомере, которые мне предстоят. Сколько я теперь уж могу судить, Гомер только изгажен нашими взятыми с немецкого образца переводами. Пошлое, но невольное сравнение: отварная и дистиллированная вода и вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже соринками, от которых она еще чище и свежее. Все эти Фоссы и Жуковские поют каким-то медовопаточным, горловым и подлизывающим голосом. А тот черт и поет, и орет во всю грудь, и никогда ему в голову не приходило, что кто-нибудь его может слушать. Можете торжествовать: без знания греческого — нет образования. Но какое знание? Как его приобретать? Для чего оно нужно? На это у меня есть ясные как день доводы.
Вы не пишете ничего о Марье Петровне, из чего с радостью заключаем, что ее выздоровление хорошо подвигается. Мои все здоровы и вам кланяются.
Ваш Л. Толстой.
Приехав, как всегда, в Москву, на самое короткое время, я застал бедного Борисова в гостинице «Дрезден» в самом плачевном состоянии. Всегда худощавый, он исхудал до неузнаваемости и беспрестанно откашливался. Не было никакого сомнения, что смерть, в виде злой чахотки, приближается к нему быстрыми шагами. Как все чахоточные, он не падал духом и был уверен, что весенний деревенский воздух его поправит. Конечно, все старались поддерживать в нем эти мысли. Когда жена моя в конце апреля вернулась в Степановку, то рассказала, с какими усилиями ей довелось довезти Ивана Петровича в закрытом отделении вагона, и что она во Мценске на платформе сдала его выехавшим к нему навстречу людям.
Новый предводитель дворянства Алекс. Аркад. Тимирязев был в то же время и почетным мировым судьею и пригонял все свои разнородные занятия как раз ко времени съезда. Часа в четыре, к концу заседания, он обыкновенно говорил вполголоса приезжим из деревень судьям: «приходите к пяти часам обедать, чем Бог послал». При частых занятиях в городе, он все время держался одной и той же постоянной квартиры со столом, с условием платить хозяйке определенную сумму за каждого им приглашенного. Конечно, вино и закуска были его собственные с прибавкой варенья и соленья из деревни.
12-го мая сходя с лестницы мирового съезда, мы, при блеске вешнего солнца, в числе нескольких человек, отправились по улицам к квартире предводителя. Дойдя до угла винного магазина, Александр Аркадьевич сказал нам: «извините меня, господа, я только зайду сказать, чтобы мальчик принес нам сыру и хересу, и если вы не очень будете торопиться, то я вас догоню». Не успели мы войти в улицу, ведущую к дому предводителя, как ко мне подошел старый Борисовский слуга, управлявший по соседству небольшим родовым имением Борисова, и сказал: «Иван Петрович прислали коляску и просят вас и Александра Аркадьевича сегодня откушать». Конечно, я тотчас же передал приглашение Тимирязеву, который сказал: «пообедаемте вместе и с последним куском сядем в коляску и поедем в Новоселки; а уехать от приглашенных гостей слишком неловко».
В 6 часов вечера мы были уже в Новосельском флигеле и нашли во второй комнате на кровати изнеможенного Борисова, который чрезвычайно нам обрадовался. У него был прекрасный повар, и сам Иван Петрович умел заказать хороший обед.
— Как жаль, — повторял он, — что вы уже отобедали; а вы видите, стол уже накрыт, и я бы вас накормил обедом таким, что пальчики облизать. Как я рад, что вы оба здесь. Мне необходимо на днях выехать заграницу на воды, и я хотел просить вас, Алекс. Арк., о разрешение мне взять 2,300 рублей Новосельских выкупных, так как я своих собственных денег истратил на Новоселки гораздо более.
— Очень хорошо, сказал предводитель. Пришлите нормальное прошение, и я в тот же день пришлю вам разрешение на получение этих денег.
— Кроме того я хотел, Алекс. Аркад., переговорить с вами о судьбе детей: Пети и Оли.
Услыхав эти слова, я, будто бы ища папиросочницу, ушел и действительно вышел на крыльцо со знакомым нам уже немцем-дядькою Федором Федоровичем.
— Здесь, в комнатах больного, нельзя курить, сказал я: пойдемте покурить на крыльцо.
О знании русского языка этим педагогом можно судить потому, что меня он постоянно называл: «Аснас-Нас».
— Добрейший Федор Федорович, говорил я, — не слишком ли вы отважны, собираясь везти Ивана Петровича на воды? Ведь он и до границы-то пожалуй не доедет.
— Ну, очего? — восклицал Федор Федорович: мы будем его подкреплять, и он будет прекрасно доезжать. Там он может быть еще будет здорова, а здесь видите, как он плохо.
Когда я вернулся к больному, переговоры их, по-видимому, кончились, и предводитель сказал: «будьте покойны Иван Петрович, все будет устроено, согласно вашему желанию, а теперь собирайтесь на воды, и дай Бог вам в скорости поправиться».
На возвратном пути в коляске предводитель передал мне убедительную просьбу Борисова: не назначать никого, помимо меня, опекуном к его сыну и жениной племяннице; «и, прибавил он, я считаю, что, не взирая на хлопоты и нравственную ответственность, вы, Аф. Аф., не имеете права отказаться от этого назначения».
Через неделю я получил от Тургенева следующее письмо от 11 мая 1871 года из Лондона:
Любезный Аф. Аф., получил письмо от Борисова, которое меня положительно напугало. Он его даже не сам писал, а продиктовал кому-то, до того безграмотному, чтоя едва мог понять, — что он желает иметь сведения об Эмсе, а сам подписался дрожащей рукой. Приказчик мой Зайчинский был у него и говорит, что он не встает с постели и имеет вид умирающего. Я убежден, что вы теперь уже давно в Новоселках, но я не мог утерпеть, чтобы не написать вам: мысль, что бедный Борисов гаснет один, не имея возле себя грамотного человека, слишком для меня тяжела. Пожалуйста напишите мне как можно скорее. Я здесь еще остаюсь два месяца. Бедный Иван Петрович и бедный Петя!
Весь вас Ив. Тургенев.
Однажды, когда вся Степановка спала непробудным сном, я услыхал стук в окно спальни; отодвигаю занавес и вижу у самой террасы тройку лошадей в хомутах и стоящего под окном небольшого человечка, в котором тотчас же узнал чижовского ямщика Касьяна, родного брата знаменитого Федота.
— Что тебе надо? — крикнул я, приотворяя окошко.
— Извольте письмо от Петра Афанасьевича.
Зажегши свечку, я на клочке бумаги, свернутой клинушком, прочел:
Ивану Петровичу плохо; сейчас приезжай в Новоселки.
Брат твой Петр.
— Вот тебе три рубля и постарайся, — сказал я Касьяну, — на свежей лошади дать знать в Новоселки, что я приеду с первым поездом во Мценск.
На другой день тот же самый Иван Федоров принял меня на Мценской станции в ту же самую коляску. Давно уже колеса гремели по городскому шоссе, а я все еще не имел духу спросить про больного. Наконец, упрекнув себя в малодушии, я спросил вполголоса: «а что Иван Петрович?»
— Сегодня в 4 часа утра кончились, отвечал Иван Федоров.
В Новоселках я застал Борисова уже на столе[231]. Лицо его казалось менее изнеможенным, чем я его видел в последний раз, и спокойное и решительное выражение его как бы говорило: «Ну вот я перед вами. Судите как хотите, а я исполнял свой долг до конца».
Надо было подумать о погребении, которое, заручившись приличным гробом из Мценска, мы с братом назначила на третий день.
Когда все понемногу пришло в порядок, брат Петруша подал мне при Федоре Федоровиче бумажник покойного со словами: «тут рублей двести денег, но ты должен сейчас же всех нас обыскать».
— Помилуй! воскликнул я: что за вздор! Чтобы я стал тебя обыскивать!
— Нет! ты обязан это сделать, продолжал брат. — Погляди-ка сюда: вот рукою покойного написано: «здесь триста рублей». А их нет, и они наверное у кого-нибудь из нас.
— Да погоди пороть горячку! Ведь Осмоловского (молодой и юркий управляющий опекунскими имениями) дома нет, и быть может ему известна судьба этих денег.
Часа через два явился Осмоловский и сказал, что Иван Петрович вчера сам передал ему эти триста рублей. Борисова мы понесли в его приход Верхнее Ядрино, где он и был похоронен около могил деда, бабки, отца, матери, братьев и сестер. В минуту, когда мы уже бросали на гроб горсти земли, к кладбищу подъехала коляска Александра Аркадьевича, и он успел таки бросить горсть земли в могилу. «Досадно, что я на полчаса опоздал, сказал он, — как ни торопился. Послезавтра, сказал он мне, направляясь к коляске, вы подучите указ опеки о назначении вас опекуном к обоим малолетним».
Надо было отпустить повара, слугу, кучера, продать лошадей и запереть дом. Отпуская Федора Федоровича, мы с братом постарались по мере возможности вознаградить его за время, проведенное у постели больного, которого в последнее время он был и дядькой, и письмоводителем. Иван Петрович, не знавший иностранных языков, диктовал ему по-русски, что привело Тургенева в такое отчаяние. А так как занятия в лицее Каткова должны были окончиться в последних числах мая, то я просил Федора Федоровича прибыть к нам в Степановку, где я снабжу его письмом б Леонтьеву об отпуске с ним Пети к нам в Стелановку, куда заранее я пригласил Федора Федоровича на все лето до возвращения Пети в Лицей.
Тургенев писал из Лондона от 4 июня 1871 г.:
Не могу сказать, что известие, сообщенное вами, любезный Аф. Аф., было мною неожиданно, но тем не менее оно и огорчило, и поразило меня. Побежал наш бедный Иван Петрович по следу Николая Толстого, как он мне писал в одном из своих последних писем! Вспоминаю я, как часто мы, стоя с ним в Новосельском саду и глядя на березовую аллею, по которой Николай Толстой приезжал из за Зуши в своих развалистых дрожках, — беседовали о нем; а теперь вот и сам хозяин ушел туда же, в ту темную бездну, откуда нет возврата. Придется разве с Петей когда-нибудь, стоя на том же месте, вспоминать об его отце, а там он со временем будет, быть может, рассказывать, что вот, мол, тут Тургенев — покойный — говорил мне о своих друзьях. Все там будем! Это колесо не останавливается.
Так как у вас самих нет детей, то вам уже сам Бог велел взять Петю на свое попечение. Я уверен, что у вас ему будет хорошо, и что вы ему замените отца, насколько это возможно, ибо вы человек с добрым и мягким сердцем, а это более чем главное, это все. На Марью Петровну я тоже надеюсь, как на каменную скалу. Этому мальчику нужна спокойная тишина семейной жизни, надо стараться, чтобы его огонек не слишком скоро разгорелся.
Вы пишите мне, что в 51 год человек не меняется более, — а в 53 года человек не позволяет себе думать, чтобы он мог кого-нибудь или что-нибудь изменить. Да и к чему меняться? Жизненного бремени не облегчишь, и каждому самому удобнее знать, как ему возиться с этим чурбаном. Иной его кладет на голову, другой на спину, а третий просто волочит по земле. И то все благо, то добро.
Поклонитесь от меня Марье Петровне и крепко поцелуйте Петю, когда увидите его. Я здесь останусь еще 6 недель, а там в Баден.
Преданный вам Ив. Тургенев.
Наконец то добрейший Федор Федорович привез Петрушу из Москвы с самыми лучшими школьными отметками. Мальчик оказался совершенно весел и доволен и о горячо любившем его отце даже и не помянул. Энергический, чтобы не сказать суровый, Иван Петрович не находил в себе никаких сил для противодействия дурным инстинктам сына. Когда я, бывало, в интересах высоко талантливого ребенка, указывал на неприятные черты в его личности, отец постоянно старался обратить это в ребяческое недоразумение. Так, например, далеко не ребяческим тоном он любил повторять отцу слова: «мои Новоселки».
Когда однажды в Москве 2 января я пришел в номер Борисова и застал Петю в слезах, то Иван Петрович со смехом сказал мне:
— Петю сегодня ограбили.
— Как так? спросил я.
— Да сегодня выиграл не его билет.
Однажды, лежа на диване, я, не помню по какому поводу, просматривал Тацита. В это время вошел ко мне Петя. «А вот, Петя, сказал я: давай попробуем общими силами перевести вот это место». Мальчик взял книгу и стал совершенно правильно переводить, что в 12-ти летнем мальчике привело меня в великое изумление. Вдруг он остановился и сказал: «вот это слово я забыл. Что значит: intueri?»
Желая, чтобы слово осталось навсегда в его памяти, я сказал: «я сам, право, забыл. Сходи-ка ты ко мне в кабинет и посмотри в словаре».
Через минуту мальчик шел ко мне, заливаясь горькими слезами и говоря сквозь рыдания: «ведь это слово у меня уже встречалось три раза: взирать, смотреть; а я опять забыл».
— О чем же ты плачешь, Петя? спросил я. — Теперь уж ты его не забудешь.
— Да, да, продолжал он с новым порывом всхлипываний: а может быть в лицее есть такой мальчик, который помнит это слово! При этом всхлипывания переходят в болезненный крик.
— Ах, Петя, сказал я, как нехорошо то, что ты говоришь. Какое тебе дело до того, знает ли какой мальчик это слово или нет? Стараться учиться лучше всех — законно; но завидовать — стыдно.
Под Мценском проживал в своем поместьи летом, состоящий на придворной службе, давнишний друг Борисова, как и он же, Иван Петрович Н-в. В этом доме Петя был часто с самых первых лет детства и называл даже Ивана Петровича Н-а не иначе, как дядя Ваня. Дня через два по приезде Пети из Москвы, я отправил его дня на два к дяде Ване. Когда следующего 12го числа я увидался с Ив. Петр. Н-ым на мировом съезде, которого он состоял почетным судьею, он сказал мне: «Какой этот Петя странный байбак. Я, можно сказать, насильно заставил его проехать на могилу к его отцу. Ведь это всего от меня за 15 верст».
Впоследствии я убедился, что сердце Пети не было совершенно заперто для чувства дружбы и любви; но на первых порах мне крайне горько было замечать в мальчике эгоистическое чувство, побуждавшее его все брать, ничего не давая. Честный и правдивый по натуре, он не способен был взять что-либо украдкой, а считал своим правом брать чужое, как некогда конфеты у детей Толстых. Когда ^ я старался логически доказывать его несправедливость, он понимал меня на полуслове и сам досказывал заключительный вывод; но на деле такое головное понимание не помогало.
Лицейским доктором была указана необходимость для него деревенских прогулок; но добрейшему Федору Федоровичу стоило больших трудов вытащить мальчика на воздух. Величайшим наслаждением для Пети было чтение исторических книг, кроме сочинений русских писателей, всех эпох. В гостиной, в углу за дверью, стояла низкая кушетка со спинкою в виде кресла и длинной покатостью к ногам. Вот эту кушетку Петруша избрал своею главною квартирой. Тут, ложась на грудь, он обыкновенно подпирал голову локтями и, читая книгу, болтал поднятыми от колен ногами. Когда, бывало, в свободные дни я после завтрака садился в столовой на диван против двери, то привык видеть за дверью мелькание пары ребяческих ног в белых чулках и черных ботинках.
Однажды, когда ботинки делали свое дело, я увидал из задних комнат подошедшего Федора Федоровича с серою шляпою в руках.
— Peter, wollen wir spazieren gehen.
Ответа нет, и ботинки продолжают свое однообразное болтание. Простояв с минуту, Федор Федорович самым убедительным голосом напевает свое воззвание. Мелськание ботинок продолжается. Третий призыв не нарушает их мелькания.
— Петруша, говорю я, самым дружелюбным голосом: ну как же тебе, любезный друг, не стыдно заставлять человека понапрасну стоять перед тобою!
Ботинки продолжают раскачиваться, как будто бы я не произнес ни одного слова.
— Петруша! крикнул я отрывисто тем голосом, каким Василий Павлович, бывало, просил меня скомандовать против ветра: «эскадрон, стой!» — Когда я тебя зову, ты в ту же минуту должен, как пуля, нестись к моим ногам!
Не успел я окончить этих слов, как уже пронесшийся во весь дух Петруша, бледный и дрожащий, стоял около моих коленей.
— Видишь, сказал я, я настолько доверяю твоему уму, что надеюсь, это будет тебе уроком. Не мне судить твои отношения к отцу твоему. Но твои отношения ко мне совершенно просты: мое дело требовать от тебя того, что я считаю справедливым: а твое — беспрекословно исполнять мои требования. А теперь ступай гулять и будем друзьями.
Я не ошибся: с этой минуты мне ни разу не пришлось встречаться с тенью ослушания со стороны Петруши. А впоследствии он доказал несомненным образом, что единственным человеком, которого он любил, был я.
Л. Толстой писал от 10 июня 1871 г.:
Любезный друг, не писал вам давно и не был у вас оттого, что был и есть болен, сам не знаю чем, но похоже что-то на дурное, или хорошее, смотря потому, как называть конец. — Упадок сил и ничего не нужно и не хочется, кроме спокойствия, которого нет. Жена посылает меня на кумыс в Самару или Саратов на два месяца. Нынче еду в Москву и там узнаю — куда.
Очень (хотел написать) жаль о Борисове, но это совсем неверно и завидно неверно, а тронуло меня это очень. Радуюсь, что мальчик у вас. Я, может, напишу вам с места.
Ваш Л. Толстой.
Тургенев писал из Лондона от 2 июля 1871 г.:
Любезнейший Аф. Аф., - ваше письмо опять меня огорчило. — Не тем, что вы мне пишете о Пете, характер которого вы, впрочем, разгадали верно, — это еще может перемолоться, да и вы, кажется, в отношении к нему стали на настоящую дорогу, — а тем, что вы мне пишете насчет здоровья Л. Толстого. Я очень боюсь за него, недаром у него два брата умерли чахоткой, — и я очень рад, что он едет на кумыс, в действительность и пользу которого я верю. Л. Толстой, эта единственная надежда нашей осиротевшей литературы, не может и не должен так же скоро исчезнуть с лица земли, как его предшественники — Пушкин, Лермонтов и Гоголь. И дался же ему вдруг греческий язык!
Через две недели я еду в Шотландию, где буду присутствовать на столетнем юбилее Вальтер-Скотта в Эдинбурге и поохочусь на «гроузов» (grouse, род белой куропатки), а с 20 го августа я опять на два месяца в Бадене.
Жизнь английская невесела, но любопытна. Когда встретимся (вероятно, зимой: я с ноября до января в Петербурге), — будет что рассказать. Поклонитесь от меня всем друзьям, начиная, разумеется, с Марьи Петровны.
Жму вам крепко руку и остаюсь —
ваш Ив. Тургенев.
Л. Толстой писал от 18 июля 1871 г.:
Благодарю вас за ваше письмо, любезный друг. Кажется, что жена сделала Фальшивую тревогу, отослав меня на кумыс и убедив меня, что я болен. Как бы то ни было, теперь, после 4-х недель, я, кажется, совсем оправился. И как следует при кумысном лечении, — с утра до вечера пьян, потею и нахожу в этом удовольствие. Здесь очень хорошо, и если бы не тоска по семье, я бы был совершенно счастлив здесь. Если бы начать описывать, то я исписал бы сто листов, описывая здешний край и мои занятия. Читаю и Геродота, который с подробностью и большою верностью описывает тех самых галактофагов-скифов, среди которых я живу.
Вчера начал писать это письмо, и писал, что я здоров. Нынче опять болит бок. Сам не знаю, насколько я нездоров, но нехорошо уже то, что принужден и не могу не думать о моем боке и груди. Жара третий день стоит страшная. В кибитке накалено, как на полке, но мне это приятно. Край здесь прекрасный, по своему возрасту только что выходящий из девственности, по богатству, здоровью и в особенности по простоте и неиспорченности народа. Я, как и везде, примериваюсь, не купить ли имение. Это мне занятие и лучший предлог для узнания настоящего положения края. Теперь остается 10 дней до шести недель, тогда напишу вам и устроимся, чтобы увидеться. Помогай вам Бог с вашими трудами. Хомутов на вас много; и труднее, и интереснее всех Петя. Поцелуйте его за меня. Душевный поклон Марье Петровне.
Л. Толстой.
Тургенев из Баден-Бадена писал от 6 августа 71 г.:
Любезнейший Фет, ваше письмо застало меня в постели, с которой я уже две недели не расстаюсь, по милости припадка подагры, которую черт дернул поселиться на этот раз (в первый раз) в колене — и таким образом лишить меня всякой локомоции. Сегодня попытаюсь подняться с двумя костылями: подумаешь, я тоже участвовал в завоевании Франции! А погода между тем отличная, — дразнит сквозь окна. Спасибо за сообщенные известия. Я очень рад, что Толстому лучше, и что он греческий язык так одолел, это делает ему великую честь и приносит ему великую пользу. Но зачем он толкует о необходимости создать какой-то особый русский язык? Создать язык!! — создать море. Оно разлилось кругом безбрежными и бездонными волнами; наше писательское дело — направить часть этих волн в наше русло, на нашу мельницу! И Толстой это умеет. А потому его Фраза лишь настолько меня беспокоит, насколько она показывает, что ему все еще хочется мудрить. Литератор отвечает только за напечатанное слово: где и когда я печатно высказался против классицизма? Чем я виноват, что разные дурачки прикрываются моим именем? Я вырос на классиках и жил и умру в их лагере; но я не верю ни в какую Alleinseligmacherie даже классицизма и потому нахожу, что новые законы у нас положительно несправедливы, подавляя одно направление в пользу другого. «Fair play» — говорят англичане; — равенство и свобода, говорю я. Классическое, как и реальное образование должно быть одинаково доступно, свободно и пользоваться одинаковыми правами. Г. Катков говорит противное; но я в жизни ненавидел только одно лицо (не его, то уже умерло, слава Богу), а презирал только трех людей: Жирардена, Булгарина и издателя Моск. Ведомостей.
Здешний дом, в котором я жил, и который я продал по милости дяди, — теперь продан окончательно — с 1-го ноября. Баденская жизнь моя — тю-тю! Какой склад примет будущее — я не знаю да и не интересуюсь слишком.
«И дремля едем до ночлега, —
А время гонит лошадей!»
Желаю вам здоровья и крепко жму вам руку.
Ив. Тургенев.
Он же:
Париж,
24 ноября 1871 года.
Любезнейший Аф. Аф., так как вы очень добродушный человек и не сердитесь, когда другой пожалуй рассердился бы, — то я хочу вам доказать, что умею ценить это ваше качество, и ни в какую «прю» с вами не вступаю. Меня порадовали известия, сообщенные вами о Толстой. Я очень рад, что его здоровье исправилось, и что он работает. Что бы он ни делал, будет хорошо, если он сам не исковеркает дела рук своих. Философия, которую он ненавидит, оригинальным образом отомстила ему: она его самого заразила, и наш враг резонерства стал резонерствовать напропалую! Авось это все с него теперь соскочило, и остался только чистый и могучий художник.
А что вы выводите славных лошадей и вообще хозяйничаете с толком, — за это вам похвальный лист! Вот это точно дело, и оставляет дельный след.
Я начинаю обживаться в своей квартире в Париже хотя почти никого еще не видал, по милости припадка подагры. Здесь стоят страшные холода, а вы знаете, какая это беда на Западе, вы, плакавший от стужи в Неаполе! Республика кряхтит славно; едва ли она продержится. Тьер оказывается тряпкой и старым рутинером, каким оны был всегда.
А зерносушилки все-таки не будет! Впрочем, если вы мне докажете противное, я первый воскликну: «ты победил, Галилеянин!»
Засим кланяюсь Марье Петровне и вас дружески обнимаю.
Преданный вам
Ив. Тургенев.
VIII
И. А. Ост принимает управление опекунскими имениями. — Моя болезнь. — Смерть Александра Никитича. — Операция. — Приезд брата. — Свидание с племянницей. — Письма. — Хлопоты о постройке сельской больницы. — Приезд племянницы в Степановку. — Володя Ш-ъ. — Письма. — Я беру Олю из пансиона. — Гувернантка. — Мои занятия с Олей. — Письма.
Наступил декабрь, и жена моя уехала в Москву, оставив меня одного с письмоводителем. Само собою разумеется, что, по принятии мною в опеку имений малолетних[232], все массы бумаг, документов и планов по разным картонкам и ящикам привезены были ко мне. А вот наконец и управляющий, с которым я познакомился на похоронах Борисова, под предлогом задержки по делам, прислал мне к подписи готовые опекунские отчеты. Заглянувши в них, я убедился в двух вещах: во-первых, что управляющий был в полной уверенности, что я отчетов проверять не стану и все подмахну не читавши; а во-вторых, сперва из окончательных выводов, а затем и из подробностей, я пришел к заключению о преднамеренном уменьшении всех цифр доходностей до невозможного минимума.
Время близилось к вечернему чаю, который подавался в столовой под единственной лампою, тогда как гостиная и следующая за нею комната были без огня. Злополучные отчеты лежали на столе, а я, не зная что предпринять для пресечения зла, в волнении ходил взад и вперед из темных комнат в залу. Вдруг звонок, и в передней у входной двери появилась высокая фигура, казавшаяся еще выше от поднятого медвежьего воротника. Высокая папаха и шуба были засыпаны снегом. Тем не менее я с первого взгляда узнал в закутанном приезжем знакомого мне молодого швейцарца, управляющего имением Герчан, — Ивана Александровича Оста[233].
— Здравствуйте любезнейший Иван Александрович, — сказал я входящему в залу молодому человеку.
— Позвольте мне прежде всего обогреться около печки, — отвечал он. — Вы не можете себе представить, что делается на дворе: такая метель, что спины кучера не видать.
— Радуюсь, — воскликнул я, — что, невзирая на непогоду, бог донес вас благополучно к нам, и вы сейчас же убедитесь в причине моего крайнего беспокойства и волнения. Вы, вероятно, уже слышали, что я назначен опекуном малолетних: Борисова и Шеншиной, и, кажется, в надежде, что, подобно умирающему Борисову, я поверхностно отнесусь к отчетам, управляющий опекунскими имениями прислал мне лежащие здесь перед вами на столе отчеты. Как к человеку, в экономических делах опытному, я обращаюсь к вам с просьбою просмотреть отчеты и сказать мне: терпимы или нетерпимы эти отчеты?
Пока обогревшийся молодой человек подсел к висячей лампе и углубился в отчеты, я продолжал свое путешествие вдоль двух темных комнат и обратно в светлую столовую. Наконец Ост, закрывши тетрадь и подымая голову, сказал: «Эти отчеты невозможны и нетерпимы».
— Очень рад, — отвечал я, — что слова эти сказаны вами, а не мною, хотя вполне подтверждают мое мнение. Не забудьте, что это прошлогодний отчет и что большинство урожая этого года еще по амбарам и даже скирдам, и скажите: могу ли я, вслед за подобным отчетом, быть хотя на минуту покоен касательно имущества, вверенного моему наблюдению?
— Конечно, — отвечал Ост, — тут ни за один час поручиться нельзя.
— Прекрасно, — сказал я, — мы разъяснили себе дело теоретически, но вопрос: каким образом практически помочь злу? — настоятельно требует скорого ответа. Вы знаете, что по закону в моем распоряжении пять процентов с валового дохода, которые я готов полностью предоставить управляющему; но я не знаю никого, на кого бы я мог положиться и кто бы принял управление опекунскими имениями на этом основании.
— Да я первый, — сказал Ост, — с удовольствием приму ваше предложение.
— Если вы на это согласны, — сказал я, — то ударимте по рукам, и я сейчас велю подать самовар, чтобы запить чаем наше взаимное соглашение. А между тем необходимо принять следующие меры: я сейчас прикажу приготовить циркулярное предписание всем экономическим старостам и ключникам отобрать в одно место 10-ти дневную дачу харчевого и фуражного продовольствия, а затем запереть остальное, к дверям которого письмоводителем моим до особого моего разрешения будет приложена моя печать.
Таким образом Ив. Ал. Ост сделался моим ближайшим помощником во всех экономических делах.
Болезнь, которою я сильно страдал еще в кавалерийской службе, мало-помалу разыгрывалась все более. Сильные потери крови, которым я сначала радовался, как облегчению, превратились наконец в болезненное истязание. Надо было принять какие-либо решительные меры против страданий, и зная, что Александр Никитич был по случаю выборов в Орле, я по дороге в Москву заехал к нему.
Умевший всегда разыскать лакомое съестное, он и на этот раз угощал меня прекрасными солеными вещами и не менее вкусною бессемянкою. Так просидел я у него до вечернего поезда.
— Ты посиди еще, говорил он, становясь перед трюмо и завязывая на шее своего Владимира, — а я соберусь в Собранье.
При прощаньи он подал мне 25-ти рублевую бумажку со словами: «пожалуйста передай от меня Володе, да так чтобы Любинька не знала».
Конечно, Любинька в свою очередь говорила то же самое по отношению к мужу.
По приезде в Москву, я почувствовал себя до того дурно, что принужден был слечь в постель. И жена, и милые хозяева Боткины настоятельно требовали, чтобы я обратился и медицинской помощи.
Только что я слег, как получаю телеграмму.
Сегодня утром Александр Никитич скончался по дороге из Орла.
Кротков.
Не зная никакого Кроткова, я долго не мог догадаться, кто прислал телеграмму. Но как поступить по отношению к сыну, — всего лучше, по моему мнению, мог решить самый интимный друг покойнаго, бывший предводитель В. А. Ш-ь, проживавший с женою близь Кудрина.
— Владимира Александровича нет дома, сказала мне его жена, и если вы так настоятельно желаете его видеть, то я прикажу проводить вас к Дорогомиловскому мосту в ту баню, куда он отправился с человеком.
— Здесь барин со слугою? спросил я коридорного при номерах бани.
— Здесь, пожалуйте, сказал тот, указывая на дверь.
При болезненном своем состоянии, я тяготился всякою потерею времени. Но вот отворяю дверь предбанника и не нахожу ни барина, ни слуги. Одно платье и сапоги свидетельствуют о их присутствии, сами же они блаженствуют за двойными дверями в банном пару. Не зная, сколько времени придется мне ждать, я стал звать купальщика по имени, насколько хватало сил. Наконец-то Вл. Ал., узнавши меня по голосу, воскликнул:
— Это вы, Аф. Аф.? я сейчас выйду.
Дверь растворилась, и пышащий паром Влад. Алек. спросил:
— Что такое?
— Об Александре Никитиче, отвечал я.
— Умер?
— Да. Вот телеграмма от какого-то Кроткова.
— Да это его приказчик Прокофий, сказал Влад. Алек.
Решено было дать денег Володе на проезд на похороны к отцу; и я снова поехал на постель.
Оказалось, что на третий день после нашего свидания Ал. Вик., поужинавший накануне в клубе с вином, которого с год уже не пил, отправился домой. На станции «Становой Колодезь» его ожидали, по причинам снежной метели, двое одиночных саней. Забравши письма и газеты, Ал. Ник вышел на крыльцо и, севши в одни из саней, пустил в других вперед кучера. Но не успел последний выехать из ворот станции, как, услыхав громкий голос барина: «поворачивай назад к станции, мне дурно», — тотчас же исполнил приказание. Проезжая мимо заворачивавших в свою очередь саней барина, кучер заметил, что Ал. Ник. скатился на одну сторону задка, и потому кучер, остановив лошадей у подъезда, побежал на станцию просить помощи. Когда начальник станции отказался принять труп, Ал. Ник. оставался в санях в том же положении более двух часов, покуда не приехал за ним его Прокофий и не увез домой.
Мне всегда почему-то казалось, что личность заказчика сапогов в «Чем люди живы» — навеяна Л. Толстому личностью Ал. Ник. Но что всего страннее, это то, что в иллюстрации В. Шервуда 1862 г. общий тип заказчика, с которого снимают мерку, очень напоминает Александра Никитича.
Приехавший алопат приказал мне снять верхнее платье, стучал в спину и в грудь и заставлял стоять на одной ноге. Мне припомнились затейливые приемы ведьмы по отношению к Фаусту; но думалось, что толку из этого не выйдет. Принесли из аптеки какие-то дорогие серебряные жемчужины, и бесполезно глотая уже другую коробку, ядогадался посмотреть, — что же это такое за драгоценное снадобье? Оказался простой ревень.
Между прочими добрыми людьми, навещавшими мой болезненный одр, был и старичок швейцарский консул.
— Ничего, сказал он, эти алопаты вам не помогут, а позвольте прислать вам моего почтенного старика доктора гомеопата.
Серебряные пилюли брошены, и посыпались крупинки.
В это время жена моя, навещая, много лет параличнаго, Пикулина, сообщила ему о мучительном моем состоянии.
— Вы, матушка, там, отвечал Пикулин, все сумасшедшие! Какие там алопаты и гомеопаты! ему надо позвать хирурга; пусть он обратится к лучшему хирургу Новацкому: тот его починит.
На другой день любезный и благодетельный Иван Николаевич уже сидел около моей кровати
— Все это прекрасно, сказал он;- но прежде чем что либо предпринять, позвольте вас освидетельствовать.
— Ради Бога, воскликнул я, нельзя ли без этого обойтись? Вы себе представить не можете, какая меня ожидает боль!
— Не хуже вас это знаю, но не понимаю вашего требования, чтобы я, не видавши зла, производил операцию.
Делать нечего, надо было покориться, и затем я помню, только, что лежал на постели, и доктора (старик гомеопат был тут же) прыскали мне в лицо холодною водой. Со мною был обморок. Решено было дать мне хлороформу и затем произвести внутреннее прижигание гальванически накаленною проволокой. Первое вдыхание хлороформа было крайне неприятно, но затем, подобно опьянению, соединено было с известным наслаждением и усиленною работою воображения, в ущерб внешнему ощущению. Говорят, я кричал во время операции, но никакой боли не помню.
Когда, оправившись, я стал уже ходить по комнате, из Петербурга приехал брат Петр Афан. в совершенно восторженном состоянии. Года три тому назад он был влюблен в одну красивую девушку соседку и ездил в дом, считая себя женихом. В какой мере он имел на это право, судить не берусь; но отец девушки сам говорил мне, что был бы чрезвычайно рад, если бы его дочь согласилась на этот брак. Восторгам брата не было конца; он перестроил свой дом для семейной жизни, и вдруг предмет его страсти совершенно неожиданно вышла замуж. Отчаянию брата не было границ; но со временем страсть по-видимому не токмо погасла, но и перешла в том же семействе на меньшую сестру, которую отец в настоящем году вывозил в Петербурге. Девушка несомненно была красива. И вот по поводу-то ее, брат и предавался всевозможным лирическим порывам. Предвидя повторение столь пагубного для его нравственного организма приключения, я употребил все меры, чтобы удержать его от нового увлечения.
— Ах, нет! восклицал он, — сам отец страстно желает этого брака и приглашает меня бывать у них в доме. Я ведь к ним бы и не поехал после того, что случилось, но он сам в деревне приехал звать меня накануне ее именин. Он этого страстно желает!
— Да ведь он и тогда, как говорил мне сам, этого желал. Вот если бы ты мог сказать, что она этого желает, то я благословил бы тебя обеими руками. А то как бы последнее не было горше первого.
— Ах, братец, пожалуйста, не говори! Вышивала она на подушке пару голубей; я и говорю ей: «что же это ваши голуби отвернулись друг от друга?» — А она подняла на меня глаза и сказала: «а может быть они когда-нибудь и взглянут друг на друга».
— Какое же ты выводишь заключение из этих слов?
— Ах, братец, когда я приехал прощаться, к ней пронесли светло-золотистое палевое платье. Уж тут и говорить-то нечего!
Брат замолчал, и я замолчал после такой аргументации.
Совершенно поправившись, я перед отъездом в Степановку зашел проститься с В. А. Ш-ым, который в свою очередь жаловался мне на нездоровье. На прощаньи он заставил меня написать два слова Сергею Петровичу Боткину, к которому собирался съездить за советом в Петербург.
Чтобы не принимать вида вмешательства, мы с женою, при жизни Ивана Петровича, ни разу не посетили маленькой Оли Ш-ой; но ставши ее опекуном, я счел своею обязанностью взглянуть на девочку, которой не видал в течении 13-ти лет. Ее так ревниво оберегали, что я едва мог добиться свидания с нею и нашел ее с воспаленными глазами и золотыми браслетами на руках. Напрасно я старался объяснить г-же Эвениус необходимость познакомить девочку с ее ближайшими родными по отцу и по матери, прося поэтому прислать ее, не долее как на месяц, в деревню. Г-жа Эвениус только тогда обещала исполнить мою просьбу, когда я подтвердил ее решительными требованиями опекуна. Решено было, что девочка приедет с классною дамою в Степановку в июле месяце.
Тургенев писал из Парижа от 8 января 1872 года:
Прежде всего поздравляю вас с изобретением зерносушилки, любезнейший Аф. Аф., если она точно окажется без сучка и задоринки. Je ne demande pas mieux que m'ecrièr: ta as vaincu, Galiléen! Радуюсь душевно успехам Пети: все это обещает в будущем хорошие плоды. С удовольствием прочту ваши письма «Из деревни», если они будут написаны «sine ira et studio». Вы пишете, что «не шутя не знаете ни одного бедного литератора». Это происходит оттого, что вы их вообще мало знаете. Укажу вам на один пример. Недавно А. Н. Афанасьев умер буквально от голода, а его литературные заслуги будут помниться тогда, когда наши с вашими, любезный друг, давно уже пожрутся мраком забвения. Вот на такие-то случаи и полезен наш бедный, вами столь презираемый, фонд. Надеюсь, что вы весело пожили в Москве и «люблю думать», как говорят Французы, что вы не слишком нанюхались Катковского прелого духа.
В конце Февраля я в Питере, а там в Москве и пожалуй в деревне. Жму вам руку.
Ваш Ив. Тургенев.
Настоящие слова Тургенева вызывают многие замечания.
1. Поступивши в Общество Литературного Фонда в качестве члена учредителя, я вычеркнул себя из списка не потому, что считал не должным помогать нуждающимся литераторам, а только потому, что считал необязательным слепо подчиняться произволу Общества, изменявшего свою программу введением расходов, не имевшихся в виду при учреждении Общества. Если Общество считает такие изменения своим правом, то не должно и удивляться уходу членов, с ним несогласных.
2. Серьезные члены учредители не могут не знать, что литература способна быть забавой или отрадой и даже некоторым подспорьем насущному хлебу, но что чисто литературный труд в большинстве случаев так же мало способен прокормить отдельного человека, как и душевой крестьянский надел. Вкоренять в том и в другом случае в человеке мысль об обеспеченности — значит заведомо вести человека к экономической гибели. Поэтому помощь должна являться к литератору, как и ко всякому другому труженику, только как помощь при неожиданном несчастии, но никак не в виде поощрения на бездоходный труд.
3. Сказанное нами подтверждается отчасти судьбою покойного Афанасьева, которому служба в иностранном архиве давала возможность предаваться своим частным литературным занятиям. Принимая у себя на собственный риск неупрощенного еще Кельсиева, Афанасьев, конечно, не мог рассчитывать, что правительство будет продолжать содержать его на службе, невзирая на его оппозиционную роль. Но даже и после потери места он не умирал с голоду, как говорить Тургенев, так как оставил своей наследнице в Москве дом, оцененный в 13 тысяч.
Л. Толстой писал от 20 Февраля 1872 г.:
Как мне грустно было узнать, что вы были в Москве и еще хуже, что, когда я на днях в другой раз приехал в Москву, я узнал, что вы накануне уехали. Как же было не написать мне словечко о своем положении? Я могу не переписываться по годам со своими друзьями, но когда друг в беде, то ужасно совестно и больно не знать. Напишите, как вы теперь? Не заработывайтесь своим судейством. Вы мне это проповедываете, а вам едва ли не нужнее, я уж лет 9 не помню вас хоть на денек спокойным и свободным. В Москве теперь хотел съездить к Боткину, чтобы разузнать про вас, но сам заболел, пролежал и больной насилу добрался домой. Теперь лучше. Дома все хорошо, и дом вы наш не узнаете: мы всю зиму уж пользуемся новой пристройкой. Еще новость, это — что я опять завел школу, и, жена и дети, мы все учим и все довольны. Я кончил свои азбуки, печатаю и принимаюсь за задушевное сочинение, которого не только в письме, но и на словах едва ли расскажу, не смотря на то, что вы тот, кому можно рассказать. Теперь пишу и вспоминаю, как давно мы потерялись из виду. Напишите пожалуйста поподробнее. Жена и я просим передать душевный привет Марье Петровне. Как ее здоровье? Прощайте.
Ваш искренний друг
Л. Толстой.
От 26 Февраля 72 г. Тургенев писал из Парижа:
Прежде всего, любезнейший А. А., примите мое поздравление с благополучным исходом мучительной, по спасительной операции, которой вы подверглись я, хотя и не доктор, давно предвидел, что вам ее не избегнуть, и очень рад, что все хорошо сошло с рук.
При всем моем старании, не могу найти в душе моей сильного сочувствия к исчезновению Александра Никитича; сожалею только о том, что эта смерть прибавит еще некоторое бремя к обузе, отягощающей ваши плечи. Но на то человек и существует, чтобы ему с каждым годом становилось тяжеле.
Прочтя ваше изумительное изречение, что: «я (И. С. Т.) консерватор, а вы (А. А. Ф.) радикал», — я воспылал лирическим пафосом и грянул следующими стихами:
«Решено! Ура! Виват!
Я — Шешковский, Фет — Марат!
Я — презренный Волтерьянец…
Фет — возвышенный Спартанец!
Я — буржуй и доктринер…
Фет — революционер!
В нем вся ярость нигилиста…
И вся прелесть юмориста!»
Только вот что, новейший Кай Гракх:- вы, как человек впечатлительный и пиит, слишком легко поддаетесь обаянию слова: республиканское заглавие нового петербургского журнала «Гражданин» соблазнило вас, и вы посвятили ему свои задушевные излияния.
Желаю вам расцвесть на деревенском воздухе, как ландыш; а увижусь я с вами, Бог даст, в мае, ибо выеду отсюда не раньше апреля.
Передайте мой искренний привет Марье Петровне и верьте в искренность моих, хотя реакционерных, но дружеских чувств.
Ив. Тургенев.
Л. Толстой писал от 16 марта 72 г.:
Письмо ваше очень порадовало нас. Как бы мне хотелось видеть вас; а ехать не могу, все хвораю. Ради Бога не проезжайте меня мимо, когда поедете в Москву. Азбука моя не дает мне покоя для другого занятия. Печатание идет черепашьими шагами и черт знает когда кончится, а я все еще прибавляю, убавляю и изменяю. Что из этого выйдет — не знаю; а положил я в него всю душу.
Ваш Л. Толстой.
Вл. Ал. Ш-у не пришлось воспользоваться моим письмом к Боткину, и я получил известие о его скоропостижной смерти.
Тургенев писал:
Париж.
29 марта 1872 г.
Итак, любезнейший Аф. Аф. добродушный В. А. Ш-ъ приказал долго жить! Смерть действительно сильно щелкает вокруг нас.
Что касается до Афанасьева, то позвольте вам заметить, что вы не довольно ясно даете себе отчет о подразделениях литературы, — на так называемую беллетристику, прессу-журналистику и прессу-науку (и педагогику), или, что еще вернее, вы сознаете это подразделение, но цените одну беллетристику, да еще какую! — поэзию! Но наше Общество основано именно для литераторов, пользу которых вы с трудом признаёте, и без которых пришлось бы плохо делу просвещения. Вот оттого-то мы и заботимся об обеспечении этих самых литераторов от голода, холода и прочих гадостей.
А за поход ваш по поводу сифилиса нельзя вас не похвалить. Вот это дело, и дай Бог вам успеха и помощи отовсюду. На вашу больницу я немедленно подписываюсь на сто рублей, которые буду иметь удовольствие вручить вам при нашем свидании в Спасском в мае месяце. А до тех пор будьте здоровы и благополучны.
Ваш Ив. Тургенев.
На тему этого письма, я в объяснение должен сказать следующее. В прошлом 71 году истек последний срок уплаты розданного мною голодающим капитала, которому я некогда так высокомерно предназначал блестящую и благотворную будущность. Я даже устроил из мнимо процентных денег небольшие стипендии слепым и убогим из бывших дворовых. Но и тут разочарование готовило мне новый урок. Как я ни бился, я так-таки и не добрал более 300 руб. основного капитала, и в виду таких обстоятельств я искал возможности и случая дать этому капиталу другое, более разумное назначение. Я на опыте убедился в истине, которая, будучи a priori несомненна, не требует подтверждения опыта, а именно: прочный кредит может быть только под обеспечение равноценного имущества, мгновенно поступающего в собственность кредитора, не получившего утраты. А там, где заемщик, подобно нашему крестьянину, принципиально не владеет никакой личной собственностью, кредит немыслим.
Еще в прошлом году предводителем Тимирязевым и мною обращено было внимание земского собрания на непомерное распространение в уезде сифилитической заразы. Всего нагляднее зло было для предводителя во время приема рекрут, из которых 20 проц. оказывались зараженными. Тогда же собрание уступило нашим требованиям немедленной помощи, и из Петербурга была выписана весьма практическая и деятельная акушерка, которой пришлось немало побороться с и убийственным злом, по одному уже тому, что крестьянки прятались от осмотров, боясь женского рекрутского набора. Через два года я слышал от Ал. Арк., что процент зараженных рекрутов сошел с двадцати на четыре.
Объяснивши министру безнадежное положение моего запасного капитала, я заблаговременно заручился разрешением обратить его на сельскую больницу. Но когда я на земском собрании просил-или принять от меня этот капитал, или же дозволить мне выстроить больницу, содержание которой земство приняло бы на свой счет, — то согласия ни на то, ни на другое не последовало, и поднялся оратор с вопросом:- «почему-де г. Фет в своей больнице желает дать предпочтение сифилису перед всеми другими болезнями?» Напрасно я возражал, что больница в десять коек в применении ко всем болезням слишком мала, но там, где отделение больного от общей семейной чашки составляет благодеяние для целой семьи, десять коек под надзором хорошего фельдшера представляют очевидное благодеяние для края. После многих колебаний, Гордиев узел был разрублен моим ближайшим соседом М. М. Хрущевым, (бывшим когда-то в числе лейб-драгунов, угощавших нас, улан, в Ревельской гостинице). Он объявил собранию, что так как в северо-западной части Мценского уезда, при селе Воине, имеется земская больница, то если земство ассигнует известную сумму на содержание больницы в юго-восточной части уезда, при селе Долгом, то он дарит под больницу десятину земли и на полученные от меня деньги выстроит и самую больницу.
Больница эта существует и в настоящее время, но, к сожалению, в ней принимаются всевозможные болезни.
Я уже говорил, что покойный Александр Никитич был человек толковый и весьма хороший хозяин. Получивши в последнее время денежное наследство в два три десятка тысяч после покойного своего отца, он не только расплатился с долгами, в том числе и со мною, но довел свое полевое и домашнее хозяйство до возможного совершенства, не задаваясь никакими модными приемами. Он даже, верстах в 15-ти, прикупил небольшое имение со скромной, но прекрасной усадьбой. В последнее время он за два года не продавал хлеба.
Однажды, не успели мы сесть за завтрак, как приехала Любинька и после первых приветствий сказала: «а я к тебе за серьезным советом. Куда ты мне посоветуешь класть деньги?»
— Боже мой, сказал я: какая ты исключительно счастливая особа! Мы, грешные, и знали бы куда положить, да нечего. Но так как ты просишь совета, то, во-первых, продавай хлеб и в хвост, и в голову, — так как он у тебя сыр и может перегореть в навоз, а во-вторых, так как Поповка куплена на имя Алекс. Никит. и заложена во Мценском банке, то ты клади сбережения куда хочешь, кроме Мценского банка, в котором ты только будешь очищать дела твоего Володи, нисколько не обеспечивая себя. Конечно, со временем и твое, как и Александра Никитича, достанется вашему сыну, но до времени не мешает держать его на известной привязи.
— Ах, помилуй, что ты… и т. д. И я замолчал.
Наконец в июле классная дама привезла к нам 13-ти летнюю Олю, познакомившуюся с своими двоюродными братьями: Ш-ым и Борисовым.
К обычному нашему семейному торжеству 22 июля, на этот раз набралось гостей более обыкновенного. Приехавший еще к завтраку 16-ти летний Ш-ъ не преминул блеснуть своею возмужалостью перед Петей и Олей и рассказал, что он, к сожалению, не может одновременно с Нетей возвратиться в лицей, так как должен быть шафером у m-lle М-ой и к этому дню должен заказать себе фрак и три пары перчаток. Одну — чтобы держать венец, другую — чтобы наливать шампанское, а третью — для танцев. Когда перед обедом я старался по возможности занимать гостей, с балкона подошел Петя и шепнул мне: «тетя Люба просить тебя придти на минуту в аллею».
Улучив минуту, я действительно нашел сестру Любовь Афанасьевну в аллее вдвоем с предводителем дворянства. «Вот, сказала она, я просила Алекс. Арк. назначить тебя опекуном к Володе». Вместе с этим она обняла меня, припадая лицом на правое плечо мое, на котором я вскоре услыхал горячую влагу слез.
— Любинька, отвечал я, ты напрасно так сильно плачешь. Я буду очень рад, если дело хорошо пойдет и без моей помощи; но если последняя окажется нужной, то я считаю себя не вправе отказываться. Я прошу у вас извинения, но в настоящую минуту должен идти к дамам, сказал я и пошел на балкон.
Когда позвали к обеду, предводитель, проходя мимо меня, сказал вполголоса: «после завтра вы получите указ опеки, о назначении вас опекуном к малолетнему Ш-у».
Часов в 10 вечера, когда все гости разъехались, мы за длинным столом на террасе оставались еще в семейном кругу, так как Володя Ш-ъ еще не уезжал, а Оля с классной дамой еще не ушли в свои комнаты. Все время мне почему-то казалось нескромным обратиться с каким либо вопросом к девочке, находящейся так всецело на руках начальницы своего пансиона. Но принимая во внимание 13-ти летний возраст, я на этот раз решился успокоить себя наиболее элементарным вопросом и спросил: «Я тебя люблю;- которое из этих трех слов глагол?»
Девочка как-то порывисто сказала сначала: я, затем тебя и только наконец — люблю.
Надо было с одной стороны видеть мягкое оцепенение на лице классной дамы, как бы желавшей сказать: «пусть хоть разрушается небесный свод, а это дело не наше», — а с другой — восторженный блеск глаз и всего лица Петруши. Я сам не рад был своему вопросу и, что называется, в рот воды набрал. Когда тихий ангел пролетел, и разговор оживился снова, я сказал: «если я за кого либо радуюсь, так это за тебя, Володя».
— Почему это, дядя? сказал он.
— А потому, что с послезавтра исчезнут с твоей стороны все излишние нужды. Никакого фрака и особенных перчаток тебе не нужно, а поедешь ты одновременно с Петей в Катковский лицей.
На этом разговор пока прекратился; но вслед затем, заметив, что я прошел с балкона в гостиную, Володя прошел за мною следом и, подойдя ко мне, сказал: «могу ли я, дядя, сделать тебе совершенно отвлеченный и принципиальный вопрос? Я никогда не дозволю себе тебя ослушаться».
— Да я тебе не советую и пробовать этого, отвечал я.
— Этого никогда и не будет, продолжал отрок, но я бы желал себе наглядно представить последствия моего отказа ехать, например, одновременно с Петею в лицеи.
— Я очень рад помочь твоему недоразумению, сказал я: ты, быть может, не знаешь, что опекун заменяет отца, и что, с минуты моего назначения, настоящим хозяином в твоем Ивановском буду я, и человек, не исполняющий моего приказания, не может долее оставаться в имении. Если бы ты не послушался слова, то пришлось бы тебя отправить силой, т. е. приказать двум здоровенным ребятам связать и довезти тебя на станцию, сесть с тобою в III-й класс и доставить при моем письме Леонтьеву, которого быя просил не пускать тебя домой на каникулы, так как ты не умеешь себя держать прилично.
Пора было отправляться на покой, и мы обнялись на прощанье. На другой день, около 12ти часов, сестра Любинька как-то особенно важно вошла в гостиную и села в кресло, расправляя свой траурный шлейф.
— Я хотела тебе сказать два слова, произнесла она. Я до такой степени дорожу твоим расположением и нашими дружескими отношениями…
— Пожалуйста не продолжай, перебил я, — ты не желаешь, чтобы я был у вас опекуном. Пойми, какую нравственную обузу ты с меня снимаешь, но я не знаю, в какой мере это будет полезно для Володи и для всего вашего имущества.
Вначале августа Петя и Оля уехали в Москву, а Володя остался заказывать Фрак и покупать перчатки к предстоящему шаферству.
В виду грамматических сведений девочки, я слезно молил г-жу Эвениус найти особенного репетитора грамматики вообще и русской в особенности. К осени я получил обычное детское письмо с прибавлением: «я уже прочла всего Пушкина, Лермонтова, Тургенева и Толстаго».
Эти слова поразили меня в самое сердце. «Нет, подумал я, этому должен быть положен решительный конец. Оставаясь у старой девы, влюбленной в девочку, последняя наверное не приобретет даже самых элементарных сведений, а между тем ее материальное и общественное положения не мирятся с таким круглым неведением, в котором со временем я не буду в состоянии избежать ни сторонних, ни собственных упреков».
Тургенев писал из Баден-Бадена от 16-го августа 1872 года:
Вот я опять здесь, любезнейший А. А., и письмо ваше получил. Остаюсь в Бадене до октября, а там в Париж.
Мне жаль, что Петя только рассердился на меня за мое письмо, а не почувствовал, что в нем было справедливо. Когда он будет большой, я, если буду жив, и если он сделается — в чем я не сомневаюсь — хорошим человеком, покажу ему его первое письмо, написанное ко мне после кончины его отца, — и он постыдится его и подивится тому, до чего может доходить эгоизм молодости. Теперь он, в силу своих успехов в Катковском лицее, чувствует себя как бы царьком; а до царей, известно, истина проникает с трудом. Когда я свижусь с вами, мы побеседуем о новейшей английской поэзии, о которой у нас никто, или почти никто, не имеет понятия. Штука не симпатическая, но интересная, и есть один очень большой лирический талант: Свинберн (Swinberne).
Что вам не нравится звание «Литератор», — это ваш конек, — а жизнь научила меня обходиться с чужими коньками почтительно. По-моему, «литератор» такое же звание или определение рода занятий, как «сапожник» или «пирожник». Но есть пирожники хорошие и дурные, и литераторы тоже. Засим кланяюсь Марье Петровне и крепко жму вам руку.
Преданный вам Ив. Тургенев.
Л. Толстой:
15 октября 1872 года.
Очень благодарен вам за Федора Федоровича. Он был у меня и обещал приехать совсем 16-го. Он мне очень нравится и попал ко мне в то самое время, когда нужнее всего. Пришла дурная погода, и дух работы и тишины приближается, и я ему радуюсь. Немножко охоты и хозяйственные заботы, и потом жизнь с собой и с семьей и только Я с радостью думаю об этом, и потому верю, что я счастлив. Я на днях был в Москве и был в лицее. Видел Петю; он мне показался очень мил и жалок тем, что некуда ему идти в воскресенье. Я экзаменовал его из греческого — очень хорошо, из математики тоже хорошо.
Я прилаживаюсь все писать, но не могу сказать чтобы начал. Азбука выйдет 10 ноября, как мне обещают.
Ваш Л. Толстой.
Тургенев:
Париж.
16 октября 1872 года.
Вы желаете иметь обо мне известия, любезный Фет, — спасибо вам, но я утешительного сообщить не могу. Вот скоро полгода, как я в когтях у подагры, и пишу вам лежа в постели, по милости нового припадка, по счету одиннадцатого. Вот в чем состоит эта прелесть: вдруг у тебя ни с того, ни с сего страшно распухает колено или плюсна, появляются нестерпимые боли, шевельнуться нельзя, приходится пролежать в постели пять, шесть дней, неделю; потом ты начинаешь ползти с помощью костылей, брести на палках, понемногу ты начинаешь надеяться на выздоровление — бац! опять rechute, опять мука, опять недвижное лежание в постели… Вы понимаете, что при такого рода обстоятельствах мне не до того, чтобы рассуждать о значении демократии, о том, что людям слова дороже дел и т. п. Эти остроумства хороши для здоровых счастливцев, к которым, к великому моему удовольствию, принадлежите вы; а мне хочется, по выражению Писания, обратиться лицом к стене и, насколько возможно, позабыть все житейское. Нет сомнения, что и я побежал по дорожке покойного Василия Петровича и должен готовиться к подобному же концу.
Мои сто рублей к вашим услугам, и как только вы мне дадите знать, я напишу Зайчинскому. Кланяюсь Марье Петровне; дружески жму вам руку.
Преданный вам Ив. Тургенев.
Л. Толстой:
12 ноября 1872 г.
Как стыдно луку перед розой,
Хотя стыда причины нет;
Так стыдно мне ответить прозой
На вызов ваш, любезный Фет.
Итак, пишу впервой стихами,
Но не без робости, ответ.-
Когда? Куда? решайте сами,
Но заезжайте к нам, о Фет!
Сухим доволен буду летом,
Пусть погибают рожь, ячмень,
Коль побеседовать мне с Фетом
Удастся вволю целый день.
Заботливы мы слишком оба,
Пускай в грядущем много бед,
Своя довлеет дневи злоба, —
Так лучше жить, любезный Фет.
Без шуток, пишите поскорее, чтобы знать, когда выслать за вами лошадей. Ужасно хочется вас видеть.
Ваш Л. Толстой.
Тургенев:
11 декабря 72 г.
Париж.
Очень вам благодарен, любезнейший Афанасий Афанасьевич, за ваши сочувственные слова; но если бы я хотел ждать возможности сообщить вам хорошие о себе вести, мне бы пришлось прекратить наши письменные сношения. Подагра продолжает терзать меня, и я вас прошу об одной: не употребляйте столь часто слышанных мною quasi-утешений, что эта болезнь, мол, un brevet de longue vie, и т. п. Невольное чувство враждебности и злобы шевелится во мне всякий раз, когда я слышу эти нелепые слова; а и не желал бы чувствовать ничего подобного в отношении к вам. Если бы даже подагра (что вовсе неправда) имела привилегию продолжать жизнь в этом виде, то черт бы с ней совсем, с такой поганой жизнью! Вот уже 7-й месяц, как я веду совершенно отшельническую жизнь, и потому не имею ничего сказать вам, кроме того, что вы сами можете вычитать в журналах. Работать тоже невозможно, и остается одно чтение. Я и читаю все, что попа дается под руку, большею частию без всякого удовольствия.
Радуюсь успехам Пети, впрочем от него нельзя было ожидать ничего иного; лишь бы здоровье его утвердилось! —
Выписал я «Азбуку» Л. Толстого; но за исключением прекрасного рассказа Кавказский пленник, — не нашел в ней ничего интересного. А цена безумно высокая для подобного рода сочинения.
Погода у нас пакостная; да и у вас, по слухам, не лучше; впрочем, так как я постоянно сижу дома, то это мне с полугоря.
Дружески кланяюсь Марье Петровне и жму вам руку.
Преданный вам Ив. Тургенев.
Убедивши не без великого труда содержательницу пансиона г-жу Эвениус, что знакомство нашей Оли с ее далеко не многочисленными родственниками не ослабит ее привязанности к своей воспитательнице, я в бытность свою в Москве брал иногда по воскресеньям карету и лично привозил к нам из пансиона и отвозил обратно 14-летнюю Олю. Девочка уже настолько к нам привыкла, что перестала нас дичиться.
Недаром Тургенев упрекал меня в излишней боязни перед фразою. Прелестно однажды в том же смысле выразился по отношению ко мне Лев Николаевич Толстой:
«Есть люди, которые на словах живут гораздо выше своей практической морали; но есть и такие, которые живут ниже этого уровня; вы же до такой степени боитесь, чтобы проповедь ваша не была выше вашей практики, — что вы преднамеренно заноситесь с нею гораздо ниже этого уровня».
«Всякий человек умеет различить добро от зла». Эти слова я всегда считал фразою весьма условной и в сущности требующей перифразы: никто не может различить добра от зла. Это обстоятельство и делает необходимым административное и судебное наказание. Если мы сравним наше вступление в неведомое грядущее со входом в неизвестный город, то неудивительно, если на распутье мы будем колебаться в выборе путей; но если улица направо открыта, а налево затянута веревкой, за которою полицейский может самым энергическим образом направить напирающего на него на прямой путь, то надо быть исключительно рассеянным, чтобы и тут не разобрать должного пути от недолжного. Что касается до меня, то там, где последствия поступка не выступают со всею своей грубою резкостью, я никогда не умею отличить добра от зла, так как и эти два понятия тоже относительны. «Когда дети впотьмах, их сердца угнетены, и они начинают громко петь», — говорит Гейне. Неудивительно, что на этом основании я, сходясь за обедом с нашими любезными хозяевами Боткиными, нет-нет да и заводил разговор о настоятельной необходимости украсть девочку из пансиона, где она, в видимый ущерб своему здоровью, теряет драгоценное время учения.
— Удивляюсь, говорила Софья Сергеевна Боткина, как вы можете волноваться этим вопросом? Девочке с ее золотушно-больными глазами необходимо с весны основательное лечение в Старой Руссе или Славянске, и нужно всеми силами постараться наверстать потерянное для занятий время. В чем же вы тут сомневаетесь? Вы решили ее взять в себе и возьмите.
— Ах, Софья Сергеевна! вспомните пословицу: чужую беду руками разведу, а вот я то к своей ума не приложу.
— Право даже странно, чтобы не сказать жалко, видеть такое колебание в мужчине; вы опекун, все права на вашей стороне, а между тем я вижу, что это вас мучает.
— То-то и беда, что если это делать, то надо закинуть надежную удочку и разом тащить рыбку; а если она сорвется, то на другой раз ее и не поймаешь.
— Не понимаю и не понимаю я этих сравнений. Вот вы на днях собираетесь ехать в Петербург. Поручите нам с Марьей ПетровноЙ взять Оленьку из пансиона и, избежав всяких треволнений, вы по возвращении найдете свою племянницу уже у нас.
— Нет, Софья Сергеевна, ради Бога этого не делайте; иначе вы мне окончательно испортите это дело.
Так как еще в бытность в деревне я решился взять свою племянницу в Степановку, то заблаговременно уже озаботился приискать ей благонадежную воспитательницу. Добрая знакомая не только указала мне на почтенную и пожилую гувернантку, окончившую воспитание ее племянниц и в совершенстве владеющую, кроме русского, немецким, французским и английским языками и могущую преподавать начальные уроки музыки, — но и снабдила меня адресом почтенной m-lle Рополовской, еще не приискавшей себе в Петербурге места. Впечатление, произведенное на меня личным свиданием в Петербурге с m-lle. Рополовской, преисполнило меня надежды на успех нашей общей с нею задачи. Так как она вполне располагала своим временем, то я просил ее тронуться в путь по железной дороге в Степановку тотчас же по получении от меня телеграммы.
Прошли праздники, в течении которых я не раз брал на несколько часов Олю к нам. Но предчувствуя всякого рода трагикомедии, я решился взять девочку к себе перед самым отъездом в деревню.
Итак, однажды в воскресенье я лично отправился в пансион и привез Олю к обеду; но когда пришло время отвозить ее в пансион, я написал Эвениус, что так как, согласно моему решению, Оля не должна вернуться в пансион, то я прошу прислать с нарочным белья и платьев, сколько Эвениус сочтет необходимым на самое первое время.
Пока продолжались письменные переговоры, время приблизилось к чаю, т. е. к 8-ми часам, и хозяйка, напоивши им домашних, уселась в чайной комнате у лампы за свое бесконечное вышивание, тогда как дети, в том числе и Оля, уже очнувшаяся от обморока, в который упала при вести о невозвращении в пансион, — продолжали резвится по комнатам. Хотя я был в той же чайной и мирно рассуждал с Дмитрием Петровичем о каком-то постороннем предмете, но чувствовал нечто вроде томления, ощущаемого ко времени уборки сельским хозяином, завидевшим на горизонте черную тучу с белым градовым в ней клоком. Вошел слуга и доложил: «госпожа Эвениус». Не успел я сказать «проси», как Софья Сергеевна, вскочивши с кресла, бросилась вслед за детьми, крича: «наверх, наверх! спать! спать!»
Это было более чем своевременно, так как первым словом поднявшейся полестнице и вошедшей в комнату Эвениус, — было: «où est Olga? Je venx voir Olga». Хотя ей объяснили, что дети уже спят, но было весьма трудно заставить ее удовлетвориться этим ответом.
Так как в данную минуту Дмитрий Петрович, вышедши из кабинета, сидел с нами, то я, поклонившись Эвениус и приглашая ее рукою в кабинет, сказал, что вероятно ей будет удобнее передать мне поручение ее сестры (содержательницы пансиона, так как посетительница была только ее сестрой), и затем мы оба поднялись в кабинет, где глаз на глаз могли переговариваться по занимающему нас вопросу. Напрасно предлагал я нежданной гостье сесть на какое-либо из разнообразных кресел; она остановилась среди комнаты против меня, сложила крестообразно руки на груди и, все более возвышая голос, стала допрашивать меня о совершенном мною злодеянии. Конечно, мне было с одной стороны крайне жаль причинить похищением Оли внезапное страдание действительно привязанной к ней Эвениус. Но ведь я был опекуном Оли, а не утешителем Эвениус.
Конечно, вся иеремиада произносилась на французском языке, и затем категорически поставлен был вопрос: «monsieur, je vous prie de me dire, pourquoi avez vous déchiré le coeur d'une mère?»
Припертый к стене, я, тем не менее не хотел сказать правды.
— Вы спрашиваете, почему я это сделал, сказал я:- потому что я старый упрямец, выживший из ума. Мне кажется, перед подобным основанием все другие доводы вынуждены безмолвствовать.
Но моя откровенность была гласом вопиющего впустыне.
Вопросы того же содержания повторялись в новой Форме, и, желая положить конец нашим переговорам, я предложил гостье спуститься снова в чайную. Когда я на этот раз проходил мимо стула хозяйки, она шепнула мне: «я виновата, я проиграла, вы были правы».
Напрасно и я, и хозяева предлагали гостье сесть на стул: она уселась на мраморный подоконник спиною к морозному стеклу.
— Вы там простудитесь, решился я пролепетать в моем смущении.
— Нет, мне здесь прекрасно, был ответ; и расспросы, и упреки продолжали сыпаться, не взирая на присутствие хозяев, которые как в рот воды набрали. Я не в состоянии в настоящее время сказать, долго ли продолжалась эта пытка; к счастию, вошел снова слуга и доложил, что привезли для барышни вещи из пансиона. При этих словах M-lle Эвениус побежала в приемную и, как оказалось, не бесцельно. Когда я в свою очередь вышел к женщине, доставившей вещи, и хотел дать ей на чай, она смиренно поклонилась, но денег не взяла, а М-11е Эвениус бросила на меня торжествующий взгляд. Когда грозная посетительница уехала, Софья Сергеевна признала себя вполне побежденной, говоря, что она и представить себе не могла того, что я так давно предчувствовал и чего так боялся.
— Ну, теперь дело сделано, сказал я, но необходимо его завершить, и для этого я завтра же в час дня буду с Оленькой на скором почтовом поезде в Тулу, чтобы оттуда заехать к Толстым, а тем временем и Марья Петровна, и петербургская гувернантка сберутся в Степановке, — и трагикомедии будет конец.
Таким образом, прежде чем девицы Эвениус успели обсудить свое положение, мы с Оленькой в 11 час. Вечера были уже на вокзале в Туле, но тут мне представилось новое препятствие. До Ясной Поляны от вокзала будет не менее 15-ти верст, а так как я не успел телеграфировать Толстым о высылке лошадей, — пришлось везти девочку по довольно сильной метели в городских извозчичьих санях. Не смотря на то, что на Оле была меховая шубка и капор, я все-таки, хотя и севши сам с наветренной стороны, боялся простудить ее, и когда замечал, что шубка ее расползалась, накрывал ей колени полою своей шубы. Но укрывая ребенка, я незаметно раскрывал собственное левое колено и на всю жизнь снабдил его ревматизмом, который и поныне напоминает о себе в дурную погоду. Излишне говорить, что хозяева Ясной Поляны, хотя и изумленные нежданным приездом гостей, приняли в вас самое живое участие, и затем через сутки мы с Олей прибыли в Степановку, куда дня через два собрались и остальные ее обитатели.
Конечно, потребно было некоторое время, для того чтобы вам понять друг друга и поудобнее взяться за общую задачу. Все, что я предварительно слышал о почтенной особе Рополовской, по отношению к ее сведениям, вполне оправдалось. Она оказалась идеальною учительницей; но я сразу понял, что на нее никак нельзя рассчитывать, как на воспитательницу, не взирая на ее строгое православие. Такая учительница вполне на своем месте там, где дети получили уже стремление к развитию; но там, где учащему предстоит прежде всего самому возбудить это стремление, — и наилучший преподаватель оказывается бессильным, если он прежде всего не воспитатель.
Ввиду вполне независимого состояния девочки, я думал, что было бы бессмысленно стесняться необходимыми тратами на ее здоровье и образование. Чтобы ребенку, привыкшему находиться среди сверстниц, деревенское уединение не показалось слишком тяжелым, мы по рекомендации и с согласия Надежды Александровны пригласили из Орла 14-летнюю девочку из хорошего, но бедного немецкого семейства. Девочку звали Региной.
Двенадцатиаршинная зала, на пристройке Василия Петровича, была разделена надвое библиотечными шкафами, и одна сторона занята спальнею Оли и Регины, а другая служила им салоном и классной. Надежда Александровна помещалась в соседней комнате, выходящей на ту же площадку лестницы. У них была отдельная горничная, прачка и коляска с отдельным кучером и четверкой лошадей. Последнее тем более было необходимо, что, независимо от всяких катаний, Надежда Алекс. Требовала во всякое время года и во всякую погоду экипажа в церковь, находившуюся от нас в 5-ти верстном расстоянии.
Недаром сказано: «вера без дел мертва», и никакие слова не в состоянии заменить влияния, производимого делом. Мы готовы сравнить личную веру человека с прекрасным смычком, но непокрытым канифолью. Такой смычок ходит по струнам, не возбуждая ни малейшего звука, тогда как, покрытый ею, он вызывает всю лестницу звуков, от самых глубоких и тихих до высочайших и вопиющих.
По этому поводу приходит мне на память прекрасное слово Льва Никол. Толстого. Однажды, когда я ему говорил о распространяющемся в литературе мнении, что поэзия отжила свой век, и лирическое стихотворение стало невозможным, он сказал: «они говорят — нельзя, а вы напишите им отличное стихотворение: это будет наилучшим возражением».
Все значение христианства, без сомнения, заключается в любви к ближнему, проявляющейся в ежеминутном внимании к нашим поступкам, могущим вызывать страдания другого человека. Никто не станет оспаривать у человека вековечной потребности молитвы, но едва ли решимость, — продержать кучера и четверку лошадей в течение 3-х часов под проливным осенним дождем, — не следует скорее приписать рутине, чем христианству. Можно ли считать внушенною христианским чувством утреннюю прогулку по черноземным дорожкам сада, еще влажным от недавнего дождя, причем только что тщательно выглаженный и нагофрированный белый капот как ни в чем не бывало волочится но земле и должен быть по возвращении немедленно переменен на другой такой же. Мы бы не остановились на этих подробностях, если бы последние в свое время не вынудили меня поступать так, а не иначе.
Конечно, из сердца исходят всякого рода помышления, но так как мне постоянно приходилось иметь дело не с помышлениями, а с вытекающими из них делами, то я вынужден сказать, что любовь г-жи Эвениус принесла нашей бедной Оле вместо пользы жестокий вред.
Перед нами сидела золотушная девочка, не могшая выносить вечернего освещения без помощи зеленого зонтика над глазами. О каких либо успехах в науках не могло быть и речи, так как девочка ни на каком языке не могла прочитать без ошибок ни одной строчки, и это, конечно, настолько же происходило от непривычки связывать буквы, насколько и от неумения воспринимать их смысл. При подобных обстоятельствах я как-то инстинктивно чувствовал, что моя личная деятельность тут незаменима, и, попросив Надежду Алекс. насколько возможно не отягощать девочку уроками, я все усилия воспитания сосредоточил на времени после вечернего чая, когда просил Олю ежедневно прочитывать мне сначала не более четырех строк самого незатейливого содержания; и тут на первых порах я поставил себе задачею не столько довести ее до правильного складывания и произношения слов, сколько до отречения от того самоуверенного тона, с которым она читала невозможные слова.
Этот тон прямо говорил: «вы ждете от меня медленного чтения, какое бывает у начинающих детей, но я, как ученая девица из знаменитого пансиона, не стану затрудняться такими пустяками, а вы видите, как я могу быстро и с ударением читать что угодно». — И вслед затем полная несостоятельность. Надо было прежде всего дать девочке убедиться самой в ее беспомощности и затем уже идти к ней на выручку. Испытавши лично глубокое отвращение, возбуждаемое в ребенке методом: «отселева и доселева», и сплошным долблением таких безбрежных предметов, как история и география, — я взял преподавание этих наук на себя, исключая из уроков все книжное и письменное. Указав на христианскую эру, от которой ведется у нас как попятное, так и наступательное летосчисление, я вкратце рассказал события, ставшие рубежами между древней и средней и средней и новой историями. В то же время уроки над глобусом знакомили нас с тремя главнейшими и двумя новейшими частями света. Затем в древней истории, твердо ограниченной годом падения Западной Римской Империи, мы находили в пятисотых годах Кира, а в трехсотых Александра, и только мало по малу знакомились с выдающимися лицами и событиями, появляющимися между незыблемыми годами, обозначающими исторические эпохи. Невозможно, например, искать Демосфена вначале III века, так как торжество Филиппа при Херонее уже в 338 г. было причиною смерти знаменитого оратора.
Чтобы не возвращаться более к школьным приемам, в которым прибегал, скажу, что в течение четырех лет я день в день, за исключением праздников, задыхаясь всходил по лестнице в классную и отдохнувши давал от часу и до полутора уроки истории и географии, причем, нимало не затрудняясь, клал толстый конец бревна на свое плечо, а тонкий — на плечо девочки. Действовал я по собственному соображению, не прибегая ни к каким, неведомым мне, педагогическим руководствам. Но я должен с удовольствием сказать, что в конце четвертого года все крупные исторические события были утверждены нами в памяти, и я полагаю, что у бывшей моей ученицы они и поныне сохранились в памяти гораздо лучше, чем в моей собственной.
Тургенев писал из Парижа от 21 февраля 1873 года:
Любезнейший Фет, получил я ваше письмо и отвечаю немедленно. Так как вы дружески интересуетесь моим здоровьем, то скажу вам, что я теперь почти совсем молодец, и хотя я пятый день сижу дома, но это по причине гриппа, болезни скучной, но пустой. Подагра пока меня оставила, и мне только следует принять меры, если не устранить, то по крайности ослабить ее. Для этого я в мае месяце отправляюсь в Мариенбад или в Карлсбад, — еще не знаю наверное. Брат писал мне о вашем намерении приобрести Долгое; с своей стороны, он также желает продать это имение; не понимаю я, как вы не можете сойтись.
Картины действительно меня занимают, при отсутствии всякого другого живого интереса; но хорошие страшно кусаются (никогда французы так сорвиголовно не бросали деньги, — видно, они страшно богаты), а посредственные картины не стоит покупать. Я однако приобрел очень хороший пейзаж Мишеля за 1600 фр. Мишель этот — французский живописец, умерший 30 лет тому назад; он оставил много картин, которые тогда продавались за 25, 50, много 100 фр., а теперь за иные из них дают до 10,000. Но это ничего перед Мессонье, который недавно продал небольшую картинку с двумя Фигурами за 80,000 фр. Пока ходить в Hôtel Drouot, где совершаются картинные аукционы, меня забавляет. Другого я ничего не делаю, да и не собираюсь делать. В конце апреля я выезжаю отсюда и через Вену отправляюсь в Мариенбад или в Карлсбад пить воды, а в июле буду в России, где надеюсь встретиться с вами. До тех пор желаю вам всего хорошего, кланяюсь вашей супруге и остаюсь преданный вам
Ив. Тургенев.
P. S. «Выпишите себе через какого-нибудь книгопродавца — „Les Poèmes Barbares“ par Leconte du Lisle. Он хотя француз, но поэт настоящий и доставит вам удовольствие».
Замечательно, что, по почину одного из близких соседей X-а, я решился пополам с последним купить землю Николая Сергеевича Тургенева, и по этому поводу ездил в Москву, где на словах сошелся по всем подробностях покупки. К назначенному дню для совершения купчей я выехал в Орел, куда приехал в то же время и поверенный Тургенева. При пересмотре взаимных условий, он вдруг ни с того, ни с сего заявил, что желает, вопреки прежнему условию, не сбавляя цены имению, оставить скот за собою, и когда я на это не согласился, то покупка расстроилась. Через несколько дней я узнал, что мой товарищ не стеснился возвышением требования и один купил все 600 десят. при селе «Долгом Колодце». Мог ли я в ту минуту знать, до какой степени судьба заботилась при расстройстве этой покупки о моей свободе при моем стремлении на юг.
Л. Н. Толстой писал от 17 марта 1873 г.:
Не сердитесь за лаконизм моих писем. Мне всегда так много хочется сказать именно вам, что уж ничего не говорю, кроме практического. Радуюсь тому, что вы послали пастись Ш-а племянника, но насчет того, что Петя считается с вами письмами не огорчаюсь, но огорчаюсь, что вы способны принять это слишком к сердцу и дать этому такое значение, какого оно не имеет. Он в том самом возрасте, в котором мальчики поджигают дома, а не поджигают, то отпускают ногти и воротнички и фразы и думают, что они от этого лучше будут, что еще бессмысленнее поджогов. — Как мне жаль, что, хотя я и умею наслаждаться чтением ваших писем, я не умею сам писать, а вы для меня — соды — кислота: как только дотронусь до вас, так и зашиплю, — столько хочется вам сказать. Работа моя не двигается; но я не очень этим огорчаюсь. Слава Богу, есть чем жить, разумеется не в смысле денег. Передайте наш поклон Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
11 мая 1873.
Стихотворение ваше прекрасно. Это новое, никогда не уловленное прежде чувство боли от красоты выражено прелестно. У вас весною поднимаются поэтические дрожжи, а у меня восприимчивость к поэзии. Я был в Москве, купил 43 номера покупок на 450 рублей, и уж не ехать после этого в Самару нельзя. Как уживается в новом гнезде ваша пташка? Не забывайте нас. До 20-го мы не уедем, а после 20-го адрес — Самара.
Ваш Л. Толстой.
IX
Разговор с Петей Борисовым по поводу моей фамилии. — Оля уезжает в Славянск. — Неожиданное открытие. — Моя поездка в Славянск. — Старушка Казакова. — Письма. — Перемена фамилии. — Сестра Каролина Петровна. — Василий Павлович.
Приехавший в конце мая[234], по обычаю с наилучшими отметками, Петя Борисов принес к нам в дом все увлечение ранней молодости и духовной весны. Этого нечего было заинтересовывать и возбуждать, а приходилось на каждом шагу только сдерживать. Не раз, оставаясь со мною наедине, на скамье в роще или в саду, он задавал мне вопрос, которым я сам промучился всю сознательную жизнь с 14-летнего возраста, т. е. с моего поступления в пансион Крюммера в городе Верро.
— Дядичка, говорил Петя вкрадчивым голосом, — я никогда не могу уяснить себе, почему ты не Шеншин, когда ты, подобно дядям Васе и Пете — Афанасьевич и родился в маминых Новоселках. Как сюда замешался Фет, и почему Фет мне родной дядя, — меня постоянно спрашивают, и я никакого ответа дать не мог. Дорогой дядичка, если бы можно было тебе наконец назваться Шеншиным, то ты не можешь себе представить, какое бы это было для всех нас счастие и облегчение.
— Милый друг мой, отвечал я, — это такая сложная история, которую нужно передать во всех подробностях, для того чтобы она явилась неискаженной, и когда-нибудь я найду минуту сообщить тебе эти подробности.
Конечно, умный мальчик смекнул, что тут что-то неладно. Неладное же это заключалось в том, что я, даже рассказав все мне известное о моем рождении, ни на шаг не подвинул бы вопроса, почему я Фет, а не Шеншин? Известно же было мне только следующее. До 14-ти летнего возраста, т. е. до отправления моего в Верро, я был несомненным Аф. Аф. Шеншиным, хотя не раз слыхал, что заграницей, у брата матери моей в Дармштадте, откуда отец привез нашу мать, у нас есть сестра Лина, которая учится прилежно и делает успехи в науках, не так, как мы, русские лентяи и байбаки.
Хотя характеристика дяди моего Петра Неофитовича Шеншина и его ко мне отношение следуют в мои отроческие воспоминания, тем не менее не могу здесь умолчать о нем, в видах возможной полноты всех данных, известных мне о моем рождении. Умный, образованный во всю ширину французской и русской литературы, с баснями Крылова, «Илиадою» Гнедича, «Освобожденным Иерусалимом» Раича на устах, дядя Петр Неофитович, богатый холостяк, писавший сам стихи, ни от кого не скрывал своей исключительной ко мне любви и привязанности. В Верро, как новичок, несвободно объясняющийся по-немецки, я, конечно, сделался предметом школьнической травли, но по мере умножения мною навыка в немецком языке, травля Шеншина мало-помалу унималась. Вдруг нежданно для меня возникло обстоятельство, доставившее мне немало мучений. Чтобы не разносить писем по классам, директор, через руки которого шла вся ученическая переписка, перед обедом обыкновенно громко называл тех, кому после обеда следует зайти к нему в кабинет за письмом. В день, в который он назвал и Шеншина, он, подавая мне письмо, сказал: «Это тебе». На конверте рукою отца было написано: «Аф. Аф. Фету», а в письме между прочим было сказано, что выставленное на конверте имя принадлежит мне. Конечно, при той замкнутости, в которой отец держал себя по отношению ко всем нам, мне и в голову не могло придти пускаться в какие-либо по этому предмету объяснения. Но зная дружбу, существовавшую между отцом и дядею, я был уверен, что дяде хорошо должно было быть известно основание данной мне инструкции, и что, не входя ни в какие, быть может, нескромные объяснения, я могу доказать свое благонравие безмолвным подчинением воле отца. Поэтому, в следующем письме к дяде, которому я писал довольно часто, я, вместо всяких объяснений, подписался: А. Фет. Тогдашняя тележная почта доставляла письмо из Мценска в Верро не раньше двух недель, и потому только на второй месяц я получил от дяди письмо, смутившее меня не менее предварительно полученного от отца.
Я ничего не имею сказать против того, что, быть может, в официальных твоих бумагах тебе следует подписываться новым твоим именем, но кто тебе дал право вводить официальные отношения в нашу взаимную кровную привязанность? Прочитавши письмо с твоею новой подписью, я порвал и истоптал его ногами; и ты не смей подписывать писем ко мне этим именем.
Эта двойственность истины с официальной ее оболочкою, навлекавшая в течение 3-х лет на меня столько неприятных вопросов и насмешек, продолжала сопровождать меня в жизни и все время почти годичного пребывания моего в приготовительном пансионе М. П. Погодина и окончилась совершенно театральным изумлением знакомой мне молодежи, когда, по вызову экзаменатора по фамилии Фет, вышел к экзамену знакомый им Шеншин. За все время моего студенчества, я, приезжая на каникулы домой, по какому-то невольному чувству не только не искал объяснений по гнетущему меня вопросу, но и тщательно избегал его, замечая его приближение. Это не мешало мне понять смысл случайно попавшагося мне письма дяди к отцу, в котором говорилось: «ты знаешь, что я предоставляю тебе против брата нашего Ивана (другой женатый мой дядя) сто тысяч для уравнения твоих детей». Еще несомненнее были слова дяди Петра Неоф., с которыми он под веселую руку не раз обращался ко мне, указывая на голубой железный сундук, стоявший в его кабинете: «не беспокойся, о тебе я давно подумал, и вот здесь лежат твои сто тысяч рублей». Когда в 1842 г., кончивши курс, я приехал в Новоселки, то застал мать в предсмертных томлениях восемь лет промучившего ее рака. Лежа в комнате с закрытыми ставнями, она не в силах даже была принимать никого долее двух-трех минут.
Раньше того, в год торжественного въезда в Москву Их Имп. Высочеств Государя Наследника Александра Николаевича и Марьи Александровны, родной дядя мой по матери, Эрнст Беккер, сопровождал в качестве адъютанта принца Александра Гессенскаго, а вслед затем прибыла из заграницы для свидания с матерью и старшая сестра наша Лина Фет. Встреченная в Новоселках самым радушным образом и проживши там целый год, она видимо соскучилась в деревенском уединении и снова уехала в Дармштадт. Так как первым из нескольких лютеранских имен ее отца было Петр, то по-русски она прозвана была Каролиной Петровной, — имя, которое она затем на всю жизнь сохранила в России.
В Новоселках, по окончании курса, я нашел на свое имя письмо дяди Петра Неофитовича, писавшего мне: «разделывайся скорее со своею премудростью и приезжай ко мне в Пятигорск (он лечился на водах и чувствовал себя значительно бодрее и свежее прежннго), я приискал тебе место адъютанта у моего приятеля генерала».
Единовременно с этим известием отец сообщил мне, что в бытность свою заграницей наш дальний родственник Ал. Павл. Матвеев, назначенный в настоящее время профессором в Киев, влюбился в Лину и сделал ей формальное предложение, о чем оба писали в Новоселки, испрашивая родительского благословения. При этом Матвеев писал, что служебные обязанности не дозволяют ему самому ехать за своею невестой.
— Кроме тебя ехать некому, сказал отец. Да кстати ты учинишь расчет с адвокатом по разделу наследства матери и получишь причитающиеся на ее долю деньги.
Встретивший меня уже на креслах, параличный дядя Эрнст приходил в страшное раздражение от официального моего имени Фет. Хотя он очень хорошо знал, каких усилий стоило отцу моему, чтобы склонить опекунов сестры Лины к признанию за мною фамилии ее отца, дядя не переставал горячиться и спрашивать меня: «wie kommst du zn dem Namen?» (как пришел ты к этому имени?)
Когда, провозившись более месяца с адвокатом, я, наконец подъехал из Штетина к набережной петербургской таможни, то прежде еще наложения трапа, стоя на палубе, увидал приветливо кивающую мне голову Ив. П. Борисова, проживавшего в Питере в качестве офицера, готовящегося в военную академию. Покуда все пассажиры стремительно бросились на палубу, мы имели возможность в опустевшей каюте перекинуться с Борисовым несколькими словами.
— Ну что? спросил я.
— Хорошего мало, отвечал он: дядя твой скоропостижно скончался в Пятигорске, и сопровождавшая его дворня уже вернулась домой.
— А мои деньги? спросил я.
— Исчезли без следа.
Тем дело и кончилось. Нужно, однако, было что-либо предпринимать после свадьбы сестры Каролины Петровны. Тем временем Борисов, внезапно перешедши из артиллерии в кирасирский Военного Ордена полк, сманил меня туда, и, признаюсь, я сердечно был рад поступить в новую среду на дальней стороне, где бывший Шеншин уже ни на минуту не сбивал с толку несомненного иностранца Фета. Но и здесь, даже по принятии мною русского подданства, измышление это было для меня неоднократным источником самых тяжелых минут. Так как я несомненно родился в Новоселках, то, чтобы не набрасывать на нашу бедную мать ничем незаслуженной, неблагоприятной тени, я вынужден был прибегать ко лжи, давая подразумевать, что первый муж ее Фет вывез ее в Россию, где и умер скоропостижно.
При всех приведенных здесь данных, я конечно не мог дать никакого удовлетворительного объяснения Петруше Борисову, потому уже, что в течении 38-ми лет и сам никак не мог его отыскать; но с этой невозможностью я тем не менее давно примирился.
Что бедная Оля страдала золотухой, в этом не могло быть ни малейшего сомнения, и что лучшим средством против этой болезни являются Славянские воды, — не менее несомненно. Уверенный, что никакой серьезный врач не в состоянии сказать в настоящем случае чего-либо другого, мы решились отправить девочку в Славянское купанье, и во второй половине мая жена моя повезла и устроила Олю у минерального источника вместе с Надеждой Алекс., Региной и их горничною. Устроившись по возможности с девочкой, я принялся за привезенные ко мне из Новоселок Шеншинские и Борисовские бумаги, хаос которых необходимо было привести хоть в какой-либо порядок. Перебирая грамоты, данные, завещания и межевые книги, я напал на связку бумаг, исписанных четко по-немецки. Оказалось, что это письма моего деда Беккера к моей матери. Развертывая далее эту связку, я между прочим увидал на листе синей писчей бумаги следующее предписание Орловской консистории мценскому протоиерею.
Отставной штабс-ротмистр Афанасий Шеншин, повенчанный в лютеранской церкви заграницею с женою своей Шарлоттою, просит о венчании его с нею по православному обряду, почему консистория предписывает вашему высокоблагословению, наставив оную Шарлотту в правилах православной церкви и совершив над нею миропомазание, обвенчать оную по православному обряду.
Сентября… 1820 г.
Изумленные глаза мои мгновенно прозрели. Тяжелый камень мгновенно свалился с моей груди; мне не нужно стало ни в чем обвинять моей матери: могла ли она, 18-ти летняя вдова, обвенчанная с человеком, роковым образом исторгавшим ее из дома ее отца, предполагать, что брак этот где бы то ни было окажется недействительным? А между тем, когда, не дожидаясь всех дальнейших переходов присоединения к православию и нового бракосочетания, я соблаговолил родиться 23-го ноября, то хотя и записан был в метрической книге сыном Аф. Неоф. Шеншина, чем в то время удовлетворились все, начиная с крестного отца моего Петра Неофитовича, — тем не менее недостаточность лютеранского бракосочетания по существовавшим законам уже таилась во всем событии и раскрылась только при официальном моем вступлении на поприще гражданской жизни. Что переименование Шеншина в Фета последовало уже в 1834 г., явно было из приложенной черновой с прошения в Орловскую консисторию о прибавлении к моей метрике пояснения, что записан я Шеншиным по недоразумению священника. Конечно, во избежание всякого рода неприятных толков, я никому, за исключением Ивана Александровича Оста да подъехавшего к тому времени брата Петра Афан., не сказал ни слова. На нашем тройственном совете Ост настаивал на необходимости представить все находящиеся под руками документы на высочайшее его величества благоусмотрение, испрашивая, ввиду двойного брака моих родителей, всемилостивейшего возвращения мне родового имени. Единовременно с моим прошением брат Петр Афан., страстно принявший дело к сердцу, испрашивал и с своей стороны для меня монаршей милости, которая одна могла вполне доставить мне надлежащую силу как опекуну круглых сирот.
Тургенев писал от 20 июля 1873 г.:
Bougival.
Любезнейший Афанасий Афанасьевич, кончив — благополучно или нет — это покажет время, — мое Карлсбадское лечение, прибыл я на днях сюда, и живу теперь тихо и смирно, как таракан за печкой. Комнатка у меня уютная, воздух и вода здесь отличные, предстоит даже возможность хорошей охоты, — чего больше нужно человеку? Ноги мои поправились и не болят. Будем ждать дальнейшего и молить благосклонных богов, да не позавидуют они бедному и тихому жительству устаревшего смертного!
Сколько я мог понять несколько аллегорическое начало вашего письма, — мое письмо вас слегка огорчило или оскорбило. В таком случае я виноват; но если я счел за нужное, в извинение моего молчания, указать на скуку, как на Факт, заставивший меня взять перо в руки, — то в этом вы не должны были признать ниже тень пренебрежения, а скорее укор, обращенный на меня самого. Вся моя жизнь потускнела: поневоле ослабли и старинные связи. Вы пишете мне, что в течение 19-ти лет нашего знакомства вы успели узнать меня, каков я есть, позвольте и мне уверить вас, что и я вас знаю хорошо и потому именно и люблю вас искренно, в чем прошу вас не сомневаться, как бы ни были сухи и кратки выражения моих писем.
Я уже написал Зайчинскому, чтобы он преподнес вам посильную лепту для вашей, столь полезной, сифилитической больницы.
Я на будущий год опять поеду на пять недель в Карлсбад. В Россию я приеду в ноябре и останусь до конца февраля. По крайней мере, я теперь так предполагаю. Не знаю как у вас, а у нас здесь стоит чудесная погода.
Передайте мой усердный поклон вашей супруге и поцелуйте от меня Петю. Скажите ему, что я сердечно радуюсь его успехам. Дружески жму вам руку.
Преданный вам
Ив. Тургенев.
P. S. Говорят, бедный Ф. И. Тютчев совсем при смерти; очень будет его жаль.
Желая лично ознакомиться с ходом лечения племянницы, я отправился в Славянск, где нашел девочку более свежей и здоровой на вид; тем не менее главный доктор на водах сказал мне, что, для совершенного оздоровления Оли, ей необходимо и в следующем году повторить Славянские купания.
На водах я, с одной стороны пользуясь полною свободою, с увлечением предавался великолепной охоте по куропаткам, а с другой — познакомился со старушкой Казаковой, давно овдовевшей и привезшей внучек к Славянским купаньям. Кажется, что она и сама находила для себя воды полезными. Благоустройства в домашннем хозяйстве бездетной старухи ожидать было трудно, и я нисколько не удивлялся, что присланных мною ей в подарок куропаток таскали по двору собаки, хотя она и усердно благодарила меня за них, говоря, что они такие «жжирные». Можно бы предположить, что вопрос о ее самостоятельности смутно беспокоил ее самое, иначе с какой бы стати ей без особенного повода было защищать свое личное управление имением, повторяя: «Екатерина (старушка сама была Екатерина) всей Россией управляла, а чтобы я не могла управиться с моим имением!»
Оставив Оленьку доканчивать курс, я, возвращаясь к должности, успел дорогой набить штук 30 куропаток к 22-му июля.
Тургенев писал от 21 августа 1873 года:
Буживаль.
С вашим письмом, любезнейший Фет, случились различные беды: пущенное 27-го июля, оно достигло своей цели три дня тому назад, следовательно, пребывало в дороге три недели слишком. Спешу отвечать, чтобы опять не быть в долгу перед вами. Радуюсь тому, что вы, сколько могу судить, здоровы и даже охотитесь блистательно. Что касается до меня, то я, пожалуй, тоже здоров и охочусь, но только не блистательно, а напротив скверно. Третьего дня я с плохой собакой протаскался под проливным дождем по пустым местам часов пять и убил одну куропатку я одного перепела. Кончено! Во-первых, во Франции нет дичи, а во-вторых, — я слишком стар для подобной забавы. Вчера и сегодня ноги ноют, правое колено слегка припухло — bas ta cosi!
То же самое восклицание может относиться и к литературе, которая становится для меня «ein fremdes Gebiet» и даже не возбуждает особенного интереса в новых своих проявлениях. Je ne lis plus, je relie, и между прочим снова и с немалым удовольствием перечитываю Вергилии.
Глубоко жалею о Тютчеве; он был славянофил, но не в своих стихах; а тестихи, в которых он был им, те-то и скверны. Самая сущная его суть, — le fin dn fin, — это Западная, сродни Гёте, напр.: «Есть в светлости осенних вечеров»… и «Остров пышнааай, остров чуднааай»… К. Аксакова {Это ошибка: стихотворение принадлежит Хомякову.} нет никакого соотношения. То — изящно выгнутая лира Феба; а это — дебелый, купцом пожертвованный, колокол. Милый, умный, как день умный, Федор Иванович! Прости, — прощай!
Радуюсь также преуспеянию Пети. Что он еще не однажды чхнет вам на самую голову, это в порядке вещей. Молодой эгоизм и молодое самолюбие не могут не взять своего. Но так как он теперь уже умен и будет знающ, то из опытов жизни он почерпнет необходимые уроки, и выйдет из него толк.
Что вы мне ничего не говорите о Льве Толстом? Он меня «ненавидит и презирает», а я продолжаю им сильно интересоваться, как самым крупным современным талантом.
Рекомендация ваша М. Н. Лонгинову, при его отъезде из Орла, возымела свое действие: «Вестник Европы» получил второе предостережение. То-то вы порадуетесь, когда этот честный, умеренный, монархический орган будет прекращен за революционерство и радикализм.
Извините эту немного желчную выходку, но досада хоть кого возьмет!
Кланяюсь вашей жене и жму вам руку.
Преданный вам
Ив. Тургенев.
P. S. Не сомневаюсь в том, что Зайчинский нагревает себе руки; но несомненно также и то, что я никогда столько не получал дохода, как с тех пор, что он у меня живет. Неужто вы точно видели его пьяным? — Я что-то этого за ним не замечал. И не можете ли вы под рукою, но достоверно узнать, где и какое он купил имение? Сплетников, вы знаете, хоть пруд пруди.
Л. Толстой от 25 августа 1873 г. писал:
22-го мы благополучно приехали из Самары и сгораем желанием вас видеть. Спасибо, что не забываете нас. По настоящему, нет времени нынче писать вам, но так боюсь, чтобы вы не проехали мимо нас, что пишу хоть два слова. Не смотря на засуху, убытки, неудобства, мы все, даже жена, довольны поездкой и еще больше довольны старой рамкой жизни и принимаемся за труды респективные. Наш поклон Марье Петровне и Оленьке.
Ваш Л. Толстой.
Тургенев писал:
13 сентября 1873 года.
Chateau de Kohant.
Любезнейший Фет, я гощу здесь у г-жи Жорж Занд; я приехал сюда третьего дня из Парижа и привез с собою ваше письмо с эпиграфом из Гёте, неизвестно к кому относящимся, — к вам или ко мне. Начну с того, что вы напрасно обвиняете меня в том, будто я оборачиваюсь к вам подкладочной стороной. Жизненная подкладка — это грубое и вонючее полотно — меня самого со всех сторон окружает, где уж тут! Когда вам приходится думать обо мне, не забывайте пожалуйста, что я стал теперь существом, постоянно, как часовой маятник, колеблющимся между двумя, одинаково безобразными, чувствами: отвращением к жизни и страхом смерти, — а потому и не взыскивайте с меня. С эстетическими штучками и прочими пакостями, которыми вы во мне дорожили, мне приходится встречаться теперь очень редко. Я не сделался более серьезным, но уж наверное более скучным человеком.
Вы правы: стих, приписанный мною Аксакову, принадлежит Хомякову. Но он возбудил во мне воспоминание о К. С. Аксакове, во-первых, потому, что я не раз слышал его в устах К. С., сопровождаемого обычным колокольным гуденьем, а во-вторых, потому, что очень к нему идет. Что же касается до моей нелюбви к славянофильству, то как ни совестно, а приходится цитировать самого себя: «все дело в ощущении», говорит Базаров. — Вы не любите принципов 92-го года (а 89-го года вы уж будто так любите?) — интернационалку, Испанию, поповичей, вам это все претит; а мне претит Катков, Баденские генералы, военщина и т. д. Об этом, как о запахах и вкусах, спорить нельзя.
Вы напрасно так строго отзываетесь о Вергилии. Постройки, характеры и проч. его «Энеиды» не имеют значения, но в отдельных выражениях, в эпитетах, в колорите, — он не только поэт, но смелый новатор и романтик. Напомню вам — per arnica silentia lunae (хоть бы Тютчеву) или — futnra jam pallida morte, — (о Дидоне, когда она с яростью восходит на свой костер, чтобы покончить с собою) и т. п. Овидия я читал для того, чтобы etvas latein treiben с молодым Виардо. И он тоже не так плох, как вы пишете. Здешняя хозяйка мила и умна до нельзя; теперь она совсем добрая старушка. Ко мне она очень благоволит, и я сердечно к ней привязан.
Радуюсь, что Лев Толстой меня не ненавидит, и еще более радуюсь слухам о том, что он оканчивает большой роман. Дай только Бог, чтобы там философии не было.
Поклонитесь от меня Марье Петровне, поцелуйте умницу Петю и будьте здоровы, веселы и благополучны.
Ваш Ив. Тургенев.
P. S. Был на днях на охоте и убил лисицу. (Третью во всей моей жизни).
Л. Толстой писал от 25 сентября 1873 г.
Я так избалован вами, дорогой Афанасий Афанасьевич, что, давно не имея от вас известий, не только мне чего-то недостает, но беспокоюсь и я, и жена — все ли у вас благополучно? Сколько мне помнится, вы писали мне в Самару и говорили, что заедете ко мне, если будете знать, дома ли я. Я сейчас же по приезде отвечал вам, и с тех пор месяц ни слуху, ни духу. Пожалуйста напишите, что бы у вас ни было. Ведь мы право оба с женою не так только знакомы, а мы любим вас. Если вы благополучно, то напишите. Что ваши птенцы, дела, планы? Мы все по-старому, засели крепко опять лет на 11 (нынче 11 лет, что мы женаты). Я начинаю писать, т. е. скорее кончаю начатой роман. Дети учатся, жена хлопочет, учит. У меня каждый день, вот уже с неделю, живописец Крамской делает мой портрет в Третьяковскую галерею, и я сижу и болтаю с ним и из петербургской стараюсь обращать в крещеную веру. Я согласился на это потому, что сам Крамской приехал, согласился сделать другой портрет очень дешево для нас, и жена уговорила.
Ваш всею душой
Л. Толстой.
18 ноября 1873 года.
У нас горе: Петя меньшой заболел крупом и в два дня умер. Это первая смерть за 11 лет в нашей семье, и для жены очень тяжелая. Утешаться можно, что если бы выбирать одного из нас восьмерых, эта смерть легче всех и для всех; во сердце и особенно материнское — это удивительное высшее проявление Божества на земле, — не рассуждает, и жена очень горюет. Благодарю вас, что не забываете меня письмами. Как бы хорошо было, если бы не забыли и проезжая в Москву.
Порадовался я успехам ваших занятий с Оленькой; я так и ждал. У меня одно из лучших, радостнейших занятий — это уроки с детьми математики и греческого. Передайте наш душевный привет Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
В конце декабря приятель, следивший за движением наших с братом просьб в комиссии прошений, уведомил меня, что, при докладе его величеству этого дела, государь изволил сказать: «Je m'imagine, ce que cet homme a du souffrir dans sa vie»[235].
Вслед за тем от 26 декабря 1873 г. дан был Сенату высочайший его величества указ о присоединении отставного гвардии штабс-ротмистра Аф. Аф. Фета к роду отца его Шеншина со всеми правами, званию и роду его принадлежащими.
Это, можно сказать, совершенно семейное событие не избежало однако же зоркости «Нового Времени», где появилось следующее четверостишие:
«Как с неба свет, Как снег с вершин, Исчезнул Фет И встал Шеншин».Покойный отец наш терпеть не мог писания стихов, и можно бы с великою натяжкою утверждать, что судьба в угоду старику не допустила Шеншина до литературного поприща, предоставив последнее Фету.
Конечно, и брат Петруша, и дети, а главным образом Петя Борисов, были обрадованы Монаршею милостью, выводившею все семейство из какой-то заведомой неправды, но наибольший восторг возбудило это известие в проживавшей заграницей старшей сестре моей Каролине Петровне Матвеевой, урожденной Фет. Можно бы было ожидать, что эта, всем сердцем любящая меня, сестра будет огорчена в своем заграничном одиночестве вестью, разрывающею номинальную между нами связь, но вышло совершенно наоборот. Поздравительное письмо ее представляет самый пылкий дифирамб великодушному Монарху, восстановившему истину. Выше, по поводу добрейшего Василия Павловича, я уже говорил о семейной слабости к женщинам всех братьев Матвеевых. Зять мой А. П., прекраснейший и благодушнейший человек, мог в свою очередь служить весьма ярким образчиком такой натуры. Странно сказать, что одна и та же страсть любви на долгие годы развела дружественных между собою супругов Матвеевых. Правда, предметы этой страсти были у обеих сторон различны. Красавица Матвеева не хотела любить никого кроме мужа и не могла помириться с его безграничной любовью ко всем женщинам. Чтобы не возвращаться к этим грустным воспоминаниям, позволю себе забежать вперед. Года через два я получил из Киева известие о глубоком горе, постигшем Матвеева по случаю смерти любимой им женщины, оставившей ему двух малолетних детей, а в непродолжительном времени я получил из Киева следующее письмо от сестры: «Узнавши о горе бедного Александра, я подумала, что теперь не время сетовать на женщину, которая так долго разлучала меня с мужем, а нужно помочь ему не падать духом на старости лет и стараться заменить несчастным детям покойную их мать. Я почти месяц как уже в Киеве и обращаюсь к тебе с усердною просьбой. Я желаю еще раз в жизни увидаться с тобою, чтобы еще раз обнять тебя и сказать, как сердечно я тебя люблю. Поэтому приезжай в возможно скором времени дня на три к нам в Киев. Александр тоже будет сердечно тебе рад».
Матвеева я не видал с проезда через Киев, но, по при бытии поезда к киевскому дебаркадеру, тотчас же узнал в сильно поседевшем и ищущем кого-то глазами по галерее господина А. П. Матвеева. Излишне говорить, как мы с сестрою обрадовались друг другу. В темно-русых волосах ее не было ни единой сединки, и вообще черты лица ее мало изменились, но какая-то болезненная полнота портила производимое ею впечатление. Сам Матвеев в свободные минуты отдавался садоводству, и при благословенном киевском климате, непосредственно прилегавший к домашнему двору, сад его, с персиковыми шпалерами, всевозможными карликовыми деревьями, фонтаном и оросительным бассейном, действительно заслуживал полного внимания. От своих древесных питомников он ожидал больших доходов, но едва ли их дождался.
Когда Матвеев утром уезжал на практику, мы с сестрою благодушествовали в ее кабинете, передавая друг другу наше прошлое. Воспитывавшаяся заграницей, она плохо говорила по-русски, но зато кроме немецкого хорошо знала французский, английский и даже итальянский языки, так как последние пять лет провела во Флоренции. Как ни грустно говорить об этом, скажу, что, не взирая на заботу сестры о домашнем хозяйстве и двух детях Матвеева, которых я не раз видал у нее на руках, я стал замечать в раз говорах ее фантастический элемент, о котором между прочим сообщил ее мужу. Главным, поразившим меня мотивом была твердая уверенность сестры, что, основываясь на ее знакомстве со многими языками, иезуиты приняли ее еще в Италии за русского агента и даже шпиона и потому преследовали ее по всей Европе разными преднамеренными неисправностями по гостиницам и продолжают преследовать и здесь, в Киеве. Обнимая меня при прощании на широкой площадке лестницы, сестра, с самой спокойной уверенностью непреложности слов своих, благодарила за исполнение ее последнего желания. Конечно, и такое положительное предсказание я счел болезненным настроением. Но через месяц я получил письмо Матвеева с черною печатью, извещавшее о внезапной смерти Каролины Петровны.
Для окончательной характеристики Александра Павловича, следует прибавить, что через год он женился на молодой красавице, которая, судя по фотографии, напоминала сестру Каролину в молодости. Конечно, эта новая погоня за женской красотой кончилась тяжелым разочарованием и Формальным разводом.
Попав на тему характеристики рода Матвеевых, ограничусь только заключительными словами о милом Василии Павловиче, игравшем некогда столь заметную роль в моей жизни.
После нашего московского свидания, он, вместе с принятым им Орденским полком, отправился на усмирение Польши. Но здесь какая-то полька сразу овладела его сердцем, объявив, что уступит его искательствам только в качестве законной жены. Когда слух о намерении полкового командира жениться на повстанке разнесся по полку, офицеры в полном составе отправились к Василию Павловичу, почтительно прося его отказаться от своего намерения, кидающего самый неблагоприятный свет на весь полк, и предупреждая, что в противном случае они вынуждены будут подать рапорт обо всем случившемся. Конечно, пылкий Матвеев, не взирая на свои 50 лет, не обратил внимания на просьбу полка и вследствие рапорта офицеров был тотчас же отчислен по кавалерии, а па истечении года уволен в отставку с чином генерал-майора и соответственным пенсионом. В течение этого года, бедный Василий Павлович успел потерять нежно любимую жену и сына, которого она ему подарила. Таким образом роковая страсть его жестоко подшутила над ним, лишивши его разом и плодов многолетнего тяжкого труда, и того, во имя чего они были принесены в жертву. К счастию, он нашел тихое пристанище близь станции Александровки по Моск. — Курской железной дороге в доме второго брата своего, знаменитого и богатого агронома Афанасия М-ва.
Помня наши скромные кулебяки по поводу 22-го февраля, Василий Павлович два раза приезжал ко мне на именины. Видно было, что последние события жизни сломили его выносливую природу, он сильно опустился, постарел, с усилием выходил из задумчивости и, судя по сильному кашлю, был уже во власти скоротечной чахотки. Когда в следующий за последним его посещением год я дружески выразил ему в письме сожаление, что 22-го февраля его не было с нами, — ответа не последовало. Бедный Василий Павлович был уже в могиле.
X
Письма. — Оля уезжает в Славянск. — Приезд брата. — Векселя. — Француз. — Просьба брата. — Новые гувернантки. — Слезы Петруши. — Покупка Грайворонки. — Ссора с Тургеневым. — Письма. — Брат уезжает в Славянские земли.
В конце 1873 г. на праздники мы отправились в Москву, но не одни уже, как прежде, а с нашей племянницей, ее гувернанткой и компаньонкой, которым взяли отделение в Славянском базаре, а сами по-прежнему поместились на Покровке у Боткиных. Впрочем мы с Олей недолго оставались в Москве. Через две недели я вернулся к своей камере, а она к урокам.
Л. Толстой писал:
15 января 1874 года.
Очень удивился я, получив ваше письмо, дорогой Афан. Афан., хотя я и слышал от Борисова давно уж историю всей этой путаницы: и радуюсь вашему мужеству распутать когда бы то ни было. Я всегда замечал, что это мучило вас и хотя сам не мог понять, чем тут мучиться, чувствовал, что это должно было иметь огромное влияние на всю вашу жизнь. Одно только, что мы не знали, хорошее или дурное, потому что не знали, что бы было, если бы этого не было. Для меня наверно хорошее, потому что того Шеншина я не знаю, а Фета-Шеншина знаю и люблю. Тороплюсь писать, потому что сейчас еду в Москву, а не хочу оставить письмо ваше неотмеченным. Я очень рад, что вы ничего не дали в этот мерзостный литературный сборник. Это не только глупо, но даже нагло и скверно. Я так рад, что мы с вами вместе abs. Жена благодарит за память.
Ваш всею душой Л. Толстой.
Тургенев:
Париж.
4 марта 1874 года.
Любезнейший Афан. Афан., каким то чудом (французская почта чрезвычайно исправна) ваше письмо с уполномочением Толстого прибыло в rue de Douai только вчера, т. е. через с небольшим три недели! мне этот факт в сущности только потому неприятен, что он мог внушить вам мысль, что я не умел оценить готовность, с которою вы исполнили мою просьбу. А я и вам, и Л. Н. Толстому очень благодарен. Теперь уже сезон на исходе, но я все таки постараюсь поместить в Revue des deux mondes или в Temps его «Три смерти», а к осени непременно напечатаю «Казаков». Чем чаще перечитываю я эту повесть, тем более убеждаюсь, что это chef d'oeuvre Толстого и всей русской повествовательной литературы. Надеюсь, что он совсем поправился в своем здоровьи. Ко мне, после 16-ти месячного молчания, вернулась подагра и вот уже целая неделя, как я не схожу с дивана или постели. Что делать! — терпение, больше ничего не остается. Со всем тем мой отъезд в Россию не откладывается. Полагаю выехать отсюда в конце апреля. Нынешним летом мы увидимся наверное. А до тех пор желаю вам всяческого благополучия на всех ваших поприщах: хозяйственном, судебном, педагогическом, литературном: жму вам крепко руку и прошу передать Марье Петровне мой усердный поклон.
Преданный вам Ив. Тургенев.
Л. Толстой:
Марта 1874 года.
У нас горе за горем; вы с Марьей Петровной верно пожалеете нас, главное Соню. Меньшой сын 10-ти месяцев заболел недели три тому назад той страшной болезнью, которую называют головною водянкой, и после страшных 3-х недельных мучений третьего дня умер, а нынче мы его схоронили. Мне это тяжело через жену, но ей, кормившей самой, было очень трудно.
Вы хвалите Каренину, мне это очень приятно, да и как я слышу, ее хвалят; но наверное никогда не было писателя, столь равнодушного к своему успеху, как я. С одной стороны школьные дела, с другой — странное дело — сюжет нового писанья, овладевший мною именно в самое тяжелое время болезни ребенка и самая эта болезнь и смерть. Ваше стихотворение мне кажется эмбрионом прекрасного стихотворения; оно, как поэтическая мысль, мне совершенно ясно, но совершенно неясно, как произведение слова. От Тургенева получил перевод, напечатанный в Temps, Двух гусаров и письмо в третьем лице, просящее известить, что я получил и что Г-жой Виардо и Тургеневым переводятся другие повести, — что ни то, ни другое совсем не нужно было.
Очень благодарю Петра Афан. за генеалогию лошадей. Я боюсь только, не слишком ли тяжел и рысист молодой жеребец; старый жеребец мне больше бы нравился. Очень рады будем с женою, если вы с Марьей Петровной за едете к нам и подарите нам денек.
Ваш Л. Толстой.
Тургенев:
24 апреля 1874.
Пишу вам, любезнейший А. А., за два дня до собственного моего отъезда в Россию и пишу из домика на хрустальном заводе, занимаемого моею дочерью, с которою я приехал проститься. Я получил ваше письмо с приложенным письмом любезного Пети, у которого уже образовался совершенно литературный и ученый почерк. Отвечать я ему буду не письменно, а словесно, во время моего пребывания в Москве; нарочно поеду в лицей Каткова (мне молодой Милютин сказывал, что я не рискую встретить там гнусного его владельца) и приятельски побеседую с молодым мудрецом. Говорят, он подвигается вперед гигантскими шагами; лишь бы здоровье его выдержало! Благодарю вас за сообщенные вами известия; особенно порадовал мена факт окончания Толстым своего романа: жду от него богатых и великих милостей. Радуюсь я также тому, что и дела ваши, и здоровье, все идет как следует. Не могу однако скрыть от вас своего изумления: я едва поверить глазам своим, когда прочел в вашем письме нечто похожее на одобрение презреннейших статей г-на А. (Авсеенко?) в Русском Вестнике об Анненкове! Все написанное Анненковым о Пушкине так умно, дельно, так портретно-верно, что если бы вы не были закрепощенным г-ну Каткову человеком, вы бы с вашим тонким поэтическим и гуманным чутьем прежде всех других оценили бы по достоинству прекрасный труд нашего приятеля и с гадливостью отвернулись бы от инсинуационных, клеветнических и пошлых и тупых кляуз этого Булгарина redivivus… Но Катков вас забрал в руки, и вы считаете нужным защищать Пушкина — от кого? от Анненкова!! и в угоду кому! — г-ну Авсеенко, по поводу которого невольно вспоминаются слова Ривароля: «qu'il fait tache sur la boue». Да… действительно правы люди, утверждающие, что стоит только немножко долго пожить — до всего доживешься и все увидишь. Но признаюсь, это меня изумило.
Я думаю прибыть в Москву около 25го или 30го мая, а в Спасское в десятых числах июня. А до тех пор будьте здоровы и благополучны.
Преданный вам
Ив. Тургенев.
Спасское.
13 июня 1874 г.
Любезнейший Аф. Аф.! Я в понедельник уезжаю. Не знаю, когда и где увидимся, — быть может в Петербурге зимой или в Москве. Во всяком случае желаю вам всего хорошего и некоторого смягчения ваших жестоких чувств против прогресса, либералов, эмансипации и т. п.
Кланяюсь Марье Петровне, целую Петю и жму вам руку.
Преданный вам
Ив. Тургенев.
Л. Толстой:
24 июня 1874 года.
С тех пор, как вы уехали, дорогой Афан. Афан., каждый день собирался писать вам, собирался и выехать к вам навстречу в Козловку, но не удалось, а все затем, что от проклятого Г…. я в последний приезд ваш как будто и не видал вас. И тоже несколько раз повторяла жена. Даже боюсь, что от того же проклятого народного поэта между нами как будто холодность пробежала. Избави Бог! Вы не поверите, как я дорожу вашей дружбой. Пожалуйста, напишите словечко, что все это вздор и было, но прошло, или мне только показалось, и исполните обещание заехать к нам с Петей.
Мы третьего дня похоронили тетушку Татьяну Александровну. Она медленно и равномерно умирала, и я привык к умиранию ее, но смерть ее была, как и всегда смерть близкого и дорогого человека, совершенно новым, единственным и неожиданно-поразительным событием. Остальные здоровы, и дом наш также полон. Чудесная жара, купанье, ягоды привели меня в любимое мною состояние праздности умственной, и только настолько и остается духовной жизни, чтобы помнить друзей и думать о них. И вот теперь ужасно сильно и часто хочется с вами поговорить совсем свободно и во весь ум, что так с редкими можно делать. Передайте наш поклон Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
Тургенев:
Спасское.
16 июня 1874 г.
Вы хотя и проницательны, любезнейший Аф. Аф., а едва ли отгадаете, что со мною происходит. Вместо того чтобы покинуть родные Палестины (черт бы их побрал!!), я со вчерашнего дня лежу с сильнейшим припадком подагры в колене и сколько страдаю — единому Богу известно! Это в 3-й раз сряду и все в июле месяце родина меня так награждает. Сообщите это известие М. А. Милютнной, которая, находясь в дер. Рыбницы, в 40-ка минутном расстоянии от Змиевки, и от вас верно недалеко. Кланяюсь Марье Петровне, обнимаю Петю и вас.
Преданный вам
Ив. Тургенев.
В виду очевидной пользы, принесенной Оленьке Славянскими водами, на этот раз еще с зимы была нанята на водах более просторная и удобная квартира, а вначале сезона жена моя с гувернанткой, Оленькой и ее компаньонкой отправилась в Славянск, где, устроив племянницу, пробыла не более недели, так как серный воздух тяжело действовал на ее легкик.
Совершенно неожиданно, к самому времени хлебной уборки, явился в Степановку брат Петр Афан. Хотя психопатологический этюд его характера представлял бы сам по себе большой интерес, но я отказываюсь от подобной задачи, во-первых, потому, что это отклонило бы меня от главной стези рассказа, а во-вторых, потому, что, из желания воспроизвести действительный образ живого человека, боюсь невольно приписать ему не действительное, а только мне кажущееся. Поэтому ограничусь одним необходимым для разъяснения всего затем случившегося. Всякий, даже лично незнакомый с гр. Л. Ник. Толстым, может догадаться о его способности, или лучше сказать потребности, всматриваться в нравственный образ всякого предстоящего лица. Полагаю, что Толстой до сей минуты не знает, до какой степени страстный ружейный и псовый охотник и великий знаток коннозаводства брат Петруша восторгался его творениями; но дело в том, что сам граф не только любил Петра Афан., но неоднократно выставлял его, как пример высоконравственного деятеля, в смысле самоотверженности. Вполне разделяя такое воззрение, считаю необходимым указать на особенность в характере брата, объясняющую, по моему мнению, энергию задуманных им действий. Обращаясь к известной цели, брат, очевидно, преднамеренно закрывал глаза на все окружающие препятствия.
Припомним разговор мой с братом в 1872 году тотчас после моей операции, разговор, кончившийся восклицанием о палевом бальном платье. Напрасно старался я в то время указывать на возможность повторения несказанного горя, испытанного братом по случаю выхода замуж старшей дочери того же семейства; опасениям моим пришлось в скорости осуществиться.
Вначале 1873 года я узнал, до какой степени брат убит выходом замуж второй красавицы дочери, которою он увлекся до того, что в качестве жениха оставил в руках отца ее на ее имя векселей на 200 тысяч, представляющих всю ценность его имения. Последнее обстоятельство заставило меня обратиться ко главе семейства с письмом приблизительно такого содержания: «конечно, никто не изумится, что жених передает все свое состояние будущей своей супруге, чтобы разом раскрыть карты своих будущих к ней отношений; но как вам неугодно было причислить брата моего к своему семейству, то последнее обстоятельство меняет все дело. Я бы и в настоящем случае воздержался от всякого суждения, если бы в качестве опекуна не был обязан блюсти интересы рода Шеншиных и убежден, что безденежные векселя эти будут возвращены по принадлежности, как вещественные доказательства неудачной попытки несчастного брата».
В ответ на это я получил письмо в несколько обиженном тоне, с уверением, что векселя, несомненно следующие к возвращению, ожидают только категорического востребования. О этим ответом в руках я немедля отправился к брату, который в моем присутствии через мои же руки получил векселя обратно. Признаюсь, передавши на обратном пути к усадьбе брата, лунной ночью в коляске, торопливою по обстоятельствам рукою при сильном ветре 10 векселей по 20 тысяч, я потом долго мучился деликатностью, вследствие которой не надорвал их.
В настоящий приезд, брат передал мне всю пачку векселей со словами: «возьми их себе, они у тебя будут более безопасны».
— Конечно, отвечал я, надрывая бумаги и пряча в чугунку, где они хранятся и по сей день.
Так как, проводивший у нас вакационное время, Пети Борисов свободно и совершенно правильно писал и говорил по-французски, то я не знаю, по какому поводу (вероятно, в качестве провожатого по железной дороге) Леонтьев прислал с ним гувернера француза, вдобавок с валлонским выговором. Гувернер этот целые дни возился с своим двухствольным ружьем и не говорил ни слова ни на каком языке кроме французского. Как не упрашивал я Петрушу оказывать больше внимания своему несчастному спутнику, ничего не помогало. Француз действительно был мало интересен, и Петруша всегда находил способ от него уйти, так что однажды за вечерним чаем француз сказал моей жене: «я желал бы, сударыня, знать, для кого собственно я здесь?»
— Для меня, отвечала она, так как без вас мне не с кем играть в шахматы и домино.
— А, отвечал француз, теперь я покоен.
По своему добродушию, Петр Афан. тоже старался быть любезен с французом, и затем, как страстный садовод и цветовод, занялся исцелением поломов и изъянов, оказавшихся в нашем разросшемся саду. Признаюсь, я был очень доволен, что брат с таким увлечением принялся за сад, убежденный, что таким образом скучать ему будет некогда. Зато надо было видеть, сколько труда полагал он на расчистку какого-нибудь загнившего места отломленного сука. Он вычищал образовавшееся углубление не так, как бы он хотел его залепить варом, а как бы готовил его под лак.
— Не знаете ли вы, спросила однажды жена моя входившего на балкон француза, — что делает Петр Афан.?
— O madame, il creusè, отвечал он голосом покорного убеждения.
Однажды, когда я проходил мимо большого зеркала в гостиной, меня догнал брат и, не сказавши ни слова, упал передо мною на колени.
— Что за вздор ты делаешь! воскликнул я, — встань и говори, что тебе нужно.
— Нет, не встану, покуда ты не обещаешь исполнить мою просьбу.
— Так, любезный друг, нельзя обещать то, исполнимость чего неизвестна. Ты знаешь, что все для меня возможное я исполню и без всяких трагических приемов.
— Купи у меня Грайворонку! воскликнул он.
Я насилу мог поднять его с колен, еще не знавши, что несколько минут тому назад он с тою же просьбой падал на колени перед женою и обратился ко мне только после категорического ее ответа, что она никакими крупными экономическими делами не заведует.
— Умоляю тебя именем дружбы нашей, говорил брат, сними ты с меня эту гнетущую обузу; я не могу жить на Грайворонке; она меня душит, я там с ума сойду. Чем возиться и отыскивать стороннего покупателя, пусть она перейдет к тебе, и я буду совершенно повоен.
— Все это прекрасно, отвечал я, но у меня 70 тысяч всех денег, а этого далеко не хватает на покупку Грайворонки.
— О, этого с меня совершенно довольно, отвечал брат, и ты, не вдаваясь ни в какие сторонние соображения, развяжи мою душу, ударив по рукам!
— Продавая за полцены имение, отвечал я, избавь меня по крайней мере от формальных обсуждений подробностей этого дела. Все это ты можешь решить с Иваном Алек. Остом, который как раз сегодня приехал и в настоящую минуту гуляет в роще. — Я сейчас схожу туда, продолжал я, и объясню ему все дело, а затем он будет ждать тебя на скамье под березкой. Там никто вам не помешает, и если ты действительно хочешь осуществления своей просьбы, то до полного окончания дела храни о нем упорное молчание.
Через полчаса дело было окончательно улажено, и совершение купчей отложено до октября, времени окончания молотьбы. Успокоенный брат уехал в свое Воронежское имение.
Тургенев писал:
Петербург.
16 июля 1874 г.
Любезнейший Афанасий Афанасьевич, ваше письмо не застало меня уже в Спасском, но не на радость я выехал оттуда. Две недели тому назад я прибыл в Петепбург и тотчас же свалился как сноп, пораженный жесточайшей подагрой разом в оба колена и в обе плюсны, чего со мной еще не бывало. Мучился я лихо; теперь начинаю елозить на костылях по комнате, и доктор полагает, что я могу в спальном вагоне отправиться в субботу в Берлин, а оттуда в Карлсбад; но я человек муштрованный и поверю, что я уехал в Карлсбад только тогда, когда из него выеду. Сказать, что этот утрегубленный припадок (три раза сряду) усилил в сердце моем пламя любви к родине, — было бы мало вероятно. Скорее выйдет то, что я буду впредь думать тако: «Ты, родина, процветай там, а я уж буду прозябать здесь, от тебя подальше. А то ты уже больно (говоря языком „Опасного соседа“) — охотница подарочки дарить. Много довольны, спасибо и так».
Кланяюсь Марье Петровне и целую умницу Петю. Нам дружески жму руку.
Преданный вам
Ив. Тургенев.
Тем временем Оленька, с лицом пышущим здоровьем, вернулась из Славянска вместе с компаньонкой и гувернанткой. Последняя, прожившая у нас более году ссылаясь на свою слабость, просила увольнения от должности. Делать было нечего, и мне пришлось ехать в Москву для разыскания новой наставницы. По совету некоторых лиц, я обратился с просьбою к пастору, который обещал выписать мне из заграницы опытную в деле воспитания француженку. Успокоенный положительным обещанием доброго старика, я вернулся в Степановку.
Получив через месяц телеграмму о высылке на Змиевку в назначенный день экипаж, мы действительно в этот день приняли в дом очевидно многоопытную особу. Черные как смоль волоса ее, высоко зачесанные, увенчивались широкою лопатою испанского гребня; в ушах ее висели разноцветно эмальированные подвески, и пальцы рук были покрыты разнообразными перстнями. Явно было, что она старалась, сколько возможно, молодиться, но самые ее притиранья и гримировка приводили к уверенности, что голова ее покрыта очень искусно прилаженным париком. Целый месяц я все более убеждался в справедливости слов оставившей нас Надежды Алекс., что иностранные гувернантки в большем случае далеко уступают хорошим русским в основательном образовании.
Напрасно новая гувернантка рассказывала о своем пребывании в Риме, Афинах, Яффе, Иерусалиме, Лиссабоне и главное в Каире, — дело преподавания в руках ее спориться не могло по тому уже одному, что она не знала правил французской грамматики, хотя никаким другим языком не владела. К этому следует присовокупить, что она, не будучи в состоянии давать уроков музыки, крайне небрежно относилась к делу воспитания. С чувством раздражения и гадливости вспоминаю последнее наше с нею объяснение. Зная, что она одна в классной, я, взошедши по лестнице, попросил у нее позволения перевести дух, стесненный одышкою.
— Позвольте, сказал я отдохнувши, высказать некоторые мысли, на которые попрошу вас сделать свои замечания.
— Но я тоже хочу поместить свое словечко.
Я об этом только вас и прошу, но позвольте прежде мне сказать несколько слов.
— Но я все-таки хочу сказать свое словечко.
— Вам угодно говорить предварительно, — я вас слушаю.
— Нет, я не знаю, о чем вы желаете говорить.
— В таком случае позвольте мне высказаться.
— Но я тоже хочу поместить свое словечко.
— Вы же не даете мне говорить.
— Но я все-таки хочу поместить свое словечко.
И так до бесконечности, пока я не встал и не ушел, громко хлопнув дверью.
Через час коляска, долженствующая отвезти ее на станцию, была у крыльца, и она, получивши расчет и паспорт, уехала, ни с кем не простясь.
На этот раз не доверяя рекомендациям, я увез прямо из конторы небольшую, средних лет, немку с весьма заметными усами. Каковы в сущности были ее воспитательные способности, сразу решить было трудно; но в гром кой самоуверенности, по крайней мере, у ней недостатка не было. Так, например, уверяя, что любой ученик в полгода научится у нее играть в четыре руки, она повторяла: «so spielt er mir» (он у меня заиграет). Даже за обедом она не скрывала своих научных сведений, и нужно быловидеть зарю счастья в глазах насмешливого Петруши, когда гувернантка, передавая известный анекдот об учреждении ордена Подвязки, с полной уверенностью приписала эту любезность Оттону III. С каким злорадным счастием Петруша старался расчистить дорогу перед ее Оттономт не обращая внимания на мои укоризненные взгляды. Зато тотчас же после обеда я задал школьнику жестокую головомойку. «Тебе, говорил я, весело щеголять своим грошовым знанием, но ты не хочешь подумать, каково мне ежеминутно бегать в Москву за новыми гувернантками. То, что ты делаешь, настолько же неделикатно по отношению к гувернантке, как и ко мне. Если ты желаешь мешать воспитанию сестры, то оставайся на вакацию в лицее у Павла Михайловича».
Не могу не припомнить одной, случайно проявившейся, черты характера 15-ти летнего Петруши Борисова.
Однажды, при виде кипы старинных семейных бумаг, он стал вкрадчивым голосом просить позволения просмотреть свои Борисовские документы. «Можешь, отвечал я, если снова уложишь их в том порядке, в каком найдешь».
Так как бывшая наша спальня, в которой хранились бумаги, была темновата от навеса над террасой, то Петруша уселся за своими бумагами в столовой. Зная, как он спартански терпелив ко всякой физической боли, я был крайне удивлен, заметив мимоходом, что он плачет над своими бумагами.
— Что с тобой? о чем ты плачешь? заметил я.
При этом вопросе слезы превратились в рев.
— Как же мне не плакать, всхлипывал он: ведь вот Борисов-то какой-то советник, это ведь попросту подьячий; а ведь вот же подпись: стольник и воевода Семен Шеншин; моя мать Шеншина, а я не Шеншин. Как же тут в отчаяние не приходить!
— То, что ты говоришь, Петруша, нехорошо, а главное нелепо; в этом ты сам убедишься.
Л. Толстой писал:
1874 года 22 октября.
Дорогой Афанасий Афанасьевич! у меня затеялась необходимая покупка земли в Никольском, для которой мне нужно на год занять 10 тысяч под залог земли. Может, случится, что у вас есть деньги, которые вам нужно поместить. Если так, то напишите Ивану Ивановичу Орлову в Чернь, село Никольское, и он приедет к вам для переговоров о подробностях и будет вести это дело с вами независимо от наших отношений. Я еще не отвечал вам на ваше последнее письмо, хотя очень благодарен вам за него. Как бы я охотно приехал к вам, но завален так делами школьными, семейными и хозяйственными, что даже на охоту не успеваю ходить. Надеюсь быть свободнее, как зима станет. Наш поклон Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
Тургенев писал от 30 октября 1874 г.:
Париж.
Любезнейший Аф. Аф., я виноват перед вами тем, что, высказав мое откровенное мнение о господине Каткове, упомянул о его влиянии на вас. Лучше было вовсе не говорить об этом субъекте. Не могу, однако, не выразить своего удивления вашему упреку г-ну Каткову в либерализме! после этого вам остается упрекнуть Шешковского в республиканизме и Салтычиху в мягкосердечии. Вас наэто станет, чего доброго.
Вы чрезвычайно довольны всем окружающим вас бытом:- ну и прекрасно! Помните, как 20 лет тому назад вы в Спасском, в самый разгар Николаевских мероприятий, огорошили меня изъявлением вашего мнения — что выше положения тогдашнего российского дворянина, и не только выше, но благороднее и прекраснее, — ум человеческий придумать ничего не может. А такие антецеденты делают все возможным, все, кроме хотя мгновенного соглашения между нами двумя по какому бы то ни было вопросу.
Вместо того чтобы толковать о «шаткости» убеждений: Анненкова, я бы посоветовал вам прочесть его классическую книгу о Пушкине, перед которым и он, и я благоговеем не меньше вас и уже наверное больше того негодяя, который в Русск. Вестнике извергнул какую-то дрянную слюну по поводу этой мастерской монографии. А пока позволю себе выписать из только что полученного мною письма того же Анненкова следующие золотые строки:
Мало ли что можно наговорить на Европу: это мальчик резвый, беспрестанно выделывающий разные штуки, и которого по всей справедливости можно сечь каждый день. Но противопоставлять ему и с торжеством жирного плаксу, который тихо сидит там, где его посадили, и никогда не учит более того, что задано, — этого не одобряю.
Душевно радуюсь успехам Пети и готов верить в его необыкновенные способности, но признаюсь, не понимаю вашего восклицания: «никакой эстетической способности! это просто Зевесов орел!!» — Досих пор очень умных и замечательных детей, — ни оппозиционистов, ни либералов, я не встречал (не говорю, чтобы они таковыми оставались), — ссылаюсь на самого того Шиллера, о ком вы упоминаете:- но может быть новое время… vous avez changé tout cela. — На здоровье!
Желаю вам лучшего, благодарю Марью Петровну за память и остаюсь
преданный вам
Ив. Тургенев.
Наконец Иван Александрович получил письмо от Петра Афан., в котором последний просит Оста приехать на Грайворонку, чтобы вместе отправиться за сто верст в Воронеж для совершения купчей. Погода стояла грязная, и путешественники, как я позднее узнал, совершали Формальный поход по дороге, лишенной всяких, даже первобытных удобств. Этим однако только началось трудное их паломничество. Оказалось необходимым, как писал мне Ост, не только справиться в московском опекунском совете о накопившейся на имение недоимке, но и представить нотариусу квитанцию об ее уплате. Конечно, я тотчас же прибег к помощи Боткинской конторы, прося телеграфировать мне сумму недоимки.
Всем еще памятен женский труд на телеграфных станциях. И вот через день, в час ночи (чтобы заплатить за ночную доставку три рубля) получаю телеграмму, в которой сказано: «недоимок на Грайворонке числится%». Вот вам и сведения для руководства; а между тем наши несчастные дельцы томятся в Воронежской гостинице. Я телеграфирую в контору: «прошу уплатить, сколько бы недоимок ни оказалось и квитанцию выслать: Воронеж, Осту».
Получаю известие, что недоимок уплачено 8 тысяч, и что квитанция отослана по указанному адресу.
Наконец, к первым числам декабря, брат и Ост, принявший уже Грайворонку в наше заведывание, появились в Степановке с купчей и даже вводным листом в руках. Брат был, очевидно, весел более обыкновенного. Ост потом рассказывал, что когда по получении купчей они вернулись в номер от нотариуса, брат сначала упал перед образом на колени и, помолившись усердно, бросился обнимать и целовать Оста. Не помню, на другой или на третий день, когда мы собирались сесть за стол, Иван Александрович, держа в руках письмо, обратился ко мне со словами: «я только сию минуту получил с Грайворонки неприятную весть: вся деревянная часть усадьбы, за исключением барского дома и коннозаводских построек, сгорела дотла, со всем хозяйственным инвентарем, так что в имении не осталось ни одной сохи, ни одного хомута и ни одной телеги. Слава Богу, что пожар не тронул гумна и хлебного амбара».
Так как мы с женою давно уже порывались в Москву, то поджидали только решения Грайворонского дела, чтобы уехать и начать с продажи пшеницы, которой, к счастию, оказалось на Грайворонке в этом году порядочное количество. Между тем перед самым выездом из Степановки я получил следующее письмо Тургенева:
Париж.
29 ноября 1874 г.
Любезный Шеншин, сегодня я получил ваше письмо, а четвертого дня пришло ко мне письмо Полонского, из которого выписываю вам следующий пассаж:
Фет (Шеншин) распустил про тебя, будто ты в свой последний приезд говорил с какими-то юношами (слышал, племянниками Милютина, порученными надзору и попечению Ф. Ш.) и старался заразить их жаждой идти в Сибирь. В первый раз я слышал это от Маркевича у кн. М-ого тому назад недель пять, шесть. На днях я опять слышал повторение этого слуха с тою же ссылкой на Ф. Ш..
Вспоминая свой разговор у Милютиной с ее сыном и Петей и зная вашу охоту к преувеличиванию и прочие привычки, говорю вам без обиняков, что я вполне верю тому, что вы действительно произнесли слова, которые вам приписывают, и потому полагаю лучшим прекратить наши отношения, которые уже и так, по разности наших воззрений, не имеют «raison d'être».
Откланиваясь вам не без некоторого чувства печали, которое относится, впрочем, исключительно к прошедшему, желаю вам всех возможных благ и преуспеяния в обществе гг. Маркевичей, Катковых и т. п.
Передайте также мой прощальный привет вашей любезной супруге, с которой мне уже, вероятно, не придется свидеться.
Ин. Тургенев.
На это неожиданное письмо я немедля отвечал, что Тургеневу странно не знать, что я неспособен отказываться от своих слов, каковы бы они ни были, но что дело, дошедшее в таком виде, состояло в следующем.
Однажды, когда в кабинете Каткова между им и Маркевичем зашел разговор об общественном мнении насчет государственной благонадежности лицея, я сказал: «в этом отношении сомневаться трудно, если принять во внимание мнение людей, далеко не сочувствующих самой школе, как, например, Тургенев». При этом я рассказал, как в гостиной у М-ой Тургенев при мне обратился к ее сыну и его товарищу Пете Борисову со словами: «Je vous félicite, messieurs, en votre qualité de lycéens. Le gouvernement ne manquera pas de vous recevoir à bras ouverts».
К этим подлинным словам Тургенева я не прибавил ни одного слова.
На это письмо мое нежданно последовало еще раз письмо Тургенева:
Париж.
12 декабря 74.
Милостивый Государь.
Афанасий Афанасьевич!
Вы, вероятно, удивитесь, получив от меня письмо, да и я не ожидал, что буду еще беседовать с вами: но одна фраза вашего ответа заставляет меня взяться за перо. Вы пишете:
Вы говорите: «я этому верю», и это и должно быть законом для всех и обычным поводом швырять оскорбления в лицо даже таким безупречным личностям, как Л. Т. (полагаю, что эти буквы означают Льва Толстого).
Если в этой фразе мы имели целью единственно украшение речи вроде «стола Спартака», то мне остается сожалеть, что вам угодно было употребить именно это украшение; если под этим скрывается какая-нибудь сплетня, то прошу вас быть уверенным, что я никогда и ни перед кем не отзывался о Льве Толстом иначе, как с полным уважением к его таланту и характеру, и это уважение будет мною в скором времени высказано перед французской публикой в предисловии к изданию переводов с его произведений; если же наконец вам померещилось что ни будь подобное в моих письмах, то вам стоит их перечесть, чтобы убедиться в вашей ошибке. Не сомневаюсь в вашем чувстве справедливости и уверен, что вы даже мысленно откажетесь от фразы вашего письма, приведенной мною. К тому же я не привык швыряться ни оскорблениями, ни грязью, не потому, чтобы иные люди этого не стоили, но я не охотник марать руки и предоставляю другим подобные упражнения.
Не могу не заметить, что вы напрасно благодарите судьбу, устранившую ваше имя от соприкосновения с нынешней литературой; ваши опасения лишены основания: как Фет, вы имели имя, как Шеншин, вы имеете только фамилию.
Остаюсь с совершенным уважением
ваш покорнейший слуга
Ив. Тургенев.
Это письмо исполнило наконец меру моего долготерпения. Впоследствии, при своем примирении с Толстым, к которому Тургенев явился с повинною в Ясную Поляну, последний жаловался ему, что в ответном письме, о котором здесь говорится, я собрал все, чем только мог уязвить его наиболее чувствительным образом. Я начал с того, что заметил, как в первом письме он очевидно не знал что сказать и по написанному крупно написал «прочие привычки». Жаль, что не сказал какие. Конечно, я склонен к гиперболическим выражениям, которые заслуживают названия преувеличения; но кто даст себе только труд прочесть помещаемые письма Тургенева, убедится, что таким безвредным преувеличением страдает он и сам, но это не дает никому права утверждать, будто он или я преднамеренно искажаем чьи либо слова, чтобы по вредить ему во мнении другого. Что же касается до меня, то на привычки, или лучше повадки, Тургенева указать я не затруднюсь. Я припомнил ему, как, на мой упрек в нестерпимом упрямстве, он возразил: «а меня все считают слабым и бесхарактерным». — И получил в ответ: «твердость и устойчивость не должно смешивать с упрямством, составляющим отличительную черту людей слабых. А слабость де ваша еще в Петербурге не была для нас ни для кого тайной, когда как-то сорвавшееся у меня с языка слово: слабец — дошло и до ваших ушей, как вероятно и чье то стихотворение, которого хвалебного начала не упомню, и которое кончалось»:
Но нрав его расслабленный Так жидок и мучнист, Что в лавр его сам просится Александрийский лист.И это было бы еще не беда, если бы за этой слабостью и упрямством в сущности доброго человека не скрывалось самое детское самолюбие беспощадного эгоизма. Отсюда совершенно прозрачное козыряние с одной стороны и позорное искательство с другой, отсюда небрежно невежливое обращение с дамами, где это считалось возможным, и неузнавание знакомых на водах в обществе высокопоставленных дам. Приводились примеры. Так однажды в Петербурге я передал Тургеневу, что премилая жена племянника Егора Петровича Ковалевского просит меня привести его в ней на вечерний чай. Раскланявшись с хозяйкой, Тургенев, поставив шляпу под стул, сел спиною к хозяйке дома и, проговоривши с кем-то все время помимо хозяйки, к немалому сокрушению моему, раскланялся и уехал. На другой день Егор Петрович своим добродушным тоном выговорил мне: «ну как же вашему Тургеневу не стыдно так обижать молодую бабенку? Она всю ночь проплакала». — И это не единственный пример. С другой стороны я рассказал Тургеневу, как Кетчер встретил меня своим громогласным — «ха-ха-ха!» и восклицанием: «два раза издавал я сочинения Тургенева и два раза вычеркивал ему его постыдное подлизывание к мальчишкам. Нет таки, — напечатал, и с той поры ко мне не является: знает, что обругаю».
Его поступок с дядей, его заносчивые выходки с Толстым и со мною не имеют ли забавного вида самых слабосильных, но и самых задорных петушков корольков, Нельзя же век рассчитывать на снисхождение к слабости, но еще забавнее бреттерствовать человеку, целый век толковавшему об ужасе смерти перед людьми, целый век толкующими об ужасе жизни. Что касается до фраз о некидании ни в кого грязью, то фразам этим может доверять только тот, кто слова «qu'il fait tache snr la boue» и другие им подобнык, обращенные на людей неприятных Тургеневу, считает розами. Если можно глубоко уважать человека и в то же время говорить ему в глаза самые оскорбительные вещи — совместимо, — в таком случае я беру свои слова о его посягательстве на личность Толстого назад.
Этим объяснением кончилась до поры до времени моя с Тургеневым переписка.
Наконец-то мы целым домом, в том числе и с братом Петром Аф. уселись в вагон для переезда в Москву.
На этот раз, рассчитывая снова на короткое пребывание в Москве, мы все остановились в меблированных комнатах Руднева на Тверской.
Когда мы ночью проезжали мимо Серпухова, Петр Аф. вышел из вагона, озабоченный продажею Грайворонской пшеницы, по старой памяти всегдашнему своему покупателю. На другой день вечером брат вошел ко мне в комнату со словами: «мне стыдно на глаза к тебе показаться; я твою пшеницу страшно продешевил; я продал ее 7 р. 50 к. на месте, а вот и 1,500 р. Задатку». Цена по тому времени была великолепная, тем не менее я долго нф мог успокоить брата.
Л. Толстой писал:
28 декабря 1874 г.
Только что говорили с женою о том, что соскучились без вас и без известий об вас, как получили ваше письмо и обещание побывать у нас да еще с Петром Афанасьевичем, что еще лучше. Получив ваше письмо, жена тотчас же отвечала вам в Москву, в дом Боткина. А я еще прежде писал вам со вложением письмеца к Петру Афан. Вообще как бы то ни было, мы не виноваты, а главное мы не виноваты в том, чтобы не любить вас и не ценить ваше участие. У нас с начала зимы все были невзгоды, но теперь слава Богу началась опять наша нормальная жизнь, и потому тем более будем рады вам и Петру Афан. Напишите, когда выслать за вами лошадей. До свиданья!
Ваш Л. Толстой.
12 января 1875.
Благодарю вас, дорогой Афанасий Афанасьевич, за хорошие о нас речи. Все веселее, как похвалят. У нас, слава Богу, теперь повеселее стало, т. е. я перестал бояться за здоровье жены, которое очень было начало пугать меня. За кобыл низко кланяюсь обоим братцам, в особенности Петру Афан. Когда прикажете прислать за них деньги? А что план деятельности по народному образованию? Как бы я счастлив был, если бы он состоялся, и я бы мог быть чем-нибудь полезен Петру Афанасьевичу. Был я в Москве, и в тот вечер, как сидел у Каткова, ему пришли объявить, что брат его вырвался из полицейской больницы, пришел в лицей и опять стрелял и опять никого не застрелил.
Ваш Л. Толстой.
На тех же основаниях, как и в прошлом году, мы с Олей после Крещения уехали в Степановку, причем я заехал на денек в Ясную Поляну. И в это, как и а прежние посещения, я с особенным удовольствием зашел в целом семействе Толстых то же чувство симпатии к добрейшему Федору Федоровичу. А так как дети по возрасту подходили один за другим к надзору дядьки-немца, то Л. Н. был уверен, что Федор Федорович останется у них на долгие годы. Когда я глаз на глаз стал поздравлять Фед. Фед. с надолго обеспеченным будущим, он к удивлению моему, сообщил мне, что желает оставить дом Толстых. Как ни старался я ставить ему на вид, что все его любят и им дорожат, он упорно повторял «ятоже хочу meine avanctage haben».
Между тем брат чрезвычайно заинтересовался движением в Герцеговине и Черногории против турок.
Тем временем Ивану Александровичу сгоревшая Грайворонка доставила немало хлопот. Надо было начать с того, чтобы распустить целую толпу тунеядцев, окружавших брата, и по счетам неуплаченного жалованья, признанным самим братом, пришлось уплатить:
Ветеринару — 3 тысячи
конторщику в качестве приказчика — 3 тысячи
столяру, носившему название машиниста — 3 тысячи
повару — 300 руб.
и так далее всем бывшим дворовым уплачено более 12 тысяч рублей. К этому присоединились частные долги в несколько тысяч; даже долг уездному училищу, где брат состоял почетным членом.
Л. Толстой писал:
12 марта 1875 г.
Я, кажется, нечаянно написал вам ужасную глупость. Вы пишете, что хотите к нам приехать, а я, вообразив себе, что мы — подразумевается — вы и Марья Петровна, пишу, что мы очень рады. Как ни справедливо это, когда я рассказал жене, что я отвечал, она говорит: «да мы — значит — братья». Если это так наверное, то пожалуйста передайте Петру Афан., что кроме всегдашнего желание моего поближе сойтись с ним, мне особенно нужно по разным делам видеть его, кое о чем посоветовать и кое о чем попросить совета. Пожалуйста ответьте поскорее и чтобы в конце письма было указание, когда вас встречать на Козловке.
Ваш всею душой Л. Толстой.
Вместо этих планов случилось следующее. Брат приучил меня к своим требованиям денег, на которые имел бесспорное право.
Однажды в начале марта, взявши тысячу рублей, он объявил мне, что едет по своим делам в Орел. Кучер, отвезший его на станцию, передал, что Петр Афан. сами будут писать; и дня через два я получил письмо, в котором брат извинялся, что, не желая тревожить нас своим отъездом, уехал не простясь в славянские земли.
Л. Толстой писал по возвращении из новокупленного Самарского имения:
26 августа 1875 г.
Вот третий день, что мы приехали благополучно, и я только что опомнился и спешу писать вам, дорогой Афан. Афанасьевич, и благодарить вас за ваши два письма, которые больше чем всегда были ценны в нашей глуши. Надеюсь, что здоровье ваше лучше. Это было заметно по второму вашему письму, и надеюсь, что вы преувеличивали. Дайте мне еще опомниться, тогда подумаю, как бы побывать у вас. Вы же по старой, хорошей привычке пожалуйста, как это вам ни трудно, — не проезжайте в Москву не заехав. Урожай у нас был средний, но цены на работу огромные, так что в конце только сойдутся концы. Я два месяца не пачкал рук чернилами и сердца мыслями. Теперь же берусь за скучную, пошлую А. Каренину с одним желанием: поскорее опростать себе место-досуг для других занятий, но только не педагогических, которые люблю, но хочу бросить. Они слишком много берут времени. Как о многом и многом хочется с вами переговорить, но писать не умею. Надо пожить, как мы жили в Самарской здоровой глуши, видеть эту совершающуюся на глазах борьбу кочевого быта (миллионов на громадных пространствах) с земледельческим первобытным, чувствовать всю значительность этой борьбы, чтобы убедиться в том, что разрушителей общественного порядка, если не 1, то не более 3 скоро бегающих и громко кричащих, что это болезнь паразита живого дуба, и что дубу до них дела нет. Что это не дым, а тень, бегущая от дыма.
К чему занесла меня судьба туда (в Самару) — не знаю, но знаю, что я слушал речи в английском парламенте (ведь это считается очень важным), и мне скучно и ничтожно было;- но что там мухи, нечистота, мужики Башкирцы, а я с напряженным уважением, страхом проглядев, вслушиваюсь, вглядываюсь и чувствую, что все это очень важно. Наш усердный поклон Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
XI
Новая пристройка для брата. — Гувернантка M-me Milte. Француженка-пьянистка. — Известие о брате из Варшавы. — Письма. — Приезд брата. — Письма. — Поездка на Грайворонку. — Ливенское кладбище. — Револьвер. — Приемка лошадей. — Брат снова уезжает в Сербию. — Поездка в Москву. — Племянник В. Ш-ъ и сестра Любовь Афанасьевна. — Сдача лошадей. — Письма. — Приезд Л. Толстаго и?.?. Страхова. — Поездка в Москву с Олей. — Оля остается в Москве. — Поездка на Грайворонку. — Планы о переездке из Степановки. — Покупка Воробьевки и продажа Степановки. — Постройки в Воробьевке. — Эпизод о перевозке раненых.
Не взирая на выходку брата, специально предназначавшаяся для него постройка была доведена до конца и оказалась весьма удобною. Вход в дом с подъезда превратился в широкую галерею, из которой первая дверь направо вела в большой кабинет брата, предшествующий спальне, а вторая затем дверь направо вела, как и прежде, в ной бывший кабинет, окончательно превратившийся в судебную камеру со скамьями для присутствующих. Из того же коридора вверх подымалась неширокая лестница в большую залу в два света с балкончиком к подъезду и смежною комнатой, в которой во время вакаций помещался Петя Борисов. Мебель для этих помещений была привезена с Грайворонки, по указанию брата.
На этот раз короткий зимний сезон нам пришлось проводить на Тверской, в гостинице Париж, где мы заняли два отделения и запаслись своею прислугой. Обе Г-жи Эвениус, искавшие свидания с Олей, по-видимому, примирились с ее пребыванием у нас и высказали готовность помочь нам в приискании благонадежной воспитательницы, взамен строптивой поклонницы Оттона III-го.
В гостиной Эвениус меня ожидала m-me Milete, урожденная княжна Г-а, которая на прекрасном французском языке объявила, что согласна на 1000 руб., но с тем, что она не может расстаться с любимой ею девочкой, англичанкой Мери. «Станешь сам искать, подумал я, и неизвестно, на что попадешь; а тут по крайней мере рекомендуют специалистки». — И после праздников я уехал с Оленькой в Степановку, увозя с собою M-me Milete и m-lle Мери.
— Мы будем заниматься более при помощи явления и разговоров, говорила новая воспитательница.
Не имея ничего против методы, я тем не менее в скорости убедился, что метода новой воспитательницы была несомненною потерею времени. Вероятно, вступив на совершенно дотоле ей неизвестное поприще, M-me Milete тотчас же согласилась со мною, что ее занятия пользы принести не могут, и сама возвратилась в Москву, оставив у вас Мери, с которою, как прежде говорила, расстаться не в состоянии. Она писала Мери, что отправилась в качестве воспитательницы в богатое купеческое семейство, помнится Пермь, и что будет ей высылать денег. Но на деле оказалось, что сдержанная и добродушная англичанка из скудного своего жалованья умела уделить небольшую часть и нетрезвому отцу своему в Лондон, и M-me Milete в Пермь. Пришлось бы мне снова отправляться в Москву искать гувернантку, если бы судьба не послала вам молодую француженку M-lle Оберлендер, которая, невзирая на свою немецкую фамилию, не знала ни слова по-немецки. Зато это была замечательная пьянистка, а так как остальные предметы я преподавал сам, то и успокоился на этом. Рояль из небольшой нашей столовой перенесена была наверх в залу пристройки для брата, которая по своему резонансу могла бы быть концертною.
Однажды в числе бумаг, поступивших в камеру, я увидал конверт с печатью канцелярии Варшавского генерал-губернатора. В бумаге говорилось, что содержащийся в местах заключения, по неимению письменного вида, молодой человек, называя себя дворянином Петром Шеншиным, указывает на меня, как на родного брата своего, почему канцелярия просит у меня разрешения настоящего дела. Конечно, в ту же минуту я мысленно остановился на добрейшем Федоре Федоровиче, который, оставивши Толстых, приютился в Орле в богатом магазине своего приятеля немца-кондитера Зальмана. Видно было, что ширина денежных оборотов кондитера совершенно подавляла Федора Федоровича, и достаточно было поговорить с ним полчаса, чтобы узнать, что Зальман покупает по 50-ти бочек сахару разом. Брат Петруша любил Федора Федоровича, и потому нельзя было придумать лица более приятного брату для первой встречи.
В тот же день я послал письмоводителя в Орел за Федором Федоровичем, которому в спутники приготовил благонадежного бывшего слугу нашего Матвея, проживавшего в настоящее время в качестве приказчика в небольшом, но красивом имении, купленном нами на берегу реки Неручи. На другой день оба нарочные, снабженные формальными удостоверениями и деньгами, отправились в Варшаву.
Тем временем Л. Толстой писал:
1 марта 1876 г.
Кажется, что я у вас в долгу письмом, дорогой Афанасий Афанасьевич; но от этого мне все-таки не легче и все-таки хочется ваших писем и главное знать про вас. Все ли живы и здоровы? У нас все не совсем хорошо. Жена не справляется с последней болезни, кашляет, худеет — и то лихорадка, то мигрень.? потому и нет у нас в доме благополучия и во мне душевного спокойствия, которое мне особенно нужно теперь для работы. Конец зимы и начало весны всегда мое самое рабочее время, да и надо кончит надоевший мне роман.
Напишите пожалуйста про себя и про брата Петра Афан., который очень меня интересует. Передайте наш поклон Марье Петровне и Оленьке; я всегда надеюсь, что у вас расшатается зуб в челюсти или в молотилке, и вы поедете в Москву, а я расставлю паутину на Козловке да и поймаю вас.
Ваш Л. Толстой.
29 апреля 1876 г.
Получил ваше письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, и из этого коротенького письма и из разговоров Марьи Петровны, переданных мне женою, и из одного из последних писем ваших, в котором я пропустил фразу «хотел звать вас посмотреть, как я уйду», — написанную между соображениями о корме лошадям, и которую я понял только теперь, я перенесся в ваше состояние, мне очень понятное и близкое, и мне жалко стало вас. И по Шопенгауэру, и по нашему сознанию, сострадание и любовь есть одно и то же — и захотелось вам писать. Я благодарен вам за мысль позвать меня посмотреть, как вы будете уходить, когда выдумали, что близко. Я тоже сделаю, когда соберусь туда, если буду в силах думать. Мне никого в эту минуту так не нужно бы было, как вас и моего брата. Перед смертью дорого и радостно общение с людьми, которые в этой жизни смотрят за пределы ее; а вы м те редкие настоящие люди, с которыми я сходился в жизни, не смотря на здравое отношение в жизни, всегда стоят на самом краюшке и ясно видят жизнь только от того, что глядят то в нирвану, в беспредельность, в неизвестность, то в сансару, и этот взгляд в нирвану укрепляет зрение.? люди житейские, сколько они ни говори о Боге, неприятны нашему брату и должны быть мучительны во время смерти, потому что они не видят того, что мы видим, именно того Бога, более неопределенного, более далекого, но более высокого и несомненного, как говорится в этой статье.
Вы больны и думаете о смерти, а я здоров и не перестаю думать о том же и готовиться к ней. Посмотрим, кто прежде. Но мне вдруг из разных незаметных данных ясна стала ваша глубоко родственная мне натура-душа (особенно по отношению к смерти), что я вдруг оценил наши отношения и стал гораздо больше чем прежде дорожить ими. Я многое, что я думал, старался выразить в последней главе апрельской книжки Русск. Вестника. Пожалуйста напишите Пете Борисову, чтобы он непременно приехал ко мне и дня на три по крайней мере. Я знаю, что это вам близко сердцу, и я не торопясь, без всякой предвзятой мысли и без желания противоречить, высмотрю его и сообщу вам мое впечатление. Предвзятая мысль у меня будет одна: это сильнейшее желание полюбить его для вас.
Наш Л. Толстой.
Излишне говорить, до какой степени мы обрадовались, когда в комнату вошел брат Петруша в сопровождении Федора Федоровича. Конечно, моим нарочным пришлось одевать Петра Афан. заново с ног до головы. Матвей рассказывал, что на брате были невозможные сапоги. Приготовленным ему у нас помещением брат остался совершенно доволен, и по врожденной крайней чистоплотности, вероятно, под влиянием недавно пережитых неудобств, по целым дням плескался в купальне. Мало по налу он стал передавать отдельные моменты из Фантастического своего странствования, и изо всего мне памятно только следующее. Не знаю, запасся ли он в Орле заграничным паспортом; но если и запасся, — вероятно, в скором времени его потерял.? как видов на железных дорогах не спрашивают, между тем на пограничной станции он необходим, то брат прибегал к услугам жидков, переносивших его на спине в виде контрабанды через пограничное болото. Из Бокки Которской в окрестности Цетиньи проводником служила ему баба крестьянка, и затем на Черной горе брат был любезно принят главнейшими руководителями движения в их более чем скромных жилищах. Что странных людей достаточно во всех странах — можно заключить из того, что молодой итальянец, сопутствовавший брату тоже в качестве добровольца, также не озаботился запастись ружьем, и они вместе с братом, усевшись на каменной обрыве следили за перестрелкой между черногорцами и турками, причем одна пуля попала в стоявшую между ними березку.
Л. Толстой писал:
12 мая 1876 года.
Я уже дней пять как получил лошадь и каждый день собираюсь и все не успеваю написать вам. У нас началась весенняя и летняя жизнь, и полон дом гостей и суеты. Эта летняя жизнь для меня точно как сон; кое-что, кое-что остается из моей реальной зимней жизни, но больше какие-то видения то приятные, то неприятные из какого-то бестолкового, неруководимого здравым рассудком, мира. В числе этих видений был и ваш прекрасный жеребец. Очень нам благодарен за него. Куда прислать деньги? Пожалуйста оставьте мне и тех трех жеребцов, если позволите взять их в конце июля или начале августа. Напишите пожалуйста, какой масти те два жеребца от Гранита, о которых вы говорили, и какая их крайняя цена? Они меня очень соблазняют. Я первого июня собираюсь ехать в Хреновую на несколько дней, а жена в Москву. Пожалуйста напишите Пете Борисову, чтобы он приехал к нам. У меня событие, занимающее очень меня теперь, это экзамены Сережи, которые начнутся 27го. Что за ужасное лето! У нас страшно и жалко смотреть на лес, особенно на молодые поросли. Все погублено. Купцы уже стали ездить торговать пшеницу. Видно будет плохой год. Передайте наш поклон Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
18 мая 1876 года.
На ваше длинное и задушевное письмо я давно не отвечал оттого, что все был нездоров и не в духе и теперь также, но пишу хотя несколько строк. У нас полон дом народа: племянница Нагорная с 2-мя детьми, Кузминские с 4-мя детьми, и Соня все хворает, и я в унынии и тупости. Одна надежда на хорошую погоду, а ее то и нет. Так как мы с вами похожи, то вы должны звать это состояние: то чувствуешь себя богом, что нет для тебя ничего сокрытого, а то глупее лошади, и теперь я такой. Так не взыщите. До другого письма.
Ваш Л. Толстой.
21 июля 1876 года.
Я очень виноват перед вами, дорогой Афанасий Афанасьевич, за то, что так давно не писал. Собираюсь каждый день писать, и все некогда, потому что ничего не делаю. Первый и самый интересный для меня предмет беседы с вами, это Петя Борисов. В письме, разумеется, не скажешь всего (я надеюсь, что мы скоро увидимся), — но он мне очень понравился, в особенности тем, что соединяет два редкие качества: ум и простоту. За последнее я особенно боялся; но он очень переменился к лучшему в этом отношении.
Теперь как бы нам сделать, чтобы увидаться? Если вы не изменили своего плана ехать в августе на Грайворонку, мне бы очень хотелось съездить туда вместе с вами. Для этого нужно мне знать: 1) хотите ли вы, чтобы я поехал с вами? 2) когда именно вы едете? 3) сколько времени продлится вся поездка? Как ваше здоровье? Последние известия от вас были хорошие. У меня неделю тому назад был Страхов, с которым, беспрестанно поминая вас, я нафилософствовался до усталости. Если, Бог даст, поедем в Грайворонку, то приставим к себе полицеймейстером Петю, чтобы он не позволял говорить всю дорогу ни о философии, ни о поэзии, чтобы не было и помину ни о Л. Толстом, ни о Фете. Л. Н. приятель с Фетом зимою, а летом пусть будут едва ли не больше приятели помещики: Толстой с Шеншиным.
Передайте наш поклон с женою Марье Петровне. Жму руку Петру Афан. Желал бы послушать его рассказы о Герцеговине, в существование которой я не верю.
Я в сентябре собираюсь ехать в Самару. Если Петр. Афан. не имеет никаких планов на сентябрь, не поедет ли он со мною посмотреть киргизов и их лошадей. Как бы весело было! Со мною еще едет мой племянник.
Ваш Л. Толстой.
Дождаться Льва Николаевича для совместной поездки на Грайворонку мне не удалось; а между тем Иван Александрович зазывал меня к себе, чтобы посоветоваться на месте о необходимых экономических постройках. Так как, за отсутствием почтового тракта на Грайворонку, переезд туда на собственных лошадях был затруднителен, то мы обыкновенно прибегали к следующей уловке: мы за два дня высылали свой экипаж в Ливны на постоялый двор, чтобы проехать в нем 75 верст до Грайворонки, а до Ливен доезжали в один день по Орловско-Грязской дороге и идущей со станции Верховья узкоколейной, раздражающей нервы своим черепашьим ходом по 15-ти верст в час.
Сбираясь в обратный путь, я выразил Ивану Александр. свое сомнение насчет своевременного прибытия в Ливны к вечернему поезду, отходящему в 7 часов. Найдутся ли на половине дороги лошади, которые у случайных бедняков часто бывают далеко в поле?
— Зачем же вам брать лошадей? отвечал Иван Александрович: мой Афанасий на моей привычной тройке доставит вас по теперешней хорошей дороге в шесть часов, и если вы отсюда выедете в полдень, то как раз будете в Ливнах за час до поезда. Он только напоит лошадей на половине дороги.
Припоздав немножко с выездом, мы с Афанасием тронулись в путь около 12-ти с половиною часов дня. Можно было залюбоваться гнедою коренною маткою и двумя разношерстными пристяжными. Как они спокойно, без малейшего задора, пустились машистою рысью в долгий путь. Правда, пыльная дорога с боковым ветерком была гладка, как шоссе, и равномерное движение тройки имело какой-то автоматический характер. На половине дороги Афанасий, подъехав к деревенскому колодцу с журавлем, вдоволь, к немалому ужасу моему, напоил потных лошадей, и автоматическое движение тройки началось снова.
В Ливнах с моста пришлось подыматься по долгому и крутому каменному взъезду в город, и потом проехать весь его до железнодорожной станции. Когда мы остановились перед нею, было ровно 6 часов. Таким образом тройка без особенного утомления, без малейшего удара возжей, пробежала почти 80 верст в 5 1/2 часов.
Оказалось, что поезд отходит не в 7 часов, а в половине восьмого, и таким образом мне приходилось провести 1 1/2 часа, которые я не знал куда девать. В томлении я пошел по площади и, заметив растворенную калитку в церковную ограду, над которою трепетали вершины разнородных деревьев, вошел туда и очутился перед прекрасною церковью, окруженною большим и тенистым кладбищем. Здесь, рядом с весьма старинными надгробными камнями, возвышались если и не красивые, во зато весьма богатые памятники, на которые Ливенское купечество, видимо, не пожалело ни чугуна, ни гранита, ни мрамора. Чтобы продлить по возможности время, я не позволял себе миновать ни одного камня, не прочитавши на нем всех надписей. Через час, возвращаясь уже к выходу, я наткнулся на обелиск из простого серого песчаника. На одной из четырех его сторон были глубоко врезаны слова: здесь погребено тело крестьянской девицы Марии; с другой стороны стояло: здесь же погребен младенец женского пола. На противоположной от имени усопшей стороне было вырезано: вот тибе друх мой последний от мине нарят.? внизу: отставной унтер-офицер такой-то.
Никогда ни одна могильная надпись не производила на меня такого задушевно-нежного впечатления.
Недаром покойный зять ваш Александр Никитич всю жизнь жаловался на упрямство жены своей. Все мы, не исключая и брата Петруши, чувствовали всю справедливость этого обвинения, но никогда никто из нас не предполагал, чтобы самобытные выходки сестры способны были принимать игривый или шуточный характер. Между тем только подобным предположением со стороны брата, часто навещавшего сестру и принимавшего живое участие в ее делах, можно объяснить следующую сцену. Как я уже выше заметил, окна в кабинете брата выходили к подъезду, и из них видны были все прибывающие в усадьбу. Так, между прочим, я заметил проехавшего парой в тарантасике письмоводителя станового пристава. Как в это утро заседания не было, я сидел у брата за большим письменным столом, куря и о чем-то благодушно беседуя. Около нас уселся и любопытный до крайности Петя Борисов.
В комнату вошел мой письмоводитель и со словами: «от станового пристава» — положил передо мною подписной лист от предводителя дворянства в пользу сербов. Так как я считал Сербию каким-то горячечным бредом географии, то, конечно, не подписал бы ничего; но как лист был от предводителя, то совестно было написать: читал такой-то; и я, подписав рубль серебром, благодушно повернул лист в брату со словами: «не подпишешься ли?»
— Это что же! воскликнул брат, гневно сверкнув глазами: эти рубли — знать, насмешка? это все Любинькины штуки! Но я положу этому конец. Где этот нарочный?
С этими словами брат встал, растворил шкаф и, взявши с полки револьвер, стал из коробочки вдвигать в него патроны. Напрасно старался я доказывать, что трудно Любиньке подделать официальную бумагу, — раздражение брата зашло уже слишком далеко, и настоятельно противодействовать ему — значило подливать масло в огонь. Не понимая этого, Петя, трус по природе, начал приставать к брату с плаксивыми восклицаниями: «дядя! да помилуй! оставь!»
Выведенный из себя брат, обращая револьвер со взведенным курком на мальчика, воскликнул: «Петруша!».
Успевши уже раза с два крикнуть племяннику: «отстань!» — и видя бесполезность моих увещаний, я громко крикнул брату: «валяй, валяй его, наповал! Это будет ему хорошим уроком, не вмешиваться, где его не спрашивают!»
Все это произошло в один момент, брат как будто опомнился, а Петруша в один миг превратился в меловое изваяние.
— Где он? крикнул брат, направляясь к дверям. — Я им покажу, что это за шутки!
И он быстрыми шагами направился вдоль коридора к дверям камеры, держа наготове взведенный револьвер.
Следуя за братом по пятам, с намерением в роковое мгновение ударить его по руке, я издали закричал письмо водителю:
— ? что сотский, что привез бумагу, — уехал?
К счастию, письмоводитель догадался закричать нам на встречу: «уехал, давно уехал». При этих словах брат с поднятым револьвером вошел в камеру, в которой спиною к двери на передней скамье сидел письмоводитель станового пристава.
— Ну хорошо, что он уехал, сказал брат, опуская револьвер, и мы возвратились в его кабинет. Не прошло двух минут, как я увидал рукав шинели письмоводителя, наброшенной в накидку, развевающийся вслед за тарантасом, проносящимся мимо окон во весь дух. Оказалось, что он и портфель свой с бумагами оставил на скамье в камере, со словами: «Бог с вами, тут лишь бы живу-то остаться!»
Хотя сестра Любовь Афанасьевна в скорости по смерти мужа и спрашивала меня — куда ей девать деньги? — и так испугалась моего опекунства, — то, что я предвидел, осуществилось в полной мере. Обильный урожай ржи оставался в поле в прорастающих копнах, а неисправленная молотилка представляла в пору молотьбы одну трату времени и платы рабочим.
Между тем половина августа настоятельно требовала зерна на посев.
— Любинька просит у тебя отпустить сто четвертей ржи, сказал брат, вернувшись из Ивановскаго.
— Ты знаешь, отвечал я, что я равно избегаю брать и давать взаймы.
— Да ты отпусти не ей, а мне, сказал брат.
— Тебе, — другое дело, — так как для меня безразлично, — платить ли тебе рожью или деньгами.
Л. Толстой писал:
18 октября 1876 года.
Не поверите, как ваше письмецо меня обрадовало, дорогой Афанасий Афанасьевич, лошади будут на Козловке в середу 20 октября. «Вот тибе друх мой последний от мине нарят» — прелестно! Я это рассказывал раза два, — и всякий раз голос у меня срывался от слез. Слова же, которые вы мне выписываете из Revue des denx mondes, я в тот же день цитировал жене, как замечательно верные. Удивительно, как мы близко родны по уму и по сердцу.
Ваш всею душой
Гр. Лев Толстой.
13 ноября 1876 г.
Что от вас давно нет весточки, дорогой Афанасий Афанасьевич? Здоровы ли вы? Это главное. Ездил я в Москву узнавать про войну. Все это волнует меня очень. Хорошо тем, которым все это ясно; но мне страшно становится, когда я начинаю вдумываться во всю сложность тех условий, при которых совершается история; как дама какая-нибудь А-на, с своим тщеславием и фальшивый сочувствием к чему-то неопределенному, — оказывается нужным винтиком во всей машине.
Пожалейте меня в двух вещах: 1) негодяй кучер повел жеребцов в Самару; под хутором, уже в 15-ти верстах, утопил Гуниба в болоте, желая сократить дорогу. 2) Сплю и не могу писать, презираю себя за праздность и не позволяю себе взяться за другое дело.
Передайте наши поклоны Марье Петровне и Оленьке.
Ваш Л. Толстой.
7 декабря 1876 г.
Письмо ваше с стихотворением пришло во мне с тою же почтой, с которой привезли мне и ваше собрание сочинений, которое я выписывал из Москвы. Стихотворение это не только достойно вас, но оно особенно и особенно хорошо, с тем самым философски поэтическим характером, которого я ждал от вас. Прекрасно, что это говорят звезды. И особенно хороша последняя строфа. Хорошо тоже, — что заметила жена, — что на том же листке, на котором написано это стихотворение, излиты чувства скорби о том, что керосин стал стоить 12 коп. Это побочный, но верный признак поэта. С вашими стихотворениями выписал я Тютчева, Баратынского и Толстаго. Сообществом с Тютчевым я знаю, что вы довольны. Баратынский тоже не осрамит вас своей компанией; Баратынский настоящий, хотя мало красоты, изящества, но есть прекрасные вещи.
Я понемножку начал писать и очень доволен своею судьбой.
Ваш Л. Толстой.
Будучи назначен заведующим военно-конным пунктом при Городищенской волости, я приказал привести лошадей в Степановку, как к более центральному месту.
Когда началась приемка, ко мне подошел вития и политик Матвей Васильевич, бывший лет пять единственным нашим слугою и года четыре уже превратившийся из приказчика в арендатора соседнего нашего хутора на реке Неручи.
— Прикажите, прошептал он, записать от меня добровольной поставкою вороного мерина.
— Матвей, сказал я, ты знаешь, что я этого вороного купил 5-тилетком у Александра Никит. за 60 рублей; а когда он проработал у меня 4 года, я уступил его тебе за 40 рублей; ведь он у тебя, должно быть, три или четыре года работает, а ты хочешь его сдать в казну за 90 руб. Извини, я на это несогласен.
12 сентября во Мценске, по окончании заседания съезда, я совершенно равнодушно смотрел из окна, окропляемого мелким и холодным дождем, на приемку офицером выбранных иною для сдачи лошадей. Так как любопытного при этом было мало, то, не дождавшись конца, я уехал в гостиницу. Вечером приходит Матвей.
— Но ведь я вороного-то сдал в казну, говорит он.
— Как так? спрашиваю я.
— На все надо уменье! отвечал он не без надменности. — Я сунул военному писарю синенькую, — вороной-то и поступил на службу.
Настала зима, выпал глубокий снег, и я не без удовольствия видел, что брат усердно занялся выездкою молодых лошадей. Совестно вспомнить, что я вторично простодушно попался на ту же самую штуку. Взявши накануне 1000 рублей, брат объявил, что едет по делу в Орел; а через неделю я получил из Киева письмо, в котором брат указывал мне адрес своего киевского приятеля, который постоянно будет знать о месте его нахождения и служить передаточным пунктом простой и денежной корреспонденции. В то же время брат сообщал, что отправляется в Сербию добровольцем. Через несколько времени приятель его сообщил мне, что брат купил себе верховую лошадь и испросил, если не ошибаюсь, на смотру в Белой Церкви, как милости, у Его Имп. Высочества Главнокомандующего дозволения поступить волонтером в казаки. Таким образом он и поступил в казачий полк рядовым. Это было последним, полученным ивою о брате, известием.
В этот зимний приезд в Москву, мы снова остановились в гостинице Париж, и насмешливый Борисов презабавно представлял содержательницу француженку, ловившую его в коридоре с вопросом: «etes vous riche, monsieur?»
Так как Оленьке минуло 18 лет, то мы стали с вею повемвогу выезжать. Пришлось vyе раза два побывать и в гостинице Лондон, в Охотном ряду, где на время остановилась Любовь Афанасьевна, и где у подъезда я каждый раз находил ездившего с ее сыном, Катковским лицеистом, лихача извозчика с пунцовым покрывалом на руке. Конечно, я не говорил ни слова, так как моего мнения не спрашивали. Но и без этого мнения дело не обошлось.
Однажды, когда в гостиной сестры сидела ее золовка, с которою мы познакомились в начале наших воспоминаний, Любовь Афанасьевна подошла ко мне и сказала: «ты знаешь, nous avons décidé взять Володю от Каткова».
По всему, что я видел, я этого ожидал, не взирая на то, что мальчик учился очень удовлетворительно и прекрасно владел двумя древними и французским и немецким языками, а потому я сказал только: «а!»
Госпожа С…, которой это было, очевидно, так же неприятно, как и мне, не выдержала.
— Любинька, сказала она: ты говоришь: nous; могут подумать, что и я в числе решающих; говори лучше: moi.
Оказалось, что я понадобился для того, чтобы выручать вещи и книги юноши, тайно бежавшего из школы.
По возвращении в Степановку, мы нашли все шкафы и комоды брата опустошенными и узнали, что сестра Любовь Афан., заботясь о брате, послала ему в Молдавию все прекрасные его шубы и все белье, тщательно нами приготовленное. Возможно ли было сомневаться в том, что в сумбуре внезапного похода всякая подобная частная посылка окажется приношением неведомому Ваалу? Не только подобные узлы, но даже застрахованные 1500 рублей, посланные мною на имя полкового командира, были мне по окончании войны пересланы обратно.
Между тем воззвание в пользу сербов облетало наши убогие веси, осуществляя пословицу: «с миру по нитке». Бабы отличались усердием в приношении холста. Вначале февраля я должен был ехать на сдачу выбранных мною лошадей военному приемщику, полковнику N… По глубоким снегам пришлось верст за 10 до Городищенской волости ехать гуськом. Когда часам к четырем приемка была окончена, я, в виду целого голодного дня, проведенного нами на морозе, предложил полковнику заехать к нам пообедать, на что он с удовольствием согласился. Ехали мы сравнительно довольно резво; но когда за версту до дому следовало проезжать через деревню Плоты, то, по причине страшных ухабов и развалов по заметенной снегом улице, пришлось ехать шагом. Помню, как на тихий лязг колокольчика, на пороге избы показалась любопытная девчонка от 14–15 лет, босая и в одной рубахе, грязной и засаленной до невозможности. Быть может эта загрязненность рубахи была причиной того, что последняя, вероятно, ломаясь как картон, порвалась прямо сверху вниз, так что незнакомый с костюмом мог бы принять, что девочка обвешана неширокими фартуками.
— Знаете ли, обратился вдруг ко мне полковник: ятолько что из Сербии, для которой мы сбираем вспомоществование; но я там нигде подобной нищеты не видал.
В подтверждение слов полковника, я сообщил ему, что по скудости урожая, за неимением топлива, по три семьи собрались на зимовку в одну избу.
Л. Толстой писал:
11 января 1877 года.
Дорогой Афанасий Афаннсьевич, повинную голову не секут, не рубят!? я уж так чувствую свою голову повинною перед вами, как только можно. Но право я в Москве нахожусь в условиях невменяемости; нервы расстроены, часы превращаются в минуты, и как нарочно являются те самые люди, которых мне не нужно, чтобы помешать видеть того, кого нужно. На праздниках был у нас Страхов, и вам верно икалось: мы часто поминали вас, и ваши слова, и мысли, и ваши стихи. Последнее «Взвездах» и — я прочел ему из вашего письма, и он пришел в такое же восхищение, как и я. В Русск. Вестнике перечли мы его с женою еще. Это одно из лучших стихотворений, которые я знаю. Со Страховым же я всегда говорю часто про вас, потому что мы родия все трое по душе. Что ваша служба? есть ли надежда на награду? Что Петр Афан.? Нет ли известий? Передайте наш поклон Марье Петровне и Оленьке, не забывайте меня, не сердитесь и любите так же, как мы вас любим.
Ваш Л. Толстой.
5 марта 1877.
Дорогой Афанасий Афанасьевич, давно от вас нет известий, и мне уж чего-то недостает и грустно. Напишите пожалуйста; как здоровье ваше и дух? Посылаю несколько стихотворений {Не привожу стихотворений, не представляющих интереса.} 18-ти летнего юноши. Что вы скажете? Пожалуйста внимательно прочтите и скажите. У нас все слава Богу.
Ваш Л. Толстой.
23 марта 1877.
Вы не поверите, как мне радостно ваше одобрение моего писанья, дорогой Афанасий Афанасьевич, и вообще ваши письма. Вы пишете, что в Русск. Вестнике напечатали чужое стихотворение, а ваше Искушение лежит у них. Такой тупой и мертвой редакции нет другой. Они мне ужасно опротивели не за меня, а за других.
Как в казаки? Каким же чином? И зачем в Белой Церкви? Меня Петр Афан. ужасно интересует.
Голова моя лучше теперь, но насколько она лучше, настолько я больше работаю. Март и начало апреля самые мои рабочие месяцы, и я все продолжаю быть в заблуждении, что то, что я пишу, очень важно, хотя и знаю, что через месяц мне будет совестно это вспоминать. Заметили ли вы, что теперь вдруг вышла линия, что все пишут стихи, очень плохие, но пишут все. Мне штук пять новых поэтов представилось.
Извините за бестолковость и краткость письма. Хотелось только вам написать, чтобы вы помнили, что вас любят и ждут в Ясной Поляне. Наши поклоны вашим.
Л. Толстой.
14 апреля 1877 года.
Последнее письмо ваше, писанное в три приема, слава Богу, не пропало. Я дорожу всяким письмом вашим и особенно таким, как это. Вы не поверите, как меня радует то, что вы приписываете в предпоследнем, как вы говорите, «о сущности божества». Я со всем согласен и многое хотел бы сказать, но в письме нельзя и некогда. Вы в первый раз говорите мне о божестве — Боге.? я давно уже не переставая думаю об этой главной задаче. И не говорите, что нельзя думать;- не только можно, но должно. Во все века лучшие т. е. настоящие люди думали об этом. И если мы не можем также, как они, думать об этом, то мы обязаны найти — как. Читали ли вы: Pensées de Pascal? т. е. недавно на большую голову. Когда, Бог даст, вы приедете ко мне, мы поговорим о многом, и я вам дам эту книгу. Если бы я был свободен от своего романа. которого конец уже набран, и я поправляю корректуры, я бы сейчас по получении вашего письма приехал к вам. Так, я не знаю почему, ваше последнее письмо забрало меня за живое, т. е. дружбу к вам. Ужасно хочется вас видеть.
Поэт мой К…, которому я велел наизусть выучить то, что вы пишете мне о нем, написал тут же вам послание, очень плохое, но просил послать. Боюсь, что он более стихотворец, чем поэт. Но какое милое стихотворение Полонского, оно напечатано в Ниве
Прощайте до свидания, пожалуйста пишите о себе, о своем здоровьи, хоть два слова. Жена кланяется вам и Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
В середине лета совершенно неожиданно приехал гр. Л. Н. Толстой вместе с гостившим в это время у него Н. Н. Страховым[236], с которым я за год перед тем познакомился в Ясной Поляне. Излишне говорить, до какой степени мы были рады дорогим гостям, столь богатым внутренним содержанием.
Чуткий эстетик по природе, граф так и набросился на фортепьянную игру нашей m-lle Оберлендер[237]. Он садился играть с нею в четыре руки, и таким образом они вместе переиграли чуть ли не всего Бетховена.
— Знаете ли, — говорил мне граф, — что во время нашей юности подобные пианистки разъезжали по Европе и давали концерты. Она всякие ноты читает так же, как вы стихи, находя для каждого звука соответственное выражение.
В августе я стал побаиваться повторения органического расстройства, от которого некогда спасен был благодетельною рукою профессора Новацкого. К этому присоединилась зубная боль Оленьки, так что я решился немедля ехать с нею вдвоем в Москву, где остановился на Покровке в пустом доме Боткиных, проводивших лето на даче в Кунцеве. Так как Оленька по летам своим могла только быть под попечительством, а не под опекой, то я нисколько не препятствовал ее частым посещениям пансиона г-жи Эвениус[238], во главе которого уже года с два тому назад стояла меньшая сестра, заступая место умершей его основательницы.
Накануне обратного отъезда в Степановку Оленька попросила у меня разрешения остаться на несколько дней у г-жи Эвениус, сказавши, что присылать за нею никого ненужно, так как г-жа Эвениус дает ей в провожатые классную даму. Когда я стал укладывать свой небольшой чемодан, Оленька, увидавши довольно большой хлебный нож, сказала: «Дядя, этот нож тебе возить в чемодане неудобно; позволь, я уложу его на дно моего деревянного сундука, где он ничего повредить не может, а между тем никакой беды от того не будет, что я привезу его неделею позже в Степановку».
Так, к общему удивлению домашних, я вернулся в деревню один. Через неделю прибыло письмо Оли с просьбою о продлении пребывания в Москве, — исполненное любезных ласк и извинений. Затем письма стали приходить все более короткие и формальные, из которых я убедился, что усердные руки содержательницы пансиона уже не выпустят неопытную девочку. Роковое письмо не заставило себя ждать: оно уведомило, что Оленька остается в Москве. Конечно, я в тот же день отвечал, что ни опекуном, ни попечителем племянницы быть не желаю и прошу указать личности, которым я могу сдать все ее состояние.
Так неожиданно разыгралось событие, еще раз указавшее мне наглядно, что жизнь причудливо уводит нас совершенно не по тем путям, которые мы так усердно прокладывали и расчищали. Ошибался ли я, или во мне говорило инстинктивное чувство самосохранения, но я вдруг почувствовал себя окруженным атмосферою недоброжелательства, резко враждебного моим наилучшим инстинктам. Мирная, отстроенная, обросшая зеленью Степановка сделалась мне ненавистна. Я в ней задыхался. На третий день мы с женою и неразлучным Иваном Александровичем сидели на железной дороге в Ливны, где ожидала высланная вперед коляска, чтобы везти нас на Грайворонку. На широкой степи близ красивых табунов я вздохнул свободнее, но при этом я старался не думать о предстоящем возвращении в Степановку.
В день отъезда, после завтрака жена моя ушла к себе готовиться к дороге, а мы с Иваном Александровичем все еще сидели в столовой за круглым столом под лампою. Говорить не хотелось. Наступила минута, про которую говорят: «Тихий ангел пролетел». Торопливый маятник стенных часов усердно отчеканивал свой педантический счет.
— Знаете ли, Иван Алекс. — воскликнул я, — до какой степени мне противно возвращаться в Степановку!
— Надобно, — отвечал Ост, — от этого избавиться.
— Каким же образом?
— Уж вы только поручите мне: я Степановку продам, я вам сейчас же куплю, что вам будет по вкусу.
— Сердечно буду вам признателен, если вы такой волшебник; но тут есть сторона, которую не надо упускать из виду. Вспомните, что в Степановке нет дерева, нет куста, который бы не был насажен мною, при помощи Марьи Петровны. И если она не захочет принести добровольную жертву, отказавшись от жизни в долговременно взлелеянном ею саду, то прекрасные наши мечтания осуждены оставаться мечтами. А чтобы не томиться этим вопросом, пойду и тотчас же спрошу, согласна ли Марья Петровна на такую перемену.
К радости моей, я вернулся с самым благоприятным ответом, и с этой минуты начались наши общие вслух мечтания. Не приискав нового пристанища, невозможно было продавать Степановки, и поэтому следовало прежде найти подходящее имение, в котором должны были сосредоточиться качества, противоположные степановским. Имение должно было быть в черноземной полосе, с лесом, рекою, каменного усадьбой и в возможной близости от железной дороги.
На другой день по приезде домой Иван Алекс. отправился по железной дороге на юг искать счастья.
Через два дня мы получили следующую телеграмму:
«Подходящее имение близ Московско-Курской чугунки — 850 десятин за 100 тысяч нашел. Отвечайте, Курск».
Ост.
Мы отвечали:
«Кончайте, задаточные деньги получите банковым переводом из Москвы».
Дня через четыре вернувшийся Иван Алекс. рассказал следующее:
«Конечно, я прежде всего бросился к нотариусам. И вот сижу я в Курске у нотариуса и рассказываю ему о своей задаче. В конторе случился какой-то мужичок: „Да вот, говорит, у нас по соседству сколько лет уж продается имение, какое вам надо, — сельцо Воробьевка наследников Ширковых. А продают его опекуны: граф Сивере да еще барин Гришин — что ли, в Харькове их хорошо знают, да вот покупателей-то все нет. Земля у крестьян в аренде, лесу до 300 десятин; усадьба старинная, каменная; мельница на реке“.
Сбегал я посмотреть имение в 25-ти верстах от Курска по нашей железной дороге. Имение мне понравилось. Я захватил деньги из банка и бросился в Харьков, где отыскал графа Сиверса, с которым мы тотчас кончили дело в два слова за 100 тысяч рублей и купчую пополам. Вот и домашняя расписка в получении пяти тысяч задатку. Купчая должна быть совершена 1 ноября».
На этом дело пока и остановилось, если не считать, что я, по просьбе Ивана Александр., все-таки проехал хоть мельком взглянуть на окончательно приторгованную уже Воробьевку.
Побывавши в парке, в лесу и осмотревши усадьбу, я остался весьма доволен покупкою, но никак не настоящим состоянием имения, к которому приходилось усердно прикладывать руки.
Я уже имел случай в переписке с Тургеневым высказывать свое нерасположение появляться в печати. Это же чувство заставило меня, не помню в каком именно журнале, под разбором Анны Карениной, подписал фамилию моего письмоводителя Болгов.
Л. Н. Толстой писал:
1 сентября 1877 г.
Нынче утром сам повез вам ответ на письмо со статьею на Козловку и получил ваше письмо. Статью Болгова проглотил и только сокрушался, что он не отдельное новое лицо, — был бы новый друг. Послал статью Страхову.
Очень грустно мне за вас, дорогой Афанасий Афанасьевич, за чувство, которое в вас должен был вызвать последний домашний эпизод, но я всегда за себя и за близких утешаюсь, что все к лучшему. Может быть, вам пришлось бы испытать более тяжелые чувства. Теперь вы спокойны, только обидно, что ваши труды у вас не на лицо.
Ваш Л. Толстой.
2 сентября 1877 г.
Как мало на свете настоящих умных людей, дорогой Афанасий Афанасьевич! появился было Г-н Волгов, и как я обрадовался ему, но и тот тотчас же обратился в вас. Можно не узнать произведение ума, к которому равнодушен, но произведение ума любимого, выдающее себя за чужое, так же смешно и странно видеть, как если бы я приехал к вам судиться и, глядя на вас во все глаза, уверял бы, что я адвокат Петров. Не могу хвалить вашей статьи, потому что она хвалит меня; но я вполне согласен с нею; и мне очень радостно было читать анализ своих мыслей, при котором все мои мысли, взгляды, сочувствия, затаенные стремления поняты верно и поставлены все на настоящее место. Мне бы очень хотелось, чтобы она была напечатана; хотя я обращал к вам то, что вы говорили мне, знаю, что почти никто не поймет ее.
Я все это время охочусь и хлопочу об устройстве нашего педагогического персонала на зиму. Ездил в Москву в поисках за учителем и гувернером. Нынче же чувствую себя совсем больным. Вы не пишите о себе, стало быть хорошо. Наш поклон Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
Не помню, по какому случаю мы с Иваном Александр. поехали в Орел. На вокзале Ост объявил, что прежде чем приехать ко мне в гостиницу, он думает побывать у жестокого кулака-купца, соседа, приторговывавшего смежную с его землею Степановку, при самых стеснительных для нас условиях.
— И охота вам, Иван Александрович, сказал я, понапрасну набиваться этому кулаку. Воробьевка нам понадобилась, так мы сами нашли покупателя. Впрочем, делайте, как хотите. Я велю подать самовар и буду поджидать вас.
Когда через полчаса я уселся в номере за самоваром, — вошел и Иван Александрович.
— Ну что? с неудовольствием спросил я.
— Продал Степановку, — был ответ.
— Что вы! воскликнул я.
— Вот и домашняя запродажная расписка, а вот и тысяча рублей задатку, сказал он, кладя перед мною то и другое.
— Вот уж, сказал я, вы в полном смысле заслуживаете прозвания: маг и волшебник.
Степановка была продана за 30 тысяч, из коих десять должны были быть уплачены при совершении купчей, а двадцать — в июне 1878 года. Лошади и рогатый скот должны оставаться до отправления в Воробьевку на подножный корм, т. е. до конца мая. Весь урожай настоящего года должен поступить в нашу пользу.
Купчая в скором времени была совершена и девять тысяч в уплату получены, а затем, так как срок совершения купчей на Воробьевку приближался, Иван Александр. уехал в Курск. Не обошлось и тут без передряг, и Воробьевка в свою очередь подтвердила пословицу: «сговореная невеста всему свету мила». Когда Ост явился к опекуну графу Сиверсу, последний подал ему телеграмму от петербургского сонаследника по имению, гласившую: «возвращаю Шеншиной задаток в двойном количестве и надбавляю пять тысяч».
После небольших переговоров, Ост надбавил пять тысяч, и граф отвечал телеграммой: «Воробьевка бесповоротно продана Шеншиной».
При вторичном общем нашем и более подробном осмотре усадьбы оказалось, сколько хлопот и труда требовало ее маломальское благоустройство. Нас с женою встретила старушка-генеральша в желтой турецкой шали и, указывая на валяющиеся по полу огрызки моркови, яблок, картофельные корки и пустую яичную скорлупу, — проговорила: «Уж извините, — вот крепостных-то нет и чистоты нет».
На высоких и сырых стенах парадных комнат когда-то прекрасные обои висели каскадами; о домашних комнатах и говорить было нечего. В доме с двойными рамами не было окна, в котором разбитые белые стекла не были залеплены осколками зеленого. Взобравшись с Остом на мезонин, мы полюбопытствовали осмотреть и чердак, чтобы убедиться в благонадежности железной крыши. Когда в полумраке мы бережно пробирались по мусору, я вдруг невольно вскрикнул: «Ай!»
— Что с вами? — испуганно спросил Иван Александрович.
— Да помилуйте, тут целая половина антресолей занята чердаком, который, как видите, снабжен сходными ступенями, вероятно, с целью развешивания белья. Если высота этого чердака дозволит, то тут выйдет три больших жилых комнаты, которых в доме так мало.
Оказалось, что строивший усадьбу за сто лет тому назад помещик Ртищев не любил, чтобы у него ходили над головой, и потому занял верх над парадными комнатами чердаком. Конечно, первой заботою нашею было смерить высоту чердака от пола до верхних балок. — Увы! она оказалась всего в три аршина, чего очевидно было слишком мало; — и вот с этой минуты мысль о поднятии потолка над чердаком, не трогая железной крыши, сделалась моею манией.
Так как дело покупки было уже бесповоротно решено, то я бросился в Москву, с тем, чтобы взять у Боткиных принадлежавшие мне билеты учетного банка на сумму 80-ти тысяч; а так как денег на покупку Воробьевки все-таки не хватало, то я попросил контору Боткиных ссудить меня 20ю тысячами до получения в июне этой суммы с покупателя Степановки. Когда наконец мы все съехались в Курской гостинице, и жене моей оставалось только получить купчую, я отправился к графу Сиверсу с деньгами и пакетом билетов, с приложением расчета процентов по номерам, тщательно исполненного бухгалтером Боткинской конторы. Так как сумма и срок билетов был неодновременный, то для точного вычисления процентов по текущий день требовалось много внимания и навыка. И вот двое опекунов и мы с Остом пустились в арифметические выкладки, результаты которых в каждом билете хотя незначительно, но расходились, а в общей сумме представляли известную разницу. Со своей стороны я предавался таким вычислениям только из желания убедить графа в верности сдаваемых ему денег, но встретившись несколько раз с нежданной убылью и прибылью суммы против обозначенной у бухгалтера, сам граф наконец воскликнул: «знаете что, господа! — это считал специалист. Уж не остановиться ли нам на его цифре?»
— Граф, я вполне разделяю ваше мнение, сказал я, передавая бумаги и получая купчую.
В тот же день граф, явившись к обеду в наш номер, принес жене моей великолепную бонбоньерку; и мы разъехались. Чтобы сделать Воробьевский дом к ранней весне жилым, нельзя было тратить ни минуты времени. И вот в то время, как жена моя была озабочена пересылкою на наемных подводах всей мебели, посуды, книг и прочего имущества, даже кактусов и привезенного из Тургеневского Спасского каштана — в Воробьевку, мы с Иваном Александр. забрались в кабинет пустынного Воробьевского дома, куда заблаговременно выписали с Грайворонки старинного искусного мастера Антона печника. Приехал днем раньше Антона его широкоплечий помощник и пошел шагать с нами по холодному коридору дома, слушая приказания Ивана Александровича о том, что печи следует перекладывать, не трогая зеркал, выходящих в парадные комнаты. Когдамы проходили мимо одной печки, печник, ударяя по ней широкой ладонью, с прохладцем проговорил: «вот, Бог даст, придет весна, и мы их все переложим».
— Ну, ты, брат, поезжай назад на Грайворонку, сказал Ост:- и там уж дожидайся весны, а здесь надо сейчас же ломать и перекладывать.
— Да как же теперь, стыть пойдет? так как же тут работать-то?
— А ты не знаешь как на горячей воде работают? Так и ступай на Грайворонку!
— Что ж! мы и на горячей воде можем с нашим удовольствием!
Еще при последней поездке в Москву, я старался заговаривать с инженерами по вопросу о поднятии потолка, не трогая стропил и крыши; но не получил ни от кого удовлетворительного ответа.
Однажды ночью во время бессонницы я нашел искомое разрешение, и только слыша глубокий сон Оста, не решился его будить; но не успел он утром раскрыть глаз, как я ему крикнул: «А ведь я додумался, как поднять потолок! Надо на существующие балки внутри под крышу взрубить два венца, что прибавит ½ аршина высоты, и сверх этих-то венцов скрепить стропила повыше новыми балками, и когда это будет исполнено, нижние балки обрезать заподлицо с возведенными венцами. Это будет и дешево и сердито».
Конечно, при переделке и поправке запущенных построек надо было по возможности пользоваться старинным материалом, какого в наш прогрессивный век уже не существует. Так, превосходные полы парадных комнат следовало перестлать во вновь устраиваемом верхнем помещении, а в парадные комнаты следовало положить паркет. Дом по очистке от пыли, грязи и плесени предстояло переклеить новыми обоями; из заброшенных кухни и флигеля вывезти целые горы грязи, кирпичу и битой посуды, а затем переделать разрушенные печи и прогнившие полы. Прибывшая из Степановки мебель разместилась в прекрасных и пустых каменных амбарах, так как воробьевские поля состояли уже 30 лет в аренде у крестьян.
Понятно, что в опустевшем Степановском доме жить было невозможно, и мне приходилось ехать сначала во Мценск для заявления съезду, что по перемене места жительства продолжать быть участковым мировым судьею не могу, а затем и в Москву за паркетом, обоями, замками, зеркалами, взамен оказавшихся в доме разбитыми и т. п. В это время наша Моск. — Курская железная дорога имела вид передвижного лагеря. Войска, раненые, а впоследствии и военнопленные на всех запасных путях станций. Помню небольшой эпизод, рассказанный мне главным действующим лицом, тогдашним мценским предводителем дворянства.
— Получаю, говорил он, уведомление о передаче нам во Мценске 35-ти раненых. Конечно, я бросился по знакомым купеческим и обывательским домам и к назначенному дню приготовил как надлежащее количество лошадей для перевозки раненых, так и соответственное число коек, врачей и фельдшеров. В ночи мы с городским головою, полицеймейстером и главным доктором отправились на станцию железной дороги, и в 12 часов в темную ночь пришел поезд с багажными вагонами, где на скудной соломенной подстилке при 25-ти градусах мороза лежали раненые. На платформу вышел полковник и, узнавши во мне предводителя, спросил: «сколько мне вам их выкинуть?»
— Помилуйте, полковник, отвечал я, — выкидывают только замороженные туши, а мне указано принять 35 раненых.
«При помощи железнодорожной и нашей прислуги, раненых стали наскоро выносить и складывать на, платформе, а затем поезд свистнул и скрылся во мраке, сверкая своим задним фонарем. Когда мы стали подбирать раненых для отправки в лазарет, оказалось, что полковник действительно выкинул пять человек лишних. Надо было ночью поднимать суетню, связанную с помещением нежданных пяти человек. Когда раненым, уложенным на койках, предложили согреться приготовленным для них чаем с калачами, они единогласно объявили, что не хотят ничего.
„Дайте, говорят, нам полежать в теплой комнате, лучше этого ничего не может быть“. Оказалось, что у несчастных раны из Болгарии не перевязаны. При благоприятных условиях раненые скоро стали поправляться».
Наконец паркет и прочие строительные принадлежности были высланы из Москвы в Воробьевку, и, не взирая на энергическую деятельность Ивана Александр., мне пришлось самому приехать в Воробьевку, где единственно свободным помещением оказалась комната при кухне. Там поставлены были наши две складных кровати и письменный стол, служивший в то же самое время и обеденным, и мы с Остом ревностно занялись планами неотложных перемен, связанных с переходом владельческой земли от крестьянской к экономической запашке. Оказалось, что с открытия весны следует строить хотя леймпачный конный двор с помещениями для имеющего прибыть из Степановки конного завода, перекрыть более полдюжины крыш железом на место сгнивших тесовых и соломенных и выстроить в течении лета на противоположной стороне реки отдельный хозяйственный хутор, вырыв для него первоначально колодезь.
XII
Письмо Н. В. Гербеля. — Постройка хутора. — Письмо брата и приезд его в Воробьевку. — Письмо сестры Любовь Афан. к брату. — Приезд племянника. — Отъезд брата. — Приезд Н. Н. Страхова. — Примирение Л. Толстого и мое с Тургеневым. — Разговор с Петей Борисовым по поводу его имений. — Поездка во Мценск. — Свидание в Орле с сестрою. — Известия о брате. — Встреча с Федором Федоровичем. — Учительница. — Свидание с Олей Ш-ой. — Смерть Любовь Афанасьевны. — Фауст.
В моих записках я нигде не упомянул о любезном Ник. Bac. Гербеле, поручике лейб-гвардии уланскаго полка, с которым познакомился тотчас же по прибытии в Петербург и переводе моем в лейб-гвардии уланский Его Высочества полк; многочисленные и добросовестные труды Ник. Bac. показывают, до какой степени он был предан делу русской литературы. Но потому ли, что я никогда не состоял с ним в особенно близких сношениях, или почему либо другому, я никогда не мог определить его личного характера. Полагаю, что и сам он не очень был способен различать основные образы мыслей отдельных людей.
От 28 декабря 1877 г. он писал мне:
Многоуважаемый Афанасий Афанасьевич! Ваше дружеское и теплое письмо очень меня порадовало, тем более, что я был в это время глубоко огорчен только что полученным мною известием о смерти Некрасова, с которым я был постоянно в дружеских отношениях в течение целых 26-ти лет, и со смертью которого разрываются мои последние связи с литературой, теперешний состав которой мне почти чужд и вовсе не по сердцу. Некрасов умер вчера в 8 час. вечера после 15-ти часовой агонии, исполненной нечеловеческих страданий. Последние 10 месяцев его жизни до и после страшной операции, вынесенной им с величайшим терпением, были непрерывною цепью мучений, доходивших иногда до того, что стоны его слышались из третьей комнаты, куда последнее время никого уже не пускали. Последний раз я видел его три недели тому назад. Я застал его сидевшим за столом, на которой были разложены газеты. Он так изменился, что я его почти не узнал. Лицо страшно вытянулось и осунулось; худоба была неимоверная, — именно, что называется, кожа да кости. Голоса его почти невозможно было расслушать. Вчера в 2 часа пополудни я видел его уже на столе. Лицо его совершенно потемнело и сделалось решительно неузнаваемо. Я был всем этим до того глубоко поражен, что слезы буквально полились из моих глаз, и я целый час не мог придти в себя. Потеря ужасная, особенно при теперешней бесталанности молодого поколения, не производящего ничего мало-мальски замечательного. Мир праху твоему, поэт!
Если вы доставите мне свой перевод «Границы человечества», то весьма обяжете. Не переведете ли вы еще что-нибудь из Гёте? Деньги за «Германа и Доротею» 100 руб. мною будут сегодня же переданы в контору Боткина.
Искренно вас уважающий
Николай Гербель.
Жена моя приехала из Москвы по последнему санному пути в марте месяце, и мы заняли единственно отделанную и обитаемую комнату-спальню, в которую надо было пробираться по клеткам накатника, на который еще не успели наложить паркет. Но по мере накладки его, мы, так сказать, завоевывали одну комнату за другой из-под рук столяров, маляров и оклейщиков.
Расчистили снег в парке по дорожке к теплице, откуда нанесли олеандров в цвету, кипарисов, филодендронов и множество цветов. Но несчастная, крытая соломой, хотя и каменная теплица грозила окончательным разрушением и настоятельно требовала коренного исправления. Словом, куда ни обернись, всюду предстояла безотлагательная поправка, начиная с каменной террасы перед балконом, чугунные плиты которой были покрыты грудою развалившихся каменных столбов. На место, выбранное нами с осени для хутора, перевезены уже были по зимнему пути и дубовые срубы для жилой избы и для будущего колодца, рыть который пришли малоархангельские копачи.
Изба была совершенно готова, и печка в ней сложена: но когда подняли высокую временную, соломенную крышу, то, с одной стороны, никак не могли вызвать для окончания высокой трубы загулявшего печника, а с другой, по причине разлившейся реки, невозможно было переехать через речку, а следовательно, и доставить за 5 верст нехватающих кирпичей. Между тем вывесть трубу была крайняя необходимость, так как рабочие колодезники мучительно зябли в ночные морозы в нетопленой избе.
Напрасно Иван Александр. ежедневно уговаривал и бранил добродушного мужика и искусного печника Павла. «Завтра, говорил Павел, беспременно пойду». Так продолжалось несколько дней. Тем временем мы пришли к следующему заключению. С утра и до обеда верхом легко четыре раза съездить на хутор и назад и после обеда несколько же раз. Если десяти работникам дать в концы перекидного мешка по пяти кирпичей, т. е. по десятку, то таким образом можно вброд через реку переслать в день на хутор 800 кирпичей, что и было нами исполнено.
Однажды, когда Иван Александр. обходил работы, на ко лени перед ним упал печник Павел, восклицая: «простите меня, Иван Александрович!»
— Встань и что тебе надо? сказал Ост.
— Ни за что не встану! простите Бога ради! Это он меня все водит. Проснусь и говорю: «сегодня ни за что не пойду». А он и говорит: «Павел, сходи». — «Нет, говорю, не пойду». — «Эй, говорит, лучшей ступай!» — Махну рукой, перееду в лодке и пройду мимо кабака, «а не то, говорит, Павел, вернись». — «Не вернусь, говорю». — «Эй, Павел, вернись, говорю тебе». — Глядишь, и вернулся, и пропала.
Наконец и он как-то допустил Павла довести трубу, и колодезникам стало по ночам тепло.
Боже мой, если бы люди, навязывающие нам из городов неподсильные улучшения, присмотрелись на деле, с какими первобытными приемами неизбежно связаны наши сельские производства, то не дивились бы, подобно одному образованному чиновнику, почему болотом по проселку так грязно, тогда как по Невскому так гладко. Наше дело было посаженно заплатить колодезникам, ушедшим уже сажень на 12 в глубину. Но надо было видеть их снаряды, неумелость, которую главный копач, стоя по колени в ледяной воде и обливаемый сверху ловкими товарищами, восполнял большим количеством водки, про которую говорил, что «надо ее брать с собою туда в колодезь».
Л. Н. Толстой писал от 27 января 1878 года:
К моему великому несчастию, предположения ваши неверны, дорогой Афанасий Афанасьевич, я не только не за работой, но вам не отвечал потому, что все это время был нездоров. Последнее время я даже лежал несколько дней. Простуда в разных видах: зубы, бок, — но результат тот, что время проходит, мое лучшее время, и я не работаю. Спасибо вам, что не наказываете меня за молчание, а еще награждаете, дав нам первым прочесть ваше стихотворение. Оно прекрасно, на нем есть тот особенный характер, который есть в ваших последних, столь редких, стихотворениях. Очень они компактны, и сияние от них очень далекое. Видно, на них тратится ужасно много поэтического запаса. Долго накопляется, пока кристаллизируется. «Звезды», это и еще одно из последних — одного сорта. В подробностях же вот что. Прочтя его, я сказал жене: «стихотворение Фета прелестное, но одно слово нехорошо». Она кормила и суетилась, но за чаем, успокоившись, взяла читать и тотчас же указала на то слово, которое я считал нехорошим: «как Боги». Страхов мне пишет, спрашивая о вас; я дал ему ваш адрес. Наш душевный поклон Марье Петровне. Дай вам Бог устраивать по лучше и подольше не устроить, а то скучно будет. До следующего письма, — нынче некогда.
Ваш Л. Толстой.
Р. S Главное быть здоровым и меня любить по старому.
25 марта 1878 года.
Не сердитесь на меня, дорогой Афанасий Афанасьевич, за то, что давно не писал. Виноват. А вы, добрый человек, не покидаете меня, зная, что мне нужно знать, что вы существуете в Будановке. Я на прошлой неделе был после 17-ти лет в Петербурге для покупки у генерала Б… самарской земли. Это оттуда Фета просят написать стихи на смерть двигателя {Меня действительно просили воспеть смерть лично знакомого мне политического деятеля. Я, конечно, отказался, по совершенной неспособности к подобного рода стихотворениям.}! Ваш генерал хорош, но я там видел пару генералов орловских, так жутко делается; точно между двух путей стоишь, и товарные поезда проходят. И чтобы перенестись в душу этих генералов, я должен вспоминать редкие в моей жизни дни пьянства или самого первого детства.
Ваш Л. Толстой.
В самый разлив реки, на лодке получено было письмо, на котором я узнал руку брата. Он писал, что на днях прибыл через Константинополь в Одессу, где ходит еще в казацком платье, не имея средств переменить его на штатское. А так как после всего, что было, ему невозможно жить в России иначе, как на ее окраинах, то он решился основаться в Одессе, где нашел старого университетского товарища, который уступает ему свою торговлю учебными принадлежностями за 5000 рублей, которые брат просит меня немедленно ему переслать.
Первою моею мыслью было: слава Богу, жив человек, — а второю: нашелся добрый человек, желающий сбыть ему аспидных досок, карандашей и тетрадок — ценностью на 200 рублей — за 5000. Но так как увещания в этом случае не помогут, то приходится делать, что можно. И я написал брату: «у нас реки разлились. Поэтому до восстановления путей сообщения о присылке неимеющихся у меня на лицо пяти тысяч нечего и помышлять. Но чтобы не оставить тебя в крайности, посылаю нарочного верхом через воды в почтамт с приложением тысячи рублей, а недели через две пришлю и остальных четыре».
Зная, что единственно крупным событием в жизни брата было замужество любимой им девушки с другим, я писал ему, что не вижу в этом причины держаться по окраинам родины, так как такие обстоятельства до того многочисленны, что большая часть мужчин заседила бы все отечественные окраины. При этом я объяснил брату наше переселение в Воробьевку и спрашивал, не обрадует ли он вас своим приездом?
Весна наступила теплая и обворожительная[239]. 25 марта мы уже в летних одеждах ходили по парку, и посеянный нами овес стал уже всходить. Ввиду полного благорастворения воздуха мы приглашали наших гостеприимных московских хозяев Боткиных приехать к нам со всем семейством и получили их обещание прибыть в конце апреля.
При полном расстройстве, в котором мы застали имение, невозможно было достаточно торопиться поправками. Вместо старых, местами повалившихся или совершенно отсутствующих плетней, дозволявших крестьянской скотине бродить по всему парку, испещряя газоны свинороями, от дома наскоро строилась дубовая решетка до самой реки на протяжении каких-нибудь 150-ти сажень. И краска ожидала как новую решетку, так и новые железные крыши. Очищенный от обломков балкон получил прежний вид с новыми тумбами и черными решетками. Я сам старался собственноручно исправить всякий попадавшийся мне под руку изъян.
Однажды, когда я садовыми ножницами подрезал ветки сирени, слишком свесившиеся на дорожку, ко мне примчался мальчик-слуга из грайворонских дворовых с радостным восклицанием: «Петр Афанасьевич приехал».
Не успел я опомниться, как прибежал брат и бросился обнимать меня[240].
Когда мы все понемногу успокоились, начались рассказы о всевозможных похождениях, о которых я здесь умалчиваю, ограничиваясь лично мною испытанным или письменно несомненным. Зная брата, нельзя было сомневаться в самых фантастических его приключениях, и надо было только удивляться, что он, приложившись из винтовки на водопое в своего эскадронного командира, не был расстрелян и, выпросившись на день в Константинополь, сидел в настоящую минуту в Воробьевке, следовательно, в качестве дезертира. Видно было, что ему нужна была, во что бы ни стало, внешняя деятельность, и когда Боткины в конце апреля явились большим обществом, брат и сам был в восторге от ежедневных катаний и прогулок и восхитил всех своею любезностью. Взыскательный и разборчивый во всех предметах хозяйства, он, к удивлению, был совершенно доволен купленным нами имением, которое иначе не называл, как «Воробьевочка». Порицания его заслуживало только состояние деревьев в парке в лесу, и торчавших своими сухими ветвями. «Это скандал», говорил он и потребовал плотников, с которыми принялся опиливать и даже рубанком застрагивать сухие сучья. Я не мешал ему в его копоткой, но действительно мастерской работе, благодетельные следы которой сохранились по сей день.
Однажды, когда посетившее нас московское общество уехало, и мы остались в тесном домашнем кругу, за завтраком брату подали письмо, которое он, прочитав, шлепком ударил о паркет и так и оставил около своего стула.
— Что тебя так рассердило? спросил я через минуту.
— Э! да что! воскликнул брат, нетерпеливо тряхнув головою. — Любиньку доктора посылают для операции в Вену, а она зовет меня с собою в качестве спутника и охранителя.
— На что же ей лучшего охранителя, чем родной сын? сказал я.
— Она пишет, продолжал брат, что сыну нельзя отлучиться в рабочее время от экономии.
— Ты сам знаешь, заметил я, что хозяйством он заниматься не умеет и не захочет, а мотать деньги в Вене еще легче, чем в Орле
Проходивший слуга поднял письмо и положил под зеркало.
«Боже! подумал я: какой беспощадный эгоизм! ну каким провожатым и охранителем может быть больной брат, которого добрая судьба наконец принесла к тихому пристанищу? Надолго ли — это другой вопрос».
Недели две после этого небольшого происшествия прошли благополучно. Брат, страдавший лихорадочными припадками, совершенно оправился, и тем временем жена моя подсунула ему совершенное подобие его шертинговых сорочек, только прекрасного полотна, и положила на кровать теплый халат, до которого он с неделю не дотрагивался. На этот счет у него были свои понятия о том, что он имеет право только на удобства, личным трудом приобретенные.
Я забыл сказать, что из Одессы он привез 45 руб., которые отдал мне на сохранение, говоря, что остальные деньги положил в банк. Конечно, я понял, что банком оказался его харьковский товарищ. Я рассказываю, а не философствую, и припоминаю, что граф Л. Н. Толстой не раз говорил о брате, как о высоком нравственном идеале.
Однажды, пройдя по старой вязовой аллее до калитки, выходящей на дорогу, я увидал в нескольких шагах подымавшуюся по пригорку во двор крытую извозчичью линейку со станции и под навесом ее одинокого седока, в котором тотчас же узнал своего племянника Ш-а. При отсутствии побудительных причин для этого юноши к посещению Воробьевки, я мгновенно догадался, что целью приезда был брат Петруша.
— Как это кстати, сказал я племяннику, что я здесь перехватил тебя, так как ты верно с письмом мамаши к дяде Пете.
— Да, письмо у меня в кармане.
— Вот и прекрасно! я велю отпустить извозчика и взять твой мешок; а мы с тобою пройдем в парк и предварительно обсудим наши поступки. Мамаша твоя зовет дядю Петю с собою в Вену в качестве няньки и вероятно просит его взять на первый случай денег, так как у вас на поездку денег нет. Денег взять следует, но дядю отсюда сманивать грех, тем более что он сам нуждается в уходе. Я тебе все это говорю в полной уверенности, что ты поймешь меня.
— Дядя, я вполне тебя понимаю и разделяю твое мнение; поэтому позволь попросить тебя принять это письмо и не передавать его дяде Пете.
— Нет, любезный друг, я сделать этого не могу; письмо идет из вашего дома и могло быть писано или нет, но в моих руках это будет скрытое письмо, и при подозрительности дяди Пети насчет всякого посягательства на его свободу, такая утайка будет поступком, которого он мне никогда не простит.
С этим вместе мы отправились в дом, где, как я предчувствовал, письмо тотчас же передано было брату. По прочтении его, он как-то затих и сосредоточился.
— Ну что? не без страха спросил я, когда мы очутились одни.
— Мне надо ехать, был ответ.
Признаюсь, меня взорвало от этой неприглядной комедии и, видя безуспешность всех моих доводов, я перестал стесняться выражениями.
— Ну подумай, говорил я, — какой ты охранитель! разве ты не видишь, что тут вопрос в деньгах? сколько она просит взять тебя денег?
— 1000 рублей.
— Пошли ей две и оставайся здесь.
— Не могу, я должен ехать.
С трудом удержал я брата не уезжать вместе с племянником, неотвязно подбивавшим его к этому отъезду.
— Я был очень рад твоему приезду, сказал я племяннику, провожая его, но если мы будем стараться разрушать друг у друга душевное спокойствие, то гораздо проще нам не встречаться.
Напрасно ожидал я для брата отрезвления от ночного сна. Утром на другой день он пришел и стал в кабинете у письменного стола с видом провинившегося школьника. Я догадался, что он не изменил решения.
— «Едешь?»
— «Еду».
— «Сколько нужно денег?»
— Не знаю.
— Ведь это, братец, глупо.
— Она пишет: 1000 рублей.
— Да ведь это она пишет, а ты-то с чем останешься? Возьми на первый случай хоть 1500, а из Вены пришли свой адрес, по которому вышлю сколько нужно.
Через час он уже уехал на станцию.
Л. Н. Толстой писал:
6 апреля 1878 года.
Получил ваше славное, длинное письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич. Не хвалите меня. Право, вы видите во мне слишком много хорошего, а в других слишком много дурного. Хорошо во мне одно, — что я вас понимаю и потому люблю. Но хотя и люблю вас таким, какой вы есть, всегда сержусь на вас за то, что «Марфа печется о мнозем, тогда как единое есть на потребу». И у вас это единое очень сильно, но как-то вы им брезгуете, а все больше биллиард устанавливаете. Не думайте, чтобы я разумел стихи: хотя я их и жду, но не о них речь, они придут и над биллиардом, а о таком миросозерцании, при котором бы не надо было сердиться на глупость людскую. Кабы нас с вами истолочь в одной ступе и слепить потом пару людей, была бы славная пара. А то у вас так много привязанности к житейскому, что если как-нибудь оборвется это житейское, вам будет плохо, а у меня такое к нему равнодушие, что нет интереса к жизни; и я тяжел для других одним вечным переливанием из пустого в порожнее. Не думайте, что я рехнулся. А так не в духе и надеюсь, что вы меня и черненьким полюбите. Непременно приеду к вам. Наш поклон Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
6 мая 1878 года.
Не тотчас ответил на ваше письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, потому что был в Москве. Мне странно отвечать на ваш запрос о приезде к нам. Радуюсь, что вы приедете, я все время буду дома, и у нас, слава Богу, все здоровы, приезжайте, когда хотите. Совершенно понимаю и согласен со всем тем, что вы говорите о Ренане. Как только люди говорят о своих мыслях и чувствах, то все ясно и верно. Вся путаница идет от людей, у которых нет своих мыслей и чувств, а они хотят о них говорить. Наш поклон Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
13 июня 1878 года.
Перед самым отъездом в Самару пишу теперь только несколько слов, чтобы благодарить за ваше последнее письмо и сообщить первый временный адрес: Самара, до востребования. Оттуда уже напишу и сообщу вероятно другой, когда устрою более близкий пункт. Я редко когда так радовался лету, как нынешний год, но с неделю тому назад простудился и заболел и только первый день ожил.
Завтра, Бог даст, выедем на Нижний и 14-го будем на месте. Буду ждать письма от вас там. Страхов пишет, что едет к вам 15-го. Радуюсь за обоих вас. Небольшая книга его очень велика по содержанию. Наш поклон Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
С отъездом брата сельская тишина вполне овладела мною. Но привыкши к обязательной десятилетней деятельности, я скоро почувствовал себя под невыносимым гнетом скуки. Ухудшавшиеся с каждым годом внешние условия сельской жизни отпугивали меня от хозяйственных занятий. Не будучи в состоянии исправить безобразий, я старался по возможности не видать их и поэтому даже при прогулках по парку избегал ходить по опушке, а держался средних дорожек. Усидчивая и серьезная работа сделалась мне необходимою. Я стал читать Канта, перечитывал Шопенгауэра[241] и даже приступил к его переводу: «Мир как воля и представление».
В июне, к величайшей моей радости, к нам приехал погостить Н. Н. Страхов, захвативший Толстых еще до отъезда их в Самару. Конечно, с нашей стороны поднялись расспросы о дорогом для нас семействе, и я, к немалому изумлению, услыхал, что Толстой помирился с Тургеневым.
— Как? по какому поводу? — спросил я.
— Просто по своему теперешнему религиозному настроению он признает, что смиряющийся человек не должен иметь врагов, и в этом смысле написал Тургеневу.
Событие это не только изумило меня, но и заставило обернуться на самого себя.
«Между Толстым и Тургеневым, подумал я, была хоть формальная причина разрыва; но у нас с Тургеневым и этого не было. Его невежливые выходки казались мне всегда более забавными, чем оскорбительными, хотя я не решился бы отнестись к ним так же, как покойный Кетчер, который в подобном случае расхохотался бы своим громовым хохотом и сказал бы „дурака“. Смешно же людям, интересующимся в сущности друг другом, расходиться только на том основании, что один западник без всякой подкладки, а другой такой же западник только на русской подкладке из ярославской овчины, которую при наших морозах покидать жутко».
Все эти соображения я написал Тургеневу.
К величайшей радости моей, Страхов, — которому, вручивши немецкий экземпляр Шопенгауэра, я стал читать свой перевод, — остался последним совершенно доволен.
Хотя я никогда не стеснялся указывать Петруше Борисову на его промахи, тем не менее любил вступать в разговоры с этим замечательно сметливым и талантливым малым и притом безусловно правдивым.
— Ты знаешь, — сказал я ему, — что материнские твои Новоселки даже при наилучшем управлении дают едва три тысячи рублей, а отцовское Фатьяново — около тысячи двухсот рублей. Пока мы жили в Степановке, т. е. на сто верст ближе, чем теперь, к твоим имениям, да к тому же я был опекуном и имений Оленьки, расположенных в той же стороне, надзор за твоими имениями мог, между прочим, обходиться значительно дешевле; но теперь, когда ты и сам-то неохотно туда ездишь, заочное управление такими незначительными имениями обходится несоразмерно дорого. Если бы ты, кончивши университетское образование и отбывши воинскую повинность, располагал надеть высокие сапоги и усиленным трудом подымать благосостояние наследственных гнезд, то я бы ничего тебе не сказал.
— Дядичка, можно мне сказать тебе правду?
— Должно, как всегда.
— Оба эти гнезда, как ты называешь, мне ужасно несимпатичны; их грустное, тяжелое прошлое гнетет меня до болезненности; мне так тяжело бывать там.
— Если на то пошло, — заметил я, — то я не только понимаю твое чувство, но и разделяю его, и поэтому предложил бы тебе продать эти оба имения, и если получить за них хоть 70 тысяч, то, так как ты готовишься к ученому поприщу, о личном сельском хозяйстве при этом не может быть и речи.
Положено было при первой возможности продать мценские борисовские имения.
Вынужденный проезжать по делам в Москву, я не только пригнал свою поездку к 12 числу, ежемесячному сроку Мценского мирового съезда, но расчел время так, чтобы, пробывши сутки в Ясной Поляне, сесть 11го на почтовый поезд и в 4 часа утра прибыть во Мценск к занявшему в гостинице для нас номер Ивану Александровичу.
Не знаю как кому, но мне, в минуты большой деятельности и озабоченности, всегда бывало особенно отрадно находить опору в собственной бессознательной личности. Помню, с каким удовольствием я мгновенно проснулся и вскочил с вагонного дивана, точно меня кто толкнул в бок. «Вот какой я молодец, подумал я, глядя в окно на едва рассветавшее утро: когда нужно, то словно тело мое находится на страже».
Как ни хорошо известна мне Моск. — Курская дорога, но по беспредметным местам опознаешься больше по общему характеру местности. На этот раз, как я ни старался всматриваться в бегущие мимо окон поля, я никак не мог признать их принадлежащими местности на север от Мценска. Всматриваюсь из окон по обе стороны. — Боже! да ведь это окрестности Оптухи. — Вся гордость бессознательной бдительности моей натуры была напрасна, я самым постыдным образом проспал Мценск и подъезжаю к Орлу. В отчаянии выбегаю на платформу и жалуюсь на судьбу встречному кондуктору.
— Ведь мне надо быть на съезде, от которого я на всех парах уезжаю!
— Не беспокойтесь, отвечал кондуктор, мы сейчас же в Орле пересадим вас на встречный скорый поезд, и в 9 часов утра вы будете во Мценске.
Когда в 9 ½ часов я отворил дверь номера, в котором застал за самоваром Ивана Александровича, последний с изумлением воскликнул: «откуда вы?» и за ответом: «из Орла» — последовало объяснение приключения.
— Завтра будет отличная погода, сказал я Осту, сидя вечером в пролетке, подвозившей нас к станции: посмотрите, как великолепно освещено перед нами большое, белое здание на пригорке. Ведь это тюрьма? спросил я извозчика.
— Пересылочная тюрьма, отвечал он.
— Для политических преступников, прибавил Ост, — и знаете ли, что получает повар, готовящий им кушанье?
— Конечно, не знаю; отставной какой-нибудь солдат кашевар, — должно быть, от шести и до десяти рублей в месяц.
— Сорок рублей! с ударением сказал Ост: это должно быть государственная мера, чтобы заслужить благорасположение этих людей, равно и остальных им сочувствующих, в видах предупреждения новых покушений.
— Да мы-то с вами, сказал я, не бунтуем?
— Кажется.
— А платим ли мы повару 40 рублей?
— Нет.
— Почему же 40 рублевому повару приписывается такая охранительная сила?
— Это не нашего ума дело, отвечал Ост: поживем, увидим. А теперь спросите во Мценске кого угодно, и вам скажут о 40 рублевом поваре.
Действительно, при дальнейших моих расспросах, слова Оста подтвердились,
В ответ на мое последнее письмо, Тургенев писал следующее:
21 августа 1878 годи.
С. Спасское-Лутовиново.
Любезный Афанасий Афанасьевич! Я искренно порадовался, получив ваше письмо. Старость только тем и хороша, что дает возможность смыть и уничтожить все прошедшие дрязги и, приближая нас самих к окончательному упрощению, — упрощает все жизненные отношения. Охотно пожимаю протянутую вами руку и уверен, что при личной встрече мы очутимся такими же друзьями, какими были в старину. Не знаю только, когда эта встреча сбудется: я через неделю уезжаю отсюда и прямо в Париж. Разве зимою в Петербурге или в Москве; а не то, не заглянете ли вы сами к нам в местечко Париж?
Но как бы то ни было, повторяю вам мой привет и мое спасибо. Передайте мой дружеский поклон Марье Петровне. Если я не ошибаюсь, ее лицо промелькнуло передо мною в вагоне на станции за Орлом. Я возвращался из Мало-Архангельского уезда, а она, вероятно, ехала в ваше новое поместье.
Еще раз желаю вам всего хорошего, начиная со здоровья и остаюсь
преданный вам
Ив. Тургенев.
Л. Н. Толстой писал:
5 сентября 1878 г.
Дорогой Афанасий Афанасьевич! получил на днях ваше последнее, краткое, но многосодержательное письмо и вижу по его тону, что вы в очень хорошем душевном настроении, хотя и были больны. Вы поминаете о вашей статье. Пожалуйста не приписывайте значения моему суждению, во-первых, потому, что я плохой судья при слушании, а не чтении про себя, а во-вторых, потому, что в этот день я был в самом дурном физически расположении духа. Когда вы будете переделывать, не забудьте еще выправить приемы связей отдельных частей статьи. У вас часто встречаются излишние вступления, как напр.: «теперь мы обратимся»… или — «взглянем»… и т. п. Главное, разумеется, в расположении частей относительно Фокуса и когда правильно расположено, — все ненужное, лишнее само собою отпадает, и все выигрывает в огромных степенях.
Тургенев на обратном пути был у нас и радовался получению от вас письма. Он все такой же, и мы знаем ту степень сближения, которая между нами возможна. Мне ужасно хочется писать, но нахожусь в тяжелом недоумении: фальшивый ли это или настоящий аппетит.
Ужасно хочется побывать у вас и наверное побываю, но теперь еще много поездок необходимейших. Нынче еду на земское собрание.
Ваш Л. Толстой.
Тургенев писал:
30 декабря 1878 г.
Бужаваль.
Любезнейший Афанасий Афанасевич, сегодня минуло три недели, как я здесь, а я только теперь собрался ответить на ваше дружеское письмо, в чем извиняюсь. Странное дело! под старость и жизнь катится шибче и ничего не успеваешь сделать, хотя собственно и делать то нечего. Не могу извиниться даже нездоровьем, ибо, напротив, давно так хорошо себя не чувствовал, благодаря пилюлям, отрекомендованным мне одним старым подагриком. С сожалением слышу, что ваше здоровье в состоянии неудовлетворительном. Видно, всякий человек, перешедший черту 50-ти летия, превращается в некоторое подобие Плевны, осажденной всякими недугами, под предводительством «Фанатоса»; остается только упорно отбиваться до последней отчаянной вылазки иди сдачи… будем надеяться, что эта беда еще не скоро настанет.
Вы описываете свое настоящее местопребывание с не совсем выгодной стороны; однако я слышал, что ваша Воробьевка прекрасное имение: один дубовый парк в 18 десятин чего стоит! В настоящую минуту я мысленно переношусь к вам и вижу вас с ружьем в руке, стреляющим по вальдшнепам в вашем парке: конец сентября самый их привал в наших краях. Помните, какие мы с вами свершали охоты! Что касается до меня, то, со времени моего переселения из Бадена, я перестал даже думать о ней: ни собаки нет, ни ног, да и дичи не имеется во Франции для людей не миллионеров. Мы с Виардо пустили было несколько пар кроликов в наш парк — он не так велик, как ваш, а десятин шесть в нем все-таки будет;- но наши кролики не поддержали своей стародавней репутации;- не только ничего не наплодили, — да и сами ушли. В течение последних двух лет я убил всего одну галку и то не здесь, а в России, в Мало-Архангельском уезде…
Мне было очень весело снова сойтись с Толстым, и я у него провел три приятных дня; все семейство его очень симпатично, а жена его прелесть. Он сам очень утих и вырос. Его имя начинает приобретать европейскую известность; — нам, русским, давно известно, что у него соперника нет.
Поклонитесь от меня вашей супруге и передайте мой привет вашему племяннику Пете, или, как теперь следует его величать, — Петру Борисову. Он, говорят, умник большой руки.
Преданный вам
Ив. Тургенев.
Париж.
31 октября 1878 года.
Любезнейший Афанасий Афанасьевич, извините, что не тотчас отвечал на ваше дружелюбное и обстоятельное письмо. Я был в разъездах, между прочим посетил Англию, где очень хорошо поохотился и насмотрелся на тамошние два университета: Оксфорд и Кембридж. — Чудесно, дико, величественно, глупо — все вместе, а главное — совсем нам чуждо. Вы, вероятно, подивитесь как это теперь, именно теперь, русский человек может ездить в Англию… да уж так вышло.
Ненавидят нас там лихо и не скрывают, оно впрочем и лучше. Когда-нибудь при встрече покалякаем, а письменно все это передать невозможно: я не в одном литературном отношении отчудился (можно ли так выразиться?) от пера.
Не совсем хорошо то, что вы мне говорите о вашем здоровьи. А впрочем, вы мне напоминаете Пирра и его беседу с Кинеасом. Помните: «когда мы все завоюем, мы будем отдыхать»… — «Да отчего не сейчас отдыхать!»… Так и вы: завоевали себе такой клад, каким, по вашим описаниям, является Воробьевка… кажись, чего еще? — А вы все волнуетесь и тревожитесь. Впрочем, если поразмыслить хорошенько, так приходится вам завидовать: вот я, например: застываю и затягиваюсь пленкой, как горшок с топленым салом, выставленный на холод; — всякой тревоге был бы рад — да что! не тревожится душа уже ничем. Кстати и здоровье недурно, подагра молчит, и я за ней безмолвствую.
То, что вы мне пишете о Пете Борисове, — не совсем благополучно; однако и тут все еще может придти в настоящую норму. Очень он уж умен и довременно уравновешен и с практически-эпикурейскими тенденциями. Но стоит какому-нибудь сильному чувству — любви, например, его встряхнуть хорошенько, так чтобы он почувствовал, что собственное Ich не альфа и омега всего, — и все переменится.
Поклонитесь ему от меня. Передайте также мой усердный привет вашей супруги.
А вам позвольте дружески пожать руку и уверить вас в искренне преданных чувствах
вашего Ив. Тургенева.
Повторяю неоднократно мною выраженное, — что пишу воспоминания, а не роман. Покойный, в свое время известный литературному миру, Ник. Ант. Ратынский, рассказавши какой-либо забавный анекдот из действительной жизни, нередко прибавлял: «оно, положим, было не совсем так, но так это надо рассказывать». Этими словами ясно определяется добросовестное отношение к художественному повествованию. Но добросовестность по отношению к простым воспоминаниям состоит в совершенно противоположном: недобросовестно прятать развязку, созданную самой жизнью, только потону, что она чем-либо оскорбляет знакомый и, быть может, дорогой нам образ. В угоду такой добросовестности, я должен передать лично слышанное мною от Ивана Сергеевича про его последнее свидание с ослепшим уже 83-х летним стариком дядей, к которому нарочно ездил в его Карачевское имение Юшково. Слепой был чрезвычайно рад примирительному свиданию, не в меру выпил шампанского и при этом вдался в выражения самого необузданного цинизма.
Л. Н. Толстой писал:
26 октября 1878 г.
Уже и не знаю, как в каком духе начать писать вам, дорогой Афанасий Афанасьевич, все-таки нет других слов, как виноват, виноват и кругом виноват. Хотя и всегда излишне выставление причин извиняющих, я все-таки их напишу, потому что они справедливы и объяснят вам мое состояние. Вот уже с месяц, коли не больше, я живу и чаду не внешних событий (напротив, мы живем одиноко и смирно), но внутренних, которых назвать не умею. Хожу на охоту, читаю, отвечаю на вопросы, которые мне делают, ем, сплю, но ничего не могу делать, даже написать письмо. У меня их набралось до двадцати, из которых есть почти такие же, как ваше. Нынче я как только немного очнулся, пишу вам. У нас все, слава Богу, здорово и хорошо. Обычная зимняя жизнь, со все усложняющимся воспитанием и учением детей, идет как и прежде. Мы очень заняты: жена — самыми ясными, определенными делами, а я — самыми неопределенными и потому постоянно имею стыдливое сознание праздности среди трудовой жизни. Вы верно уже кончили переделку своей статьи, и если здоровы, то, вероятно, заняты чем-нибудь новым. Если вы меня простили, то напишите мне и о своем здоровьи, которое, по последнему письму, угрожало разладиться, — и о своей духовной работе. Так, пожалуйста, не рассердитесь на меня. Помните, что мы все по старому вас любим, а что я неаккуратен, так это только подробность моего характера. Опять откладываю поездку к вам. Теперь и не могу и не гожусь. А вот если Бог даст поработать и устать от работы, то зимою, если вы меня позовете, поехать отдохнуть к вам. Жена просит передать свой поклон вам и Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
22 ноября 1878 годя.
Дорогой Афанасий Афанасьевич, поеду в Москву и велю напечатать на своей почтовой бумаге «виноват». Но мне кажется, что я не виноват в том, что не отвечал на то письмо, в котором вы обещаете заехать. Помню свою радость при этом известии и то, что я сейчас же отвечал вам. Если же не отвечал, то пожалуйста не накажите за это, а приезжайте. Бог даст, будет снег; если же нет, то вышлем коляску в Ясенки. Мы так давно не видались.
Теперь другое: стихотворение ваше прекрасно. О женою мы о вас, как человеке и друге и как о поэте, всегда вполне совпадаем. У нас, слава Богу, все здорово и идет по-божьи.
Вчера получил от Тургенева письмо; и знаете, решил лучше подальше от него и от греха. Какой-то задира неприятный.
Поздравляю вас с днем рождения. И теперь не забуду поздравлять вас к 23-му, и желаю не забывать этого раз двенадцать. Больше не надо ни для себя, ни для вас. До свиданья!
Ваш Л. Толстой.
Уже по первому снегу явился проживавший прежде у нас, а, затем у Любиньки, кучер Иван Иванов от племянника, с письмом, в котором говорилось, что мамаша, чувствуя себя чрезвычайно слабой, требует его в Вену, причем дядя Петя поручил взять у меня и доставить ему 700 рублей. В Вену племянник уезжает после завтра.
«Как это все странно, подумал я; если дядя Петя не приложил ко мне специальной записки, то как же было не приложить мне хоть для косвенного удостоверения письмо, в котором поручалось взять эту сумму?» Но раздумывать было некогда, я при Иване Александр. отсчитал деньги и, вложивши их в конверт, передал запечатанными Ивану.
На этот раз мы снова поехали встречать Новый год по привычке к Покровским воротам; но меня тянула домой уже не обязательная служба, а тишина сельского кабинета, с предстоящею постоянною умственною работой. Благодарю судьбу, пославшую с тех пор этот успокоительный труд и невозмутимые досуги.
В Москве я получил известие, что сестра Любовь Афан., благополучно выдержав трудную операцию вырезывания рака, вернулась в Орел, где, остановившись в гостинице, просит меня посетить ее при моем возвращении в Воробьевку. После Крещения, я с обычной радостью заехал в Ясную Поляну, а через день, по предварительному уговору, застал в Орле Ивана Александровича.
Сестру нашел я исхудавшей до неузнаваемости, не чувствующей особенных болей, но зато при видимом упадке сил. Сын ее, получивший от нее при отъезде заграницу полную доверенность, управлял имением во всю руку, и в Орле я его не видал. Конечно, первый мой вопрос был: «что брат Петруша?» И вот сопоставляю все, что успел узнать и от сестры, и от сопровождавшей ее горничной Ульяны:
Остановившись в одной с сестрой гостинице в Вене, брат терпеливо выжидал исхода операции. Но когда дело пошло на выздоровление, сестра сочла своею обязанностию позаботиться о здоровье брата. Верно в уме ее носилось, что брат нередко обращался в последнее время ко мне с просьбою распорядиться с ним, как с больным человеком. Но я никогда не поддавался таким его вспышкам самосознания; зато сестра, обладавшая гораздо меньшим против него запасом энергии, напускаясь на него с высоты опеки, разыграла роль Крыловского вороненка, запутавшегося в руне непосильной добычи. Когда брат услыхал, что к нему хотят привести доктора, он, показывая Ульяне заряженный пистолет, сказал: «вот что будет тому, кто придет ко мне с докторами». А затем в одно прекрасное утро номер его оказался оплаченным и пустым, а он неизвестно куда скрылся. Я вспомнил, как однажды в Воробьевке он шутя сказал: «уж куда мне теперь — и не знаю. Не махнуть ли в Америку?»
В небольших городах легко узнается все, что делается в других домах, и кто вновь приехал в гостиницы. Поэтому не удивительно, что тотчас после обеда мы с Иваном Александр. были обрадованы приходом Федора Федоровича, котораго крупная вывеска: Оптический магазин красовалась через улицу как раз против наших окон. Дело в том, что он женился на вдове, за которою взял в приданое магазин бронзовых и поливенных вещей, между прочим, очков и биноклей.
Добрый Федор Федорович был явно доволен и горд своим новым положением и несколько раз ошибкою вынимал из кармана какой-то конверт, который снова быстро прятал с видимой небрежностью. При повторении этого маневра, я невольно спросил: «Федор Федор., что это за бумага?»
— Ах, это kommerztelegramm! отвечал он как бы мимоходом.
Уходя, он просил нас взглянуть на его новое житье-бытье, зашедши в магазин. Вечером в магазине Федор Федор. особенно рекомендовал мне полученный из Вены морской бинокль, который просил испробовать утром на другой день. Бинокль действительно оказался превосходным, и покойный Дмитрий Петрович Боткин, бравший его много лет спустя в театр, говаривал, что покупать бинокли надо не в Париже, а в Орле.
Проведя через магазин, Федор Федор. взвел нас в бельэтаж, в свое укромное, но чистое помещение и поручил жене своей напоить нас чаем. Оказалось, что у жены его были от первого брака две девочки, на вид 10-ти и 12-ти лет. Усадили нас с Иваном Алекс. в небольшой гостиной на диване перед овальным столом, накрытым шерстяною салфеткой и, в ожидании приготовляемых нам хозяйкою в другой комнате двух стаканов чаю, нам долго пришлось любоваться слюдовою бабочкой, кружившейся над лампой посреди стола. Но внимание наше в скорости было отвлечено от бабочки появлением двух дочерей хозяйки, явившихся, вероятно, вместе с приходом их учительницы, на обычное место уроков, т. е. по другую сторону занимаемого нами стола. Насколько хозяйские дочери были одеты попросту, настолько учительница, как мы впоследствии узнали — гимназистка, — в своем щегольском черном платье с безукоризненными воротничками и рукавчиками, — отличалась изяществом. Начался урок, в котором наши две чуждых личности, очевидно, не имели ни малейшего значения. Ученицы были слишком взволнованы затруднением отвечать на вопросы, а учительница видимо торопилась окончить неинтересный для нее урок.
— Семь и пятнадцать, — много ли это будет? спрашивала она. Но так как изумленный взгляд ученицы был пока единственным ответом, то учительница убедительно подхватывала: «неправда ли, это будет 22? — так, прекрасно!» Затем, обращаясь к старшей: «если из 25-ти яблок вы отдадите 20, - много ли у вас останется? Неправда ли, — у вас останется пять? Очень хорошо!» — и так далее в том же роде. Но вдруг безо всякого перехода слух мой был поражен вопросом, обращенным к меньшой девочке: «отчего люди родятся?» спросила воспитательница. Тут уже вместе с девочкой вытаращил глаза и я.
— От молока! вдруг протяжно и пугливо пропищала ученица.
— Ну да, ну да! млекопитающие!
Тут из магазина поднялся к нам Федор Федор., и внутренняя связь и смысл последнего вопроса остался для меня навсегда загадкой. Поблагодарив хозяев, я отправился прямо в свой номер, а по лицу вошедшего через полчаса Ивана Алевс. я заметил, что он что-то хочет мне сказать.
— Вы чем-то взволнованы, сказал я, — так говорите прямо.
— Это правда, отвечал Ост; но я не знаю, как вы примете мои слова. Я только что от Любовь Афанасьевны и застал там, кого бы вы думали?
— Не знаю.
— Ольгу Васильевну. Она видимо мне обрадовалась и в то же самое время смутилась. Она просила меня испросить у вас позволения явиться сейчас к вам с повинною. И я подумал, что, право, с вашей стороны было бы благое дело забыть увлечение полуребенка под влиянием особы, овладевшей волею девочки чуть ли не с первых детских шагов.
Не задумавшись ни минуты, я отправился к сестре Любовь Афанасьевне, и там не только все прошлое было забыто, но я уступил даже убедительным просьбам племянницы быть хозяином бала, даваемого ею на другой день.
Л. Н. Толстой писал от 1-го февраля 1879 г.:
Дорогой Афанасий Афанасьевич, получил уже с неделю ваше особенно хорошее последнее письмо с очень хорошим, но не превосходным стихотворением и не отвечал тотчас же, потому что, поверите ли, с тех пор не поправился от своего нездоровья, и нынче только получше, и голова свежа, но все еще не выхожу. Правда то, что правда. Это из истин истина. Но правду, так же как и эту истину, можно не доказывать, но выследить, придти к ней и увидать, что дальше идти некуда, и что от нее-то я и пошел. Стихотворение последнее мне не так понравилось, как предшествующее и по Форме (не так круто, как то), и по содержанию, с которым я не согласен, как можно быть несогласным с таким невозможным представлением. У Верна есть рассказ вокруг луны. Они там находятся в точке, где нет притяжения. Можно ли в этой точке подпрыгнуть, — знающие физику различно отвечали. Так и в вашем предположении должно различно отвечать, потому что положение невозможно, не человеческое. Но вопрос духовный поставлен прекрасно. И я отвечаю на него иначе, чем вы. — Я бы не захотел опять в могилу. Для меня и с уничтожением всякой жизни кроме меня, все еще не кончено. Для меня остаются еще мои отношения к Богу, т. е. отношения к той силе, которая меня произвела, меня тянула к себе и меня уничтожит или видоизменит. Стихотворение хорошо уже потому, что я читал детям, из которых некоторые заняты чумой, и оно, отвечая на их страх, тронуло их.
Дай Бог вам здоровья, спокойствия душевного и того, чтобы вы признали необходимость отношений к Богу, отсутствие которых вы так ярко отрицаете в этом стихотворении.
Ваш Л. Толстой.
16 февраля 1879 года.
Я все хвораю, дорогой Афанасий Афанасьевич, и от этого не отвечал вам тотчас же на ваше письмо с превосходным стихотворением. Это вполне прекрасно. Коли оно когда-нибудь разобьется и засыплется развалинами, и найдут только отломанный кусочек: в нем слишком мною слез, то и этот кусочек поставят в музей и по нем будут учиться. Я не болен, не здоров, но умственной и душевной бодрости, которая нужна мне, — нет. Не так как вы — сухо дерево. Присылайте же еще стихи. Странно, как умствования мало убедительны. В последнем письме я вам писал, что я не согласен с мыслью последнего стихотворения. Что я не захотел бы вернуться в могилу, потому что у меня остались бы еще мои отношения к Богу. Вы ничего на это не отвечали. Ответьте пожалуйста. Если вам это кажется просто глупостью, так и скажите. Дай Бог вам всего лучшего, передайте наши поклоны Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
25 марта 1879 г.
Мне совестно молчать перед вами, дорогой Афанасий Афанасьевич, изображая из себя этим молчанием и краткостью писем занятого человека, тогда как не имеет права этого сказать, так как я делаю что то такое, что не оставляет никаких следов вне меня. V нас все хорошо. Радуюсь, что у вас тоже. Я был в Москве, собирал матерьялы и измучился и простудился. Юрьев просит вашего сотрудничества в своем журнале. Ему разрешен. Я чуть не попал к вам. Хотел ехать в Киев и к вам. Отложил, но буду жив, доставлю себе эту радость. Будьте здоровы и любите нас, как мы вас любим.
Ваш Л. Толстой.
17 апреля 1879 г.
Есть молитва, которая говорит: не по заслугам, но по милосердию твоему. Так и вы. Еще получил от вас длинное, хорошее письмо. Непременно и скоро поеду в Киев и Воробьевку, и все тогда вам расскажу, а теперь только отвечу на ваши опасения. Декабристы мои Бог знает где теперь, я о них и не думаю, а если бы и думал, и писал, то льщу себя надеждой, что мой дух один, которым пахло бы, был бы невыносим для стреляющих в людей для блага человечества. Как правы мужики и вы, что стреляют господа, и хоть не за то, что отняли, а потому что отняли мужиков. Но должен сказать, я добросовестно не читаю газет даже теперь и считаю обязанностью всех отвращать от этой пагубной привычки. Сидит человек старый, хороший в Воробьевке; переплавил в своем мозгу две-три страницы Шопенгауэра и выпустил их по-русски, с кия кончил партию, убил вальдшнепа, полюбовался же ребенками от Закраса, сидит с женою, пьет славный чай, курит, всеми любим и всех любит, и вдруг приносят вонючий лист сырой, рукам больно, глазам больно, и в сердце злоба осуждений, чувство отчужденности, чувство, что никого я не люблю, никто меня не любит и начинает говорить, говорит и сердится, и страдает. Это надо бросить. Будет много лучше. Надеюсь, до свиданья. Наши поклоны Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
25 мая 1879 г.
Благодарю вас, дорогой Афанасий Афанасьевич, что мы меня не забываете; только не сердитесь пожалуйста на меня за то, что я мою желанную поездку к вам все еще откладываю. Нельзя сказать, что именно меня до сих пор задерживало, потому что ничего не было заметного, а все мелочи: нынче гувернеры уехали, завтра надо в Тулу ехать, переговорить в гимназии об экзаменах, потом маленький нездоров, и т. д. Главная причина все-таки — экзамены мальчиков. Хоть и ничего не делаешь, а хочется следить. Идут они не совсем хорошо: Сережа по рассеянности и неумелости делает в письменных экзаменах ошибки; а поправить после уже нельзя. Но теперь экзамены уже перевалили за половину, и надеюсь, что ничто меня не задержит. Одна из причин тоже — это прекрасная весна. Давно я так не радовался на мир Божий, как нынешний год. Стоишь разиня рот, любуешься и боишься двинуться, чтобы не пропустить чего. У нас все слава Богу. Жена поехала в Тулу с детьми, а я почитаю хорошие книжки и пойду часа на четыре ходить. Пожалуйста вы мною не стесняйтесь, извещая меня, когда вы что хотите делать. Если бы я приехал в вам, вас не застал (чего не может случиться), то мне поделом; в другой раз приеду. Наши поклоны Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
13 июля 1879 года.
Не сердитесь на меня, дорогой Афанасий Афанасьевич, что не писал вам, не благодарил вас за приятный день у вас и не отвечал на последнее письмо ваше. Правда должно быть, что я у вас был не в духе (простите за это), я и теперь все не в духе. Все ломаюсь, мучаюсь, тружусь, исправляюсь, учусь и думаю, что не так ли, как Василий Петрович покойник, доведется и мне заполнить пробел да и умереть, а все не могу не разворачивать сам себя.
У нас все корь: половину детей перебрала, а остальных ждем. Что ж вы в Москву? Только не дай Бог, чтобы для здоровья, а хорошо бы для винтов каких-нибудь в машину, и к нам бы заехали. Наш поклон Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
28 июля 1879 года
Благодарю вас за ваше последнее хорошее письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, и за аполог о соколе, который мне нравится, но который я желал бы более пояснить. Если я этот сокол и если, как выходит из последующего, залетание мое слишком далеко состоит в том, что я отрицаю реальную жизнь, то я должен оправдаться. Я не отрицаю ни реальной жизни, ни труда, необходимого для поддержания этой жизни, но мне кажется, что большая доля моей и вашей жизни наполнена удовлетворениями не естественных, а искусственно привитых нам воспитанием и самими нами придуманных и перешедших в привычку потребностей, и что девять десятых труда, полагаемого нами на удовлетворение этих потребностей, — праздный труд. Мне бы очень хотелось быть твердо уверенным в том, что я даю людям больше того, что получаю от них, но так как я чувствую себя очень склонным к тому, чтобы высоко ценить свой труд и низко ценить чужой, то я не надеюсь увериться в безобидности для других расчета со мной одним усилением своего труда и избранием тяжелейшего (я непременно уверю себя, что любимый мною труд есть самый нужный и трудный);- я желал бы как можно меньше брать от других и как можно меньше трудиться для удовлетворения своих потребностей; и думаю, так легче не ошибиться. Жалею очень, что здоровье ваше все нетвердо, но радуюсь тому, что вы духом здоровы, что видно из ваших писем. От души обнимаю вас и прошу передать наши поклоны Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
Несмотря на удачную операцию в Вене, не оставившую после себя никаких болезненных следов, Любовь Афанасьевна, собиравшаяся навестить нас в Воробьевке, с каждым днем видимо ослабевала и гасла и наконец навеки заснула в своем номере, откуда перевезена была в свой приход, в село Долгое и близ церкви похоронена рядом с мужем.
Однажды, когда мы с Петей Борисовым ходили взад и вперед по комнате, толкуя о ширине замысла и исполнения гетевского «Фауста», Петруша сказал мне, что он в шутку пробовал переводить особенно ему нравившиеся стихи этой трагедии, как наприм., в рекомендации Мефистофеля ученику изучать логику.
— Я, — говорил Борисов, — перевел!
Тут дух ваш чудно дрессируют, В сапог испанский зашнуруют.— Прекрасно! — воскликнул я, — как бы разом учуяв тон, в котором следует переводить Фауста, — и при этом признался Пете, что много раз, лежа в Спасском на диване в то время, как Тургенев работал в соседней комнате, усердно скрипя пером, — я, как ни пытался, не мог перевести ни одной строчки Фауста, очевидно, только потому, что подходил к нему на ходулях, тогда как он сама простота, доходящая иногда до тривиальности. Но тут, продолжая ходить взад и вперед с Борисовым, я шутя перевел несколько стихов, которые помнил наизусть.
— Дядичка! — воскликнул Борисов: — умоляю тебя, возьмись за перевод «Фауста». Кому же он яснее и ближе по содержанию, чем тебе?
— Не могу, не могу, — отвечал я. — Знаю это по опыту.
На этом разговор и кончился. Тем не менее, в скорости по отъезде Борисова в лицей, я осмелился приступить к переводу Фауста, который стал удаваться мне с совершенно неожиданной легкостью[242].
Л. Н. ТолстоЙ писал:
31 августа 1879 года.
Дорогой Афанасий Афанасьевич, разумеется, я опять виноват перед вами, но, разумеется, не от недостатка любви к вам и памяти о вас. Мы со Страховым то и дело говорили про вас: судили и рядили, как мы все судим друг о друге, и как дай Бог, чтобы обо мне судили. Страхов очень доволен пребыванием у вас и еще больше вашим переводом. Мне удалось вам рекомендовать чтение 1001-й ночи и Паскаля, и то, и другое вам не то что понравилось, а пришлось по вас. Теперь имею предложить книгу, которую еще никто не читал, и я на днях прочел в первый раз и продолжаю читать и ахать от радости; надеюсь, что и эта придется вам по сердцу, тем более что имеет много общего с Шопенгауэром: это Соломона Притчи, Экклезиаст и книга Премудрости, — новее этого трудно что-нибудь прочесть; но если будете читать, то читайте по-славянски. У меня есть новый русский перевод, но очень дурной. Английский тоже дурен. Если бы у вас был греческий, вы бы увидали, что это такое. Поклонитесь от меня Пете Борисову и посоветуйте ему от меня почитать по-гречески и сличить с переводами. Я сейчас ходил гулять и думал о Пете. Не знаю, чему ему надо еще учиться, но знаю, что с его знаниями я могу предложить ему дела четыре такие, на которые нужно посвятить жизнь и успех, хотя неполный, заслужит навеки благодарность всякого русского, пока будут русские.
У нас после приезда Страхова были гость на госте, театр и дым коромыслом, 34 простыни были в ходу для гостей, и обедало 30 человек, — и все сошло благополучно, и всем, и мне в том числе, было весело. Наш душевный привет Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
XIII
Продажа Новоселок. — Тереза Петровна. — Письма. — Поездка в Крым. — Семейство Ребиллиоти. — Их усадьба. — Севастополь. — Тази и Реунов. — Севастопольское кладбище. — Ялта. — Продажа Фатьянова. — Покупка Борисовым Ольховатки.- 1-е марта 1881 года. — Письмо брата.
Встретив Новый год и на этот раз у Покровских ворот, я, по крайней мере лично, пробыл в Москве весьма короткое время и уехал в Воробьевку, заехавши по дороге в Ясную Поляну.
Отыскался и серьезный покупатель на Новоселки. Не буду вспоминать всех раздражительных и тяжелых минут, по случаю всякого рода мелочных препятствий, возбужденных при этом покупателем. Неприятно обрывать свое собственное, но быть вынужденным обрывать чужое, вверенное вашей охране, — пытка. Но вот, худо ли, хорошо ли, запродажа наших родных Новоселок состоялась, и я со свободною душой мог снова усесться в моем уединенном кабинете, устроенном, как я выше говорил, в числе трех комнат на бывшем чердаке. Срок аренды орловскому имению, снятому Иваном Алекс. кончился, и он возобновить его к Новому году не захотел; а потому, по просьбе нашей, 70-ти летняя старушка матушка его, Тереза Петровна, переехала к нам.
Оглядываясь на свои тихие кабинетные труды того времени, не могу без благодарности вспомнить доброй старушки, сделавшейся безотлучной гостьей моего кабинета. Окна во всем, бывшем чердаке, а следовательно и в моем кабинете, были пробиты уже при нашей перестройке дома, и рамы, сделанные из столетних досок, уцелевших в виде закромов в амбаре, были до того плотны, что старушка, чувствительная ко всяким атмосферным влияниям, садилась с своим шитьем зимою на подоконник. Так как в стихотворных переводах я, кроме верности тона, требую от себя и тождественного количества стихов, то иногда давал Терезе Петровне в руки гетевского «Фауста», прося сосчитывать стихи отдельных действующих лиц. При этом она всегда опережала меня и говорила: zwei или drei und zwanzig — раньше чем я говорил: два или двадцать три. Невзирая на такую систематическую проверку, мы ухитрились пропустить три стиха, которые были восстановлены уже в издании 2-й части трагедии.
Л. Н. Толстой писал:
31 мая 1880 года.
Прежде чем сказать вам, как мне совестно перед вами и как я чувствую себя виноватым перед вами, прежде всего я ужасно благодарен вам, дорогой Афанасий Афанасьевич, за ваше доброе, прекрасное, главное умное письмо. Вы имели причины быть недовольным мною и вместо того чтобы высказать мне свое нерасположение, которое очень могло бы быть, вы высказали мне причины своего недовольства мною добродушно и главное так, что я почувствовал, что вы все-таки любите меня. Письмо ваше произвело на меня чувство умиления и стыда за свою неряшливость, — ничего больше. Вот что было, и вот мои последние впечатления о наших отношениях. Вы мне писали, как всегда; я, как всегда, с радостью получал ваши письма, но не как всегда (с еще большей неаккуратностью чем прежде, вследствие своих особенно напряженных занятий нынешнего года) — отвечал; но перед весною я получил от вас письмо, в котором видел, что вы меня в чем то считаете виноватым. Вина моя единственная и ненастоящая перед вами была та, что, прочтя это письмо, я не написал тотчас же вам, что я и хотел сделать, прося у вас объяснения, за что вы недовольны мною. Опят мои занятия немного извиняют меня, и прошу вас простить меня за это. В первой же главной моей вине, как вам это должно казаться, что я не отвечал вам на ваше предложение приехать в Ясную, — я решительно невменяем. Не понял ли я этого, просмотрел ли, но совершенно забыл, и для меня этого вашего предложения приехать не существовало. Я вам все это так пишу, потому что знаю, что вы мне поверите, что я пишу истинную правду. Как это случилось — не знаю. Но в этом я не виноват. Не виноват потому, что всегда читаю ваши письма по нескольку раз и вникая в каждое слово, не виноват уже наверно в том, чтобы я мог промолчать, не подхватив его с радостью, ваше предложение приехать к нам. Во всяком случае простите, но не меняйтесь ко мне, как я не переменюсь к вам, пока мы живы. И очень очень благодарю вас за ваше письмо. Мне так хорошо стало теперь потому что твердо надеюсь, что получу от вас хорошую весточку, и может быть вы уже совсем по кажете мне, что прощаете меня, приехав к нам. Жена кланяется вам; она чувствовала то же, что я, относительно вас, еще сильнее меня.
Ваш Л. Толстой.
8 июня 1880.
Дорогой Афанасий Афанасьевич! Страхов мне пишет, что он хотел исполнить мою просьбу: уничтожить в вас всякое, какое могло быть, недоброжелательство ко мне или недовольство мною, — но что это оказалось совершенно излишне. Он ничего не мог мне написать приятнее. И это же я чую в вашем письме. А это для меня главное. И еще будет лучше, когда вы по старой привычке заедете ко мне. Мы оба с женою ждем этого с радостью. Теперь лето и прелестное лето, и, я как обыкновенно, ошалеваю от жизни и забываю свою работу. Нынешний год долго я боролся, но красота мира победила меня. И я радуюсь жизнью и больше почти ничего не делаю. У нас полон дом гостей. Дети затеяли спектакль, и у них шумно и весело. Я с трудом нашел уголок и выбрал минутку, чтобы написать вам словечко. Пожалуйста же по старому любите нас, как и мы. Передайте наш привет Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
26 сентября 1880.
Дорогой Афанасий Афанасьевич! Страхов пишет мне, что вы жалуетесь на меня. Вы жалуйтесь и ругайте меня и лучше всего мне самому, я это ужасно люблю; но по-прежнему пишите, заезжайте и любите меня. Что ваш Шопенгауэр? Я жду его с большим интересом. Я очень много работаю. Все у нас здоровы. Жена вам кланяется. Наш общий поклон Марье Петровне.
Ваш Л. Толстой.
Наслушавшись зимою восторженных восклицаний Каткова об очаровательной природе Крыма, я все лето толковал, что стыдно проживать в недалеком сравнительно расстоянии от Крыма и умереть, не видавши южного берега, невзирая на Севастопольскую железную дорогу. К этому желанию случайно присоединился дошедший до меня слух, что добрый мой товарищ, однополчанин кирасирского Военного Ордена полка — Ребиллиоти, — покинувший полк еще до Венгерской кампании, женат и проживает в своем имении близ станции Бахчисарай. Конечно, тотчас же на письмо мое к нему последовало самое любезное и настойчивое приглашение начать знакомство с Крымом с его имения в долине Качи.
Как ни порывались мы с женою и Иваном Александровичем в Крым, молотьба и сев не отпустили нас раньше последних чисел сентября, хотя мы чувствовали, что несколько запоздали. Наконец мы свободны и в вагоне с запасом закусок, чайных приборов и сливок. Того же вечера прибываем в Харьков и, пересевши в полдень на следующий день в Лозовой на другой поезд, пускаемся в дальнейший путь. Ночь, озаряемая полнолунием и мириадами звезд, спустилась на землю почти светла, как день. Вдруг поезд наш покатился по белоснежной земле, и я догадался, что мы подходим к Сивашу с его вековечным соляным богатством. Человек, составивший себе из географии поверхностное понятие о Крыме как о горной стране, будет, проехавши Перекоп, немало удивлен полным отсутствием видоизменения почвы. Кругом все та же необозримая степь, на которую пришлось наглядеться, начиная с Харькова. Понятно, почему крымские борзые искони считались самыми выносливыми и сильными. Но вот солнце мало-помалу озарило безоблачное небо. Мы с первой станции благодушно занялись утренним кофеем.
— А, вот они наконец! — воскликнул я, взглянув в левое окно вагона.
— Кто они? — спросил Иван Александрович.
— Горы, — отвечал я, указывая на иссиза-лиловую дымчатую гряду, потянувшуюся на горизонте к юго-востоку.
— Помилуйте, да это облака, — заметил Иван Александрович.
— Погодите с час или два, — отвечал я, — и как нам неизбежно приближаться к этим облакам, то вы убедитесь, что они такое.
Окончательное убеждение Ивана Александровича не заставило себя долго ждать, когда мы въехали в ущелье, где Симферополь приютился на берегах Салгира.
О скоро ль вновь увижу вас, Брега веселые Салгира?[243]«Вот, — невольно подумал я, — как игриво весела эта невзрачная речонка в волшебных стихах поэта». Но вот Бахчисарайская станция.
— Есть экипаж от Ребиллиоти?
— Есть.
Проехав минут сорок по каменистой дорожке по долине Качи, мы въехали в каменные ворота прекрасной каменной, но видимо запущенной усадьбы, и застали на дворе самого хозяина видимо нас поджидавшего. Я тотчас его узнал, невзирая на его седые волосы. Он поспешил познакомить нас с своей женой, как и он, гречанкой, сохранившей еще явные следы красоты, а также и с милыми своими дочерями.
Когда, оправившись после двухсуточного пребывания в вагоне, мы стали осматриваться кругом, то были поражены всем видимым. Признаюсь, я ничего подобного нигде не встречал. Небольшой, но весьма поместительный двухэтажный дом с подъездом со двора выстроен, очевидно, умелой и широкой рукой. В нижнем этаже расположены жилые, а вверху парадные комнаты. Дубовый потолок гостиной украшен посредине большою розеткой из золоченых металлических листьев аканфа. Стеклянная дверь выходит на балкон, висящий прямо над быстрыми струями Качи, заключенной в каменный арык, вращающий могучим падением воды мельничное колесо, но при закрытии шлюза орошающий все четыре десятины сада. И что это за сад смотрит вам в лицо! Какие тополи, кипарисы и орехи стоят тотчас же по другую сторону арыка, уносящего у ног ваших множество падающих в него яблок.
Чтобы не отнимать у вас возможности любоваться садом и лежащими за ним горами, гигантские деревья расступаются, связанные между собою только могучим побегом лозы, бросившейся с высоты и увешанной темно-сизыми гроздьями. Самые фруктовые деревья до того усыпаны краснеющими яблоками, что без сотен подпорок не в состоянии бы были выдержать тяжести.
«Вот где, думал я, человек может жить обеспеченно при наименьших со стороны своей усилиях. Конечно, и тут необходимо думать о поддержке сада, но что же значит работа на четырех десятинах в сравнении с нашими хозяйствами на тысячах десятинах». А между тем видимо беспечный хозяин говорил мне, что сад его был бы игрушечка, если бы он мог тратить на него 2 тысячи рублей в год. А хозяйка жаловалась, что не далее как нынешней весною торговцы давали ее мужу за нынешний урожай 20 тысяч рублей, но он не отдавал до самой осени, а теперь продал сад за 8 тысяч. «И так, — говорила она, — мы поступаем ежегодно».
По поводу восхищения моего Актачами, хозяин сказал: «Это имение представляет только бедный остаток отцовского достояния. Отец наш, отставной генерал-лейтенант, мало-помалу приобрел почти все земли южного берега, которые, конечно, в то время не представляли своей настоящей ценности, и отец приобретал их у татарских владельцев, иногда выменивая на восточные ятаганы и сабли. Только со временем все эти имения, как Мисхор, Гурзуф, Ливадия, Ореанда и т. д., перепроданы им новым владельцам».
Нечего говорить, что после прекрасного обеда, венчанного самыми изысканными фруктами, мы б кабинете хозяина предавались нашим полковым воспоминаниям, и тут я узнал, что бывший наш товарищ, севастопольский грек, полковник Тази в настоящее время проживает в Севастополе в доме зятя своего, отставного капитана Реунова.
Прогостивши два дня у любезных хозяев, мы уехали от них с таким расчетом времени, чтобы иметь возможность осмотреть Бахчисарай и на другой день с утренним поездом уехать в Севастополь.
Не буду говорить о замечательном в своем роде и характерном, хотя и небогатом дворце и ханском кладбище; скажу только, что Бахчисарай с его тесной горной улицей, харчевнями, лавками, медными и жестяными производствами, действующими открыто на глазах прохожих, сохранил полностью характер азиатского города. В лучшей гостинице, где пришлось нам ночевать, мы после девяти часов вечера могли только получить чайник кипятку, так как самовара уже не полагается.
Но вот на другой день, пройдя несколько тоннелей, мы остановились на Севастопольской станции. Говорят, в настоящее время Севастополь неузнаваем. Но в то время он производил самое тяжелое впечатление почти сплошными развалинами. Кроме изуродованных стен в бывших домах ничего не оставалось, и благодаря мощной южной растительности в разломанные амбразуры окон и дверей порою виднелись зеленеющие деревья. В гостинице на расспрос мой о доме Реунова указали на развалину на противоположной стороне улицы, предупреждая, что Реунова я должен искать за этими развалинами в другом, уже обновленном его доме. Добравшись по адресу, я спросил квартиру полковника Тази, и денщик его ввел меня к моему старому Александру Андреевичу.
Еще во время моего адъютантства, когда Тази командовал пятым эскадроном, генерал Бюлер жаловался, что Александр Андреевич порою не слышит команды; но при севастопольской встрече на вопрос мой о здоровье Тази отвечал: «Как видишь, слава богу, здоров, только глух стал». И действительно, невзирая на приставленную им к уху ладонь, нужно было ему кричать, и сам он, не соразмеряя звуков, — кричал нестерпимо.
— Ну как же ты поживаешь? — спросил я его.
— Да слава богу! Получаю небольшой доход с наследственных садов да пенсию; и вот поселился у своего родственника, отставного капитана Реунова, который женат был на моей покойной сестре. Тот тоже получает пенсион за свою севастопольскую службу, и кроме того в этом доме у него бани, в которые ходит много народу и поэтому довольно доходные. Даром-то жить как-то совестно; так я плачу ему за эти две комнаты 25 рублей и ежедневно хожу к нему обедать. Гостей у него никогда не бывает, и мы всегда обедаем только втроем: он с женою и я.
— Да ведь ты же сказал, что твоя сестра умерла?
— Умерла, братец, точно, умерла 6 лет тому назад. Только зять мой никогда без нее обедать не сядет. Ей ежедневно накрывается третий прибор, и против него ставится большой ее фотографический портрет. Это, братец, большой чудак. Он вздумал было мне отказывать деньги по духовному завещанию. Насилу я мог его уговорить, что это смешно. Ну на что мне деньги, когда я не знаю, куда и своих девать? Сам он ежедневно ходит колоть дрова для бани. Ах, да вот и он, — сказал Тази, глядя из окна во двор.
Взглянув в свою очередь в окно, я увидал худощавого старичка в блузе неопределенного цвета, в серых нанковых старых брюках и женских изношенных башмаках на босу ногу. Минут через пять тот же старичок вошел в комнату Александра Андреевича, который тотчас же познакомил нас. Старичок присел против меня на стул, и разговор сам собою склонился к обороне Севастополя и к печальному виду покрывающих его развалин.
— Да, — сказал Реунов, — развалины эти для других безмолвны, но для меня они красноречивее всяких обитаемых жилищ. Поневоле поправил я вот этот дом, в котором живу; а вот тот, что выходит на улицу и которого я восстановить не соберусь, напоминает мне не только время осады, но и покойную мою жену, жившую в нем почти до полного его разрушения. Как я ее ни уговаривал изменить своим привычкам в такое опасное время, она продолжала сидеть на своем обычном месте под окном и вязать чулок. Я в это время командовал Николаевским бастионом при входе в Северную бухту и должен был выдерживать усиленный огонь неприятельского флота. Тем не менее жена моя ежедневно приходила ко мне на бастион со служанкой и всеми чайными принадлежностями в обычное время — восемь часов вечера. Видя вокруг себя ежеминутные жертвы неприятельских снарядов и потоки крови, я умолял жену не подвергать себя бесполезной опасности; но она на все мои убеждения отвечала, что иначе поступать не может, и, напоивши меня чаем, помогала убирать и перевязывать раненых. У окна своего бельэтажа она привыкла по шуму снарядов узнавать их направление и, однажды услыхав шуршание бомбы, подумала: «Вот это уже близко к нам». В ту же минуту бомба, пробивши крышу и потолок, прошибла пол у ног жены и, пройдя антресоль, разорвалась в подвальном этаже, в котором отдыхала и чистилась сменившаяся рота. Занимавший антресоль столяр, бывший в то время на дворе, услыхав взрыв бомбы, вспомнил, что у него остался в комнате маленький сын в колыбели. Каков же был его ужас, когда, вбежав в комнату, он увидал люльку пустою и рядом с нею отверстие в полу, пробитое бомбой. В отчаянии он бросился в подвал, где из груды тел заметил торчащую детскую ручку. Устранив посторонние мертвые тела, он достал своего безжизненного ребенка и, положивши его на плечо, вынес на двор. На воздухе мнимоумерший ребенок стал дышать и ожил, не имея на теле никаких повреждений, за исключением царапин, полученных при падении в расщепленное бомбою отверстие пола. День в день через 20 лет после этого происшествия жена моя скончалась, и можно было подумать, что божественный промысл сказал ей: «Ты усомнилась в минуту полета снаряда, так вот тебе чудо: ребенок, можно сказать, влетевший в подвал верхом на бомбе, спасен. А ты сама проживешь еще 20 лет». — Спасенный мальчик, — прибавил рассказчик, — и по сей день ходит здоровый по улицам Севастополя.
Оригинальный отставной капитан говорил, что в свое время журналы описывали поведение его жены.
Нигде и никогда не испытывал я того подъема духа, который так мощно овладел мною на братском кладбище. Это тот самый геройский дух, отрешенный от всяких личных стремлений, который носится над полем битвы и один способен стать предметом героической песни. Кто со смыслом читал «Илиаду», начало «Классической Вальпургиевой ночи» во второй части Фауста или «Севастопольские рассказы» гр. Л. Толстого, — поймет, о чем я говорю. Воспевать можно только бессмертных обитателей Елисейских полей[244]: царей, героев и поэтов. Сюда же, конечно, относятся и классические образцы женской красоты, как Елена, Леда, Алцеста, Эвридика[245] и т. д. Надо быть окончательно нравственно убогим, чтобы не понимать, что такое отношение вытекает не из поэтической гордыни, а из природы самого дела. Мы только что указали на героические песни кровавой битвы, но попробуйте воспеть изобретение пороха, компаса или лекцию о рефлексах, и вы убедитесь, что это даже немыслимо. Но можем утешиться: на каком бы умственном уровне ни стояли мы в настоящее время, — вековечный пример защитников Севастополя, почиющих на братском кладбище, никогда для нас не пропадет, и Россия не перестанет рождать сынов, готовых умереть за общую матерь.
В Ялту мы отправились из Севастополя на прекрасном пароходе при самой очаровательной погоде; и классические волны Тавриды словно пожелали встретить меня всеми знакомыми поэзии атрибутами. Ни в Балтийском, ни в Средиземном море я не видал спасителя Ориона[246] — игривого дельфина; а здесь, точно нарочно, они от самой Северной бухты и до Ялты беспрерывно подымались из моря вокруг нашего парохода и, вырезаясь на некоторое время из волн черной спиною, вооруженной саблевидным, назад загибающимся пером, снова погружались в бездну. С парохода они казались не превышающими размером среднего осетра, а между тем мне говорили, что эти громадные животные бывают весом свыше 60-ти пудов.
В Ялте все номера в гостиницах были набиты посетителями, и мы рады были, что отыскали две комнаты у татарина, недалеко от кипарисной рощицы, у русской церкви. Насколько я недавно чувствовал себя в праздничном расположении духа на северной стороне Севастопольской бухты и —
«Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду…»[247]— настолько Ялта, невзирая на живописно возносящиеся над нею горные утесы, производила на меня удручающее впечатление. Так как весь город очень невелик, то моим спутникам нетрудно было принудить меня обойти его весь. Но затем я положительно объявил, что более одних суток не в силах вынести этого ничем не оправдываемого бездействия. Таким образом, не дождавшись прибытия парохода, мы наняли коляску в Севастополь с ночлегом на половине дороги.
Когда на третий день мы поднимались в коляске по живописной горной дороге, открывающей виды с птичьего полета на великолепные приморские дачи, начиная с Ливадии, за нами раздался поспешный конский топот, и казак, приблизясь к коляске, торопливо сказал: «Господа, потрудитесь дать дорогу: царь едет». К счастию, дорога представляла на этом месте некоторое подобие платформы, и коляска наша, по настоянию моему, сдвинулась к краю, очищая путь. Вылезши из экипажа, мы стали ожидать царя, тотчас же выехавшего на вороной казачьей лошади и в казачьем мундире из-за скалы на повороте дороги. Как ни старались мы дать место ему и проезжавшей за ним коляске, в которой между прочим сидел прелестный рыжий сеттер, — государь проехал мимо нас на расстоянии трех или четырех шагов. Лицо его было бледно и уныло, и он милостиво ответил на наши поклоны.
Но вот мы на высоте горного хребта и медленно въезжаем в знаменитые Байдарские ворота, откуда путнику, едущему из Севастополя на южный берег, вдруг, как со вскрытием театрального занавеса, впервые представляется величественная картина необъятного моря. Прощай, море!
«Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной Ты катишь волны голубые И блещешь гордою красой».Грустно видеть, как знаменитая Байдарская долина, благодаря неприятельскому пребыванию, все более и более, по мере приближения к Севастополю, теряет свою лесную одежду и связанное с нею орошение.
Узнавши от госпожи Ребиллиоти, что в Крыму нет малины, жена моя по приезде в Воробьевку послала в Актачи пуд малины, приготовленной во всех видах. Но никакого известия о получении посылки не последовало, и я, напрасно написавши два письма к Ребиллиоти, спросил старого Тази о причине такого молчания. На это Александр Андреевич лаконически отвечал мне, что известия нет потому, что с того света письма к нам не доходят, а Ребиллиоти через две недели после нашего отъезда скончался. С тех пор всякие сношения мои с Крымом прекратились.
Во время краткого зимнего пребывания моего в Москве, отыскался покупатель и на Борисовское Фатьяново, и с тем вместе к Петруше Борисову пришло формальное извещение о смерти единственной родной его тетки, оставившей ему тысяч семь наследства. Таким образом в руках Борисова появилось тысяч 80 капиталу, который я настоятельно просил его превратить в государственные бумаги, чтобы избегнуть всяких треволнений, сопряженных с управлением недвижимой собственностью и в особенности земледельческим хозяйством.
Со мною Петруша, при обсуждении этого вопроса, соглашался вполне, но, уходя в комнату Ивана Алекс, предавался самым розовым мечтам по отношению к покупке земли где-либо неподалеку от нас. В непродолжительном времени Иван Алекс. разыскал весьма хорошее имение Щигровского уезда, принадлежавшее графу де-Бадьмену, корреспонденту Моск. Ведом. и сыну графа де-Бальмена. находившегося с русской стороны при Наполеоне I на острове Св. Елены.
Тут началась ожесточенная война между желаниями: сохранить деньги и купить имение. Немка, жена графа, теснила мужа продажей, порываясь уехать в Германию, где в скорости оба умерли.
Наши покупатели предлагали цену, на которую граф, очевидно, согласиться не мог. Когда Петруша, предложивши последнюю цену, уехал в Москву, граф приехал ко мне с объяснениями невозможности согласиться на предлагаемую цену.
— Позвольте, сказал я, взять на себя ответственность в чужом деле и предложить за племянника грех пополам.
Когда я уведомил Борисова о таком окончании дела, он прискакал в совершенном восторге.
Вечером 1-го марта, подучивши со станции письма и газеты, я вышел в переднюю спросить кучера Афанасия, — хорошо ли шла молодая лошадь, на которой он ездил. Когда я отворил дверь, то, при взгляде на его лицо, предположил, что с ним случилось что-либо недоброе. Он был бледен, как мертвец, так что я невольно крикнул:
— Афанасий! что с тобою?
— Сегодня царя убили, проговорил он каким-то глухим голосом.
— Как можно рассказывать такое вранье!
— На станцию пришла депеша, и все об этом говорят.
На другой день слух все разростался, а на третий день явились печатные подтверждения громовой вести.
Л. Толстой писал:
12 мая 1881 г.
Помню, когда получил ваше письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, как мне удивительно показалось, что вы так далеко заглядываете, — 12 мая. Показалось особенно странно, потому что в этот же день я узнал о смерти Достоевского. А вот и 12 мая, и мы живы. Пожалуйста простите меня за мое молчание и не накажите меня и жену тем, чтобы отменить ваш приезд к нам. Пожалуйста не сердитесь на меня. Я очень заработался и очень постарел нынешний год; но не виноват в перемене моей привязанности к вам.
Ваш Л. Толстой.
В июне пришло письмо, на адресе которого я с восторгом узнал руку брата. Где он и что он? — Брат писал из Америки из штата Огайо: «Проживаю у хозяина древесного питомника (Nurseryman). Это добрейшие и прекраснейшие люди. Полиция притесняет из-за паспорта. Нельзя ли возобновить его? Здоровье плохо. Нельзя ли сколько-нибудь денег?»
Конечно, первейшим моим делом было написать nurseryman'у, что в скорости за этим письмом он получит деньги и что я удивляюсь словам брата касательно затруднений с паспортом в стране, где паспортная система не существует. Единовременно с этим письмом я обратился в контору Боткиных с просьбою о переводе денег через их лондонского агента. Через полтора месяца nurseryman писал через своего знакомого по-французски, что деньги он через банкирскую контору получил в двойном количестве против должных ему Шеншиным, который на другой день после отправки ко мне письма неизвестно куда скрылся, оставив свой небольшой чемодан и золотые очки. Что этот господин, поступивший в работники в саду, заслужил общую любовь, но по нездоровью не мог постоянно работать и вел себя в этом отношении очень странно. Так напр., он не только не доедал пищи, но и ночевал на сене под открытым небом, говоря, что не заработал этих удобств, и никакие наши просьбы не могли убедить его в противном. О паспортах в Америке и речи быть не может. «Мой сын, — писал содержатель питомника, — изъездил на одноколке все окрестности, а объявление, коего экземпляр при сем прилагаю, с просьбою указать за вознаграждение местожительство Шеншина, было разослано во все концы Америки. Позвольте спросить, как поступить с излишними деньгами и куда их отправить?»
В ответ на это письмо я просил любезного хозяина оставить деньги у себя, на случай появления брата.
С той поры я о брате не слыхал ни слова.
XIV
Покупка дома. — Перевод Горация. — М. Г. Киндлер. — Приезд П. Борисова из заграницы. — Духовное завещание. — Серебряная свадьба. — П. Борисов поступает в полк. — Странные его выходки. — Чиновник. — Смерть Тургенева. — Болезнь Пети. — Мое последнее свидание с ним. — Смерть Киндлера. — Мое примирение с Полонским. — Смерть Пети Борисова.
Милая и крайне внимательная ко мне старушка Тереза Петровна однажды, когда я после завтрака раскладывал пасьянс, пришла из другой комнаты с «Московскими Ведомостями» в руках и сказала: «Посмотрите, Аф. Аф., какой чудесный и недорогой дом продается в Москве на Плющихе!»
Если подумать, что я никогда никому не говорил о желании купить в городе дом, что в высшей степени сдержанная и осторожная старушка никогда ни о каких газетных объявлениях мне не говорила, то придется настоящую ее выходку счесть крайне странной. Еще более странно то, что этими словами она мгновенно пришпилила к моему сердцу дом, подобно тому, как к пробке пришпиливают разноцветную бабочку.
Если подумать, что я никогда никому не говорил о желании купить в городе дом, что в высшей степени сдержанная и осторожная старушка никогда ни о каких газетных объявлениях мне не говорила, то придется настоящую ее выходку счесть крайне странной. Еще более странно то, что этими словами она мгновенно пришпилила к моему сердцу дом, подобно тому, как к пробке пришпиливают разноцветную бабочку.
Помню, что и в Москве и в Кунцеве я ходил раненый домом. Я отправился на Плющиху, согласно объявлению, и продажный дом мне понравился. Чтобы избежать в собственных глазах вида маниака, я обратился в адресную контору и по указанию ее пересмотрел довольно много продажных домов приблизительно в ту же цену, по которой предлагался дом на Плющихе. Главною задачей моей при осмотре деревянных домов было избежать старых, а потому ненадежных построек. Стена отвесно пряма, думал я, — следовательно исправна; а крива — значит дело плохо. Словом, — из виденных мною домов, продававшийся на Плющихе нравился мне более всех. Его хозяева оказались весьма красивой молодой четой, и я объявил им, что до решения жены моей, на имя которой я желаю купить дом, я сказать ничего не могу и постараюсь на другой день приехать с нею.
Жена моя была видимо смущена известием, что я отыскал дом для покупки, причем выразила опасение обычной с моей стороны торопливости и решительности. Тем не менее на другой день, отправлявшаяся в карете из Кунцева в Москву за какими то покупками, она согласилась заехать со мною взглянуть на дом, в котором быть может ей придется жить. Когда Француженка горничная отперла нам двери, хозяин и хозяйка приняли нас в столовой. Обойдя наскоро с женою комнаты, я тихонько спросил ее: «ну что, как ты находишь?»
— Ничего, недурно, отвечала она.
— Ты можешь ехать по своим делам, а через час заезжай за мною, сказал я ей. Когда карета загремела по мостовой, я обратился к хозяину с такою речью: «Я желал бы покончить с двух слов. Не прибавлю ни копейки сверх того, что считаю возможным для себя. Вы просите 35 тысяч, 3 тысячи за мебель и купчую пополам. А я предлагаю за все 35 тысяч и купчая ваша».
Он взглянул на жену и, поднявши руку, чтобы ударить по моей, воскликнул: «извольте».
— Теперь, когда дело кончено, сказал я, позвольте обратиться к вам с покорнейшей просьбой: умолчим о состоявшейся покупке перед моею женой, во избежание преждевременного с ее стороны волнения.
Действительно, при появлении жены моей, мы не сказали ей ни слова о деле, и я стал торопить ее в Кунцево под предлогом, что мы можем опоздать к обеду.
— Ну что? спросила меня шепотом жена, сходя по лестнице к подъезду.
— Ничего.
— Ну слава Богу, сказала она, видимо облегченная.
Но едва только уселась она в карету, как я, войдя в свою очередь, захлопнул за собою дверку и, крикнув кучеру: «домой!» — сказал жене:
— Поздравляю.
— С чем? спросила она.
— С покупкою дома.
— Боже! без архитектора, не спрося ни у кого совета и так скоро!
Она заплакала.
— В первый раз в жизни, сказал я, вижу человека, плачущего о том, что ему подарили дом.
Через три дня купчая была совершена. Справедливость требует прибавить, что, по мере открывавшихся неисправностей, пришлось потратить немало денег на их исправление.
Петрушу Борисова, упросившего Ивана Ал. еще во время покупки Ольховатки заняться ею, мы с тех пор не видали, так как, окончив курс вторым кандидатом, он, с разрешения Министерства Народного Просвещения, уехал в Германию для филологических изучений вообще и санскрита в частности. Знаменитый Вестфаль рекомендовал его своим приятелям в Иенском университете.
Начиная с 1-го октября 81 г., мы ежегодно стали проводить зиму в Москве на Плющихе, и для нас великою отрадою был переезд семьи Толстых на зиму в Москву.
Тургенев писал:
30 декабря 1881 г.
Париж.
Любезнейший Афанасий Афанасьевич! Вчера утром получил я ваше письмо, а к вечеру пришел и Фауст. Сердечно благодарю вас, что вспомнили обо мне. Вы не можете сомневаться в том великом интересе, с которым я прочту ваш перевод. Что же касается до личных моих отношений к вам, то они никогда не изменялись, не смотря на некоторые недоразумения. Да к тому же, и вы и я, мы оба на склоне наших лет, и что бы мы были за люди, если бы старость не научила нас уважению свободы мнений, чувств и т. п.? Я в апреле месяце буду в Москве и надеюсь застать еще вас там, так же как и Толстых. Поклонитесь им всем от меня, а также и вашей супруге, которую благодарю за память. С Новым Годом, с новым… (или со старым?) счастьем!!
Преданный вам Ив. Тургенев.
Давным-давно, в разговорах со мною о Горации, Тургенев, упоминая, что я его перевел, полуукоризненно прибавлял: «не всего». Это словечко было для меня тем неприятнее, что я сам давно чувствовал этот изъян. Еще в 60-х годах мною переведено было послание к Пизонам. Оно, в то время просмотренное П. М. Леонтьевым, было набрано для «Русск. Вестника», но издатели не решились напечатать такую классическую вещь, страха ради иудейского. Каков был уровень общественного мнения по сравнению хотя бы с английским за 50 лет тому назад, когда Вальтер Скотт говорил, что готов бы отдать половину своей славы за знание греческого языка, недостаток которого он болезненно чувствует всю жизнь.
В марте[248], по возвращении в Воробьевку, я усердно задался мыслью завершить полный перевод Горация и представить его на общий суд.
Зная по опыту трудность, встречаемую при переводах классиков, я просил моего доброго московского знакомого поискать для меня на лето после экзаменов за известное вознаграждение хорошего студента-филолога, способного делать справки по мере надобности и моему указанию. На это мой приятель ответил, что такого студента он не знает, но что, когда он стал об этом говорить между своими товарищами учителями гимназии, один из них, преподаватель латинской словесности, немец Максим Германович Киндлер вызвался без всякого вознаграждения приехать ко мне по окончании экзаменов, чтобы работать вместе над Горацием.
«Боже, — подумал я, — какой пример для наших специалистов!»
Добродушный, трудолюбивый, одноцентренный Максим Германович оказался идеалом специалиста. При 2-х месячном ежедневном совместном труде поневоле пришлось близко ознакомиться с этим, у нас почти не существующим типом.
Не встречая в мире ничего, видимо, выступающего из вековечных границ причинности, он считал всякую мысль о невещественном для себя неподсудной и бесплодной, и потому прямо говорил: «Я этого совершенно не знаю и навсегда оставил об этом думать». Будучи своею специальностью указан на мастерскую форму древних писателей, у которых она, как у черепокожных, выставляет свой костяк наружу как основную и существеннейшую свою часть, — Киндлер тонко понимал виртуозный выбор древними отдельных выражений. Но о том, чего не встречается в древних поэтах, он тоже не имел никакого понятия. Того тайного смятения, того неопределенного подъема и стремления к неведомому, которым полны корифеи христианского мира, начиная с Шекспира и Байрона и самого Гете и кончая Гейне и Лермонтовым, — у древних не существовало, и надо быть на этот счет весьма чувствительным, чтобы почувствовать зародыш этого веяния (романтизма) у Проперция. Нельзя не заметить, что по отношению к нашему русскому умственному вертограду так и хочется применить замечание, что самый сладкий плод с червоточиной. Оглянитесь на знакомых русских служителей Аполлона, и вы убедитесь в справедливости моего замечания; но у Максима Германовича не было никакой червоточины; для него Прусское государство, т. е. Германская империя, была верхом совершенства: она вся состоит из превосходно обученных и вооруженных солдат и переплетена подземными телеграфными линиями, дающими при железных дорогах возможность задавить первого врага массой вооруженной защиты. Там люди изучают древних ради их образцового совершенства, а не ради чинов. Словом, с этих сторон Максим Германович был неуязвим, и я старался избегать с ним разговоров о несравненном величии Германской империи.
Зато наши занятия с самого дня приезда Киндлера установились наилучшим образом. Комнату он занял наверху в одном коридоре, напротив входа в мою половину. После утреннего кофе мы расходились по своим комнатам знакомиться с данной сатирой Горация, причем он старался в подробностях приготовиться и к следующей. Часам к 10-ти он приходил ко мне с Горацием в руке, а я начинал сдавать ему экзамен по сатире, которую собирался переводить. Невзирая на сильный немецкий акцент, Киндлер ознакомился с русским языком до полного понимания всех его оттенков. Конечно, сдавая свой экзамен, я старался о возможной близости моего перевода к подлиннику и, не находя в данную минуту русского слова, вставлял немецкое. Выслушав мой перевод, Киндлер снова уходил к себе и работал до 12-ти часов, т. е. до завтрака. После часовой прогулки он снова уходил работать до 4 часов, ревностно готовя следующую сатиру. К 4 часам я обыкновенно поджидал его прихода, чтобы прочесть ему те 30, 40 и даже 50 стихов, которые успел перевести за утро. Вот тут-то начиналась беда. Максим Германович не признавал по отношению к нашему брату никакой поэтической вольности. Licentia poetica[249] существует для древних писателей; так она уж там в учебниках и прозывается, а про русских стихотворцев там ничего не сказано. А потому в переводе надо искать не приблизительного, а самого несомненного русского выражения. Иногда отыскивание этих точных выражений доходило до зеленых кругов в глазах. Однажды, в минуту невыносимого мучения, я не выдержал и сказал:
— Э, Максим Германович! право, это все равно!
Киндлер замолчал, но зато весь обед дулся и отворачивался от меня, как от unartigen Buben[250]. Когда перед вечерним чаем он снова зашел ко мне, я просил его извинить меня за необдуманные слова. «То-то, — отвечал Киндлер, — я изумился: как может быть вам все равно то, что выходит из-под ваших рук».
Тем не менее добросовестная критика Киндлера в отдельных случаях переступала надлежащую границу. Мои друзья знают, до какой степени я дорожу всеми указаниями на мои промахи и несовершенства; но на известной степени я остаюсь при своем мнении. Вот на этой-то точке Киндлер иногда вступал со мною в спор и, что замечательно, никогда ни разу по поводу латинских выражений, а по поводу русских. Изучивши литературную речь, он незнаком был с народною и вдруг при каком-либо обороте утверждал, что так нельзя сказать по-русски. Как бы то ни было, мы тщательно пересмотрели с Киндлером всего Горация и расстались наилучшими друзьями[251].
Ко второй половине июня Петя Борисов, пользуясь вакационным временем при Иенском университете, приехал в Воробьевку. Он был неистощим в рассказах о любезности профессоров и их жен, умеющих вести с посетителем самый интересный разговор, продолжая развешивать на веревке вымытое белье, о воинственном настроении граждан университетского города, не пропускающих ни одного проходящего с музыкой взвода, чтобы в виде мальчишек и лавочной прислуги не пристроиться в хвосте колонны и, попав в левую ногу, не промаршировать вслед за войсками, о знакомой всему городу паре соловых герцога Веймарскаго, причем весь город говорит: «das sind die Ieabellen des Herzogs».
С не меньшим энтузиазмом Борисов на собственной тройке и в собственной пролетке навещал свою Ольховатку. Но как вопреки моим советам он затратил несколько тысяч капитала, остававшегося за покупкой имения, а последний урожай оказался неудовлетворительным, то Борисову пришлось просить Ивана Ал. взять имение в аренду.
Однажды, когда сам Петруша вызвал меня на разговор о его материальных делах, я, упрекнув его в настойчивом желании купить имение, которым он лично управлять не будет, обратил его внимание и на другой вопрос.
— Ты читал, — сказал я, — новый закон, по которому выморочные дворянские имения становятся достоянием местного дворянства? Не забудь, что хотя у тебя есть двоюродная сестра Шеншина, но как Борисов — ты последний в роде. Твоя Ольховатка не наследственна, как Новоселки и Фатьяново, а имение благоприобретенное, которым ты можешь или заживо распорядиться по воле, или же предоставить его судьбе, какой бы ты не желал.
На другой день после этого разговора Борисов, не сказав мне ни слова, поехал в Курск, написавши духовное завещание, и сдал его на хранение нотариусу. В чем оно состояло — я никогда ни у кого не спрашивал.
16-го августа текущаго 82-го года исполнилось 25-летие нашей свадьбы, но так как с одной стороны у молодого поколения наших племянников и племянниц к этому времени кончались каникулы, а у нас в деревне начиналась страда, во время которой все материальные силы обращаются в поле и на гумно, мы решили назначить наш семейный праздник на 29 июня. К этому же дню моя племянница Оля Шеншина, давшая слово Г-ву, просила приехать к нам с тем, чтобы я благословил ее образом.
Так как все на свете относительно, то я воздерживаюсь от описания подробностей нашего сельского праздника, начавшегося с 10-ти часов утра угощением всей деревни пирогами, мясом и водкою. Что такого рода юбилеи не в духе русском — можно заключить из того, что никакие разъяснения не могли изменить убеждения крестьян, будто в. этот день мы решили обвенчаться.
Так как гостей наехало много и преимущественно из Москвы, то, кроме заботы всех принять и устроить, следовало и нам озаботиться о возможной полноте праздника. Так из Курска были привезены музыканты, наводившие своею игрою постоянный страх, что собьются своими инструментами окончательно с дороги и завязнут. На вечер Борисовым и Иваном Ал. сообща был приготовлен сюрприз в виде иллюминации партера перед домом разноцветными фонарями; а затем все общество попросил спуститься по темным сходам на лужайку к реке, где по обеим сторонам плещущего фонтана были расстановлены ряды скамеек. На противоположном берегу реки стал загораться весьма недурной фейерверк; а так как его наготовлено было много, то все общество не без удовольствия после душных комнат провело часа два под открытым небом.
Приехавшая утром племянница встретила меня словами: «дядя, мы проезжали через Орел, и пересказать невозможно, что там делается. Это — тот ливень, о котором говорится по случаю Ноева потопа».
Под конец нашего фейерверка, как бы вторя ему, на юго-востоке заиграли зарницы, но мало-помалу синеватый блеск их перешел в сплошное, дрожащее, багровое зарево, быстро передвигавшееся по восточной окраине неба с юга на север. Пошел дождик.
На другой день мы узнали, что, быть может, в самую минуту нашего фейерверка произошла печальная Кукуевская катастрофа.
Хотя при дальнейших моих переводах древних поэтов судьба не посылала мне снова такого специального сотрудника, каким был Киндлер, тем не менее мне приходится усердно благодарить людей, радовавших меня своим посещением Воробьевки, или же протягивавших руку помощи в моих работах. В самом деле, неудивительно ли, что, начиная с Аполлона Григорьева, я постоянно находил людей, бескорыстно жертвовавших в мою пользу своими досугами? Такими являлись: Федор Евгеньевич Корш, с которым мы проследили всего Ювенала, Овидиёвы «Превращения», Катулла и половину Проперция; Ник. Ник. Страхов, с которым я перечитывал Тибулла и Проперция; Влад. Серг. Соловьев, исполнивший перевод 7-й, 9-й и 10-й книг «Энеиды» Вергилия; Д. И. Нагуевский, снабдивший этот перевод введением и примечаниями; и наконец гр. Ал. В. Олсуфьев, с которым мы просматривали 2-ю часть Проперция и в настоящее время усердно трудимся над переводом такого талантливого капризника, как Марциал. Разве возможно без глубокой признательности помянуть все эти имена?[252].
Зимой, в день Нового Года, почтенный Максим Германович не забыл нас на Плющихе и явился в мундире инспектора серпуховской прогимназии. На мой вопрос: как справляется он с новой должностью и связанною с ней канцелярской работой? — он отвечал, что нимало не тяготился бы делом, если бы родители учеников не терзали его.
— Чем и каким родом? спросил я.
— Своим диким отношением к делу воспитания. Станешь говорить об отсталости мальчика в науке и просить к нему репетитора — говорят: «Боже сохрани, это дорого, а вы его построже». Говоришь, что строгость только увеличит тупость мальчика — отвечают: «а вы все-таки его построже». На днях, говоря с одним евреем об его сыне, я спросил: «неужели всем нужно идти в классическую прогимназию? Ведь вот вы торговый человек. Ну что бы вам сына приспособить к своему делу?» «Пробовал — был ответ — глуп больно. А тут курс кончит, все-таки докторишкой будет». И так будет всегда, пока знание будет давать чин.
На следующую весну в Феврале месяце, бывший в мое время мценским предводителем, Ал. Арк. Тимирязев заехал в Воробьевку с братом своим Н. А., командиром Казанского драгунского полка.
Последний искал себе подъездка, но имевшаяся в Воробьевке верховая ему не понравилась, что не помешало нашему приятному знакомству. Когда затем вернувшемуся из заграницы Борисову пришло время отбывать воинскую повинность, то и он в свою очередь нашел, что ему всего удобнее поступить в полк Николая Аркадьевича, куда он и отправился, снабженный рекомендательными письмами Ал. Арк. и моим. Справедливость требует сказать, что, не смотря на восторг, с каким Петя говорил о своем поступлении в кавалерию, он до глубокой осени оттягивал свое окончательное отправление в Ромны — штаб-квартиру Казанского полка.
В это время, в виду его праздношатания по парку и усадьбе, мне удавалось только на весьма короткий срок усаживать его за переписывание набело под мою диктовку, помнится, Ювенала; и однажды я был поражен тонкостью я верностью объяснения латинского стиха, к которому мальчик совсем не готовился. Такое солидное образование, преимущественно в деле истории, нисколько не мешало мне с некоторого времени замечать в Пете странности, могшие ускользнуть от равнодушных глаз. Так, например, он подходил к одному из скребков у четырех входных дверей в дом и долго и тщательно оскребал совершенно сухие подошвы, на которых кроме крупинок песку ничего быть не могло, и вдруг решительно отворял двери террасы и, спешно проходя через гостиную, столовую, переднюю и сени, выбегал снова на двор и оттуда снова в сад. Когда его спрашивали, зачем он это делает, он отвечал, что он постоянно наблюдает за собственною волей и, выходя на распутье в парке, заранее знает, что ему предстоит идти направо; «но при этом, говорил он, мне приходит в голову вся нелепость такого малодушного предопределения. Так вот же, говорю, докажу, что нет воли кроме моей собственной, и положительно пойду налево. Но не такое же ли это рабство, как и первое? Не хочу продолжать рабское раздумье и, глядь — иду уже направо».
Пуще всех от его эксцентричностей доставалось Ивану Ал., к которому он имел безграничное доверие и привязанность. Едва бывало Ост уляжется после трудового дня на отдых, как Борисов является к нему и, усевшись около его постели, начинает предаваться всевозможным планам и химерам, так что Иван Ал. стал уже на ночь от него запираться на ключ. А так как Ост вставал весьма рано, то однажды застал Борисова у своих дверей лежащим в одной сорочке на голом полу коридора, где вероятно заснул вследствие истомившей его бессонницы. Как бы то ни было, по настоятельному требованию моему он в конце августа уехал в полк, и подковой командир в письме ко мне расточал вольноопределяющемуся Борисову самые лестные похвалы.
Однажды утром слуга доложил мне о приезде чиновника из губернского правления, которого ввел затем в кабинет.
— Я имею поручение собрать статистические сведения на месте и явился в вам исполнить свое поручение, сказал чиновник, указывая на портфель.
— Не угодно ли вам присесть к столу и предлагать ваши вопросы.
— Позвольте мне спрашивать по порядку расписания, сказал молодой человек, выкладывая свои бумаги. — Сколько в вашем имении земли?
— Не знаю и не откуда мне это знать.
— Помилуйте, как это так?
— Если бы вы спросили: сколько по купчей значится земли, я бы справился и тотчас вам ответил. Но таково ли в действительности это количество — никто не знает.
— Сколько у вас лесу?
— Не знаю. Никто не мерил, и в купчей не сказано. Кто говорит 300 десятин, а может быть и меньше.
— Сколько у вас лошадей?
— Не знаю. Описи составлены давно, перемены в числе происходят чуть не ежедневно; и лишь бы лошади были целы, а точное их число никого не интересует.
— Много ли рогатого скота?
— Не знаю по той же причине. Если же вам угодно выставить приблизительные цифры, то я согласен вам их подсказать.
Пришлось по необходимости довольствоваться последнею мерой, и результатом вышло статистическое сведение хотя и бестенденциозное, но зато близко подходящее к действительности. Но через некоторое время оказалось, что и от статистических цифр требуется известная показность и красота, совершенно независимые от действительного положения вещей.
Является становой пристав с просьбою о статистических показаниях урожая в настоящем году. Так как, независимо от конторских книг, я в своей кабинетной книге постоянно записывал число копен и количество обмолоченного зерна, то и послал принести эту книжку.
— Почем у вас стала рожь? спрашивает пристав.
— Вот видите, моей рукой написано: по 11-ти копен кругом.
— Это уж как-то очень мало.
— Я то же думаю, но что же делать.
— Уж очень маловато так записывать.
— А сколько бы вы желали записать?
— Да хоть бы копен по 14-ти.
— Сделайте милость, пишите по 14-ти.
— А сколько стало кругом овса?
— По восьми копен.
— Помилуйте! больно мало, хоть бы по 12-ти.
— Пишите по 12-ти.
— А пшеницы?
— Видите, у меня записано по 12-ти копен.
— Уж очень обидно! надо бы хоть копен по 18-ти.
— Пишите по 18-ти.
Так как я означенных справок не подписывал, то и не мешал приставу выставлять цифры, более соответственные неизвестным мне целям.
Зимою, отпросившись в кратковременный отпуск, Петруша в драгунском мундире приехал к нам в Москву, но увы! с отчаянно отмороженными ушами, так что из опасения антонова огня нужно было послать за медиком.
— Где это ты так отморозил уши? спросил я.
— Да на дворе 25 градусов морозу, а я, ехавши сюда, вышел постоять в фуражке на платформе поезда. Когда стало щипать уши, я сказал себе, что солдат не должен обращать внимания на мороз. Да так их и обморозил.
В августе того же 1883 года мы узнали о смерти долго томившегося Тургенева. Хотя посещавшие его перед смертью люди рассказывали о стеснительных условиях, в которых он находился в последнее время, но так как все эти сведения получались из вторых рук, а я говорю только о несомненно мне известном, то скажу только, что высказываемая им когда-то мечта о женском каблуке, нагнетающем его затылок лицом в грязь, сбылась в переносном значении в самом блистательном виде.
Чтобы спасти для России хотя клочок значительного достояния Тургенева, ушедшего за границу, я не преминул объяснить моей племяннице Галаховой ее наследственных прав на Спасское[253].
Когда летом 84 г. Петруша снова прибыл в отпуск, я спросил его, почему он, прослуживши вместо полугодичного срока почти год, не выходит в отставку? Он отвечал, что готовится из военных наук, для того чтобы в Петербурге держать экзамен на офицера. Выше я говорил об отношениях покойного И. П. Борисова, а через него и Петруши к нашему общему земляку И. П. Новосильцову. Когда в последнее наше свидание я стал жаловаться Новосильцову на странные выходки Петруши, заставляющие опасаться душевного расстройства, — Иван Петрович воскликнул: «Какой вздор! Пришли его ко мне, я его разбраню и подтяну хорошенько, и все пойдет прекрасно».
Мнимо готовясь к офицерскому экзамену, Борисов бывал в Петербурге у Новосильцова, который был к нему бесконечно добр и любезен. В обществе Борисов держал себя безукоризненно; но я в душе мало доверял этой сдержанности.
Однажды, в начале 1885 года, я получил из Петербурга следующую телеграмму:
«Петя болен; разбил у меня окно. Что делать? Новосильцов».
Я отвечал: «Отправить к доктору». Таким образом он был помещен в лечебницу св. Николая, а я назначен опекуном к нему и к его имению.
Два года затем я томился мыслью, что, быть может, несчастный больной не пользуется удобствами, на какие мог бы рассчитывать по своим средствам.
Вследствие этого я искал, расспрашивал подходящего частного заведения, и выбор мой остановился на прекрасной частной лечебнице, по соседству от нашего дома на Плющихе, на хорошо знакомом мне месте дома покойного М. П. Погодина. Оставалось только перевезти больного из Петербурга в Москву, добившись формального увольнения его из больницы. В Петербурге я обратился за советом к тамошнему старожилу, шурину своему М. П. Боткину, который тотчас же объявил, что состоит попечителем больницы св. Николая и немедля готов исполнить мое желание, хотя не может уяснить себе, с какою целью я задумал перемещение больного, материальные условия жизни которого не оставляют желать ничего лучшего. В этом Боткин предложил мне лично удостовериться тотчас же, переехав с ним в лодке через Неву, на левом берегу которой, прямо против его дома, стоит больница св. Николая. В конторе больницы старший доктор, услыхав о моем желании видеть больного, провел нас в большую, светлую и прекрасную комнату, занимаемую Борисовым. На кровати, стоящей посреди комнаты, я увидал больного в прекрасном сером халате, сидящим с опущенною на руки и понуренною головой. Когда доктор остановился против больного, имея Боткина по правую, а меня по левую руку, Борисов не обратил на нас ни малейшего внимания и что-то бормотал, причем доктор сказал: «Читает наизусть латинские стихи».
— Петр Иванович, — сказал доктор, — посмотрите, кто к вам пришел.
При этих словах больной повернул голову налево и, узнав Боткина, слегка улыбнулся и снова понурил голову.
— Петр Иванович, да вы посмотрите направо, — сказал доктор.
Больной поднял голову, и глаза его вспыхнули огнем восторга.
— Дядя Афоня! — крикнул он. Но это был один момент: луч восторга, засиявший в глазах его, видимо, погасал, и, понуря голову, он снова сел на прежнее место, с которого было порывисто вскочил.
Убедившись в превосходном уходе за моим больным, я отказался от мысли перевозить его в Москву.
В январе 1886 года Киндлер приехал нас поздравить с Новым годом в качестве уже окружного инспектора, а когда в начале марта мы собрались в деревню, то услыхали, что он захворал, как оказалось впоследствии, черною оспой, от которой и умер в полном расцвете сил.
Только на днях из несомненного источника я услыхал подробности его смерти. Узнавши, что заболел черною оспой, он перерезал себе горло бритвой; но в госпитале, куда его отправили, черная оспа прошла, а между тем он умер от нанесенной себе раны. Психический мотив этого поступка остался для меня тайной.
В декабре 1887 г. я ездил в Петербург по весьма неприятной тяжбе, свалившейся на меня, как снег на голову, как бы в подтверждение французской пословицы: «qui terre a, guerre а»[254].
И на этот раз наш общий с Полонским приятель, Н. Н. Страхов, снова стал передавать мне сетования Полонского на то, что я, бывая в Петербурге, не только по-прежнему не навещаю его, но даже не бываю по пятницам, на которых бывают все его приятели. Передав Страхову о черной кошке между мною и Тургеневым, пробежавшей по поводу письма Полонского, я просил Ник. Ник. объяснить Полонскому, что мне неловко с оскорблением в душе по-прежнему чистосердечно жать ему руку. Последовало со стороны Полонского объяснение, что никогда он не писал слов в приписанном им Тургеневым смысле[255]. При этом Яков Петрович сказал: «Впрочем, я мог бы много с своей стороны выставить таких тургеневских выходок».
Я не полюбопытствовал спросить, — каких; и сердечно радуюсь восстановлению дружеских отношений с человеком, на которого с университетской скамьи привык смотреть, как на брата.
Между тем в Борисовской Ольховатке пришлось энергически приступить к перестройке усадьбы, которая по причине ветхости не могла служить своим целям, а 25 марта 1888 г. пришла телеграмма о кончине Пети.
Мих. Петр. Боткин, взявший на себя хлопоты похорон Борисова, писал:
«Смерть сняла с него все, наложенное на его черты недугом: в гробу лежал прекрасный интеллигентный юноша».
Приходилось развязывать узел опеки, и по вскрытии духовной Борисова оказалось, что он все свое состояние завещал мне.
Мне бы следовало закончить свои воспоминания юбилейными днями 28 и 29 января 1889 года. Но об этом так много было говорено в разных изданиях, что я не надеюсь сообщить по этому случаю что-либо новое читателю, который и без того может счесть мои воспоминания слишком подробными.
От составителя
Эта книга представляет собой второй том издания: «А. Фет. Стихотворения. М., Изд. „Правда“, 1982» (по техническим причинам двухтомник выходит двумя отдельными книгами).
Мемуары Фета — существенная часть его литературного наследства. Охватывая почти всю жизнь поэта, они (при сравнительно малой разработанности фетовского эпистолярного наследия) представляют собой первостепенной важности биографический источник. И если они ни разу не переиздавались, то тому есть свои причины: как технические (общий объем этих мемуаров составляет почти 1500 страниц), так и иные — например, текстологические (включая в свои мемуарные книги множество писем к себе — Тургенева, Толстого и др., - Фет нередко искажал их текст ради своих целей). Фетовские мемуары давно стали библиографической редкостью; между тем в настоящее время — при явственно обозначившемся возрождении широкого читательского интереса к этому поэту — ощущается настоятельная потребность в знакомстве с его мемуарной прозой. (Именно такой потребностью продиктовано появление фрагментов фетовских воспоминаний в недавнем издании: «А. А. Фет. Стихотворения. Проза. Воронеж, 1978».)
Настоящая публикация ставит своей целью познакомить широкого читателя со значительной частью воспоминаний поэта (научное издание полного текста мемуаров Фета — дело будущего). Составителю пришлось решать две проблемы: сокращений и композиции. Сокращения были сделаны прежде всего за счет изъятия всех писем Тургенева, Толстого и др., включенных Фетом в текст мемуаров; дальнейшее сокращение производилось с учетом большей или меньшей значимости того или иного жизненного эпизода в общем русле воспоминаний (разумеется, в подобной оценке невозможно избежать субъективности, но иного выхода не было — с тем, чтобы уложиться в объем настоящей книги).
Проблема композиции решалась следующим образом. Как известно, Фет приступил к своим мемуарам в начале 1860-х годов и начал с ближайших «гвардейских воспоминаний», то есть со времени службы в гвардии и знакомства с петербургским кругом литераторов (1853–1856). В дальнейшем он довел свои воспоминания до 1889 года и выпустил их в свет: «Мои воспоминания. А. Фет. Ч. I–II. М., 1890». Эта книга была посвящена второй половине жизни Фета; мемуарную книгу, посвященную первой половине, Фет готовил в конце своей жизни — она была опубликована уже после его смерти: «Ранние годы моей жизни А. Фета. М., 1893». В обеих книгах текст разбит на нумерованные главы. Поскольку в настоящем издании текст мемуаров сильно фрагментирован (причем наряду с сокращениями целых глав есть множество фрагментов из отдельных глав), то, дабы придать книге по возможности большее единство, сделаны два отступления от авторского построения: а) за композиционную единицу принята не глава, а условная «часть»; б) «части» расположены в прямой хронологической последовательности — таким образом, сначала идут «Ранние годы моей жизни», а затем «Мои воспоминания». При всей условности «частей» границы, их разделяющие, не условны: это события, которые сам Фет признавал важнейшими вехами своей биографии. В итоге получается следующая композиция: «Ранние годы моей жизни»: I — детство в Новоселках; II — пансион в Верро; III — Московский университет; IV — кирасирская служба; «Мои воспоминания»: I — служба в гвардии и общение с петербургским кругом литераторов; II — женитьба, отставка, жизнь в Москве и Новоселках; III — «Степановский» период; IV — «Воробьевский» период. Таким образом, читатель получает книгу, дающую последовательную картину всей жизнь Фета (внутри текста угловые скобки обозначают места сокращений, а черта — границу между главами).
Обе мемуарные книги Фета содержат предисловия; остановимся на их наиболее существенных моментах. Получив известие о том, что Фет приступил к воспоминаниям, Лев Толстой писал ему 23 января 1865 года: «Мне страшно хочется прочесть, но страшно боюсь, что вы многим значительным пренебрегли и многим незначительным увлеклись». Действительно, фетовские мемуары наполнены повседневной обыденностью, житейскими мелочами; может показаться, что автор не в состоянии с ними справиться, не в силах отделить «значительное» от «незначительного». Однако в этой уравненности того и другого состоял принцип Фета-мемуариста: он стремился фотографически точно запечатлеть ушедший «жизненный поток». Последнее выражение встречается в предисловии к «Моим воспоминаниям» — и там же мемуарист предоставляет читателю самому разбираться в воспроизведенном потоке жизни: «Я уверен, что в моих воспоминаниях, как и во всякой другой вещи, каждый будет видеть то, что покажется ему наиболее характерным».
Мемуары и лирика Фета, поставленные рядом, раскрывают как бы «два лика» этого человека, в котором были резко разграничены сторона «поэтическая» и сторона «практическая», «интуиция» и «рассудок». В письме к С. Толстой (жене А. К. Толстого) от 10 февраля 1880 года Фет говорил: «Несмотря на исключительно интуитивный характер моих поэтических приемов, школа жизни, державшая меня все время в ежовых рукавицах, развила во мне до крайности рефлексию. В жизни я не позволяю себе ступить шагу необдуманно…» В мемуарах Фет рассказывает именно о своей «школе жизни»; но поскольку мемуары принадлежали известному поэту, то «при первом их появлении (говорит Фет в предисловии к „Моим воспоминаниям“) кругом меня раздались вопросы — не будут ли они последовательным раскрытием тайников, из которых появлялись мои стихотворения? Подобными надеждами затрагивался вопрос, бывший в свое время причиною стольких споров моих с Тургеневым и окончательно решенный мною для себя в том же смысле, в каком Лермонтов говорит»:
А в том, что как-то чудно Лежит в сердечной глубине, — Высказываться трудно.Это любимое свое изречение (знаменательно, что, неоднократно в разное время цитируя его, Фет неизменно приписывал его Лермонтову — на самом деле это строки из стихотворения Огарева «Исповедь») Фет приводит как аргумент того, что повествование о «жизненной прозе» не место для раскрытия «тайников поэзии». Однако мемуарист не оставляет без ответа вопрос о побудительных мотивах своих воспоминаний — в том же предисловии он пишет: «Если не таково побуждение, заставившее меня на 67-м году оглядываться на прошлую жизнь, то нельзя ли поискать других, более существенных? На одно из них указывает Марциал»:
Прим Антоний, блажен на веку своем безмятежном, Прошлых пятнадцать уже Олимпиад сосчитал. И на минувшие дни озираясь в мирные годы, Леты недальней уже он не пугается вод. В воспоминаньях его неприятного, тяжкого дня нет, Чтоб не хотелось о нем вспомнить, такого и нет. Добрый муж у себя бытия объем расширяет: Дважды живешь, если жизнь можешь былую вкушать.«Стихи эти дороги мне по своему мотиву, без всякого применения ко мне их подробностей. Жизнь моя далеко не представляет безмятежности, о которой говорит римский поэт, и мои воспоминания мне приятны скорее потому, что, по словам Лермонтова:»
И как-то весело и больно Тревожить язвы старых ран.Эта апелляция к двум поэтам — древнему и новому — при объяснении побудительных мотивов воспоминаний заставляет увидеть, что, во-первых, создание мемуаров было для Фета не «стенографическим отчетом», а настоящим творческим актом, и, во-вторых, что в изображенном им «жизненном потоке» немало подлинно поэтического. И пусть Фет-мемуарист не раскрывает (за несколькими исключениями) биографических «тайников» своих стихотворений — зато из его мемуаров мы узнаем саму действительность, взрастившую поэта, который был призван «подметить много новых черт в повседневном и обыденном» (по словам А. Григорьева).
После лермонтовских строк о «язвах старых ран» Фет продолжает в предисловии к «Моим воспоминаниям»: «Быть может, этого чувства достаточно было бы заставить меня пробегать сызнова всю жизнь, но я еще не уверен, нашел ли бы я в нем одном выдержку, необходимую при таком труде. Когда последняя грань так недалека, то при известном духовном настроении самым главным и настойчивым вопросом является: что же значит эта долголетняя жизнь? Неужели, спускаясь с первого звена до последнего по непрерывной цепи причинности, она не приносит никакого высшего урока? Не дает ли всякая человеческая жизнь, при внимательном обзоре, наглядного ответа на один из капитальнейших вопросов — о свободе воли? Вопрос этот связан с другим, а именно: что является почином в природе: разум или воля?» Казалось бы, мемуары Фета бесконечно далеки от какой бы то ни было «философичности» — сам автор не раз высказывается в таком духе: «Я не философствую, а припоминаю и рассказываю». Однако предисловие свидетельствует, что мемуариста в его работе поддерживала «сверхзадача» — найти в прожитой жизни подтверждение неким фундаментальным законам бытия. Фет находит в своей жизни «высший урок» и сообщает его читателю в конце предисловия к «Моим воспоминаниям»: «Только озирая обе половины моей жизни, можно убедиться, что в первой судьба с каждым шагом лишала меня последовательно всего, что казалось моим неотъемлемым достоянием. В воспроизводимой мною в настоящее время половине излагаются, напротив, те сокровенные пути, которыми судьбе угодно было самым настойчивым и неожиданным образом привести меня не только к обладанию утраченным именем, но и связанным с ним достоянием — до самых изумительных подробностей. Не мудрствуя лукаво, я строго различаю деятельность свободного человека, нашедшего после долголетних поисков в саду клад, — от свободы другого, не помышлявшего ни о каком кладе и вдруг открывшего его под корнем дерева, вывороченного бурей. Мысль о подчиненности нашей воли другой, высшей, до того мне дорога, что я не знаю духовного наслаждения превыше созерцания ее на жизненном потоке. Конечно, ничья жизнь не может быть более, чем моя, мне известна до мельчайших подробностей. И вот причина, побудившая меня предпринять труд, представляемый ныне на суд читателя».
Подготовляя книгу «Ранние годы моей жизни», Фет не стал повторять в ее предисловии мысли, высказанные в предисловии к «Моим воспоминаниям», полагая, очевидно, что все сказанное в полной мере относится и к новым мемуарам. Из небольшого, в одну страницу, предисловия к «Ранним годам» заслуживает внимания следующее замечание: «…в деле критики литературного интереса едва ли можно отыскать более надежного судью, чем гр. Л. Н. Толстой. Он-то, когда я перед ним заговорил, по окончании моих гвардейских воспоминаний, о намерении начать мой рассказ с детства, сказал: „Это будет гораздо интереснее, позднейших воспоминаний, так как поведет в среду малоизвестную и невозвратно исчезнувшую“.
Сердечно радуюсь, что, наконец, удалось мне перечитать ранние страницы моей жизни, передать их содержание с полным, как мне кажется, беспристрастием. Я нигде не украшаю родной среды, но считаю низостью всякую на нее клевету в угоду кому бы то ни было».
А. Тархов
Примечания
1
Из исследовательских работ о Фете советского времени следует особенно отметить ценные биографические разыскания Г. П. Блока, основанные на новых архивных материалах, и многочисленные работы видного фетоведа Б. Я. Бухштаба.
(обратно)2
А. Фет. Ранние годы моей жизни. М., 1893, с. 134, 32, 34.
(обратно)3
Там же, с. 115.
(обратно)4
А. Фет. Ранние годы моей жизни, с. 136, 140, 141, 151, 149, 169. Подробнее о «полудетском романе» Фета на с. 163–164, 169–270, 172 и 174–176.
(обратно)5
«Отечественные записки», 1840, _ 12, отд. VI, с. 40–42; Письмо Белинского В. П. Боткину от 26 декабря 1840 г. — Полн. собр. соч. в 13-ти томах, т. XI. М., с. 584.
(обратно)6
В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, с. 636–637; т. VIII, с. 94.
(обратно)7
А. Фет. Ранние годы моей жизни, с. 341, 318; «Фет в переписке с И. П. Борисовым». — «Литературная мысль», вып. I. Пг., «Мысль», 1922, с. 214, 227–228.
(обратно)8
«Литературная мысль», вып. I, с. 216, 220.
(обратно)9
См. об этом издании: Д. Благой. Из прошлого русской литературы. Тургенев — редактор Фета. — «Печать и революция», 1923, кн. 3, с. 45–64.
(обратно)10
Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем в 12-ти томах, т. 9. М., 1950, с. 279.
(обратно)11
«Т. А. Кузминская об А. А. Фете». Публикация Н. П. Лузина. — «Русская литература», 1968, _ 2, с. 174.
(обратно)12
К. Чуковский. Люди и книги шестидесятых годов. Л., 1934, с. 272.
(обратно)13
М. Лавренский (Д. Л. Михаловский). Шекспир в переводе Г. Фета. — «Современник», 1859, _ 6, с. 255–258. Статья ошибочно приписывалась Добролюбову, но его редакционное участие в ней, возможно, имело место, о чем, видимо, знал и Фет. — См.: Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч. в 6-ти томах, т. 2. М., 1935, с. 722.
(обратно)14
В. П. Боткин. Соч., т. П. СПб, 1891, с. 368.
(обратно)15
Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XIV. М., с. 322–323.
(обратно)16
Там же, т. IV, с. 960.
(обратно)17
М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 5. М., 1966, с. 383.
(обратно)18
В. Булгаков. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1960, с. 97.
(обратно)19
М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 5, с. 383, 384.
(обратно)20
Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 5. М. — Л., 1962, с. 28.
(обратно)21
Письмо от 23 февраля 1860 г. — Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 60, с. 324.
(обратно)22
Письмо от 21 мая 1861 г. — И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах; Письма, т. IV, с. 240.
(обратно)23
А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, с. 210.
(обратно)24
А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, с. 190.
(обратно)25
А. Григорович. История 13-го драгунского… полка, т. I. СПб., 1912, с. 223.
(обратно)26
А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, с. 122.
(обратно)27
Там же, с. 274–276.
(обратно)28
О происхождении Фета существует целая литература. Сводку ее см. в книге: В. С. Фед_и_на. А. А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике. Пг., 1915, с. 33–46. С того времени появились новые данные, окончательно устанавливающие истинное положение вещей.
(обратно)29
Неопубликованное письмо Фета хранится в рукописном отделе ГБЛ (ф. 315, оп. 2, ед. хр. 22).
(обратно)30
И. Э. Грабарь. Моя жизнь. Автобиография. М.-Л., 1937, с. 252–253.
(обратно)31
Г. Блок. Рождение поэта, с. 17.
(обратно)32
А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, с. 282–283.
(обратно)33
Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 62, с. 63.
(обратно)34
«Т. А. Кузминская о А. А. Фете», с. 171; «А. А. Фет». Биографический очерк Н. Н. Страхова. — А. А. Фет. Полн. собр. стихотворений, т. 1. СПб., 1912, с. 9.
(обратно)35
К сожалению, в отличие от «тютчевианы» эта «фетовиана» до нас почти не дошла. Сохранились лишь три его «изречения», записанные В. С. Соловьевым. Вот одно из них: «Ужасно трудно переводить с латинского на русский. В латинском слова все короткие, а в русском длинные, да еще одним-то словом не всегда и обойдешься. Например, по-латыни стоит asinys (осел. — Д. Б.), а по-русски пиши: Е-го Вы-со-ко-пре-вос-хо-ди-тель-ство Гос-подин Обер Про-ку-рор Свя-тей-ше-го Си-но-да» (Вл. Соловьев, Письма, Пг., «Время», 1923, с. 112).
(обратно)36
Письмо от 15 февраля 1860 г. — И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. IV; с. 36.
(обратно)37
Письма от 7 ноября 1866 г., 24 июня 1874 г., 30 августа 1869 г. — Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 61, с. 149, 219; т. 62, с. 96.
(обратно)38
А. Фет, Ранние годы моей жизни, с. 543; вып. I, с. 218, 219.
(обратно)39
«Т. А. Кузминская об А. А. Фете», с. 172.
(обратно)40
«Литературная мысль», вып. I, с. 221.
(обратно)41
А. Фет. О стихотворениях Ф. Тютчева. — «Русское слово», 1859, февраль, с. 75.
(обратно)42
А. Фет. О стихотворениях Ф. Тютчева. — «Русское слово», 1859, февраль, с. 65.
(обратно)43
А. Фет. О стихотворениях Ф. Тютчева, с. 64.
(обратно)44
Там же, с. 65.
(обратно)45
А. Фет. О стихотворениях Ф. Тютчева, с. 64–65.
(обратно)46
Письмо от 28 июня 1867 г. — Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 61, с. 172.
(обратно)47
Письмо от 25 августа 1891 г.
(обратно)48
Письмо от 12 ноября 1890 г.
(обратно)49
Подробнее см.: В. С. Фед_и_на. А. А. Фет (Шеншин), с. 47–53.
(обратно)50
Н. Страхов. Заметки о Пушкине… с. 224.
(обратно)51
Валерий Брюсов. Дневники. М., 1927, с. 112.
(обратно)52
А. Фет. Письма из деревни. — «Русский вестник», 1863, январь, с. 444.
(обратно)53
Н. Страхов. Заметки о Пушкине… с. 228–229.
(обратно)54
Андрей Белый. Начало века. М.-Л., 1933, с. 28.
(обратно)55
Владимир Соколов. Снег в сентябре. М., «Советская Россия», 1968.
(обратно)56
Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XII, с. 695.
(обратно)57
Происхождение Фета — самое темное место его биографии. Достоверные факты таковы. С начала 1820 года в Германии, в Дармштадте, лечился 44-летний русский отставной гвардеец Афанасий Неофитович Шеншин. В доме местного обер-кригскомиссара Карла Беккера он познакомился с его дочерью, 22-летней Шарлоттой, бывшей замужем за мелким чиновником Иоганном Фетом и имевшей дочь Каролину. В сентябре того же года Шарлотта, бросив семью, бежала с Шеншиным в Россию и поселилась в его имении Новоселки (Мценского уезда Орловской губернии). Здесь, между 29 октября и 29 ноября 1820 года, у нее родился сын, названный Афанасием. В сентябре 1822 года она была обвенчана с Шеншиным по православному обряду и под именем Елизаветы Петровны Шеншиной прожила в Новоселках до конца жизни.
Неизвестна не только точная дата рождения Афанасия Фета (сам Фет называл 23 ноября, но в документах встречаются и 29 октября и 29 ноября) — неизвестно, кто был отцом будущего поэта. Что им не был А. Н. Шеншин — это с очевидностью явствует из разысканной в наше время (исследователем Фета Г. П. Блоком) переписки Шеншиных и Беккеров; но из того же источника можно сделать вывод, что И, Фёт не считал Афанасия своим сыном. В метрических документах ребенок был записан сыном А. Н. Шеншина (что было явным подлогом) и до 14 лет жил в Новоселках, «считаясь несомненным Афанасием Шеншиным»; однако затем с ним начались злоключения, сказавшиеся не только на его судьбе, но и на складе его характера. В одном из поздних своих писем Фет назвал свою жизнь «самым сложным романом».
Трудно решить, знал ли сам поэт все подлинные обстоятельства своего происхождения; во всяком случае, версия, проводимая им в воспоминаниях, умалчивает о многом, что известно на сегодня из специальной литературы о «загадке происхождения Фета»: Н. Черногубов. Происхождение А. А. Фета. — «Русский архив», 1900, № 8; В. Н. Семенкович. О происхождении Фета. — «Русский архив», 1901, № 1; А. Григорович. К биографии А. А. Фета (Шеншина). — «Русская старина», 1904, № 1. В. С. Феди́на. О происхождении и смерти Фета. — В его кн.: А. А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике. Пг., 1915; Г. П. Блок. Летопись жизни А. А. Фета. — Неизданная работа, хранится в Рукописном отделе Пушкинского дома; Б. Я. Бухштаб. А. А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1974.
(обратно)58
Здесь в смысле: воздействие.
(обратно)59
Траурный кортеж с телом императора Александра I (умершего в ноябре 1825 года в Таганроге).
(обратно)60
Юхновцы — выходцы из Юхновского уезда Смоленской губернии.
(обратно)61
Кроме Афанасия, у Елизаветы Петровны (1798–1844) и Афанасия Неофитовича (1775–1854) Шеншиных выросло в усадьбе Новоселки еще четверо детей: Любовь (род. в 1825), Василий (род. в 1827), Надежда (род. в 1832) и Петр (род. в 1834).
(обратно)62
Убитый под Рождество боров (прим. А. Фета).
(обратно)63
Строки из поэмы Пушкина «Домик в Коломне».
(обратно)64
Смолянки — воспитанницы Смольного института благородных девиц в Петербурге.
(обратно)65
Клепер — порода низкорослых лошадей.
(обратно)66
«Это написано ямбами» (нем.).
(обратно)67
«Подлежащий восхвалению», «подлежащая восхвалению» (лат.).
(обратно)68
Архилай, Аргизелай, Менелай, Лай — герои древнегреческих мифов.
(обратно)69
«Мышь» (лат.) — слово, склоняющееся в латинском языке особенно причудливым образом.
(обратно)70
Гораций и Курьяций: три брата римского патрицианского рода Горациев, победившие трех братьев Куриациев из латинского города Альба-Лонга — герои предания из эпохи возвышения Рима (7 в. до н. э.).
(обратно)71
«Освобожденный Иерусалим» — эпическая поэма итальянского поэта Торквато Тассо (1544–1595), переведенная русским поэтом Семеном Егоровичем Раичем (1792–1855).
(обратно)72
Ворок (варок) — загон, стойло.
(обратно)73
«Журналь де деба» (фр.) — французская литературно-политическая газета.
(обратно)74
Впоследствии я слыхал, что эти Лыковы происходили от князей Лыковых (прим. А. Фета).
(обратно)75
«восхваляю» (лат.).
(обратно)76
«Это искусство говорить и писать правильно» (фр.).
(обратно)77
«По громкому смеху…» (лат.).
(обратно)78
«Жуков» — марка табака.
(обратно)79
«Капитон, идите сюда» (фр.).
(обратно)80
«Сдаточные» — наемные лошади.
(обратно)81
Кнастер — сорт табака.
(обратно)82
Рекреация — перемена между уроками (от лат. recreatio — восстановление, отдых).
(обратно)83
Туторство — здесь покровительство (от лат. tutor — защитник).
(обратно)84
Осенью 1834 года орловские губернские власти (очевидно, вследствие какого-то доноса) стали наводить справки о рождении Афанасия Шеншина и браке его родителей. А. Н. Шеншин поспешил увезти Афанасия из Новоселок и поместил его в частный пансион немецкого педагога Крюммера в лифляндском городке Верро (ныне Выру Эстонской ССР). Опасаясь, чтобы Афанасий не попал в число «незаконнорожденных», Елизавета Петровна и Афанасий Неофитович усердно хлопотали перед дармштадтскими родственниками, чтобы ребенок был признан «сыном умершего асессора Фёта». Это им удалось — о чем вскоре был поставлен в известность и сам Афанасий. Мальчик получил «честную фамилию», ставшую для него источником бесчестья и несчастья. Превращение из русского столбового дворянина в немца-разночинца лишало Фета не только социального самоощущения, дворянских привилегий, права быть помещиком, возможности наследовать родовое имение Шеншиных. Он лишался права называть себя русским; под документами он должен был подписываться: «К сему иностранец Афанасий Фёт руку приложил» (Б. Я. Бухштаб. А. А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1974, стр. 8–9). Отметим сразу и еще одно «превращение» фамилии Афанасия Шеншина. Когда он стал печататься как поэт, то впервые полностью его фамилия появилась в 1842 году (в журнале «Отечественные записки») — и здесь буква «ё» была заменена на «е» Возможно, это была ошибка наборщика, но поэт принял эту «поправку» — и отныне фамилия немецкого мещанина как бы превращалась в псевдоним русского поэта.
(обратно)85
Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807) — поэт и драматург. Акимов Иван Иванович — второстепенный литератор вт. пол. XVIII века.
(обратно)86
Воейков Александр Федорович (1779–1839) — поэт, журналист и критик. Наибольшей известностью пользовалось его рукописное сатирическое произведение в стихах — «Дом сумасшедших».
(обратно)87
Фольварк — поместье с хозяйственными постройками.
(обратно)88
Архалук — короткая мужская одежда: род полукафтана, застегивающегося крючками.
(обратно)89
Погодин Михаил Петрович (1800–1875) — историк, литератор и журналист. Будучи профессором русской истории Московского университета, содержал частный пансион, в котором готовил воспитанников для поступления в университет. В погодинский пансион Фет поступил в начале февраля 1838 года, проведя в Верро безвыездно три года (с начала 1835 по конец 1837 года).
(обратно)90
Введенский Иринарх Иванович (1813–1855) — педагог, литератор, переводчик, журналист. История взаимоотношений Фета с Введенским подробно рассказана в книге Г. П. Блока «Рождение поэта. Повесть о молодости Фета» (Л., 1924).
(обратно)91
Катехизис — книга, излагающая в популярной форме догматы религиозного учения.
(обратно)92
Крюков Дмитрий Львович (1809–1845) — профессор римской словесности в Московском университете.
(обратно)93
Давыдов Иван Иванович (1794–1863) — профессор русской словесности, декан словесного факультета Московского университета.
(обратно)94
Медюков — товарищ Фета по пансиону.
(обратно)95
Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) — ближайший друг студенческих лет Фета, впоследствии известный поэт и критик. Григорьеву мы обязаны исключительно ценными свидетельствами о духовном облике молодого Фета, которые мы находим в рассказах «Офелия», «Человек будущего», «Мое знакомство с Виталиным» и «Листки из рукописи скитающегося софиста»; с фетовскими мемуарами небезынтересно сравнить совершенно иного типа воспоминания Григорьева (новейшую публикацию всех этих материалов см. в изд.: Аполлон Григорьев. Воспоминания. Л., 1980).
(обратно)96
О характере стихотворений, заполнявших «желтую тетрадку» начинающего поэта, можно судить по следующим словам Фета («Ранние годы моей жизни», стр. 143; эпизод относится ко времени первого приезда Фета в Новоселки на рождественские каникулы — т. е. к концу 1838 года): «В Новоселках я нашел в отцовском флигеле вместо француза Каро классически образованного немца Фритче, выписанного отцом, вероятно, при помощи Крюммера для 12-летнего брата Васи. Этому Фритче я старался буквально переводить свои стихотворения, отличавшиеся в то время, вероятно под влиянием Мочалова, самым отчаянным пессимизмом и трагизмом. Не удивляюсь в настоящее время тому, что добродушный немец советовал мне не читать этих стихов матери, которую воззвания к кинжалу, как к единственному прибежищу, не могли обрадовать».
(обратно)97
Переезд Фета в дом Григорьевых состоялся в начале 1839 года; здесь поэт провел все свои студенческие годы — с 1839 по 1844. «Дом Григорьевых был истинного колыбелью моего умственного „я“», — пишет Фет в мемуарах, имея в виду не только свое внутреннее — духовное и творческое — становление, но и то обстоятельство, что григорьевский дом стал местом сбора «мыслящего студенческого кружка». Среди постоянных гостей здесь бывал Я. Полонский, подружившийся и с Фетом и с Григорьевым. Так что можно сказать, что под крышей дома на Малой Полянке набирал силу авангард нового поэтического поколения — и остается только сожалеть, что сам дом (который мог бы быть не только колоритным «музеем сороковых годов», но и своеобразным «домом поэтов») ныне не существует. Изображения дома и его интерьеров см. в изданиях: Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии. П/р В. Княжнина. Пг., 1917; А. Григорьев. Воспоминания. М.-Л., 1930; Аполлон Григорьев. Воспоминания. Л., 1980.
(обратно)98
«Как вы себя чувствуете? Да, месье. Пей чай» (искаж. фр.).
(обратно)99
Ипокрена (букв. «источник коня» — греч.) — горный ключ в Беотии; согласно др. — греч. преданию, появился от удара копыта коня Пегаса и обладал свойством вдохновлять поэтов.
(обратно)100
«Собор Парижской богоматери» (1831) — роман В. Гюго.
(обратно)101
Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807–1873) — поэт. Имел шумный, но кратковременный успех во второй половине 1830-х годов. Оказал несомненное воздействие на становление фетовской поэзии (см.: К. А. Шимкевич. Бенедиктов, Некрасов, Фет. — «Поэтика», V, Л., 1929).
(обратно)102
«Бывают дураки простые, дураки важные и дураки сверхтонкие» (фр.).
(обратно)103
Полонский Яков Петрович (1819–1898) — поэт, литератор, литературно-общественный деятель. Об истории полувековых отношений двух поэтов см. статью: Ю. А. Никольский. История одной дружбы. Фет и Полонский. — «Русская мысль», 1917, № 5. Полонский оставил воспоминания о своих студенческих временах («Ежемесячные литературные приложения к „Ниве“», 1898, № 12).
(обратно)104
«Вы заставляете слишком много говорить о себе, вам нужно стушеваться» (фр.).
(обратно)105
Стихотворение Ф. Тютчева «День и ночь».
(обратно)106
Роберт, Алиса, Бертрам — герои оперы Д. Мейербера «Роберт-дьявол»; Бек, Нейрейтер, Ферзинг — солисты немецкой оперной труппы.
(обратно)107
«Ты нежный цветок!» (нем.)
(обратно)108
«Отправляться надо от того места, где стоишь» (фр.).
(обратно)109
Первый поэтический сборник Фета «Лирический Пантеон» (он был помечен лишь инициалами «А. Ф.») вышел в свет в ноябре 1840 года. «Одобрительной» была рецензия П. Кудрявцева («Отечественные записки», 1840, № 12) и глумливо-издевательским — отзыв «Барона Брамбеуса» (О. Сенковского) в «Библиотеке для чтения» (1841, № 1).
(обратно)110
Описываемый приезд Фета в Новоселки относится к лету 1840 года — когда он, получив на экзамене по политической экономии единицу, остался второй год на втором курсе.
(обратно)111
Грайворонка — имение Шеншиных в Землянском уезде Воронежской губернии. В мемуарах («Ранние годы моей жизни», стр. 142) Фет сообщает, что в конце 1838 года «87-летний дед Василий Петрович скончался, и ближайшие наследники полюбовно разделили оставшееся состояние следующим образом. Отцу досталась Грайворонка, Землянского уезда, с конным заводом; дяде Петру Неофитовичу село Клейменово и деревня Долгое Мценского уезда, а дяде Ивану Неофитовичу вторая половина родового имения Доброй Воды и дом в Орле». Впоследствии Грайворонка перешла к брату Фета Петру Шеншину, а затем стала владением самого Фета.
(обратно)112
Шевырев Степан Петрович (1806–1864) — поэт, переводчик, историк литературы; способствовал становлению поэтического дарования молодого Фета, помогал публикации его Стихотворений начала 1840-х годов.
(обратно)113
«Шифр» — царский вензель, получаемый в виде награды, знака милости.
(обратно)114
Речь идет о летних каникулах 1841 года. Фет сдал экзамены и благополучно перешел на третий курс. Его радость была усилена приездом в Москву сестры Лины с дядей Эрнстом Беккером. В воспоминаниях («Ранние годы моей жизни», стр. 198–199) Фет пишет: «Сестра очень хорошо понимала, что мне было не до разговоров, когда я просиживал дни и ночи напролет, готовясь к последнему экзамену политической экономии. Но вот экзамен сдан с пятеркой, и доехав по Ленивке до поворота на Каменный мост, я инстинктивно зашел в винный погреб Гревсмиля и захватил бутылку рейнвейна. Дома я, конечно, зашел с радостною вестью к сестре, поджидавшей окончания экзаменов, чтобы уехать с дядею Эрнстом в его походной коляске в Новоселки. — Ура! — воскликнул я, входя и обнимая сестру: — страшный экзамен сдан. Затем, выпив с жадностью откупоренный рейнвейн, я тут же среди дня повалился на сестрину постель и в ту же минуту заснул мертвым сном. Солнце было уже низко, когда я проснулся. Когда сестра, услыша мое пробуждение, вошла в комнату, она воскликнула: „Боже, что с тобой? У тебя лицо в крови“. Оказалось, что я, не обращая ни на что внимания, повалился на постель, на подушке которой лежала сестрина мантилья красною шелковою подкладкой кверху. Усталый и измученный, я обильно проступившею испариной неизгладимо отпечатал свой силуэт на мантилье, а ее краску — на половине своего лица. Но на радостях было не до мантильи. На другой день Лина уехала с дядей Эрнстом в Новоселки…»
(обратно)115
Боткин Василий Петрович (1810–1869) — литератор и критик «эстетического направления»; автор одной из лучших статей о поэзии Фета (1857 г.). В 1850-1860-е годы — близкий друг и родственник Фета (поэт был женат на его сестре Марии Петровне).
(обратно)116
Герцен Александр Иванович (1812–1870) — писатель, философ, публицист, деятель освободительного движения.
(обратно)117
Цикл «Снега» впервые появился в журнале «Москвитянин» (1842, № 1).
(обратно)118
Глинка Федор Николаевич (1786–1880) — поэт, драматург, прозаик. Жил в Москве с 1835 по 1853 (после отбытия ссылки как участник Союза благоденствия). Глинка Авдотья Павловна (1795–1863) — поэтесса.
(обратно)119
Дмитриев Михаил Александрович (1796–1866) — поэт, критик, мемуарист.
(обратно)120
Шаховской Александр Александрович, князь (1777–1846) — драматург и театральный деятель.
(обратно)121
«Сто русских литераторов» — популярные хрестоматии русской литературы, выпущенные в 1839–1845 гг. (тремя сборниками) издателем А. Ф. Смирдиным.
(обратно)122
Павлова Каролина Карловна (1807–1893) — поэтесса. Павлов Николай Филиппович (1803–1864) — прозаик, переводчик, критик, публицист.
(обратно)123
Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852) — исторический романист.
(обратно)124
Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) — профессор всеобщей истории Московского университета.
(обратно)125
Калайдович Николай Константинович (1820–1854) — правовед.
(обратно)126
Кирша Данилов — предполагаемый составитель сборника русских народных песен (XVIII век).
(обратно)127
Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) — поэт, филолог, идеолог славянофильства. Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) — поэт и публицист славянофильского направления.
(обратно)128
Весна 1842 года.
(обратно)129
Отъезд А. Григорьева в Петербург состоялся в конце февраля 1844 года.
(обратно)130
Фет закончил курс в университете летом 1844 года.
(обратно)131
Матвеев Павел Васильевич — двоюродный брат Афанасия Неофитовича Шеншина, живший по соседству в Мценском уезде. С одним из пятерых сыновей Матвеева, Александром Павловичем, студентом-медиком, Каролина Фёт познакомилась летом 1841 года во время пребывания в Новоселках («Ранние годы моей жизни», стр. 202–203).
(обратно)132
Это стихотворение Фета (впервые опубликовано в 1842 г.) было положено на музыку А. Варламовым и в короткое время обрело необычайную популярность (стало «песней, сделавшейся почти народною», по словам современника).
(обратно)133
Жизнь сестры поэта Каролины (1819–1877) сложилась в замужестве несчастливо. После нескольких лет совместной жизни ее муж сошелся с другой женщиной; Каролина уехала с сыном за границу, где жила долгие годы, формально оставаясь в браке с Матвеевым. Около 1875 года она вернулась к мужу (после смерти его второй жены). Фет, посетивший в это время супругов Матвеевых в Киеве, сообщает («Мои воспоминания», ч. II, стр. 285), что сестра страдала манией преследования. Вскоре после этого Каролина Петровна Матвеева умерла (по семейному преданию Беккеров, сообщаемому Г. Блоком в «Летописи…», она была убита).
(обратно)134
Кирасиры — род тяжелой кавалерии (кираса — металлический панцирь на всаднике). В Херсонской губернии располагались соединения резервной кавалерии, к которой относился и кирасирский Военного Ордена полк. Материалы по этому периоду военной службы Фета см. в изд.: А. Григорович. История 13-го драгунского Военного Ордена… полка. Том II. Спб., 1912.
(обратно)135
Кампамент — военные учения.
(обратно)136
О поэте-любителе Алексее Федоровиче Бржеском (18181868) см. статью: К. Льдов. Друг Фета Алексей Федорович Бржеский и его стихотворения. — «Новый Мир», 1900, № 28. Александра Львовна Бржеская (1821-?) оставалась близким Фету человеком до конца его жизни; ей посвящены его стихотворения: «Далекий друг, пойми мои рыданья», «Опять весна — опять дрожат листы», «Мы встретились вновь после долгой разлуки», «Нет, лучше голосом ласкательно обычным», «Руку бы снова твою мне хотелось пожать». Об истории отношений Фета и Бржеской см. статью: Г. Блок. Фет и Бржеская. — «Начала», 1922, № 2.
(обратно)137
«С самого начала» (букв. — «от яйца» — лат.).
(обратно)138
Полки кирасирской дивизии различались не только цветом обмундирования, но и мастью лошадел. Одномастные (в фетовском полку — гнедые) высокие лошади отвечали не только требованию военного кавалерийского строя, но и были составной частью «воинской красоты». Из времен своей кавалерийской службы Фет вынес не только любовь к лошадям (впоследствии он занимался коннозаводским делом), но к убеждение в том, что «великое дело воинская красота». Очень характерным для его эстетических представлений (в широком смысле слова) является следующее суждение: «Кто не понимает наслажденья стройностью, в чем бы она ни проявлялась: в движениях хорошо выдержанного и обученного войска, в совокупных ли усилиях бурлаков, тянущих бечеву под рассчитанно-однообразные звуки „ивушки“, тот не поймет и значения Амфиона, создавшего Фивы звуками лиры» (очерки «Из деревни»).
(обратно)139
21 апреля 1845 года Фет был принят в кирасирский полк нижним чином (унтер-офицером), а 14 августа 1846 года получил первый офицерский чин — корнета. С этим чином он давно связывал надежды, о которых дважды упоминает в воспоминаниях (при поступлении в университет и по его окончании): офицерский чин давал право на потомственное дворянство. Однако еще до производства Фета в корнеты вышел царский указ, по которому потомственное дворянство давал отныне только чин майора (манифест 11 июня 1845 г.).
(обратно)140
Лето 1847 года.
(обратно)141
Ротмистр Э. А. Гайли — сослуживец Фета по полку.«…Это был тип прежнего гусара. Среднего роста с рыжеватым оттенком волос на голове и с висящими во всю грудь усами, Гайли являл вид добродушно насмешливой беспечности. Признаком былого щегольства в левом ухе оставалась золотая пуговка мужской середки» («Ранние годы моей жизни», стр. 287). Выражение Гайли (который советовал Фету оставить службу при штабе) значило: «Для молодого человека нет ничего благороднее, чем воинские строй» (нем.).
(обратно)142
Крылов — второе название Новогеоргиевска, где находился штаб Военного Ордена полка.
(обратно)143
Барон А. Б. Энгельгардт командовал полком с 1834 по 1847,
(обратно)144
Небольсин Н. И. - полковой адъютант,
(обратно)145
Редерер — марка шампанского.
(обратно)146
Подлинная фамилия — Безродные.
(обратно)147
Летом 1848 года, в связи с революционными событиями в Венгрии, началось передвижение русских войск к австрийской границе. Кирасирский Военного Ордена полк, ввиду возможного участия в кампании, перемещался к западу (Стецовка и Красноселье — села в Херсонской губернии).
(обратно)148
«Нет, нет, надо его сделать другим человеком» (нем.).
(обратно)149
Так называет Фет героиню своего трагического романа, оставившую глубокий след и в его жизни и в его поэзии. Только в XX веке исследователям удалось установить, что «Елена Ларина» — это псевдоним (фамилия явно ориентирована на пушкинскую Татьяну Ларину): в действительности девушку звали Мария Козьминична Лазич. Она была по происхождению сербкой: ее дед по матери Илья Петкович и отец Козьма Лазич были сербами (выходцы из Сербии были поселены русским правительством в Херсонской губернии в середине XVIII века). Ко времени знакомства (осень 1848 года) Фету было 28, а Марии — 24 года; сближение их началось чуть позже — в январе — феврале 1849 года. Дополнением к тому, что рассказано Фетом в мемуарах, служат его письма этого времени к И. П. Борисову (публикацию их см. в альманахе «Литературная мысль», вып. I, Пг., 1922). Об истории отношений Фета и Марии Лазич см. следующие работы: Борис Садовской, Ледоход. Статьи и заметки. Пг., 1916; Ю. А. Никольский. Признания Фета. — «Русская мысль», 1922, № 6–7; П. Сухотин. Фет и Елена Лазич. Белград, 1933; Б. Я. Бухштаб. А. А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1974.
(обратно)150
Ротмистр Оконор (ирландец по происхождению) — эскадронный командир Фета. В воспоминаниях («Ранние годы моей жизни», стр. 412) Фет пишет: «…взгляды Оконора, несмотря на его иронический тон, отличались особою практичностью…он, между прочим, по поводу моего жизненного поприща сказал: „Вам надо идти дорожкою узкою, но верною“. Изречение это невольно врезалось в моей памяти».
(обратно)151
Зд.: «доброго вам вечера», «спокойной ночи» (фр.).
(обратно)152
Лист Ференц (1811–1866) — венгерский композитор и пианист. Концертируя в Одессе, Лист в сентябре 1847 года приезжал в Елизаветград (по случаю царского смотра) и дал концерт в местном собрании,
(обратно)153
Весна 1849 года.
(обратно)154
Карл Федорович Бюлер командовал полком с 1848 по 1853 год. Весной 1849 года назначил Фета полковым адъютантом.
(обратно)155
Ремонтер — поставщик лошадей для армии.
(обратно)156
Полк выступил в поход 10 июля 1849 года.
(обратно)157
Полк был остановлен в Ново-Миргороде (Херсонской губ.) и не принял участия в венгерской кампании.
(обратно)158
Полк вернулся из Ново-Миргорода в Крылов (Новогеоргиевск) в сентябре 1849 года.
(обратно)159
События относятся к весне 1850 года.
(обратно)160
Описываемые события (которые Фет относит к 1850 году) происходили в действительности в 1847 г.: в январе этого года А. Григорьев вернулся Из Петербурга в Москву, а в октябре того же года Фет, взяв отпуск в полку, приехал в Москву готовить новый сборник своих стихотворений. Возвращаясь в полк, Фет просил А. Григорьева взять на себя хлопоты с типографией; однако его друг об этом мало заботился, и только в следующий приезд в Москву, в декабре 1849 года, Фету удалось продвинуть дело. Книжка вышла в начале 1850 года.
(обратно)161
Май 1851 года.
(обратно)162
Смотр происходил в сентябре 1851 года.
(обратно)163
«Сохраните письма» (фр.) — т. е. письма Фета к Марии. Письма эти не дошли до нас.
(обратно)164
Т. е. в приезд в Москву осенью 1847 года.
(обратно)165
Пятнадцать Олимпиад — 65 лет.
(обратно)166
Николай Никитич Шеншин; его брат Александр Никитич был женат на сестре Фета Любови Афанасьевне.
(обратно)167
Этот приезд Фета в Новоселки и, далее, знакомство с Иваном Сергеевичем Тургеневым (1818–1883) относятся к июню 1853 года.
(обратно)168
Родоначальником Шеншиных считался татарский князь, поступивший в конце XV века на московскую службу. Получив вотчину в Мценске, он стал основателем разветвленного рода Шеншиных, расселившихся по всему Мценскому уезду.
(обратно)169
Князь Владимир Дмитриевич Голицын был назначен временно командующим полком в апреле 1853 года.
(обратно)170
«Я навсегда сохраню вас в своем сердце» (фр.).
(обратно)171
Иван Петрович Борисов (1822–1871) до конца жизни поддерживал дружеские отношения с Тургеневым и регулярно писал ему на протяжении 1860-х годов за границу; публикацию этих писем Борисова (где много разнообразных упоминаний о Фете) см. в издании: Тургеневский сборник. Вып. III–V. Л., 1967–1969.
(обратно)172
Кичка (кика) — традиционный женский головной убор во многих районах России.
(обратно)173
Речь идет об усадьбе Воррбьевка (Щигровский уезд Курской губернии), находившейся неподалеку от монастыря «Коренная Пустынь», около которого устраивалась т. н. Коренная ярмарка — одна из самых известных в России.
(обратно)174
Гвардейские чины расценивались на два уровня выше армейских; поэтому штабс-ротмистр Фет должен был в гвардейском полку начинать службу с младшего поручика. Но, дослужившись до чина гвардии штабс-ротмистра, он достигал бы как раз того «майорского ценза», который давал право на потомственное дворянство.
(обратно)175
К декабрю 1853 — январю 1854 года относится знакомство Фета в Петербурге с кругом журнала «Современник»:
— Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877) — поэт, литератор, журналист, издатель «Современника». До 1859 года широко печатал стихи Фета в своем журнале и давал самую высокую оценку его поэзии в печатных выступлениях. В изменившейся общественной и литературной обстановке 1860-х годов Фет порвал отношения с «Современником», после чего и возник знаменитый антагонизм «Некрасов — Фет». О духовно-исторической проблематике этого противостояния двух крупнейших поэтов своего времени см. работы: Е. В. Ермилова. Некрасов и Фет. — В сб.: «Н. А. Некрасов и русская литература». М., 1971; Ц. Скатов. Некрасов и Фет (в его книге: «Некрасов. Современники и продолжатели». Л., 1973)
— Панаев Иван Иванович (1812–1862) — литератор, журналист, издатель (совместно с Некрасовым) «Современника».
— Панаева Авдотья Яковлевна (1819–1893) — писательница.
— Дружинин Александр Васильевич (1824–1864) — литератор и критик, автор статьи о поэзии Фета (1856 г.).
— Лонгинов Михаил Николаевич (1823–1875) — историк русской литературы, библиограф.
— Анненков Павел Васильевич (1813–1887) — литературный критик, мемуарист, биограф Пушкина.
— Гончаров Иван Александрович (1812–1891) — романист.
— Языков Михаил Александрович (1811–1885) — литератор. — Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899) — прозаик.
— Ковалевский Егор Петрович (1811–1868) — путешественник и писатель.
(обратно)176
Краевский Андрей Александрович (1810–1899) — издатель «Отечественных записок». Первый опыт Фета в прозе — рассказ «Каленик» был опубликован в № 3 этого журнала за 1854 год.
(обратно)177
«Это старье, дорогой мой» (фр.).
(обратно)178
С октября 1853 года Россия находилась в состоянии войны с коалицией Великобритании, Франции, Турции и Сардинии (т. н. Крымская война). 13 февраля 1854 года лейб-гвардии уланский полк, где служил Фет, был отправлен для охраны побережья Балтийского моря от возможного английского десанта.
(обратно)179
Перефразированные строки из стихотворения Пушкина «Признание»:
Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад! (обратно)180
«Приморские стихотворения» Фет включил в цикл под названием «Море» — «Вечер у взморья», «Жди ясного на завтра дня», «Ночь весенней негой дышит», «Морской залив».
(обратно)181
Письмо Тургенева к Фету датируется февралем — апрелем 1855 года. Экземпляр «Стихотворений» Фета (издание 1850 года) с правкой Тургенева хранится в архиве Государственной Третьяковской галереи. О проблеме «Тургеневских исправлений» см.: Ю. А. Никольский. Материалы по Фету. 1. Исправления Тургеневым фетовских «Стихотворений» 1850 г. — «Русская мысль», 1921, кн. 8–9 и кн. 10–12; Д. Д. Благой. Из прошлого русской литературы. Тургенев — редактор Фета. — «Печать и революция», 1923, кн. 3; Н. П. Колпакова. Из истории Фетовского текста. — «Поэтика», III, Л., 1927; Б. Я. Бухштаб. Судьба литературного наследства А. А. Фета. — «Литературное наследство». Т. 22–24. М., 1935; Б. Я. Бухштаб. Примечания. — «А. А. Фет. Полное собрание стихотворений». Л., 1959, стр. 709–713.
(обратно)182
Стихотворение «Фантазия».
(обратно)183
«Русское слово» — журнал, начавший выходить с 1859 года под редакцией друзей Фета Я. Полонского и А. Григорьева; издатель — гр. Г. Кушелев-Безбородко (1832–1870).
(обратно)184
«ребенок из хорошей семьи» (фр.).
(обратно)185
Писемский Алексей Феофилактович (1821–1881) — романист и драматург.
(обратно)186
В «Моих воспоминаниях» (ч. I, стр. 135) Фет сообщает: «С самого детства желудок мой упорно отказывался от своих обязанностей, навлекая на меня целый рой недугов, начиная с горловых и глазных болезней; а в последнее время недуги эти до того усилились, что я вынужден был прибегнуть к совету ученых дерптских врачей». Доктор Эрдман нашел у Фета «общее расстройство дыхательных путей» и советовал немедленно ехать в Карлсбад лечиться. В июне 1856 года Фет взял 11-месячный отпуск для поездки за границу.
(обратно)187
Встретившись с Тургеневым в Париже, Фет затем поехал навестить его в Куртавнель, имение Виардо.
(обратно)188
Одонок хлеба (по Далю) — «круглая кладь, с острою обверткою, в 25–40 копен».
(обратно)189
Гербель Николай Васильевич (1827–1883) — поэт, переводчик, библиограф, издатель. В 1873 г. издал хрестоматию «Русские поэты в биографиях и образцах», куда включен и Фет.
(обратно)190
В «Моих воспоминаниях» (ч. I, с. 164–168) Фет рассказывает о своих новых встречах с сестрой Надей в Париже после того, как ее бросил Эрбель. «Что происходило на душе у сестры, вследствие такого разочарования, я никогда не мог узнать, но, конечно, употреблял всевозможные предосторожности, чтобы не коснуться больного места… „Ах, как у тебя мило!“ — сказала однажды сестра, взобравшись ко мне на пятый этаж и заставши меня за письменным столом. С этих пор она часто навещала меня, и я всяким театрам предпочитал проводить вечер рядом с нею, усевшись у пылающего или догорающего камина, в котором она сама любила будить огонь. Правда, мечты наши большею частию были нерадостны, но мы отлично понимали друг друга, находя один в другом нравственную опору. На вопрос сестры: „отчего ты не женишься?“ — я без малейшей аффектации отвечал, что по состоянию здоровья ожидаю скорее смерти, и смотрю на брак как на вещь для меня недостижимую». Вскоре из Парижа Фет вдвоем с сестрой отправились в Италию.
(обратно)191
«Спать!» (фр.).
(обратно)192
доверенное лицо (лат.).
(обратно)193
«мне кажется, что она помешалась» (фр.).
(обратно)194
Боткина Мария Петровна (1828–1894) — будущая жена Фета.
(обратно)195
Катков Михаил Никифорович (1818–1887) — редактор-издатель «Московских ведомостей» и журнала «Русский вестник». Леонтьев Павел Михайлович (1822–1874) — филолог-классик и журналист, соиздатель «Русского вестника» и «Московских ведомостей».
(обратно)196
Ростопчина Евдокия Петровна, графиня (1811–1858) — поэтесса.
(обратно)197
До востребования (фр.).
(обратно)198
Бессрочный отпуск Фета и последовавшая затем в 1858 году отставка были связаны не только с женитьбой, но и с невозможностью достижения на военной службе поставленной им цели. По указу нового императора, Александра II, право на потомственное дворянство давал с 1856 года только чин полковника — и гвардии штабс-ротмистр Фет ушел в отставку, не успев воспользоваться достигнутым им «майорским цензом».
(обратно)199
«я обедаю в городе» (фр.).
(обратно)200
Зд.: «я больше не могу!» (нем.).
(обратно)201
Толстой Лев Николаевич (1828–1910), его старший брат Николай Николаевич (1823–1860), сестра Мария Николаевна (1830–1912) — близкие знакомые Фета с конца 1850-х годов.
(обратно)202
«Кузнечик-музыкант» (1859) — поэма Я. Полонского.
(обратно)203
Фет переводил трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра» и «Юлий Цезарь».
(обратно)204
— Пикулин Павел Лукич (1822–1885) — ученый-медик.
— Кетчер Николай Христофорович (1809–1886) — врач, переводчик, литератор.
— Станкевич Николай Владимирович (1813–1840) — философ, поэт.
— Корш Евгений Федорович (1810–1897) — переводчик и журналист; в 1858–1859 годах издавал журнал «Атеней».
— Афанасьев Александр Николаевич (1826–1871) — этнограф, собиратель и исследователь русского фольклора.
(обратно)205
В «Моих воспоминаниях» (ч. I, с. 220–221) Фет пишет, что сестре Наде, оправившейся от недуга, врач (во избежание рецидива болезни) советовал выйти замуж. Очередное предложение И. Борисова было наконец принято Надей — и в январе года состоялась свадьба.
(обратно)206
«Делайте то, что я говорю, но не делайте то, что я делаю» (фр.).
(обратно)207
Борисов Петр Иванович (1858–1888) — племянник Фета.
(обратно)208
Толстой Сергей Николаевич (1826–1904) — один из четырех братьев Толстых; хозяин усадьбы Пирогово в Тульской губернии.
(обратно)209
Тимон Афинский — гражданин Афин V в. до н. э.; резко критическое отношение к действительности заставило его прервать всякие отношения со своими современниками. В литературной традиции образ Т. А. - воплощение крайней мизантропии из высоконравственных мотивов.
(обратно)210
События относятся к весне 1860 года.
(обратно)211
«здесь есть еще одна кухня» (фр.).
(обратно)212
О современном состоянии фетовской Степановки см. в книге: Н. Чернов. Орловские литературные места. Тула, 1970.
(обратно)213
Свой опыт жизни и деятельности в пореформенной деревне Фет изложил в серии очерков, появлявшихся на протяжении ряда лет в таком порядке: «Записки о вольнонаемном труде» — «Русский вестник», 1862, №№ 3, 5, «Из деревни» — «Русский вестник», 1863, №№ 1, 3 и 1864, № 4; «Литературная библиотека», 1868, № 2; «Заря», 1871, № 6.
(обратно)214
Московская квартира Фетов находилась в доме Сердобинской, в начале Малой Полянки.
(обратно)215
Тургенев и Толстой были в гостях у Фета 26–27 мая 1861 года.
(обратно)216
Примирение Толстого с Фетом произошло в Москве в январе 1862 года. Памятником их дальнейших многолетних дружеских отношений является переписка, в основной своей части опубликованная С. А, Розановой в изд.: «Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями», т. 1–2. М., 1978.
(обратно)217
Речь идет о семье московского врача А. Е. Берса (1808–1868) с тремя дочерьми — Лизой, Соней и Таней. «Прекрасным контральто» обладала Татьяна (в замужестве Кузминская; 1846–1925); ее пением вдохновлено стихотворение Фета «Сияла ночь; луной был полон сад…» «Du chien» — пикантность (фр.).
(обратно)218
Действие происходит в мае 1862 года.
(обратно)219
Николай Николаевич Тургенев (1795–1881) — дядя И. С. Тургенева, приглашенный им в управители Спасского.
(обратно)220
Когда произошло личное знакомство Фета с поэтом Федором Ивановичем Тютчевым (1803–1873), неизвестно. В 1862 году Фет обратился к Тютчеву со стихотворной просьбой о присылке фотографии — «Мой обожаемый поэт…» В ответ Тютчев прислал фотографию и два стихотворения: «Тебе сердечный мой поклон» и «Иным достался от природы» (здесь Тютчев сопоставляет свой поэтический дар с фетовским). В 1859 году Фет выступил с программной статьей «О стихотворениях Тютчева» («Русское слово», 1859, № 2). Впоследствии Фет еще трижды посвящал свои стихотворения Тютчеву: «Нетленностью божественной Одеты» (1865); «Прошла весна — темнеет лес» (1866); «На книжке стихотворений Тютчева» (1883).
(обратно)221
«Роковая потеря» — смерть в 1864 году Елены Александровны Денисьевой, возлюбленной поэта.
(обратно)222
Действие относится к декабрю 1865 года.
(обратно)223
Фет был избран мировым судьей 25 июня 1867 года и состоял в этой должности 10 лет.
(обратно)224
Замолчи же, дурак! (нем.)
(обратно)225
Воспоминания относятся к концу 1867 — началу 1868 года.
(обратно)226
Толстой Алексей Константинович, граф (1817–1875) — поэт, прозаик, драматург.
(обратно)227
Действие происходит летом 1869 года. В письме от 23 июня 1869 года А. К. Толстой звал Фета вместе с Борисовым приехать поохотиться на глухарей в его имение Красный Рог (Брянский уезд Орловской губернии).
(обратно)228
Н. А. Борисова умерла весной 1869 года.
(обратно)229
Фет цитирует свое стихотворение «О, долго буду я, в молчаньи ночи тайной»…
(обратно)230
Тургенев, приехавший в июне 1870 года в Спасское, звал Фета к себе в деревню на «крестьянский праздник».
(обратно)231
И. П. Борисов умер в мае 1871 года.
(обратно)232
После смерти Борисова Фет стал опекуном его сына Петра и племянницы Оли Шеншиной (дочери умершего Василия Афанасьевича Шеншина), которую опекал Борисов.
(обратно)233
«Остом» Фет называет в мемуарах Ивана Александровича Иоста — обрусевшего швейцарца, принявшего в 1871 году должность управляющего фетовскими имениями.
(обратно)234
Май 1873 года.
(обратно)235
«Представляю себе, что должен был вынести в жизни этот человек» (фр.).
(обратно)236
Страхов Николай Николаевич (1828–1896) — критик, философ и публицист, «литературный советник» Фета в 1870-1880-х годах (Фет познакомился с ним в 1875 году в Ясной Поляне, а летом 1876 года Толстой привез Страхова к Фету в Степановку). Публикацию переписки Фета и Страхова см.: — «Русское обозрение», 1901, вып. 1. Страхов написал несколько статей о Фете (см. их в издании: «Полное собрание стихотворений А. А. Фета». Т. I. Спб., 1910).
(обратно)237
Оберлендер — воспитательница Оли Шеншиной.
(обратно)238
Эвениус — хозяйка частного московского пансиона, в котором воспитывалась Оля Шеншина до переезда в Степановку.
(обратно)239
Весна 1878 года — первая весна Фета в его новой усадьбе Воробьевке. В течение пятнадцати лет, вплоть до своей смерти, Фет проводил здесь большую часть года — регулярно приезжая к началу марта и в октябре возвращаясь в Москву. В Воробьевке наступил новый расцвет творчества Фета — поэта и переводчика. Как он сам писал водном из писем 1891 года: «… с 60-го по 77-й год, во всю мою бытность мировым судьею и сельским тружеником, я не написал и трех стихотворений, а когда освободился от того и другого в Воробьевке, то Муза пробудилась от долголетнего сна и стала посещать меня так же часто, как на заре моей жизни». В биографическом очерке о Фете Н. Страхов (частый гость Воробьевки) писал об этой усадьбе: «В 1877 году Афанасий Афанасьевич решился бросить Степановку и купил за 105 тысяч руб. Воробьевку (так называемую Ртищевскую Воробьевку, по фамилии давнишнего владельца) в Щигровском уезде Курской губернии, на реке Тускари, в десяти верстах к востоку от известной Коренной Пустыни. Деревня Воробьевка стоит на левом, луговом берегу реки, а господская усадьба на правом берегу, очень высоком. Каменный дом окружен с востока каменными же службами, а с юга и запада огромным парком на 18-ти десятинах, состоящим большею частью из вековых дубов. Место так высоко, что из парка ясно видны церкви Коренной Пустыни. Множество соловьев, грачи и цапли, гнездящиеся в саду, цветники, разбитые по скату к реке, фонтан, устроенный в самом низу против балкона, — все это отразилось в стихах владельца, писанных в этот последний период его жизни» («Полное собрание стихотворений А. А. Фета». Т. I. Спб., 1910, стр. XXXIII–XXXIV). О современном состоянии Воробьевки см.: Ю. Юшкин. Здесь муза пробудилась ото сна. — «Литературная Россия», 1980, 18 июля.
(обратно)240
Брат Фета Петр приехал в Воробьевку после неудачной попытки участвовать добровольцем в сербско-турецкой войне (он отправился в Сербию осенью 1875 года). Характеризуя своего брата, Фет пишет («Мои воспоминания», ч. 2, стр. 292–293), что Лев Толстой «не только любил Петра Афанасьевича, но неоднократно выставлял его как пример высоконравственного деятеля, в смысле самоотверженности». Но при этом «обращаясь к известной цели, брат, очевидно, преднамеренно закрывал глаза на все окружающие препятствия», вследствие чего его жизнь была полна «самых фантастических приключений». Уехав вскоре из Воробьевки, этот неудачник и скиталец затем бесследно пропал в Америке.
(обратно)241
Шопенгауэр, Артур (1788–1860) — немецкий философ-идеалист, получивший широкую известность во второй половине XIX в. Фет перевел и издал три работы Шопенгауэра: «Мир как воля и представление» (1881), «О четверном корне закона достаточного основания» (1886), «О воле в природе» (1886).
(обратно)242
Фет перевел и издал в 1882–1883 гг. обе части «Фауста».
(обратно)243
Из поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан».
(обратно)244
Елисейские поля (Элизий) — в древнегреческой мифологии поля блаженных в загробном мире, царство красоты и счастья.
(обратно)245
Елена — героиня древнегреческого эпоса, славившаяся необыкновенной красотой, виновница Троянской войны.
— Леда — мать Елены, родившая ее от Зевса (плененного красотой Леды и явившегося ей в образе лебедя).
— Алцеста — по древнегреческому мифу, супруга Адмета, участника похода аргонавтов. Когда пришел час смерти Адмета, Алцеста согласилась вместо мужа сойти в Аид (царство мертвых).
— Эвридика — жена легендарного фракийского певца, поэта и музыканта Орфея (который после смерти Эвридики спустился в Аид, чтобы совершить невозможное — вывести оттуда душу умершей).
(обратно)246
Арион — др. — греч. поэт и музыкант (VII–VI вв. до н. э.); по преданию, был спасен однажды от гибели в море дельфином, очарованным его пением.
(обратно)247
Из стихотворения Пушкина «Нереида».
(обратно)248
Март 1882 года.
(обратно)249
Поэтическая вольность (лат.).
(обратно)250
дурно воспитанного мальчишки (нем.).
(обратно)251
Переводами из Горация Фет начал заниматься, еще учась в Московском университете. В 1883 году он завершил свой многолетний труд, издав полного Горация в своем переводе. Вслед за этим он перевел и издал целую «библиотеку римских авторов»: «Сатиры» Ювенала (1885), «Стихотворения» Катулла (1886), «Элегии» Тибулла (1886), «Превращения» Овидия (1887), «Энеиду» Вергилия (1888), «Элегии» Секста Проперция (1888), «Сатиры» Персия (1889), «Горшок» Плавта (1891), «Эпиграммы» Марциала (1891), «Скорби» Овидия (1893).
(обратно)252
— Корш Федор Евгеньевич (1843–1915) — филолог широкого диапазона, профессор римской литературы Московского университета.
— Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) — поэт, философ, публицист и критик. Был близок Фету в конце его жизни, стаи его последним «литературным советником» (ранее в этой роли выступали А. Григорьев, И. Тургенев, Н. Страхов).
— Нагуевский Дарий Ильич (1845–1915) — филолог-классик, исследователь, переводчик и популяризатор римской литературы.
— Олсуфьев Алексей Васильевич, граф (1831–1915) — кавалерийский генерал, знаток римской литературы.
(обратно)253
Ольга Васильевна Шеншина (1858–1942), ставшая в замужестве Галаховой, была не только племянницей Фета, но и приходилась дальней родственницей Тургеневу — оказавшись после его смерти единственной наследницей Спасского.
(обратно)254
«у кого земля, у того и война» (фр.).
(обратно)255
Тургенев, разрывая в ноябре 1874 года отношения с Фетом, как на непосредственный повод этого шага ссылался на полученное им от Полонского письмо, в котором Фет выставлялся распространителем сплетен о Тургеневе (см.: И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем. Письма, т. 10. М.-Л., 1965, стр. 334. В этом же издании см. другие письма Тургенева к Фету разных лет). Об истории отношений Фета и Тургенева см. публикацию Б. Я. Бухштаба в кн.: «Тургеневский сборник». Орел, 1940.
(обратно)






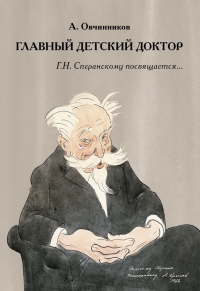

Комментарии к книге «Воспоминания», Афанасий Афанасьевич Фет
Всего 0 комментариев