Дм. Богров и убийство Столыпина
1. Введение
Многие сочтут, что настоящая книжка является запоздалой. Со времени террористического акта, совершенного Дмитрием Богровым 1-го сентября 1911 года, прошло 20 лет. Хотя убийство Столыпина является фактом первостепенного значения в истории русского революционного движения, однако, мировая война, революция и тяжелые духовные и материальные бедствия, разразившиеся над русским народом, отодвинули это событие на задний план.
Возможно, что для многих теперь вообще покажется бесполезным углубляться в психологический анализ революционного акта, когда они уже успели разочароваться в самой революции; возможно, что столь остро стоявший одно время вопрос, был ли Дм. Богров «революционером» или «охранником», утратил свое принципиальное значение в особенности для тех, которые, отказавших от прежних убеждений, готовы мечтать о восстановлении царского режима.
С другой стороны, историческая перспектива уже успела сгладить многие «подробности» и оставила говорящими сами за себя голые факты, которые нам свидетельствуют лишь о том, что, благодаря выступлению Дм. Богрова, был устранен с политической арены самый влиятельный и талантливый министр царского периода, являвшийся главным оплотом господствовавшей тогда реакции. Все остальное кажется второстепенным и неважным.
Итак, не сомневаюсь, что для многих эта книжка покажется мало интересной. Однако, имеются доказательства того, что личность Дм. Богрова, в связи с убийством Столыпина, до настоящего времени не перестала интересовать общество. Почти каждый год в советской или зарубежной печати появляется статья, посвященная этой теме. И, как бы авторы этих статей ни относились к оценке личности Дм. Богрова и совершенному им акту, они в заключение все же должны признать вопрос не выясненным окончательно, признать существование «тайны», покрывающей психологическую сторону дела, «загадки», до настоящего времени не получившей разрешения.
В своем предсмертном письме родителям, писанном Дм. Богровым из крепости 10-го сентября 1911 года, накануне казни, Дм. Богров, между прочим, пишет: «единственный момент, когда мне становится тяжело, это при мысли о вас, дорогие. Я знаю, что вас глубоко поразила неожиданность всего происшедшего, знаю, что вы должны были растеряться под внезапностью обнаружения действительных и мнимых тайн. Что обо мне пишут, что дошло до сведения вашего я не знаю. Последняя моя мечта была бы, чтобы у вас, милые, осталось обо мне мнение, как о человеке может быть и несчастном, но честном. Простите меня еще раз, забудьте все дурное, что слышите»…
Эти «действительные и мнимые тайны» и доныне тревожат общество, так как до настоящего времени они остались неразгаданными.
Как примирить категорическое предсмертное заявление Дм. Богрова о том, что он умирает человеком «честным» и его слова «забудьте все дурное, что слышите», с теми фактами, которые нам представляются порочащими его доброе имя и которые не только приводятся заинтересованными лицами, но, как будто, признаются и им самим? Это «дурное», прилипшее к делу Дм. Богрова, легко удается подчеркнуть не только врагам Дм. Богрова, его политическим или принципиальным противникам, но и всем поверхностным исследователям дела, так как опровержение этого «дурного» требует более сложного анализа и изучения дела.
Я позволю себе привести выдержки из разных статей о Дм. Богрове, принадлежащих как его ярым защитникам, так и его обвинителям. Из сопоставления этих выдержек можно убедиться в том, что и те и другие в результате своих исследований все же оставляют неразрешенными те вопросы и сомнения, которые представляют главный интерес в настоящем деле.
А. Мушин, один из самых ярых почитателей Дм. Богрова, заканчивает свою книжку следующими словами:
«Богров — террорист одиночка, революционер, которого бессилие революционных партий, общественная инертность и апатия и до нестерпимости душная послереволюционная моральная атмосфера, пресыщенная миазмами санинщины, порнографии, предательства и провокации — толкнули на путь, казалось, единственно доступный одинокому борцу, мечтающему разрядить эту застоявшуюся атмосферу благодетельным ударом. И за этот удар Дмитрию Богрову — вечная память!» (А. Мушин. Дмитрий Богров и убийство Столыпина, Париж 1914 г. стр. 186.)
Мушин, однако, не дает точного разъяснения, какой именно путь «единственно доступный борцу» был избран Дм. Богровым, как далеко Дм. Богров зашел по этому пути, как примирить противоречие показаний самого Дм. Богрова по этому поводу на следствии и суде. Мушин, проникнутый революционным энтузиазмом по поводу акта Дм. Богрова, не имел возможности во время войны, находясь заграницей, изучить материалы по делу Дм. Богрова. Его книжка появилась в 1914 г., когда многое из того, что стало известным после революции, еще совершенно не могло быть выяснено по политическим условиям.
В виду этого, книжка А. Мушина, дающего много интересного материала неофициального характера о Дм. Богрове, его личности, его последнем выступлении, тем не менее оставляет без ответа ряд вопросов, которые возникают при изучении дела.
На резко противоположной точке зрения в оценке личности Дм. Богрова стоит советский журналист Б. Струмилло. В результате рассмотрения материалов по делу Дм. Богрова, Струмилло приходит к следующему выводу:
«Итак, Богров — провокатор, после разоблачения вместо самоубийства кончивший убийством Столыпина» (Б. Струмилло. Материалы о Дм. Богрове, Красная Летопись, Ленинград № 1 (10) 1924 г., стр. 240, 238.)
Однако, после такого категорического утверждения, Струмило все же должен признать:
«по каким мотивам сделался Богров провокатором, мы не знаем»… «Что побудило его, сына состоятельных родителей, поступить в охрану?» — спрашивает далее Струмилло. И дает этому факту объяснение, правда, в виде предположения, что Дм. Богров мог быть завербован о охрану «в доме отца, где бывали жандармы».
Это совершенно вымышленное предположение Струмилло, правда, сопровождает вопросительным знаком, видно, сам в нем сомневаясь. Вернее было бы поставить здесь знак восклицательный, в виду чудовищности подобных измышлений.
Никаких жандармов никогда в доме отца не бывало, за исключением тех, которые производили обыски у брата и двоюродного брата.
Далее Струмилло спрашивает: «Почему Богров решил убить Столыпина?» Ответ: «Убийство Столыпина было совершенно им под влиянием угроз заграничных анархистов, давших Богрову срок до 5-го сентября с конца августа».
Всякий мало-мальски критически настроенный читатель, конечно, задаст вопрос, где доказательство существования подобного постановления анархистов? Где в заграничной или, после революции, в советской печати появилось подтверждение того, что подобное требование, или какие либо угрозы со стороны «заграничных анархистов» действительно были предъявлены Дм. Богрову? Ведь, естественно, что какие-нибудь заявления по этому поводу должны были бы появиться тогда же в органах печати анархистов, так же, как в органе социалистов-революционеров появилось официальное заявление центрального комитета партии о непричастности партии с. — р. 'ов к акту Дм. Богрова.
И уж наверное после революции мы бы услышали голос тех лиц, которые, будто бы, предъявили подобные требования Дм. Богрову от имени заграничных коммунистов. Таким образом и в этом случае ответ Струмилло на поставленный вопрос является лишь предположением и не находит подтверждения в фактах.
Наконец, и для заявления жандармского полковника Иванова, производившего 3 раза допрос Дм. Богрова после совершенного им покушения, о том, что «Дм. Богров один из самых замечательных людей, которых я встречал. Это удивительный человек»… Струмилло умеет найти столь же простое и столь же неудачное объяснение.
Он говорит: «По описаниям знавших его (Богрова), у него была характерная черта: умел носить маску, лгать, и в этом был талантлив. Умел производить впечатление».
Допустим, что это так. Но неужели этих свойств достаточно, чтобы заставить опытного жандарма, к тому же, в тот период очень недружелюбно настроенного по отношению к Богрову, охарактеризовать своего «подчиненного», «сотрудника», подложившего свинью не только киевскому охранному отделению, но и тому высшему начальству, которое ему доверилось, как одного из самых замечательных людей, которых он встречал?
А встречал жандармский полковник Иванов во время допросов революционеров несомненно не мало замечательных людей.
Мы увидим, что последний допрос Дм. Богрова, произведен был жандармским полковником Ивановым, 10-го сентября 1911 г., т. е. накануне смертной казни. Неужели и тогда Дм. Богров, по мнению Струмилло, «носил маску», «лгал», «производил впечатление» только для того, чтобы заслужить одобрение полковника Иванова?
Уже вскоре после категорических выводов Струмилло, появляются новые статьи на ту же тему, совершенно иного направления.
Вот что пишет «по поводу старого спора» в 1926 г. товарищ Дм. Богрова по анархической работе Г. Сандомирский. Его статья особенно интересна еще и потому, что имя его нередко упоминалось в числе лиц, будто бы выданных Дм. Богровым. Относительно статьи и выводов Струмилло Г. Сандомирский замечает следующее:
«Здесь нагромождение психологических и фактических несообразностей; прежде всего к моменту совершения Богровым террористического акта, поскольку мне известно, над ним никаких партийных обвинений не тяготело. Никем он, как провокатор, разоблачен не был. Были у многих сомнения по адресу Богрова, но не только по его адресу. Таким образом, никаких немедленных импульсов, которые его толкнули бы на совершение акта, не было. Речь может идти лишь о внутреннем процессе перерождения, вне зависимости от каких либо внешних обстоятельств» (Г. Сандомирский. «К вопросу о Дмитрии Богрове. Каторга и ссылка», Москва, 1926, № 2 (23) стр. 34.).
«Но даже, если бы было так, как думает Струмилло, а именно что перед убийством Столыпина Богров был разоблачен, как провокатор, — какие у нас основания полагать, что Богров поспешил бы прибегнуть к самоубийству или к замене его террористическим актом?
Пора бы этому мелодраматическому представлению о кающихся провокаторах давно быть сданным в архив!
Последние годы Азефа, поведение на суде Складского и др. нам показали, как они, опозоренные, судорожно цепляются за возможность протянуть еще десяток-другой лет… Богров показал противоположное, и это обстоятельство уже одно заставляет нас относиться с большей бережностью к собираемым о нем материалам и, особенно, к выводам из них».
Сам Сандомирский приходит к следующим выводам:
«Жизнь Богрова представляет собою, несомненно, одну сплошную цепь неразрывно связанных между собою звеньев. Богрова в последние минуты нельзя понять, если не охватить этой жизни в целом... Не сумел этого сделать и я, для которого Богров и по сию пору остается психологической загадкой… Мне Богров представляется типичным героем Достоевского, у которого была «своя идея». К этой идее он позволил себе идти сложными, извилистыми путями, давно осужденными революционной этикой.
Разобраться в этих путях сейчас еще очень трудно, но уже с достоверностью можно сказать, что, в худшем случае, Богров был не полицейским охранником, а революционером, запутавшимся в этих сложных, «запрещенных» путях, которыми он шел неуклонно и мужественно к осуществлению «своей идеи» (Там же, стр. 30.).
«Кем был Богров до совершения акта, я до сих пор еще не знаю. Но то, что он проявил в своем последнем акте максимум самопожертвования, доступного революционеру даже чистейшей воды, — для меня не представляет ни малейшего сомнения» (Там же, стр. 33.).
Таким образом и для Сандомирского, по моему убеждению наиболее близко и глубоко почувствовавшего сложную натуру Дм. Богрова, все же Богров «по сию пору остается психологической загадкой».
Далее приходится остановиться на воспоминаниях Егора Лазарева, который заканчивает свою статью следующими словами:
«Богрову пришлось умереть героической смертью, изолированным и непонятым» (Егор Лазарев, «Дмитрий Богров и убийство Столыпина», Воля России, Прага 1920, т. 8–9, стр. 65.). Лазарев резко полемизирует с Струмилло по поводу скороспелых выводов этого последнего. В конце концов он приходит к заключению, что Богров вместо самоубийства кончил убийством Столыпина, но, в то же время, самым решительным образом оспаривает мнение, что поводом для этого послужили какие либо «разоблачения».
«Если кто разоблачил его, то это был он сам, и именно в показаниях накануне казни. Показания эти остаются странными и неожиданными… Как я понимаю это дело: его уже давно «грызло» подтачивало постоянное опасение разоблачений, но пока он был юношей, студентом, он относился к своей «службе» легкомысленно… Но когда он окончил курс в университете и стал помощником присяжного поверенного — вопрос: как избавиться от мучительной двойственности, был поставлен ребром. С этого момента жизнь его была отравлена постоянной мыслью о безнадежности положения при отсутствии выхода» (Там же, стр. 90, 97.). Однако, в показаниях того же Дм. Богрова, который по мнению Лазарева сам себя разоблачил и искал выхода из безнадежности создавшегося для него положения путем убийства Столыпина, мы читаем:
«еще в 1907 г. у меня зародилась мысль о совершении террористического акта в форме убийства кого либо из высших представителей правительства, каковая мысль являлась прямым последствием моих анархических убеждений» (показание от 2-го сентября 1911 года).
В показании 1-го сентября 1911 г., непосредственно после совершения акта, Дм. Богров говорит:
«решив еще задолго до наступления августовских торжеств совершить покушение на жизнь министра внутренних дел Столыпина, я искал способов осуществить это намерение».
Как мы увидим ниже, эти показания подтверждаются и рядом других фактических доказательств. Таким образом, предположение Лазарева, что мысль о совершении террористического акта явилась у Дм. Богрова последствием «мучительной двойственности», раскаяния, отчаяния, «безнадежности положения», является столь же необоснованным, как и утверждение Струмилло об «угрозах заграничных анархистов» и предъявленном требовании реабилитации.
После прочтения статьи Лазарева остается у читателя то же самое впечатление, которое вынес, вероятно, и сам Лазарев из своего исследования, когда закончил его цитированными выше словами; «Богрову пришлось умереть героической смертью, изолированным и непонятым».
Наконец, я хотел бы еще привести выдержку из статьи H. M. в газете «Знамя Труда», относящуюся к более отдаленному времени:
«Не эти ли условия переживаемого нами безвременья порождают таких загадочных для нас лиц, как Богров, которые к своему блестящему, поражающему акту, совершенному в почти феерической обстановке, приходят — одинокие — через охранку или из охранки?. Кто такой Богров? Мы не знаем этого и, быть может, никогда не будем знать. А то, что мы знаем о нем, не складывается в единый, цельный человеческий образ. Он унес тайну своей души в могилу, и психический процесс который привел его к акту 1-го сентября, для нас, быть может, навсегда останется загадкой» (Знамя Труда, № 38, 1911 г., стр. 10.).
Из приведенного мною краткого обзора литературы по поводу дела Дм. Богрова видно, что психологическая тайна, унесенная им в могилу, до настоящего времени остается неразгаданной и не перестала интересовать общество.
Выступая, как родной брат покойного Дм. Богрова, я не могу не чувствовать особо тяжелой ответственности за свои слова. Я должен, конечно, считаться и с тем, что к моим утверждениям общество склонно будет относиться особенно критически, ожидая от меня, естественно, пристрастного отношения к оценке личности брата.
Вот почему я долго ждал с опубликованием в печати моих размышлений по этому делу и постарался дать моим выводам по возможности более объективное обоснование в виде показаний участников дела, свидетельства товарищей Богрова по анархической работе и данных из подлинного дела.
Находясь временно в 1918 г. в Москве, я получил разрешение на обозрение дела Дм. Богрова, переданного после революции в Московский Исторический Музей.
Мне пришлось констатировать, что дело это занимает специальный большой шкаф и заключает в себе 30 объемистых томов! Убедившись в том, что в короткий срок моего пребывания в Москве не удастся подробно ознакомиться с этим обширным материалом, я ограничился тем, что снял копию с описи дел и сделал некоторые выписи.
Я рассчитывал в скором времени вернуться в Москву и посвятить специально 2–3 месяце изучению дела. Но, к сожалению, обстоятельства сложились иначе и я до настоящего времени не имел возможности осуществить свое намерение и собрать весь фактический материал по делу.
В интересах историков и будущих исследователей дела Дм. Богрова считаю необходимым привести ниже опись материалов, относящихся к этому делу, внимательное изучение коих необходимо для того, чтобы получить правильное представление о нем.
В заключение я хотел бы особо подчеркнуть, что моя книга ни в коем случае не должна рассматриваться, как попытка «реабилитации» Дм. Богрова. По моему глубочайшему убеждению такая «реабилитация» с одной стороны — совершенно ненужна, с другой — невозможна.
Если исходить из предположения, что Дм. Богров совершил террористический акт под влиянием угроз заграничных анархистов и заявленного ими требования о реабилитации, то, ведь, Дм. Богров это требование исполнил и по единогласному признанию всех своих сторонников и противников мужественно пошел на смерть.
Честно ли при таких условиях после его смерти отвергать значение этой «реабилитации» делом и клеймить его «охранником» или даже «провокатором?»
Ведь весь смысл «реабилитации» заключается в том, чтобы совершением террористического акта подтвердить товарищам и обществу самоотверженную преданность революционной идее. Казалось бы, что после того, как такое доказательство обществу дано, товарищи, безразлично, требовавшие или не требовавшие «реабилитации», должны были бы исходить из этого факта.
Между тем, в случае Дм. Богрова было сделано как раз обратное: воспользовались его смертью, и, следовательно, невозможностью для него лично дать объяснение своему прежнему поведению, для того, чтобы безнаказанно порочить его имя.
Этот случай должен послужить в будущем хорошим уроком для тех революционных деятелей, которые решили бы «реабилитироваться», идя на верную смерть!
Пусть помнят, что недаром говорится, что живая собака все же сильнее мертвого льва.
Еще более странным является отношение к Дм. Богрову со стороны тех лиц, которые решительно отвергают версию о предъявлении к нему каких либо «требований» о реабилитации, а считают, что поступок Дм. Богрова являлся «усложненным самоубийством».
Эта версия пожалуй, еще более нелепа, чем предыдущая. Дм. Богров был весь, целиком, человеком жизни, а не смерти.
Никаких признаков того, что он мог бы покончить с собой, что в этом направлении работала его мысль, никем и никогда не наблюдалось. Если в последнее время он бывал подчас в мрачном настроении, то для этого достаточным объяснением являются, как это мы теперь знаем, трудности осуществления задуманного выступления. Какие имеются основания для того, чтобы притягивать сюда за волосы «раскаяние», «муки совести», «безысходность положения» и проч.? Одно время говорили даже о каких то неизлечимых болезнях Дм. Богрова, о его психическом расстройстве и другом нелепом вздоре, который не стоит и опровергать.
Но, опять таки, допустим на минуту, что Дм. Богров решился на самоубийство, по неизвестным нам причинам, или, хотя бы, почувствовав раскаяние за прошлую жизнь. Люди, идущие на самоубийство, избирают для этого тот путь, который связан для них с наименьшими препятствиями. Очень часто этот путь оказывается самым нецелесообразным — травятся спичками или слабым раствором сулемы, когда в минуту отчаяния они оказываются под рукой. Стреляются, вешаются, — когда легко раздобыть нужные для этого орудия. Самоубийца, для которого характерным психологическим признаком является общее ослабление его волевых центров и перевес отрицательных жизненных ощущений над положительными, за самыми редкими исключениями способен руководствоваться идеей целесообразности даже при выборе орудия смерти. Таким каким либо элементарным способом покончил бы со своею жизнью и Дм. Богров, если бы решился на это по мотивам, которые ему приписывают некоторые доморощенные психологи.
Если же Дм. Богров при своем так называемом «самоубийстве» ставит себе идейную общественно-революционную цель и решается пойти перед смертью на все испытания, которые готовила ему за его выступление одураченная охранка, месть озлобленных чиновников, жестокость военного суда и подхалимство перепуганного общества, то он идет не на «самоубийство», а на «смерть» во имя определенной идеи. К чему эта игра словами о «самоубийстве» путем совершения террористического акта? Неужели только для того, чтобы не отдать должного человеку, который отдает свою жизнь той цели, которая в нем окончательно восторжествовала, как наиболее действенная и истинная его сущность?
Я полагаю, что даже если допустить подобную психологическую невозможность, как «усложненное самоубийство», то, раз это «усложнение» направлено на цель идеальную, чисто общественного характера, нужно признать, что именно эта цель руководила данным лицом, а не просто только желание уйти из жизни, как у самоубийцы. Если рассуждать иначе, то каждый герой, идущий на верную смерть, должен считаться самоубийцей. Важно и общественно-ценно то, что человек пошел на смерть, совершая революционное дело, а следовательно перед нами не «самоубийца», а революционер.
Таким образом, с точки зрения революционной, «реабилитация» Дм. Богрова осуществлена его смертью во имя революционного дела. Никакая другая реабилитация ему не нужна. Недостаточное признание этого факта является следствием революционно-партийной точки зрения, с которой подходят к этому вопросу большинство исследователей. Ни социал-демократы, ни социалисты-революционеры, поскольку они выступают, как члены партии, не могут допустить индивидуальных революционных выступлений, особенно столь крупного масштаба. Без санкции центрального комитета партии невозможно совершение террористического акта. Применение при том тактики, принципиально осуждаемой партией и революционно-партийной этикой, еще более осложняет положение.
Вот почему все революционные партии немедленно после того, как выяснилось, что Дм. Богров не принадлежал ни к одной из них и совершил свой террористический акт совершенно самостоятельно, поспешили отмежеваться от него.
Получилось положение довольно своеобразное: торжествуя по существу по поводу случившегося события, ни одна из революционных партий не решается выступить в защиту его виновника. Так, в газете «Знамя Труда» — центральном органе партии социалистов-революционеров, мы читаем (Знамя Труда 1911 г. № 38 стр. 30.):
«Киевская группа П. С.-Р. издала прокламацию по поводу убийства Столыпина. Выяснив роль Столыпина и отметив холопское отношение к акту его убийства со стороны либеральной печати, прокламация заканчивается так: «кто бы ни был Богров, продукт ли Столыпинской провокации или орудие организованного революционного террора, мы, с. р. — ы горячо приветствуем убийство Столыпина, как событие, имеющее крупное агитационное значение, как удар, внесший растерянность в правящие сферы и как акт политической мести «рыцарю» виселицы и погромов».
Но в том же номере Центральный Комитет партии социалистов-революционеров спешит поместить заявление следующего содержания: «В виду появившихся во всех почти русских газетах известий о причастности партии соц. — революционеров к делу Дм. Богрова, Центральный Комитет П. С. — Р. -ов заявляет: ни Ц. К-т, ни какие либо местные партийные организации не принимали никакого участия в деле Дм. Богрова». (Там же, cтp. l.) Дальше в статье «Из общественной Жизни» H. M. мы читаем: «Если Богров действительно революционер, ради практического успеха растоптавший революционную этику, то он своим актом как нельзя лучше доказал, как нецелесообразна, как непрактична эта преступная практичность; как нецелесообразно жертвовать этой близорукой практичности высшей идеальной практичностью рациональной этики, и как в конце концов реальна эта идеальная практичность, эта разумность этики» (Там же, стр. 10.).
Я в свою очередь хотел бы лишь отметить, что Дм. Богров растоптал не «этику», и даже не «революционную этику», а этику «революционно-партийную», и этим, главным образом, создал ту отчужденность, которую проявили по отношению к нему все партийные революционные организации. И с этой точки зрения, действительно, «реабилитация» его невозможна.
Если революционные партийные организации осудили Дм. Богрова за тот путь, который он избрал для совершения террористического акта, то для либеральных кругов русского общества является неприемлемым самый террористический акт, им совершенный. Думаю, что эти элементы русского общества теперь несколько поколебались в своих убеждениях и готовы пересмотреть свои «принципы» относительно недопустимости «убийства» и «террора», как способов политической борьбы. Во всяком случае наиболее яркая выразительница этого направления, газета «Русское Слово», тогда писала следующее:
«Безумие. Покушение на убийство П. А. Столыпина с любой точки зрения является актом безумия, стоящим за пределами здравого смысла. Нет надобности говорить, что убийство есть всегда убийство. Стреляние из-за угла в беззащитного человека на всех языках заклеймлено одним и тем же термином… Террористы являются закоренелыми врагами нашего прогресса. Они очень хорошо знают, что их дикие, безумные выступления открывают дорогу реакции. И эти люди говорят, что они геройски приносят себя в жертву высшим интересам родины!.. Пусть же они знают, что на их безумие Россия ответит гневным негодованием, которое выразится в общем осуждении кровавой мести и варварской расправы» (Русское Слово от 3 сентября 1911 г.).
Из этой выдержки видно, что также в глазах этих кругов «реабилитация» Дм. Богрова невозможна. В своем «гневном негодовании» они, быть может, готовы скорее оправдать Богрова-охранника, не совершившего политического убийства, чем Богрова-революционера, покусившегося на жизнь Столыпина!
Вот почему нет смысла заниматься «реабилитацией» Дм. Богрова. Но зато необходимо следующее, — и это является главной целью настоящей книги: нужно дать правдивое, отвечающее действительности, освещение делу и личности Дм. Богрова. Нужно дать логическое и психологическое обоснование тех мотивов, которые им руководили, когда он решился на свое выступление.
Наконец, надо попытаться разобраться в показаниях Дм. Богрова на следствии, на суде и после суда (так как Дм. Богров допрашивался по неизвестным причинам и накануне смертной казни) и постараться в этих показаниях отделить истину от лжи для того, чтобы понять ту борьбу, которую вел Дм. Богров до последней минуты своего существования.
И мы убедимся, что если настоящая книга и не может считаться «реабилитацией» Дм. Богрова, как рядового партийного революционера, то она должна безусловно служить его оправданием, как убежденного и по самой природе своей неподдельного анархиста.
II. Биографические данные
Отряд жандармов ворвался в ночь после покушения на Столыпина в дом отца для обнаружения мифических революционеров, которых придумал Дм. Богров, чтобы получить билет на торжества и попасть в близость Столыпина. На заявление родственницы Дм. Богрова, что родители его, находившиеся тогда заграницей, будут страшно потрясены известием о случившемся, начальник отряда заявил следующее:
«Дм. Богров потряс всю Россию, а вы говорите о потрясении его родителей».
И действительно, с молниеносной быстротой весть о покушении на Столыпина распространилась по всей России, были произведены тысячи арестов людей, не имевших к Дм. Богрову никакого отношения, распространялись самые нелепые слухи как о событии, так и о личности Дм. Богрова, а политические партии всех направлений извлекали из этих слухов и сплетен без всякой проверки то, что им было полезно для продолжения своей политической игры в Государственной Думе и вне ее.
Правые партии переименовали Дмитрия Богрова в «Мордко» (под этим вымышленным именем он фигурирует в обвинительном акте) и требовали еврейского погрома и разгрома революционных партий; на это евреи отвечали, что Дм. Богров — крещен, что также не соответствовало действительности; левые — клеймили охрану и требовали ликвидации охранной системы; кадеты негодовали против террористических актов с одной стороны, но с другой стороны находили для них какие то объяснения; беспартийные требовали «привлечения к суду» виновных в попущении и допущении и пр., и пр.
Об истине никто не заботился, так как важно было лишь использовать событие в качестве политического трамплина для своих собственных целей.
Поэтому необходимо прежде всего установить главнейшие данные из жизни Дм. Богрова, которые должны нам помочь разобраться в его духовной эволюции и объяснить его характер.
Родился Дм. Богров 29-го января 1887 г. Отец был киевским присяжным поверенным, домовладельцем. Дед Дм. Богрова по отцу был весьма популярным в 60-х годах в еврейских кругах писателем, писавшим главным образом на темы из еврейской жизни («Записки еврея», «Еврейский манускрипт» и друг.) и принципиальным сторонником ассимиляторского течения в еврействе.
Отец был весьма состоятельным человеком — его имущество оценивалось в сумму около 500.000 рублей — был видным членом киевского общества, в частности еврейского, пользовался всеобщим уважением, как хороший юрист и весьма отзывчивый человек, всегда готовый прийти на помощь нуждающемуся.
Несмотря на господствовавший антисемитизм, он был долголетним членом киевского Дворянского клуба, где он и имел возможность встречаться с видными представителями киевской администрации и магистратуры. Благодаря этим знакомствам отцу нередко удавалось выхлопотать смягчение участи и освобождение арестованных или осужденных революционеров.
Так как эти услуги оказывались, конечно, бесплатно, то кабинет отца постоянно осаждался ищущими у него помощи. По политическим своим убеждениям отец ближе всего примыкал к левому крылу кадетской партии, хотя официально в нее записан не был.
Образование Дм. Богров получил наилучшее, какое было возможно: наряду с посещением гимназии обучался иностранным языкам и занимался самообразованием, составив себе обширную и ценную библиотеку по социальным наукам. В гимназический период он ежегодно уезжал на летние месяцы заграницу с матерью.
По окончании гимназии в июне 1905 г. Дм. Богров поступает на юридический факультет Киевского Университета, а в сентябре 1905 г., накануне киевских погромных дней, по настойчивому требованию родителей, отправляется учиться заграницу, в Мюнхен, где я также в то время посещал университет. С сентября 1905-го года по декабрь 1906-го года Дм. Богров с небольшим перерывом в один месяц, когда приехал в Киев на каникулы, находился совместно со мною в Мюнхене. Университет в Мюнхене он посещал мало, а занимался главным образом и очень усердно своим самообразованием, пользуясь обширной университетской библиотекой.
Пребывание заграницей чрезвычайно тяготило Дм. Богрова. Он не мог примириться с той мыслью, что покинул Россию в особо тяжелое время, в минуту напряженной политической борьбы, пред назревающими серьезными политическими событиями. Он рвется всеми силами обратно в Россию и уже в декабре 1906 года окончательно возвращается в Киев.
Через год, осенью 1907 года, у Дм. Богрова был произведен первый безрезультатный обыск. У производившего обыск жандармского офицера имелся приказ об его аресте, в зависимости от результата обыска. Дм. Богров арестован не был.
Об этом обстоятельстве я не встречал упоминания ни в одной из статей о Дм. Богрове, хотя оно имеет, как мы увидим далее, большое значение. В виду установленной за ним после этого обыска усиленной слежке, он решает в декабре 1907 года временно уехать в Баку, к дяде, откуда возвращается в феврале 1908 г.
В начале сентября 1908 г. Дм. Богров был впервые арестован и в конце сентября 1908 г. вновь освобожден. Дома у него был после ареста произведен самый тщательный, но также безрезультатный обыск.
В октябре 1908 г. он уезжает с матерью в Меран, оттуда один в Лейпциг и Париж и только в конце апреля 1909 г. возвращается в Киев. То обстоятельство, будто Дм. Богров из Лейпцига несколько раз ездил по революционным делам в Львов и даже два раза наезжал в Россию, никому из родных не было известно.
В мае и сентябре 1909 г. Дм. Богров сдает полукурсовые экзамены в университете, а в феврале 1910 года — окончательные. После возвращения из Парижа, в апреле 1909 г. Дм. Богров самым энергичным образом отдался университетским занятиям, твердо решив в возможно короткий срок окончить университет. В этот период, как мы увидим, Дм. Богров ушел совершенно от всякой подпольной политической работы. Он даже фактически, не мог иметь времени для таковой.
Окончив университет, в февраля 1910 г. он уезжает в качестве молодого помощника присяжного поверенного в Петербург, откуда возвращается в ноябре того же 1910 г. Чувствуя, что здоровье его пришло в расстройство, он решается последовать совету родителей и уезжает в декабре 1910 г. отдохнуть на Ривьеру, в Ниццу, откуда возвращается домой в феврале 1911 г. В Киеве пытается усердно заниматься адвокатурой, посещая ежедневно кабинет присяжного поверенного А. С. Гольденвейзера, однако адвокатская работа его явно не удовлетворяет.
С 22-го июня по 5-ое августа 1911 г. Дм. Богров находится с родителями на даче в местечке «Потоки» под Кременчугом, куда и я приехал с женой в середине июля из Петербурга.
После возвращения в Киев, родители 12-го августа 1911 г. уехали заграницу, я-же с женой 17-го августа выехал обратно в Петербург. Вскоре после моего отъезда, а именно начиная с 27-го августа, развернулись те события, которые завершились 1-го сентября 1911 г. террористическим актом Дм. Богрова, 5-го сентября — смертью Столыпина и 11 — го сентября казнью Дм. Богрова.
Уже из этих чисто внешних данных биографического характера видно, что Дм. Богров пользовался в родительском доме преимуществами человека, которому открыты все пути и возможности, не знающего отказа ни в одном сколько-нибудь разумном желании. Во время своих частых поездок заграницу и в России, равно как и во время пребывания дома, Дм. Богров получал от отца определенное месячное пособие, которое составляло от 100 до 150 рубл. в месяц, а после окончания университета, в Петербурге, 75 рубл. в месяц, так как тогда Дм. Богров имел еще и жалование по службе секретаря в Комитете по фальсификации пищевых продуктов при Министерстве Торговли и Промышленности — 50 р. в месяц, а также зарабатывал кое-что и по судебным делам.
В виду того, что Дм. Богров, как еврей, не мог получить в то время звания присяжного поверенного и был стеснен в праве на практику, отец неоднократно предлагал ему более крупную единовременную сумму для организации какого либо коммерческого дела. Однако от этого Дм. Богров отказывался.
Я должен отметить самым категорическим образом, что Дм. Богров вел самый скромный образ жизни. Никогда Дм. Богров не принадлежал к кругу так наз. «золотой молодежи» и, что очень характерно, никогда даже не имел соответственной парадной одежды — студенческого мундира, сюртука, смокинга.
Фрак он заказал себе впервые по окончании университета, так как это было необходимо для его адвокатских судебных выступлений. Поэтому смешно, когда Струмилло говорит о «картах, кафе-шантанах», которые будто бы играли крупную роль в жизни Дм. Богрова.
Это опять таки относится к области ложных предположений которыми так богата статья Струмилло. Хотя Дм. Богров и любил карты, как игру, как азартный спорт, так же, как любил шахматы или спорт, но ни разу в его жизни не было случая, чтобы из за карт он забыл о каких либо своих обязанностях, попал в денежные затруднения, имел неприятности… Тем более «кафе-шантаны»…
Для того, чтобы избежать обвинения в пристрастном отношении, я позволю себе привести выдержку из общей характеристики Дм. Богрова, помещенной в газете «Будущее» неизвестным мне автором:
«С ранних лет Дм. Богров выдается своим умственным развитием и начитанностью, интересуется историей, географией, войнами, биографиями великих полководцев, Суворовым и Наполеоном. Он упивается с детства игрой в солдатики, а впоследствии всеми видами спорта.
Он был прямо таки блестящий шахматист, но заметив, что шахматные увлечения мешают серьезным занятиям, решил внезапно бросить игру и бросил. На ряду с этими качествами он отличался душевной чуткостью, отзывчивостью и добротой…
Осенью 1905 г. Дм. Богров поступил в Киевский университет вполне сформировавшимся эсером. Во время избиения в литературно-артистическом обществе публики, собравшейся на реферат Водовозова, он чуть ли не один остался в зале, где неистовствовали городовые, защищаясь деревянной палкой от шашек, которыми таковая и была перерублена пополам.
Вся публика в панике ринулась из залы, а Богров не растерялся. Он сам рассказывал, что это был первый опыт самообладания. Действительно, перед лицом непосредственной опасности он не терялся: у него являлась поразительная выдержка. И замечательно: это качество сочеталось у него с большой экспансивностью его натуры.
Стоило ему увидеть перед собою какое-нибудь насилие, у него загорались глаза и он хватался за браунинг, который позже постоянно носил с собою… Все, кто когда либо имел дело с Богровым, беру смелость утверждать, все без исключения признавали неотъемлемую черту Богрова, его душевное благородство. Оно покоряло, может быть, потому что оно редкое и едва ли не самое ценное качество настоящего человека. Благородство, состоявшее в том, что он до глубины души ненавидел насилие и допускал его только в отношении насильников, которых признавал, однако, только среди патентованных врагов: имущих власть.
К товарищам же, и даже ко всем мирным обывателям, относился любовно, как бы прощая им все недостатки. Никогда против товарищей он не проявлял активной злобы — на все их промахи, на поступки их, которые шли в разрез с принципами, которые прямо нарушали понятия о человеческом достоинстве, о чести, честности, он отвечал… юмором и словами насмешки. В серьезных случаях сам уходил от таких. Тонкая духовная организация, душевная мягкость, отсутствие какой бы то ни было обывательщины, отсутствие рисовки, благодаря полной атрофии чувства тщеславия — вот что располагало к нему всех и делало его душою всякого общества, начиная с рабочего и кончая великосветским. К этому нужно добавить: огромную инициативу, блестящее остроумие и находчивость.
К собственной жизни он относился настолько же легко, насколько бережно (да, именно бережно) обходился с жизнью другого. Своя жизнь, говаривал он, не стоит, чтобы ее тянуть. И потому свою жизнь он сознательно прожигал. Зато когда к нему обращался товарищ-рабочий за рублем на жизнь, которого у самого Богрова не было, потому что он даже свои деньги отдавал на партийные нужды, он сам обегал всех знакомых, чтобы достать нужное. Это могут удостоверить многие.
Когда он отдавался делу, он отдавался беззаветно, всей душой, не щадя ни сил ни здоровья, ни карьеры, ни своего общественного положения, ни жизни, когда это понадобилось. И если все, кто только может, ищут теперь ответа на вопрос, ценой чего Богров получил пропускной в театр билет охранника, пусть знают, что только придерживаясь вышеуказанной характеристики Богрова, как человека, они найдут правильный ответ на интересующую их и всех продолжающую интересовать и волновать загадку» (Будущее, № 24 от 31-го марта 1912 г. «К характеристике Дм. Богрова».).
Соответственную характеристику дают Дм. Богрову его товарищи по революционной работе. То же самое слышим мы от его друзей и знакомых, которым его революционная работа вообще была неизвестна.
Далее приходится остановиться на развитии революционного мышления Дм. Богрова, т. е. на эволюции его революционной идеологии. Еще будучи учеником 5–6 класса гимназии, т. е. в период 1902–1903 года. Дм. Богров сближается с гимназическими кружками и партийными организациями средних учебных заведений и начинает теоретически и практически интересоваться политикой. В первый период своей работы он всецело подпадает под влияние своего старшего двоюродного брата, Сергея Богрова, жившего и воспитывавшегося также в доме отца. С. Богров был по убеждениям социал-демократ и в этом направлении он, конечно, старался воздействовать и на Дм. Богрова.
Однако уже очень скоро Дм. Богров начинает политически мыслить более самостоятельно и освобождается из под его влияния. Ко времени окончания гимназии и поступления в университет в 1905 году он является убежденным социалистом-революционером и при том определенно левого направления. Он отвергает одностороннюю экономическую и социальную теорию социал-демократии, а также их нерешительную, компромиссную тактику. В партии социалистов-революционеров он вскоре также занимает самую крайнюю левую позицию и входит в группу максималистов, сторонников самой решительной тактики, борьбы, связанной с революционными выступлениями, экспроприациями, террористическими актами.
В таком именно настроении Дм. Богров приезжает осенью 1905 г. в Мюнхен, где я, живя с ним вместе, имел возможность непосредственно наблюдать дальнейшую эволюцию его революционного мышления. Будучи искусственно устранен от практической революционной работы, Дм. Богров всецело отдается теоретическому изучению революционной литературы. Тут то он и знакомится с анархо-синдикализмом или с анархизмом-коммунизмом, именуемом так в отличие от анархизма-индивидуализма (учение Штирнера). Это последнее течение Дм. Богров отвергает, так как полагает, что оно в конечном итоге приводит к буржуазному, эгоистическому идеалу, к прославлению отдельной личности, как таковой, освобождая ее от всяких обязательств не только внешне-принудительного порядка, отвергаемых всяким анархизмом, но и от внутренне моральной связанности и необходимости служения социальному идеалу.
Теоретики анархизма — Кропоткин и Реклю — стали его настольными книгами, а у Бакунина и французских анархо-синдикалистов он искал руководства для дальнейшей практической деятельности.
Быть может искусственная изоляция от русской жизни оказала на Дм. Богрова влияние обратное тому, к которому стремились родители. Заняться общими науками, отказаться от русской действительности и спокойно сидеть заграницей оказалось ему не под силу. Развернувшиеся в России ужасные события — еврейские погромы, созыв и роспуск 1-й Государственной Думы, политические процессы и повсеместное господство белого террора, властно требовали возвращения Дм. Богрова на родину для того, чтобы принять активное участие в происходящей борьбе. К этому периоду относится письмо его к родителям, в котором он заявляет, что он «не может оставаться сложа руки заграницей, когда в России избивают людей».
После возвращения в Киев, в декабре 1906 г., Дм. Богров окончательно примыкает к группе анархистов-коммунистов и хотя в 1909 г. и прекращает подпольную революционную работу в этой группе, однако по своим убеждениям остается до смерти анархистом.
До настоящего времени мне памятны те теоретические споры, которые происходили зачастую между братом с одной стороны, и отцом и мною с другой. Отец и я выступали обыкновенно в защиту эволюционного развития, брат же требовал не только революционного изменения существующего строя, но полного уничтожения социальных основ существующего государственного порядка. Так как мы были вооружены большим запасом знаний, фактических и логических доказательств, то и оказывались обыкновенно «диалектически» победителями в споре. И в этот момент, когда брат вынужден был признать себя «логически» побежденным, у него на глазах наворачивались слезы отчаяния и было ясно, что пред нами фанатик, которого нельзя «переубедить», так как его верования глубже его логики. Его можно было только огорчить и озлобить непониманием.
Последний такой спор, запомнившийся мне, относится к 1908-му году. Он произошел по следующему поводу: Дм. Богров прочел в какой то газете статистику смертей от голода, происходящих ежегодно в разных странах. По этой статистике значилось, что в одном Лондоне за последний год скончалось от голода 10 человек. В этом поистине ужасном факте Дм. Богров усмотрел доказательство того, что не может быть места такому политическому и социальному порядку, при котором возможны подобные явления. Отсюда дальнейший вывод — необходимость полного уничтожения и переустройства современного государственного и экономического строя. Отец и я указывали, конечно, на то, что цифры той же статистики доказывают, что в разных странах погибает от голода различное количество людей, а потому социально-экономические условия Англии, где от этой причины умирает меньшее количество людей, чем в других странах, все же должны быть признаны лучшими, чем таковые в других странах.
А, следовательно, не обязательно стремиться к уничтожению современного государства, а возможно работать над улучшением и исправлением условий современной жизни.
Эту точку зрения Дм. Богров никак не соглашался признать правильной доказывая, что количественная разница не играет в данном случае никакой роли — безразлично умирают ли в современном государстве от голода сто или тысяча человек. Наоборот, если в такой стране, как Англия, среди окружающего избытка, богатства, роскоши, которыми пользуются некоторые классы населения, один человек погибает на улице от голода, то это свидетельствует о большем моральном и социальном разложении, чем когда в другой, бедной стране, гибнет тысяча человек, которых спасти было невозможно. Спор окончился так, как было указано выше.
Для того, чтобы и для непосвященных в учение анархизма было ясно дальнейшее, мне придется теперь вкратце изложить сущность той революционной идеологии, которая сложилась у Дм. Богрова, и которая являлась движущей силой во всех его дальнейших решениях и его дальнейшей революционной работе.
Анархизм-коммунизм является наиболее крайней и несомненно в идеологическом смысле наиболее высокой социальной теорией. Анархизм-коммунизм ставит себе целью освобождение человеческой личности от всякого насилия и принуждения, налагаемого на нее извне, как члена общежития. Поэтому анархисты являются принципиальными врагами государства — как общественно-принудительного, полицейского, порядка, собственности — как принудительно-охраняемого экономического института, церкви — как системы религиозного принуждения, общественной морали — как совокупности понятий о добре и зле, воспитываемых требованиями общественной традиции и обычая.
«Анархия есть общество без государства. Анархия есть порядок и организация индивидуальной, социальной и коллективной жизни сообразно согласованному усмотрению участников, однако, совершенно без всякого принуждения со стороны какой либо посторонней власти» (Pierre Ramus. Das anarchistische Manifest, Berlin S. 8.). Ни одна группа внутри этого нового общества не в праве принудительно изолироваться от другой. Однако, не какое либо писанное «право» запрещает ей это, а просто требования социальной необходимости, чувства социальной взаимности. «Таким образом выход из одной какой либо группы и вступление в другую или присоединение к нескольким совершенно свободны» (Там же, стр. 10.). Каждый член анархического общества может рассчитывать на то, что будет свободно располагать количеством благ, сообразно своим потребностям.
Доказательством того, что подобный строй практически возможен и осуществим служат следующие соображения. Взгляд на человека, как на существо по природе своекорыстное, ленивое и жестокое, по мнению теоретиков анархизма совершенно ошибочный. Современного человека сделали таким только ненормальные экономические условия, в которых он живет. Основные же, природные свойства человеческой натуры, как и вообще большинства живых существ, совершенно обратные. Общественный инстинкт и стремление к взаимопомощи гораздо примитивнее, чем стремление к обособлению и исключительности. Чрезвычайно интересны исследования Кропоткина в этой области.
Его наблюдения над миром животных имеют несомненно высокую научную ценность. Он приводит целый ряд примеров существования ярко выраженного социального инстинкта у животных. С тех пор, как человек существует, он существует в обществе себе подобных, и сознательно или инстинктивно признает, что только сотрудничество с другими людьми и взаимопомощь обеспечивают ему достижение его жизненных целей.
Поэтому альтруизм является совершенно таким же элементарным свойством человеческой природы, как и эгоизм, а эксцессы того и другого свойства, выражающиеся в современном обществе с одной стороны в фанатическом увлечении идеей самоотречения, а с другой стороны — в бессовестной эксплуатации социально слабейшего, являются лишь болезненными результатами современного уродливого общественного строя.
То же самое должно быть сказано и о мнимо «присущем» человеческой природе свойстве быть ленивым, избегать работы. Современный человек бывает ленив главным образом лишь потому, что переобременен работой или вынужден заниматься не тем, что ему по душе. Стремление к работе есть естественная потребность к упражнению своих мускулов. Посколько таковое не переходит за пределы физически здорового движения или напряжения, оно является элементарной потребностью всякого нормального живого организма. От подобной работы не станет уклоняться ни один здоровый человек. Работы в этом смысле и в этих пределах избегают лишь больные люди. Но эти последние патологические элементы нуждаются в лечении, а не в принуждении к труду.
«Принуждение» нормального человека к работе мыслимо лишь при современном общественном строе, когда работа производится свыше нормальных человеческих сил, когда выбор таковой производится в принудительном порядке, без согласования с желанием и способностями самого трудящегося, а плоды ее достаются не самому рабочему, а эксплуатирующему его труд хозяину. Больше всего жалоб на человеческую леность приходится слышать от людей, которые принадлежат к привилегированному классу бездельников и пользуются только результатами чужого труда. Естественно, что при таких условиях понятно с одной стороны стремление человека уклоняться от труда, а с другой понятно и опасение того класса людей, которые живут за счет продуктов этого труда, как бы не расплодилось слишком много «лодырей», «бездельников», «лентяев», т. е. таких людей, которые предпочитают жить так, как живут они сами — за счет чужого труда.
При анархо-коммунистическом строе «лентяев» не может быть и не будет, так как не безделие, а здоровая работа отвечает нормальным запросам человеческого организма.
Наконец, по поводу «жестокосердия» человека, присущих будто бы человеку преступных, злых инстинктов, для укрощения коих необходим закон и принуждение, анархисты указывают, что эти свойства развиваются в человеке лишь тогда, когда извращенные условия общественной жизни заставляют его отказаться от нормального пути согласования своих действий с интересами остальных членов общества. Человек теряет уважение к закону, когда убеждается в том, что государственный закон служит лишь интересам определенных привилегированных классов и не дает возможности обеспечить свое существование в равной степени всем членам общества. Все теории государственного права доказывают, что подчинение людей государственной власти необходимо потому, что в противном случае дикие и преступные страсти народа являлись бы угрозой для самого существования общества и государства, и привели бы несомненно к его уничтожению. А анархисты утверждают как раз обратное, а именно, что современный порядок государственного принуждения вызывает озлобление и протест в подчиненных массах, так как целью этого «порядка» является не водворение мира и добра, а как раз обратное — порабощение одних классов другими и монополизирование небольшой группой лиц большинства общественных благ.
При анархо-коммунистическом строе мир и порядок будут обеспечены не насилием, страхом пред властью государства, законом, а отсутствием поводов для нарушения морального закона, так как пользование всеми благами будет равно доступно для всех членов общежития.
Что касается тактики анархистов в их борьбе против современного государства и порядка общественного насилия, то я позволю себе процитировать некоторые выдержки из анархической литературы.
Постановления Лондонского Конгресса анархистов 1881 г. по этому поводу гласят так: «Конгресс постановил, что пропаганда словом и в печати недостаточна и рекомендует, как главное агитационное средство — пропаганду действием. Он объявляет, что одобряет полное и насильственное разрушение существующих учреждений; он объявляет, что считает нравственными все средства, которые служат для разрушения современного безнравственного общества; он объявляет, что час для выступления и для революционного действия наступил и требует полного напряжения всех сил для того, чтобы путем действий идея революции и революционный дух были подняты на должную высоту. Почва законности, на которой до сих пор в общем оставались, должна быть покинута, так как к революции ведет исключительно выступление на противозаконном пути» (Газета «Свобода», Нью Йорк, 30-го июля, 6 и 13 августа 1881 г.).
Анархисты стоят на той точке зрения, что для достижения их целей дозволено всякое средство, и отрицание закона — их высший принцип (Bericht des General-Anwaltes über die anarchistischen Umtriebe in der Schweiz v. 21. Mai 1885.).
«Мы считаем всякое средство, которое способствует делу социальной революции, правильным и рекомендуем его. Наши враги никогда не были разборчивы в выборе средств для борьбы с народом. Разбой и убийство стали второй их натурой. Так пусть же будет: око за око!» («Свобода», Нью-Йорк, 7-го июля 1884 № 23.)
Если преступные деяния носят частный, не политический характер, т. е. относятся к разряду так наз. «уголовных преступлений», то они совершенно не интересуют анархиста ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Но «если преступления совершены в интересах революционного дела, то мы их одобряем, независимо от того, нравятся ли нам отдельные подробности или нет» («Свобода» Нью-Йорк 5 июля 1884 г. № 27.).
«Нужно нападать, где и как возможно! Чем бесшумнее лакеи порядка могут быть ликвидированы, тем меньше опасности при выступлении. Револьвер — хорош, когда угрожает крайняя опасность; динамит — нужно пускать в ход лишь при самых серьезных, политических выступлениях. А вообще, кинжал и яд весьма практичные средства пропаганды» («Свобода» Нью-Йорк 25 января 1886 г, № 4.).
Все приведенное выше относительно тактики анархистов в их борьбе с существующим правопорядком может быть формулировано в трех словах: «цель оправдывает средства». Это положение толкуется анархистами в самом широком, не допускающем никаких ограничений смысле. Отдельные, революционно настроенные личности совершают покушения на отдельных представителей государственной власти или экономического правопорядка, более значительные группы, запасшись оружием, поднимают революционные восстания, а рабочий пролетариат, сила которого заключается в его голых руках, объявляет всеобщую забастовку.
Однако, главным залогом для успеха анархического движения является не только проникновение каждого отдельного лица теоретическими лозунгами и не только практическое их выявление во внезапных, из ряда вон выходящих революционных выступлениях. Торжество идеи анархизма должно прежде всего проявиться в осуществлении его идеологии в повседневной, будничной жизни. Тот, кто не только выдает себя за анархиста, но и действительно является им, должен быть таковым во всем своем поведении и во всем образе жизни.
«В протесте индивидуума и группы лиц против существующего порядка заключается первый толчок к новому. Анархист это понимает; его протест имеет место каждый день. Он не подчиняется никакому закону, обычаю, традиции, морали; он подчиняется лишь требованиям своего разума и своего идеалистического принципа. И тем, что его образ жизни в духовном, материальном, моральном, интеллектуальном и психическом отношении отличен от образа жизни рядового {46} человека, он действует разлагающим образом на существующее, строя для будущего, для будущего свободного общества» (Pierre Ramus, «Das anarchistische Manifest», Berlin, S. 15.).
Таковой и была в общих чертах революционная идеология Дм. Богрова, когда он в конце 1907 г. вернулся из Мюнхена в Киев и ушел с головой в революционную работу.
III. Революционная работа Дм… Богрова с 1907 по 1910 г
Никому из родных и даже друзей Дм. Богрова до самого последнего периода его жизни не было известно, насколько интенсивно он погрузился в революционное дело. Хотя ни для кого не были секретом крайние левые политические убеждения Дм. Богрова, однако, свое активное участие в пропаганде среди рабочих и в революционных выступлениях он умел скрывать с поразительной конспиративностью. Чтобы не возбуждать подозрений среди домашних, он сделал себе правило никогда не пропускать времени домашнего обеда, не уклоняться от исполнения определенных обязанностей по отношению к друзьям и знакомым семьи. Он избегал переодеваний, а когда, иной раз, сбрасывал студенческую тужурку и одевал черную фетровую шляпу вместо студенческой фуражки, то старался никем не замеченный выходить из дому.
Вообще, в отдельных разговорах со мною он возмущался полным отсутствием конспиративности в революционных организациях. Он жаловался на то, что члены партий страдают «недержанием речи», не стесняются показываться везде и всюду, на улице, в кинематографе, в публичных собраниях, даже когда готовят какое либо решительное выступление, и удивлялся, как при таких условиях удается вообще что либо скрыть от охранного отделения.
Для характеристики Дм. Богрова, как революционного деятеля, я позволю себе привести отзывы о нем двух его товарищей по работе.
«Восхищение его умом, стойкостью, тактичностью и находчивостью в опасных случаях было больше, чем недовольство его недостатками, свойственными всякому человеку.
Прежде всего Дмитрия характеризовали, как умелого и смелого боевика и хорошего, приковывающего внимание оратора.
Говорил он всегда мало и говорил всегда дело.
Он был из тех людей, у которых слова не расходятся с делом.
Деление труда в партийных выступлениях не было свойственно ему практически.
Глубоко и умело разбираясь в теоретических вопросах, он ловко владел и оружием.
Ни его образование, ни его социальное положение не выдавали его, как «барского сынка», занимающегося революцией «от скуки».
В обыденной жизни всегда прост и обходителен, он был душой рабочей среды и ловко с ними уживался, как с «равными».
Правда, замкнутость его натуры требовала от него частенько «быть в себе самом», но зато минуты «вдохновения» — были очаровательны. За свою недолгую жизнь ему неоднократно приходилось участвовать в террористических выступлениях, где он не выказывал страха, а проявлял такую же глубину ума и тактики, как в обычной организаторской работе…
Замечательно то, что в числе неудовольствий по адресу Дмитрия — против тех черт его характера, в каких я и многие другие находили одно из лучших достоинств человека вообще и революционера в особенности — указывалась замкнутость его натуры, свидетельствующая о богатстве внутреннего мира, и конспиративность, говорящая об опытности и серьезном отношении к делу» (Из письма товарища Дм. Богрова, привлеченного по делу Г. Сандомирского и др. цит. по А. Мушину, «Дмитрий Богров и убийство Столыпина», Париж, 1914 г., стр. 89.).
Другой близкий товарищ Дм. Богрова по революционной работе, Герман Сандомирский, пишет следующее:
«Наиболее ярким периодом моего знакомства и совместной работы с Дмитрием Богровым я считаю последние 2–3 месяца 1907 г. Познакомился я с ним летом того же года, как с членом Киевской группы анархистов-коммунистов. Но в первый период наши отношения были довольно формальные. У Дмитрия Богрова тогда было больше связей среди киевских рабочих, чем у меня. Он был чисто местным работником и его знали, как деятельного организатора и пропагандиста. Если мне не изменяет память, его пропагандистская работа имела место, главным образом, среди отдельных кружков арсенальных рабочих, в более широких размерах — среди булочников, каретников, сахарников (Демиевка). Я же до того времени работал в других центрах и в Киеве был сравнительно новичком. Как работник, Богров мне всегда чрезвычайно нравился. В нем, конечно, легко было наблюдать черты, присущие революционной интеллигенции того времени, но в нем поражала его неутомимая энергия, которая так отличалась от дилетантизма обычного российского интеллигента.
В противоположность другим студентам, работавшим в революционном движении, Богров вовсе не считал себя «спецом» по пропаганде или по составлению листовок. Он не уклонялся никогда и от других видов революционной деятельности: принимал участие в подготовке боевых предприятий, экспроприации и т. д., не уклонялся и от мелкой, повседневной организационной работы. Никто и никогда от Богрова не мог услышать весьма распространенных в тогдашней недисциплинированной интеллигентной среде ответов вроде: «Эта работа мне не подходит… Я к ней не подготовлен… Я предпочитал бы, товарищи, что-нибудь другое» и т. д.» (Г. Сандомирский. «К вопросу о Дмитрии Богрове. Каторга и ссылка» 1928 г., № 2 стр. 15, 16.)
«Еще в 1907 г. у меня зародилась мысль о совершении террористического акта в форме убийства кого либо из высших представителей правительства, каковая мысль являлась прямым последствием моих анархических убеждений», говорит Дм. Богров в своих показаниях следователю по особо важн. делам В. И. Фененко от 2-го сентября 1911 г. В показаниях от 1 — то сентября 1911 г. жандарм, полк. Иванову, Дм. Богров заявляет: «решив еще задолго до наступления августовских торжеств совершить покушение на жизнь министра внутренних дел Столыпина, я искал способ осуществить это намерение».
«Вернувшись в Киев (из Мюнхена — курсив мой), я в декабре 1906 г. примкнул через студенческий кружок к группе анархистов-коммунистов… Примкнул я к группе анархистов вследствие того, что считал правильной их теорию и желал подробнее познакомиться с их деятельностью». (Показание Дм. Богрова след. В. И. Фененко от 2-го сентября 1911 г.)
Эти показания Дм. Богрова следственным властям совершенно совпадают со сведениями, сообщаемыми нам его товарищами по анархической группе. Г. Сандомирский сообщает о разногласиях, возникших на Киевской городской конференции группы анархистов-коммунистов, состоявшейся в конце 1907 г., в которой Дм. Богров принимал деятельное участие.
На этой конференции Дм. Богров «возбудил недовольство той части конференции, состоявшей из боевиков, которой было поручено в конспиративном порядке обсудить ряд замышлявшихся террористических актов, именно тем, что предлагал организовать ряд покушений против высших военных и полицейских чинов Киева.
Среди нас было много горячих апологетов антибуржуазного террора, которые возмущались речами Богрова и заявляли, что с такой программой террористической деятельности ему следовало бы обратиться не к анархистам, а к боевой организации социалистов-революционеров. Эти товарищи подчеркивали, что Богров не предложил ни одного акта против местной буржуазии. Именно им Богров горячо возражал, доказывая, что анархизм хотя и не имеет ничего общего с парламентаризмом, ни с демократией, но должен возглавлять собою и политическую борьбу с самодержавием» (Г. Сандомирский. «К вопросу о Дм. Богрове, Каторга и Ссылка», 1826 г. № 2, стр. 19.). Насколько я лично припоминаю, речь шла тогда о покушении на командующего войсками Киевского Военного Округа, на начальника Охранного Отделения, о взрыве Киевского Охранного Отделения и Киевского Жандармского Управления, об освобождении заключенных, об организации побегов и проч.
В ноябре 1907 г., как было указано выше, у Дм. Богрова был произведен первый обыск. Обыск оказался безрезультатным, хотя был произведен с необычайной тщательностью и продолжался около 4-х часов в одной комнате. Арестован Дм. Богров не был, однако, за ним устанавливается столь настойчивое наблюдение, что он решает по совету товарищей на время уехать из Киева.
Возвратившись в Киев в конце февраля или начале марта 1908 г., он вновь принимается за революционную работу и помещает в газете «Анархист» № 3 корреспонденцию о развитии анархической работы в Киеве. В этой корреспонденции Дм. Богров между прочим пишет следующее:
«В настоящей заметке я намерен выяснить те принципы и основные положения, которым стремились следовать работавшие товарищи в Киеве, осветить внутренний процесс организации киевских анархистов-коммунистов, не останавливаясь на положении местной хроники движения, не перечисляя временные неуспехи и систематические неудачи, которые выпали на нашу долю.
«Практика революционной работы выдвинула целый ряд вопросов, требовавших немедленного разрешения. Среди них первое место занял вопрос об отношении к экспроприациям. Киев не представлял исключения из других южных городов. В нем также оперировали группы экспроприаторов, употреблявших деньги на личные нужды своих членов и прикрывавшиеся именем анархизма. Даже в среде более или менее идейной, из которой впоследствии вышли энергичные работники, развился чрезвычайно дух «компромисса».
«Совершавшие экспроприацию выговаривали на свои личные нужды известный процент с экспроприированных денег и т. д. Анархисты-коммунисты Киева категорически отвергли всякое содействие к улучшению материального положения товарищей путем денежных экспроприации на том основании, что такая экспроприация есть ничто иное, как переход денег от одного собственника к другому и что она не имеет никакого революционного значения.
«Все члены Киевской группы заранее отказываются от пользования экспроприированными деньгами на личные нужды, предназначая их исключительно в распоряжение группы для продолжения и расширения деятельности».
Далее в той же корреспонденции Дм. Богров останавливается на вопросе об отношении а. — к. к профессиональному движению, к отдельным террористическим актам и проч.
Настоящая корреспонденция приведена мною с той целью, чтобы доказать, что и в 1908 г. Дм. Богров стоит в центре революционной работы анархистов-коммунистов.
Киев к тому времени становится центром, штаб-квартирой, куда стекались анархисты отовсюду для получения явок, справок, денежных выдач и проч. Дм. Богров распоряжается деньгами, полученными Киевской группой в июле 1908 г. от борисоглебских максималистов за некоторые услуги, которые киевские анархисты-коммунисты оказали сидящим в Киевской тюрьме максималистам. Деньги эти, в сумме 1080 р. 50 к., расходовались на революционные нужды группы в течение времени до середины сентября 1908 г. и подробный отчет в этих деньгах был напечатан в «Бунтаре» № 4 за 1909 г. (А. Мушин, Дмитрий Богров и убийство Столыпина, стр. 112.)
10 сентября 1908 г. Дм. Богров был арестован, а на квартире его был произведен самый тщательный обыск. Обыск и в этот раз оказался безрезультатным. После освобождения, 25 сентября 1908 г. Дм. Богров показывал мне записки, на его счастье, не найденные при обыске. По его словам это были рецепты различных химических составов и взрывчатых веществ и обнаружение этих записок его несомненно погубило бы. Ныне я более склонен предполагать, что дело касалось не «рецептов взрывчатых веществ», а резолюций конференции анархистов, заключавших фамилии ряда лиц, и хранившихся по свидетельству Г. Сандомирского у Дм. Богрова.
Освобождение Дм. Богрова последовало после усиленных хлопот отца пред местной администрацией. Будучи на свободе Дм. Богров устанавливает, что слежка за ним продолжается. Он должен избегать встреч со своими товарищами, чтобы их не провалить, он старается не выходить из дому.
Одновременно с этим в Киевской Лукьяновской тюрьме возникают слухи о связи Дм. Богрова с охранным отделением, дошедшие и до него самого. По требованию Дм. Богрова в тюрьме состоялось совещание всех товарищей, работавших с Дм. Богровым, и это совещание вынесло резолюцию, совершенно оправдавшую его. Резолюция эта была переслана Дм. Богрову и резолюцию эту он впоследствии имел намерение напечатать в одном из анархистских органов в Париже. Товарищи убедили его этого не делать, так как считали это лишь раздуванием ничтожного дела.
В середине 1909 г. можно считать законченным период революционной работы Дм. Богрова, как члена Киевской группы анархистов-коммунистов. Как было указано выше, к этому времени. Дм. Богров принимается усиленно за занятия университетскими науками, держит экзамены в мае и сентябре того же года, а в феврале 1910 г. сдаст окончательные экзамены по юридическому факультету.
По окончании университета он уезжает в марте 1910 г. в. Петербург. К этому периоду относится и неоднократно повторявшееся им заявление о том, что он считает возможным совершение террористического акта исключительно индивидуально, без помощи с чьей либо стороны. «В таком деле никогда и никому нельзя довериться», говорил он в 1909 г. двоюродному брату, приезжавшему к нам погостить из Москвы. Одновременно они вели разговоры на тему о том, кто самый опасный и вредный человек в России, устранение которого было бы наиболее целесообразно. И в этих разговорах они неизменно возвращались к имени Столыпина…
Одновременно с этой революционной работой по группе анархистов-коммунистов, Дм. Богров, как это обнаружилось лишь после события 1-го сент. 1911 г., вел борьбу и на совершенно ином фронте. Из сопоставления показаний самого Дм. Богрова на предварительном следствии с показаниями начальника Киевского охранного отделения Кулябко можно с известной достоверностью предположить, что Дм. Богров впервые явился к Кулябко с предложением своих услуг в середине 1907 г.
По официальной справке Киевского Охранного Отделения о сотруднике «Аленском» (Дело Деп. Пол. 124 № 124в/1911 г.) значится следующее: «По отчетам Киевского Охранного Отделения в числе сотрудников сего отделения с февраля 1907 г. по март 1910 г. состоял по анархистам-коммунистам «Аленский» (условная кличка, данная Дм. Богрову). Получал 100 рублей в месяц». В своих показаниях следователю по особо важным делам Фененко от 2-го сентября 1911 г., Дм. Богров говорит следующее: «Когда я впервые явился в середине 1907 г. в охранное отделение, то начальник его, Кулябко, расспросил меня об имеющихся у меня сведениях и, убедившись, по-видимому, что таковые совпадают с его сведениями, Кулябко принял меня в число своих сотрудников и стал уплачивать мне 100–150 руб. в месяц… Всего работал я в охранном отделении около 2 1/2 лет».
Все исследователи дела Дм. Богрова, считают совершенно невыясненным, по каким причинам Дм. Богров решился завязать отношения с охранным отделением. Между тем вопрос этот разрешается чрезвычайно просто, если подойти к нему с точки зрения психологии самого Дм. Богрова. Вся короткая революционная жизнь и деятельность Дм. Богрова являет нам картину совершенно стройного, последовательного развития, закончившегося именно тем, что являлось целью его жизни.
Появление Дм. Богрова у начальника Киевского охранного отделения Кулябко в середине 1907-го года, совпадает, как мы видели, с самым разгаром его революционной работы, в качестве члена группы анархистов-коммунистов. Воодушевленный идеологией этого учения, недавно вернувшись из заграницы, где больше не в силах был усидеть «без дела», бросившись с головой в самую гущу революционной работы и принимая в ней самое активное участие во всех направлениях, Дм. Богров одновременно со всем этим направляется… на службу в охранное отделение! Разве уже априори не ясно, что поступок этот является ничем иным, как шахматным ходом и одним из путей, избранным им, наряду с целым рядом других, для достижения все тех же революционных целей!
Вспомним приведенные выше принципы «анархического манифеста», в котором объявляется, что «всякие средства», допустимы для достижения поставленной себе революционной цели, и мы поймем, что Дм. Богрова, тогда 20-ти летнего юношу и фанатика анархической идеи, не могли остановить никакие «революционно-этические» соображения от того шага, который он признал полезным для осуществления своих анархических целей.
Не могли его также остановить и соображения «партийной дисциплины», так как революционная организация, к которой принадлежал Дм. Богров, не являлась «партией» в смысле объединения, подчиняющего своих членов определенным правилам революционного поведения и предъявляющего к ним установленные требования дисциплины или тактики.
Дм. Богров был членом свободного революционного объединения, группы анархистов-коммунистов, принципиально чуждого всякой «принудительной» регламентации поведения. Учение анархистов предоставляет каждому члену организации по свободному усмотрению определить линию своего поведения и только руководствуясь своей собственной совестью избирать пути для осуществления своих революционных целей.
Дм. Богров избрал в качестве одного из таких путей — использование охранного отделения для совершения террористического акта, и, как мы знаем, именно этот путь, а не какой либо иной, дал ему возможность достигнуть того, что являлось целью его жизни и революционной работы.
Я утверждаю, что для того, чтобы понять поступок Дм. Богрова, а также для того, чтобы понять и оценить его личность, исследователи дела должны отречься как от точки зрения «буржуазной морали», так и от «партийной революционной этики», а должны стать единственно на почву психологии анархизма. Тогда эта часть «загадки Богрова» получит простое и убедительные объяснение.
Труднее было бы доказать вышеприведенные утверждения, если бы наряду с идейными мотивами можно было бы, хотя бы с некоторой вероятностью, предположить существование каких либо иных, своекорыстных, побуждений, заставивших Дм. Богрова направиться в Киевское охранное отделение. Однако, наличность подобных побуждений довольно единодушно отвергнется всеми исследователями.
Действительно, звание «агента охранного отделения» далеко не почетное, а служба его отнюдь не спокойная и безопасная. Нельзя не признать, что даже для самого беспринципного человека буржуазного класса требовалась бы большая доля решимости, если не сказать отчаяния, для того, чтобы избрать такую «карьеру». Несомненно, что молодой человек из богатой семьи, вращающийся в лучших интеллигентских кругах общества, и, притом, проникнутый резко революционным настроением, мог бы завести сношения с охранным отделением, лишь под давлением каких либо особенно тяжелых, роковых обстоятельств. И при этих условиях поступок его не мог бы быть оправдан, но, во всяком случае, он был бы объясним.
Таких обстоятельств в жизни Дм. Богрова никогда не было, и даже сам Кулябко, заинтересованный в том, чтобы дать правдоподобное объяснение для поступления Дм. Богрова к нему на службу, не приводит никаких данных этого рода.
Как мы видим, материальные соображения не могли играть решительно никакой роли в данном случае, так как Дм. Богров не только не испытывал никогда никакой нужды, но, наоборот, всегда имел излишек денег в своем распоряжении. Как я уже указывал выше, отец не жалел для него никаких средств, что видно из значительных расходов, которые производились на его образование и путешествия заграницу, и, конечно, Дм. Богров не услышал бы отказа, если бы ему, по каким либо соображениям, нужно было получить от отца лишнюю сумму денег. В показании от 2-го сентября 1911 г. следователю Фененко Дм. Богров, между прочим, говорит следующее: «я лично всегда жил безбедно, и отец давал мне достаточные средства для существования, никогда не стесняя меня в денежных выдачах».
Каким же образом при таких условиях Кулябко мог соблазнить Дм. Богрова жалованием в 100 рублей в месяц (ср. приведенную выше справку из дела Департамента полиции)? Здесь же приходится указать и на то, что отец в виду частых поездок заграницу поручал Дм. Богрову управление своим домом, на время своего отсутствия. Таким образом в распоряжении Дм. Богрова часто бывали крупные суммы, поступавшей квартирной платы (около 3.000 руб. в месяц).
Если, таким образом, материальный мотив совершенно отпадает, то напрашивается вопрос, не было ли в жизни Дм. Богрова такого момента, когда Кулябко мог оказать на него давление и заставить путем принуждения стать секретным сотрудником?
Таким моментом мог быть только арест Дм. Богрова и угроза тяжкого наказания за принадлежность к группе анархистов-коммунистов. Однако, и это предположение отпадает.
Дм. Богров был арестован лишь один раз, а именно 10-го сентября 1908 г., т. е. тогда, когда по сведениям Департамента полиции он уже давно числился сотрудником. Обыск, произведенный у Дм. Богрова в 1907 г. арестом его не сопровождался.
Следовательно и этого своекорыстного мотива — стремления к смягчению своей участи или освобождению из под ареста у Дм. Богрова быть не могло.
Наконец, необходимо остановится на том объяснении, которое официально дает сам Дм. Богров этому своему поступку. В том же показании от 2-го сентября 1911 г. Дм. Богров говорит следующее:
«Примкнул я к группе анархистов вследствие того, что считал правильной их теорию и желал подробнее познакомиться с их деятельностью. Однако, вскоре, в середине 1907 г. я разочаровался в деятельности этих лиц, ибо пришел к заключению, что все они преследуют главным образом чисто разбойничьи цели. Поэтому я, оставаясь для видимости в партии, решил сообщить Киевскому охранному отделению о деятельности членов ее. Решимость эта была вызвана еще тем обстоятельством, что я хотел получить некоторый излишек денег. Для чего мне был нужен этот излишек — я объяснять не желаю».
Явная несообразность этого объяснения и противоречие с остальными частями того же показания, а также с установленными фактами, бросаются в глаза. О невозможности материального мотива я уже говорил, да и притом, как мы видели, сам Дм. Богров показал раньше, что отец его никогда не стеснял в денежных выдачах. Это, очевидно и заставило судебного следователя Фененко задать ему вопрос, для чего ему нужен был «излишек денег», на каковой вопрос Дм. Богров не нашелся, что ответить, а потому не пожелал дать объяснения.
Что касается указываемого им главного мотива для своего поступления в число сотрудников охранного отделения, а именно разочарования в деятельности анархистов, то неужели это объяснение может кому-нибудь показаться правдоподобным?
Такое «разочарование» могло быть основанием для того, чтобы немедленно выступить из группы и прекратить сношения с прежними товарищами; быть может оно могло его заставить задуматься о сущности анархического учения и привести к отказу от него; или, наконец, «разочарование» это могло заставить его начать борьбу за создание новой группы «чистого» анархизма. Но каким образом такое «разочарование» могло побудить Дм. Богрова поступить в охранное отделение — это совершенно не понятно: ведь, никогда он не стал бы интересоваться борьбой с разбойничьими или преступными элементами, как таковыми, если даже и допустить, что, ему пришлось с ними столкнуться в группе товарищей анархистов!
Из предыдущего фактического материала мы видим совершенно обратное. Дм. Богров продолжает в 1907 г. принимать самое активное участие в работе киевской группы анархистов-коммунистов и при его участии на конференциях 1907–1908 г. выносятся серьезные резолюции, приведенные выше, свидетельствующие об успехах внутренней организации группы и о проведении ряда принципиальных положений по вопросу о тактике группы.
Далее, в том же показании от 2-го сентября Дм. Богров заявляет совершенно определенно: «еще в 1907 г. у меня зародилась мысль о совершении террористического акта в форме убийства кого либо из высших представителей правительства, какова мысль являлась прямым последствием моих анархических убеждений».
Таким образом ни о каком «разочаровании» Дм. Богрова в учении анархизма не могло быть и речи.
Поэтому, когда в дальнейшем своем показании Дм. Богров говорит; «вскоре по приезде в Петербург, в июле 1910 г., я решил сообщить Петербургскому охранному отделению или Департаменту полиции вымышленные сведения для того, чтобы в революционных целях вступить в тесные сношения с этими учреждениями и детально ознакомиться с их деятельностью», судебный следователь Фененко задает ему вполне логичный вопрос: почему же после службы в Киевском охранном отделении у него явилось вновь стремление служить революционным целям.
На этот вопрос Дм. Богров, видимо растерявшись, не пожелал ответить, а вместо этого вновь повторяет; «по прибытии в Петербург, я снова сделался революционером, но ни к какой организации не примкнул. На вопрос о том, почему я через такой промежуток времени из сотрудников охранного отделения снова сделался революционером, я отвечать отказываюсь».
На справедливое замечание суд. след. Фененко, что это ведь не логично. Дм. Богров заявляет: «может быть по вашему это нелогично, но у меня своя логика».
Вот каковы «нелогичные», а вернее, противоречивые и заведомо ложные показания самого Богрова о мотивах, побудивших его вступить в связь с охранным отделением.
Мне придется дальше еще вернуться к оценке показаний Дм. Богрова во всей их совокупности. Лицам, причастным к юриспруденции, хорошо известно, что к показаниям подсудимого, в каком бы смысле таковые ни давались, должно относиться гораздо более критически и осторожно, чем к показаниям любого свидетеля. И если это верно для обстановки обычного уголовного дела, то еще во много раз вернее в обстановке того сложного политического процесса, который имел место в данном случае.
Для вступления Дм. Богрова в число сотрудников Киевского охранного отделения в 1907 г. есть и может быть лишь одно объяснение, а именно то же самое, какое им самим дано для объяснения своего появления в Петербургском охранном отделении в 1910 г., а впоследствии вновь в Киевском охранном отделении в 1911 г.: решение использовать охранное отделение для достижения своих революционных целей и, в частности, для совершения террористического акта, задуманного еще в 1907 г. И поэтому то Дм. Богров, совершенно прекратив свою подпольную революционную работу по группе анархистов в 1909 г., тем не менее продолжает поддерживать связь с Киевским охранным отделением, твердо решив еще раз прибегнуть к его помощи в революционном деле.
Б. Струмилло приводит выдержку из дела Департамента полиции от 1911 г. № 124-а т. 1, перепечатанную также и в статье Е. Лазарева, в которой приводятся сведения, сообщенные Дм. Богровым за 1909 г. и 1910 г. об анархистах, социалистах-революционерах и социал-демократах Киевскому охранному отделению. (Б. Струмилло. Красная Летопись 1923 г. № 9 стр. 182.)
Именно, по поводу цитированных Струмилло «сведений» об анархистах, социалистах-революционерах и социал-демократах, будто бы сообщенных Дм. Богровым Киевскому охранному отделению и служащих главным основанием отрицательных выводов Струмилло о личности Дм. Богрова — в том же деле Департамента полиции за 1911 г. № 124-в, имеются два других весьма важных документа: «справка о сотруднике Киевского охранного отделения Аленском и «справка по сведениям сотрудника Аленского (Богрова)». Эти документы, странным образом, Струмилло совершенно обходит молчанием, хотя именно они имеют решающее значение в оценке деятельности Дм. Богрова в киевском охранном отделении. В них доподлинно значится следующее:
Справка о сотруднике Киевского охранного отделения Аленском:
…«Из обозрения сводок агентурных сведений, поступавших из Киевского охранного отделения усматривается, что сколько-нибудь серьезных сведений «Аленский» по анархистам-коммунистам не давал (курсив мой)… По докладу начальника С. — Петербургского охранного отделения полковника фон-Коттена, в июле прошлого года (1910 — прим. мое) «Аленский» был рекомендован ему подполковником Кулябко. «Аленский» сразу не внушил доверия полковнику фон-Коттену и, так как он никаких сведений не давал, то в декабре 1910 г. названный штаб-офицер прекратил сношения с «Аленским», выдав ему содержание за январь. После сего «Аленский» уехал за границу, на юг Франции, откуда в январе сего года обратился к полковнику фон-Коттену с просьбой о материальной поддержке в виду переживаемого тяжелого положения. Полковник фон-Коттен деньги по указанному адресу «Аленскому» отправил, но таковые были возвращены за невостребованием (курсив мой).
Что касается второй «справки» — по сведениям сотрудника «Аленского», то, в виду значительного интереса, который представляет эта справка, освещающая значение тех сведений, которые были сообщены Дм. Богровым Киевскому охранному отделению и которые цитируются Струмилло, как неопровержимое доказательство его провокации. — я привожу эту справку целиком.
Д. Д. П. 124-в/1911 г. З.
СПРАВКА
по сведениям сотрудника «Аленского».
Стр. 2-я.
Верцинский, Сигизмунд. Сведений об аресте, обыске и вообще о привлечении к переписке или дознанию с 25 Июля 1909 года в Департамент полиции не поступало.
Стр. 2-я.
Берлин, Александр Абрамов, студент Цюрихского Университета. Тоже.
Стр. 2-11-я.
О лицах, проходивших по делу Мержеевской, составлена справка 7-м Делопроизводством.
Стр. 12-я.
Божок, Григорий, сапожник, Сведений об аресте, обыске и вообще о привлечении к переписке или дознанию с 31 Декабря 1908 года в Департамент Полиции не поступало,
Стр. 13-я.
Грузенберг, Иосиф Яковлев, мещанин гор. Нежина. Сведений об аресте, обыске и вообще о привлечении к переписке или дознанию с 4 Января 1909 года в Департамент Полиции не поступало.
Стр. 13-я.
M и л я е в, Александр Петров. Тоже.
Стр. 13-я.
Х о р о л ь, Энта-Малка Лейбова, ученица музыкального училища. По донесению Начальника Киевского Охранного отделения от 23 Мая 1909 года за № 1760 Энта Хороль по агентурным соображениям арестована быть не могла.
Стр. 14-я.
П р о с о в, Афанасий, студент-медик Университета. Сведений об аресте, обыске и вообще о привлечении к переписке или дознанию с 5 Марта 1909 года в Департамент Полиции не поступало.
Стр. 14-я.
Книжник, Израиль Самуилов, анархист «Ветров» 22 Марта 1909 года Израиль Книжник был задержан в гор. С.-Петербурге, где он проживал по документу на имя дантиста Бориса Яковлева Розенблюма, но арест его произведен был тогда по телеграмме из Парижа о выезде анархиста «Ветрова» в С. — Петербург. Начальнику Киевского Охранного Отделения в виду вышеупомянутой телеграммы было в Марте того же года телеграфировано о выезде анархиста «Ветрова» с просьбой в случае прибытия арестовать. В ответ на это надворный советник Кулябко телеграфировал, что «Ветров» живет по паспорту на имя Розенблюма, выданному в Красноярске пятнадцатого Ноября 1906 года, так как эти сведения известны лишь двум лицам, прошу распоряжения об очень осторожном использовании их.
Стр. 15-я.
Горницкий, Владимир Иосифов. Сведений об аресте, обыске, вообще о привлечении к переписке или дознанию с 3 Мая 1909 года в Департамент Полиции не поступало.
Стр. 15-я.
Сальный, Емельян Емельянов, крестьянин. Был привлечен 17 Апреля 1909 года (т. е. еще до поступления о нем сведений от «Аленского» от 3 мая 1909 г. — Прим. мое) при Киевском Губернском Жандармском Управлении к переписке по охране по партии социалистов-революционеров, содержался под стражей в Киевской тюрьме. Затем 21 Августа того же года и при том же Управлении был привлечен к дознанию по обвинению по ст. 102 Угол. Улож. По обыску обнаружено: 1) металлическая печать с оттиском «Киевская группа анархистов-индивидуалистов, боевой отряд» и 2) 3 револьвера и два чистых паспортных бланка.
Стр. 15-я.
Макаренко, Лука Гаврилов, крестьянин, 39 лет, сапожник. Сведений об аресте, обыске и вообще о привлечении к переписке или дознанию с 3 Мая 1909 года в Департамент Полиции не поступало.
Стр. 16-я.
Тихомиров, Федор. Сведений об аресте, обыске и вообще о привлечении к переписке или дознанию с 20 Мая 1909 года в Департамент Полиции не поступало.
Стр. 17-я.
Вязов, Анатолий Николаев. 16 Мая 1909 года Вязов был привлечен при Киевском Губернском Жандармском Управлении к переписке по охране: «О вредной в политическом отношении деятельности именующегося Анатолием Вязовым и друг.». Основанием к возбуждению переписки послужило то обстоятельство, что 8 Мая того же года по обыску у него обнаружена переписка со штемпелями «Киевская группа анархистов-коммунистов» (т. е. еще до поступления о нем сведений от «Аленского» от 20 Мая 1909 г. Прим. мое).
Стр. 17-я.
И п а т о в, Евстафий Михайлов, мещанин, мастеровой. Начальник Киевского Охранного Отделения 7 Июля 1910 года за № 3495 уведомил, что Евстафий Ипатов 22-го июля 1909 года был арестован австро-венгерскими властями и при нем было обнаружено 37 связок анархистских брошюр и 15 револьверов. Из отношений Начальника Киевского Губернского Жандармского Управления от 4 Января 1911 года за № 1309 усматривается, что Ипатов, задержанный 24 Декабря 1910 года в гор. Каменце, препровожден был в распоряжение Начальника Московского Охранного отделения для передачи его судебным властям Московского Окружного Суда (донесение Начальника Подольского Губернского Жандармского Управления 4-го Января 1911 года за № 110). В Москве Ипатов был привлечен к дознанию по партии анархистов-коммунистов, но по сведениям Московским, а не Киевским.
Стр. 17-я.
Черняк, Фрида Аронова. Сведений об аресте, обыске и вообще о привлечении к переписке или дознанию с 26 Мая 1909 года в Департамент Полиции не поступало.
Стр. 18-я.
Терновец, Ксения Антонова, крестьянка. Из сообщения Киевского Губернатора от 18 Июля 1908 года за № 1962 усматривается, что при ликвидации в гор. Киеве 15 и 16 Декабря 1907 года (т. е. еще до поступления о ней сведений от «Аленского» от 30 июня 1909 г. — Прим. мое) членов Киевской группы анархистов-коммунистов была арестована в числе других лиц и Терновец, но по суду (18 и 19 Декабря 1909 года) Терновец, оправдана.
Стр. 19-я.
Коган, Рися Орликова, мещанка. Сведений об аресте, обыске и вообще о привлечении к переписке или дознанию с 26 Мая 1909 года в Департамент Полиции не поступало.
Стр. 19-я.
И п а т о в, Григорий Михайлов, мещанин. В 1910 году привлекался в Москве к дознанию по партии анархистов-коммунистов, но по сведениям Московским, а не Киевским.
Стр. 20-я.
Базаркин, Степан Алексеев, бывший бухгалтер Лодзинского Казначейства, мещанин. Сведений об аресте, обыске и вообще о привлечении к переписке или дознанию с 8 Июля 1909 года в Департамент Полиции не поступало.
Стр. 20-я.
Черный, Рафаил Гомшеев, мещанин. 25 Ноября 1908 года привлекался к дознанию при Киевском Губернском Управлении по делу об исследовании его политической неблагонадежности. Сведений об аресте, обыске и вообще о привлечении к переписке или дознанию после 8 Июля 1909 года в Департамент Полиции не поступало.
Стр. 21-я.
Баглеева, Мария Павлова. Сведений об аресте, обыске и вообще о привлечении к переписке или дознанию с 25 Июля 1909 года в Департамент Полиции не поступало.
Стр. 23-я.
Гринберг, Аврум-Ицко Осипов, мещанин 19 лет. Сведений об аресте, обыске и вообще о привлечении к переписке или дознанию с 26 Мая 1909 года в Департамент Полиции не поступало.
Стр. 26-я.
Михайловская, Мария Юлиановна, жена присяжного поверенного. Сведений об аресте, обыске и вообще о привлечении к переписке или дознанию с 20 Января 1910 года в Департамент Полиции не поступало.
Стр. 27-я.
Фалькнер, Ева-Натанова-Нусимова, акушерка. О Фалькнер возбуждено дознание при Киевском Губернском Жандармском Управлении 15 Мая 1910 года. Мера пресечения — арест. По обыску у нее обнаружено 285 свежеотпечатанных воззваний Киевской инициативной группы социалистов-революционеров, гектографская масса и записка «программа максимум с. д. и с. р.». (Подробные сведения о ней сообщались другими сотрудниками).
Стр. 28-я.
Кулишер, Яков Моисеев, студент Коммерческого Института. 3 Апреля 1910 года привлечен при Киевском Губернском Жандармском Управлении к переписке по охране, по делу о вредной в политическом отношении деятельности Евы Нусимовой Фалькнер. Первоначальная мера пресечения — арест. (Подробные сведения о нем. сообщались другими сотрудниками).
Стр. 31-я.
Х а р и т о, Николай Иванов, студент Университета Св. Владимира, юридического факультета. Харито был привлечен 24 Декабря 1910 года, (по сведениям других сотрудников), к переписке по охране по делу о «Коалиционном Совете» при Киевском Жандармском Управлении.
В настоящей справке обращает на себя внимание то обстоятельство, что о некоторых лицах (Сальный, Вязов, Терновец) «Аленским» сообщались сведения уже после их ареста, что дает основание предполагать, что результатам обысков присваивалось значение агентурных сведений.
Это обстоятельство уже обратило на себя внимание лиц, ревизовавших Киевское Охранное Отделение в 1908 году, по каковому поводу надворному советнику (ныне полковнику) Кулябко были даны соответствующие указания в предложении Департамента Полиции от 8 Марта 1908 года за № 126630, в котором дословно сказано следующее:
«Кроме приведенных недочетов в деятельности Киевского Охранного Отделения замечается явное стремление, вопреки § 42 Инструкции, присваивать результатам обысков значение агентурных сведений. Так например в Июле 1907 года по обыску у Чемериса были обнаружены гектографы и паспорт Золотова; основываясь на этих данных, Охранное Отделение в отношении Чемериса высказало, что у него на квартире по агентурным указаниям проживал Золотов, печатавший на гектографе прокламации; между тем свидетельскими показаниями было установлено, что Золотев никогда в этой квартире не жил, а впоследствии документально выяснилось, что он умер уже в Ноябре 1906 года».
Вот какова официальная оценка Департамента Полиции тех «сведений», которые были даны Дм. Богровым Киевскому Охранному отделению.
Оказывается, что ни одно из лиц, названных им охранному отделению не пострадало по его вине, так как лица эти либо вообще не подвергались аресту, обыску или привлечению к дознанию, следствию и суду, либо уже были привлечены к ответственности перед тем, как о них упоминал Дм. Богров, или были уже известны охранному отделению по сведениям, поступившим от других сотрудников, а также в результате ранее произведенных у них обысков.
И такой важный документ, совершенно опровергающий значение справки Киевского охранного отделения о деятельности Дм. Богрова, остается Струмилло неизвестным, и ни он, ни позднейшие исследователи о нем ни слова не упоминают!
Если мы далее обратимся к делу ревизии сенатора Трусевича и его же производству «о преследовании должностных лиц при охране его Высоч. Пребыв, в Киеве в 1911 г.», то найдем здесь eщe более подробный материал для характеристики тех «сведений», которые были сообщены Дм. Богровым Киевскому охранному отделению. К сожалению, в этом отношении я лишен возможности цитировать те материалы, на которые ссылаюсь, так как имевшиеся в моем распоряжении копии должен был передать при выезде заграницу Начальнику Проскуровского Особого Отдела.
Поэтому я восстановляю по памяти то заключение, к которому пришел сенатор Трусевич в результате тщательного обследования дела Дм. Богрова, в связи с расследованием дел Киевского охранного отделения.
Заключение это по смыслу своему таково:
«Рассмотрение характера сотрудничества Дм. Богрова в Киевском охранном отделении и сообщенных им «сведений» приводит к тому заключению, что сведения эти в большинстве случаев носили совершенно безразличный характер и никак не могли оправдать того доверия, которое Кулябко и остальные чины, которым была поручена охрана пребывания государя в Киеве, проявили в отношении Дм. Богрова.
Единственное дело, по которому сведения Дм. Богрова быть может имеют известное значение, это дело Мержеевской. (По сведениям Струмилло «выданная Богровым и арестованная 11-го октября 1909 г. в Киеве Мержеевская пробыла в заключении, подверглась исследованию психических способностей и, хотя дело о «покушении на жизнь государя в 1909 г.» было прекращено за недостатком улик, Мержеевская 28-го ноября 1911 г. по постановлению особого совещания была выслана в Якутскую область на 5 лет». (Красная Летопись 1923 г. № 9 стр. 183). — Таким образом оказывается, что от «выдачи» Дм. Богровым и Мержеевская не пострадала в 1909 г.! И в этом случае «сведения», сообщенные Дм. Богровым, не вызвали решительно никаких серьезных последствий. Нет сомнения, что это великолепно предвидел в данном случае, как и в остальных, Дм. Богров, так как Мержеевская, бывшая общей знакомой семьи Трахтенберг в Киеве, была всем известна, как человек умственно ненормальный и невменяемый, в виду чего ей никакого наказания не могло угрожать. Кроме того, Мержеевская отличалась таким легкомыслием н болтливостью, что сообщенные Дм. Богровым сведения о покушении на жизнь государя разглашались ею самой между всеми знакомыми и несомненно уже давно являлись достоянием Киевского охранного отделения. Между прочим, очень характерно, что согласно этим «сведениям» Мержеевская, отправлявшаяся в Крым для того, чтобы в условленный день и час бросить в государя бомбу, не совершила этого террористического акта, так как… «опоздала в Варшаве на поезд». Неужели такой случай возможен с серьезным террористом?
Что же касается того, что Мержеевская 28-го ноября 1911 года была выслана в Якутскую область, то это, ведь, случилось уже после смерти Дм. Богрова. Неужели же и после смерти продолжали поступать от Дм. Богрова «сведения» в охранные отделения?!)
Имеется полное основание утверждать, что Дм. Богров, известный Киевскому охранному отделению, как революционер-анархист, водил Кулябко за нос и использовал охранное отделение для достижения своих революционных целей».
На основании изложенного сен. Трусевич и пришел к заключению о том, что лица, руководившие охраной государя, а именно ген. Курлов, полк. Спиридович, статск. сов. Веригин и подполк. Кулябко виновны в преступной небрежности по службе, превышении и бездействии власти, и подлежат привлечению к законной ответственности за эти преступления.
Ввиду всех этих соображений, которые по моему глубочайшему убеждению найдут со временем ряд новых подтверждений при тщательном изучении всех материалов по делу Дм. Богрова, я и прихожу к тому выводу, что связь, установленная Дм. Богровым с охранными отделениями, сперва с Киевским (с 1907 по 1910 г.), затем с Петербургским (в 1910) и, наконец, снова с Киевским (в 1911 г.) являлась лишь продолжением его анархической революционной работы. Дм. Богров сообщал охранному отделению безразличные или заведомо ложные сведения, имея в виду в надлежащий момент использовать свою связь с ним в революционных целях. До настоящего времени остается недоказанным, чтобы Дм. Богров кого либо из революционеров, будь то его товарищи по группе анархистов, или члены других партий, выдал и причинил кому либо из них какой либо вред.
В противовес умозаключениям Струмилло, сделанным, как мы видели, на основании тенденциозно подобранного материала, интересно привести суждения по этому поводу ближайших товарищей Дм. Богрова, основанные на наблюдении действительных фактов из общей их анархической работы.
Г. Сандомирский приводит целый ряд доказательств того, что наиболее серьезные документы и сведения по группе анархистов, вверенные Дм. Богрову, оставались всегда неизвестными для охранного отделения. Так, Сандомирский сообщает следующее:
«Надо отметить, что у Богрова после нашего ареста (да и не у него одного а и у его родственников) был произведен немедленный обыск (это было в 1907 г. — прим. мое). Если бы написанные мною резолюции провалились на этом обыске, данное обстоятельство никаких особых подозрений против Богрова возбудить не могло. А между тем, эти резолюции в руках жандармов явились бы богатейшим обвинительным материалом против нас всех. Жандармам не пришлось бы 14 месяцев напрягать свои умственные способности для того, чтобы доказать нашу принадлежность к группе. Однако, и до суда, и на суде эти резолюции не фигурировали». (Г. Сандомирский. К вопросу о Дм. Богрове, Каторга и Ссылка, Москва 1926 г. № 2, стр. 18.).
Далее, Г. Сандомирский указывает, что «в течение года жандармерия не могла установить личности Дубинского, хотя биография его доподлинно была известна Богрову (пришлось для опознания привезти из Одессы отца Дубинского), как, кажется, и длинная революционная биография Будянской, которая получила по нашему процессу всего 8 месяцев крепости… У Богрова было вполне достаточно материала для того, чтобы всем без исключения дали каторгу… Между тем по моему процессу получили каторгу четверо: бежавший каторжанин, ссыльный и двое нелегальных… Чем объяснить это?» (Г. Сандомирский. К вопросу о Дм. Богрове: Каторга и Ссылка, Москва, 1920 г. № 2, стр. 24.).
«Попросту говоря — кого именно выдал Богров для того, чтобы заслужить доверие Киевской и Питерской охранки? Все, что приводилось до сих пор обвинителями Богрова не может считаться удовлетворительным ответом. Никаких веских фактов, свидетельствующих о результатах его предательской деятельности, до сих пор не приведено… С другой стороны, нельзя отрицать, что Богров находился в связи с охранным отделением и, может быть, даже длительно, без чего не мог стать там «своим человеком», получающим билеты на торжественные спектакли. Получается, таким образом, какая то непонятная и невстречавшаяся до сих пор в истории революционного движения фигура провокатора… без провокации (Там же, стр. 26.).
Я преднамеренно привел подробную выдержку из статьи Г. Сандомирского появившейся в 1926 г., следовательно, когда «материалы» Струмилло и статьи других обвинителей Дм. Богрова были хорошо известны. Столь же категорическими защитниками Дм. Богрова являются и другие его товарищи по революционной работе — А. Мушин, Ив. Книжник, И. Гросман. Последний в своих воспоминаниях о Богрове, помещенных в советском журнале «Былое» за 1924 г. № 26, сообщает следующее:
«… Гросман в ссылке. Потом бежит. Является в Киев. Думает пробраться заграницу. Ему нужна квартира. Все устроил Дмитрий Богров. То было в 1908 г. Богров уговаривает Гросмана остаться в России и работать среди анархистов. Составляет план работы, издание органа, организацию кружков и т. п. Гросман соглашается. Но на другой день сам Богров арестован по подозрению в организации побега смертников, о чем Богров предупредил Гросмана. Гросман, узнав об аресте Богрова выбирается из Киева и благополучно перебирается через границу и осядет в Париже вместе с Ив. Книжником» (Цит. до Е. Лазареву. Дм. Богров и убийство Столыпина, Воля России, Прага» 1920 r. № 6 — 7, стр. 65.). Итак, — доказательств «провокации» Дм. Богрова — нет, и быть не может, так как никакой провокации вовсе и не было. А была та же революционная анархическая работа, но на другом фронте, в направлении подготовки к использованию охранного отделения для задуманной террористической цели.
IV. Революционная работа Дм. Богрова в 1910 и 1911 г
В марте 1910 г., после окончания университета, Дм. Богров уезжает в Петербург, где остается около 8-ми месяцев, т. е. до ноября 1910 г. Так же, как в период 1909 г., внешняя жизнь Дм. Богрова заполнялась университетскими занятиями, теперь внешняя жизнь его заполняется юридической практикой и службой в качестве секретаря при Комитете по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов при Министерстве торговли и промышленности. Однако, внутренней своей сущности, Дм. Богров не изменил и теперь.
Ни год отдыха от подпольной работы, ни занятия университетскими науками, ни практическая деятельность юриста, ни перспективы «сделать карьеру», для чего все шансы у него были на лицо, не могли заставить его изменить своим революционным идеалам и забыть об основной цели своей жизни.
В статье социалиста-революционера Егора Лазарева, появившейся в 1926 г. (Егор Лазарев «Дмитрий Богров и убийство Столыпина», Воля России, Прага, 1926 г. №№ 6–7, 8–9.), имеются чрезвычайно интересные фактические данные, остававшиеся до того времени неизвестными, и касающиеся знакомства и переговоров Дм. Богрова с Е. Лазаревым в 1910 г. в Петербурге.
Под предлогом имеющегося у него поручения — передать Е. Лазареву письма, привезенные какой то дамой из Парижа, Дм. Богров является впервые к Е. Лазареву на Троицу 1910 г. Дм. Богров заявляет, что взялся немедленно найти его (Лазарева) и передать ему письма.
«Я это делаю с тем большим удовольствием, что мне необходимо было повидаться с вами. Даже более того, я, собственно, и в Питер приехал, чтобы повидаться с вами» (Там же, № 8–9, стр. 41.). Далее, после того, как разговор завязался и принял более задушевный характер, Дм. Богров заявляет Лазареву, совершенно конфиденциально, что он решил совершить террористический акт и убить министра Столыпина.
«Вам кажется это шуткой или сумасшествием с моей стороны, но то, что я сказал, не шутка и не сумасшествие, а обдуманная задача, которую я решил во что бы то ни стало выполнить».
На вопрос Лазарева, чем он, собственно, может быть полезен Дм. Богрову в этом деле. Дм. Богров объясняет следующее. «Вы должны знать, что я не новичок в идейном движении. С гимназической скамьи я прошел всю гамму прогрессивных воззрений, от либерализма до анархизма включительно. Я предавался их изучению с большим энтузиазмом. Дальше анархизма идти было некуда. А я им также увлекался. Пройдя всю идейную гамму, я, наконец, пришел к заключению, что чем идеи радикальнее, тем они более утопичны.
Я и теперь ценю моральную силу анархизма, но для обширных массовых движений и общественных переворотов необходима организованная партийная деятельность. Индивидуальное воздействие, или реакция на среду, совершается больше по вдохновению или настроению и не обращает внимания на настроение общества или народных масс, тогда как для определенного воздействия на массы человеческая деятельность должна быть не только индивидуально моральной, но и общественно целесообразной. Если бы я выступил с боевым актом перед своими товарищами раньше, то все анархисты одобрили бы мой поступок, но помочь мне не могли бы, а если бы помогли, то при настоящих условиях только дискредитировали бы крупный общественный и политический акт.
Выкинуть Столыпина с политической арены от имени анархистов я не могу, потому что у анархистов нет партии, нет правил, обязательных для всех членов. Совершив удачно намеченный акт, я мог бы только ангажировать одного себя, заявив, что я действую от своего имени. Кем бы индивидуально я ни был, анархист, монархист или беспартийный. Чтобы вы лучше поняли мою мысль и мое настроение, представьте такой случай: завтра какой-нибудь пьяный хулиган покончит случайно со Столыпиным, или ревнивый муж пристрелит министра за его непрошенное вмешательство в чужую семейную жизнь.
Во всех этих случаях — Столыпин становится безвредным и устранен с политической арены. Я спрашиваю, какое политическое значение будет иметь при таких условиях смерть или удаление Столыпина? Не более, чем нормальная, естественная смерть, т. е. — никакого политического значения. Теперь возьмите мой случай.
Представьте себе и поверьте на время мне, что я решил бесповоротно устранить Столыпина, по моим индивидуальным идеологическим соображениям. Теперь я вполне понимаю, что всякое индивидуальное действие лишь ослабит и воспитательное, и политическое значение столь крупного факта. Другое дело, если бы хорошо организованная партия, вроде партии социалистов-революционеров, согласилась использовать мой акт, и, в случае его удачи, санкционировать его, как совершенный по постановлению, или просто с согласия партии» (Там же, стр. 44.)…
На вопрос Е. Лазарева, что собственно побуждает Дм. Богрова, блестящего молодого человека — умного, начитанного, брать на себя столь радикальную инициативу и ответственную роль, Дм. Богров отвечает следующее:
«Я пришел к заключению, что в русских условиях систематическая революционная борьба с центральными правящими лицами единственно целесообразна. В России режим олицетворяется в правящих лицах, которые тем и сильны, что остаются неизвестными и недоступными» (Там же, стр. 47.).
Если мы припомним изложенное в предыдущей главе, то убедимся, что эти самые положения Дм. Богров еще в 1907 г. защищал на конференциях Киевской группы анархистов-коммунистов.
Далее, по словам Е. Лазарева, Дм. Богров говорит следующее: «Я пришел просить не материальной или технической помощи партии, а идейной и моральной. Я хочу обеспечить за собой уверенность, что после моей смерти останутся люди и целая партия, которые правильно истолкуют мое поведение, объяснив его общественными, а не личными мотивами». Вследствие уклончивых ответов Е. Лазарева, носивших более характер наставлений и увещаний. Дм. Богров спрашивает:
«Какой же ответ ваш на мое предложение, которое я после долгих размышлений решил поверить вам?… Я вижу, — ваше настроение отеческое, а не деловое. Вы хотите меня наставить на путь истинный, дабы я усердно занимался своей адвокатской практикой, и между прочим всякой иной культурной деятельностью: почитывал и пописывал революционные брошюрки и т. п. А между тем вы ведь знаете лучше меня — во что обошелся манифест 17 октября. Ведь, после манифеста карательные экспедиции залили рабочей и крестьянской кровью всю страну. Где I и II Думы? Ведь всему свету известно, — как и при каких условиях они были разогнаны и какими последствиями сопровождались. Я — еврей, и позвольте вам напомнить, что мы и до сих пор живем под господством черносотенных вождей. Евреи никогда не забудут Крушеванов, Дубровиных, Пуришкевичей и тому подобных злодеев. А Герценштейн? А где Иоллос? Где сотни, тысячи растерзанных евреев — мужчин, женщин и детей, с распоротыми животами, с отрезанными носами и ушами?
Если в массах и выступают иногда активно против таких злодеяний, то расплачиваться в таких случаях приходится «стрелочникам», главные же виновники остаются безнаказанными. Указывать массам действительных виновников лежит на обязанности социалистических партий и на интеллигенции вообще. Вы знаете, что властным руководителем идущей теперь дикой реакции является Столыпин. Я прихожу к вам и говорю, что я решил устранить его, а вы мне советуете вместо этого заняться культурной адвокатской деятельностью… Я это объясняю только тем, что вы не подготовлены к обдуманному ответу. Поэтому, я прошу вас обдумать мое предложение и затем, — позвольте мне зайти к вам в другой раз» (Там же стр. 51.).
При втором свидании Е. Лазарев прямо заявил Дм. Богрову, что решил по дружески отговорить его от выступления. На это Дм. Богров отвечает, что решение его неизменно. «По каким причинам такая боевая партия, как ваша, может отказаться от содействия со стороны идейных добровольцев, вроде меня?… Ведь этот план составил я сам, не спрашивая никакой партии и решил сам, без помощи кого либо привести его в исполнение. Я все равно так и сделаю, но меня тяготила одна мысль: мой поступок могут истолковать так, что мой акт потеряет всякое политическое значение… Я прошу партию о том, чтобы она санкционировала мой акт только в том случае, если она убедится, что я веду себя достойно и умру тоже достойно. До самой смерти я не буду ангажировать партию. Пусть партия обещает только, что она публично санкционирует мой акт после следствия и суда. Но мне это нужно знать теперь же, чтобы знать, как себя держать» (Там же стр. 56.).
Е. Лазарев на предложение Дм. Богрова ответил отказом, мотивируя его, между прочим, и тем, что ему известно, что Дм. Богров анархист, а для анархистов борьба с государством и правительством всеми средствами есть дело принципиальное. Иное дело для социалистов, которые допускают террористические акты лишь в исключительных случаях. А потому единение в таком ответственном деле социалистов-революционеров с анархистами — недопустимо, вредно.
В заключение Дм. Богров заявил: «Неужели это последнее ваше слово? Признаюсь, я и теперь не понимаю причин вашего отказа. Я был настолько уверен в вашем благоприятном ответе, что соответственно перестроил всю свою жизнь. Ведь я приехал сюда с двойной целью. Я уже заранее обеспечил себе положение и надеюсь скоро устроиться так, что смогу иметь доступ к разным высокопоставленным лицам (Прим. Дм. Богров имел ввиду свою службу в Комитете при Министерстве Торговли и Промышленности.). Я ни в какой посторонней помощи не нуждаюсь и санкции прошу только под условием, если докажу своим поведением после вероятного ареста, следствия и суда…
Большего для партии я не могу ни дать, ни обещать. Признаюсь, ваше отношение во многом расстраивает все мои планы. Я вновь остаюсь наедине со всеми своими думами, совершено изолированным. У меня вновь нет никого, кто бы мог авторитетно истолковать мое поведение и объяснить его не личными, а общественными мотивами… Я убедительно прошу подумать еще раз. Перед партией и перед всей страной ваш отрицательный ответ столь же ответственен, как и ответ положительный. В подтверждение я скажу: несмотря ни на что, я постараюсь привести свое решение в исполнение. Я стремлюсь сделать свое выступление более целесообразным, а вы этому мешаете. Вот результат наших разговоров (Там же стр. 61.). Через две недели Дм. Богров зашел в третий в последний раз к Е. Лазареву и вновь получил отрицательный ответ, на этот раз окончательный.
Е. Лазарев выражает совершенную уверенность в том, что Дм. Богров в переговорах с ним был вполне искренен и что он в той части своих показаний на следствии, в которой говорит, что по приезде в Петербург стал вновь революционером и вошел в сношение с начальником петербургского охранного отделения фон Коттеном для лучшего достижения своей цели, — говорил совершенную правду (Там же стр. 63.).
Я в свою очередь хотел бы отметить, что Дм. Богров вошел в сношение с фон Коттеном лишь после своего посещения Е. Лазарева и несомненно отказ Е. Лазарева сыграл в этом его шаге не маловажную роль. Из изложенного выше ясно, что Дм. Богров в Петербурге не стал внезапно «вновь» революционером, а то, что он по-прежнему продолжал им оставаться.
Правда, он, как мы видели из свидетельства Е. Лазарева, сперва лелеял мысль осуществить в Петербурге свой план без помощи охранного отделения. Благодаря своей службе по комитету, состоявшему при министерстве торговли и промышленности, ему приходилось встречаться с разными высокопоставленными особами, которые могли ему помочь столкнуться и с тем лицом, которое было им намечено жертвой его выступления. А при таких условиях он и считал себя в праве рассчитывать на моральную поддержку партии социалистов-революционеров с тем, чтобы дать совершенному террористическому акту широкое агитационное значение.
Однако, расчеты Дм. Богрова на соглашение с партией соц. — рев., как мы видели, в виду позиции, занятой Е. Лазаревым, не оправдались. Правильно ли в этом случае поступил Е. Лазарев с точки зрения революционной целесообразности или нет, здесь судить не приходится. Во всяком случае, совершенно ясно, что именно его отказ толкнул Дм. Богрова вновь на путь, избранный им ранее, и заставил его в июле 1910 г. обратиться к начальнику петербургского охранного отделения фон Коттену.
Как было указано мною выше и засвидетельствовано самим фон Коттеном, Дм. Богров сразу же не внушил ему доверия, так как никаких сведений не давал. 22-го ноября 1910 г. Дм. Богров, вследствие расстроенного здоровья уехал из Петербурга, сперва обратно в Киев, а оттуда заграницу, в Ниццу.
После возвращения из Ниццы в начале февраля 1911 г. в Киев, начинается последний этап короткой жизни Дм. Богрова.
19-го февраля 1911 г. вышел из Киевской Лукъяновской тюрьмы некий анархист П. Лятковский, после отбытия наказания по делу, по которому он был привлечен в 1907 г. вместе с Г. Сандомирским и другими. По собственному его свидетельству, при случайной встрече на улице с товарищем «Фомой» (Сергей Богров — двоюродный брат Дмитрия) Фома от своего имени и от имени Дмитрия убедительно просил его зайти к последнему на квартиру, так как Дмитрий, узнав из газет о его освобождении, очень хотел с ним повидаться и поговорить, но не мог его найти (П. Лятковский. Нечто о Богрове. Каторга и ссылка. Москва 1926 г. № 2, стр. 38.).
Только вследствие этого приглашения со стороны самого Дм. Богрова, Лятковский отправился к нему на квартиру. Я подчеркиваю это обстоятельство, так как мне придется еще к нему вернуться. Во время последовавшего разговора П. Лятковского с Дм. Богровым на разные темы речь зашла, между прочим, и на тему о провале группы анархистов и «как то незаметно Дм. Богров сам первый заговорил о том, что товарищи обвиняют его в целом ряде предательств» и, далее, сам навел разговор на тему о «реабилитации». «Я (П. Лятковский) его перебил, указав, что ни я, ни мои товарищи от него не требуют реабилитации». «Скажите мне» продолжал Дм. Богров «какой мотив мог бы побудить меня служить в охране? Что говорят по этому поводу товарищи? Деньги? В них я не нуждаюсь. Известность? Но никто из генералов от революции по моей вине не пострадал. Женщины? — и он, пожав плечами ничего не ответил (Там же стр. 39.).
Далее разговор перешел на журнал «Былое» и Дм. Богров указал, что «Былое» для него весьма ценно, так как по нему он знакомится с действительными революционерами и учится той поразительной конспирации, которой они себя окружали.
«Вы говорите — реабилитировать себя? — возобновил он разговор. Только убив Николая, я буду считать, что реабилитировал себя. — Да кто же из революционеров не мечтает убить Николая? — перебил я (Лятковский) его. — Нет, — продолжал он (Богров) — Николай — ерунда. Николай игрушка в руках Столыпина. Ведь я — еврей — убийством Николая вызову небывалый еврейский погром. Лучше убить Столыпина. Благодаря его политике задушена революция и наступила реакция. — На это я (Лятковский) ему заметил, что нельзя быть таким наивным, чтобы не знать, как трудно будет добраться сквозь толпу всякой охраны и до Николая и до Столыпина, что это не под силу одному человеку, а потому необходимо противопоставить этой охране свою организацию боевиков и что я лично готов принять участие в этой организации, а также подыскать для этой цели стойких, решительных товарищей. Но Богров перебил меня, вполне логично указав, что могущий произойти случайный провал может послужить новым доказательством его провокации, а потому он решил сам, без всякой организации себя реабилитировать; как добраться до Столыпина — он еще не знает. Осенью (1911 г.), как ему известно, будут в Киеве военные маневры, на которых будет Николай, а с ним, понятно, и Столыпин, до которого он предполагает добраться через свою связь с киевским обществом (Там же стр. 39, 40.).
Теперь для нас совершенно ясно, что посещение Лятковского, вызванное самим Дм. Богровым, и разговор на тему об убийстве Николая или Столыпина, явились следствием потребности Дм. Богрова с кем-нибудь из единомышленников обсудить этот вопрос, проверить себя и узнать отношение окружающих к уже давно поставленной себе цели.
В этом разговоре особенно характерны отмеченная Дм. Богровым необходимость величайшей конспирации для истинного революционера и его безусловная решимость совершить акт единолично, без помощи какой бы то ни было организации. Из «мотивов», которые могли бы его побудить служить «в охранке», Дм. Богров с презрением отвергает «деньги», «известность», «женщины»… но в своем перечислении этих мотивов он не упоминает одного, действительного, а именно — революционного: использование охранного отделения для революционных целей. Не упоминает он об этом мотиве по соображениям вполне понятным — конспиративным. Уже одно предположение такой возможности вызвало бы несомненно дебаты, возражения, возможную огласку, а это раскрыло бы его карты охранному отделению, и его игра была бы безвозвратно проиграна.
В одном из своих писем, относящихся к тому периоду, Дм. Богров говорит, что нередко в жизни человека наступает одна минута, для которой готовился всю жизнь. Эта минута приближалась для Дм. Богрова с наступлением августовских торжеств в 1911 г., по случаю прибытия в Киев государя со всем двором.
Я лично имел возможность наблюдать брата с конца июля по 17 августа 1911 г., так как на это время приехал с женой погостить к родителям в Киев, при чем до 5-го августа мы жили всей семьей в дачной местности «Потоки» под Кременчугом, и проводили все время совместно. Я утверждаю самым категорическим образом, что решительно никаких резких перемен или потрясений ни в физическом, ни в моральном отношении за это время в Дм. Богрове нельзя было заметить.
Никаких встреч с посторонними людьми на дачной местности «Потоки», а затем в Киеве на нашей общей квартире до 17-го августа т. е. до дня моего отъезда обратно в Петербург, у Дм. Богрова не было. Никакого резкого толчка для принятия каких либо новых, внезапных решений или же могущего вызвать в нем резкий перелом настроения, за это время безусловно произойти не могло. В «Потоках» вся семья проводила время вместе в обычной деревенской семейной обстановке, в Киеве же Дм. Богров систематически продолжал свою юридическую работу у прис. пов. А. С. Гольденвейзера, занимался управлением дома отца, после отъезда последнего заграницу, почти не бывал вне дома, а у себя встречался лишь со старыми своими друзьями Фельдзером, Скловским, Трахтенбергом и друг.
Я категорически утверждаю, что ни в «Потоках», ни в Киеве до моего отъезда т. е. до 17-го августа, его не навещал никто из прежних товарищей анархистов или посторонних лиц, могущих произвести на него моральное давление в смысле принуждения к совершению террористического акта во время августовских торжеств. Такое посещение не было замечено и после 17-го августа ни прислугой, ни проживавшей в то время в нашей квартире теткой М. Богровой.
С другой стороны совершенно несомненно, что в течение этого времени решение Дм. Богрова совершить террористический акт, использовав для этой цели августовские торжества, окончательно созрело. Сидя, однажды со мной на балконе нашего дома, выходящем на Бибиковский бульвар, и возмущаясь грандиозными полицейскими приготовлениями, которые делались по случаю приема «высоких гостей», Дм. Богров, как бы вскользь задал мне вопрос, каково мое мнение — что произвело бы большее впечатление: покушение на Николая или на Столыпина.
Я тогда не подозревал, какое реальное значение имел этот вопрос для брата. Этот вопрос был задан мне не случайно, а являлся результатом долгих размышлений, тревоживших Дм. Богрова, — кого именно сделать жертвой своего выступления. Этот вопрос он поднимает и в разговор с Е. Лазаревым в Петербурге, и с П. Лятковским в феврале 1911 г. Он видно совершенно не сомневался в успехе своего выступления — для него было только важно решить, как его сделать наиболее целесообразным с революционной точки зрения.
Одно обстоятельство можно было, однако, с несомненностью констатировать в тогдашнем настроении Дм. Богрова: это — полная неудовлетворенность своим буржуазным укладом жизни, своей юридической работой, своим времяпрепровождением. Ясно было для всех, что он тоскует, что работает он не в том направлении, какое ему кажется важным, что он стремится к чему то иному, но… осуществить его не может. Предо мной отрывок из письма Дм. Богрова, писанного неизвестно кому. Оно заключает в себе 2 собственных стихотворения Дм. Богрова, характеризующие его настроение последнего периода.
«Вчера почувствовал прилив вдохновения и написал целых два стихотворения:
Стих. 1-ое.
Твой ласкающий, нежно-чарующий взгляд,
Твои дорогие черты
Воскресили давно позабытые сны
Развернули широкие крылья мечты,
И несносен мне стал опьяняющий яд
Хлопотливой мирской суеты,
Яд жестокой борьбы и насилья;
И взмахнули могучие крылья,
Мир другой отворила мне ты —
Ласки нежной и чистой, как лилья,
Мир сердечной, святой теплоты.
Стих. 2-ое.
Потух во мне любви минутной пламень,
Мне не откликнулась любимая душа.
И, как тяжелый, как могильный камень
Сдавила душу жизни пустота.
Без вести от тебя, под гнетом тайных мук,
Мне не поднять своих бессильных рук,
Мне не раскрыть замершие уста,
Мне не зажечь холодные сердца,
Ах, как прожорливый паук,
Из сердца кровь сосет гнетущая тоска.»
И вот, наконец, наступает та минута, когда судьба дает Дм. Богрову случай осуществить ту задачу, которая являлась целью его жизни.
27-го августа 1911 г. Дм. Богров приходит домой обедать в необычайно радостном и оживленном настроении (по свидетельству тетки его М. Богровой). На вопрос тетки, что его привело в такое хорошее настроение, он отвечает, что имел совершенно неожиданный успех: у него, мол, наклевывается такое дело, которым он осчастливит мир, если все пойдет и дальше так хорошо. М. Богрова истолковала слова Дм. Богрова, как надежду на проведение какого либо крупного коммерческого дела.
Между тем, как теперь известно, произошло следующее.
К 27 августа у Дм. Богрова окончательно сложился план задуманного им выступления и для осуществления его он в этот день явился, после длительного промежутка времени к подполковнику Кулябко на квартиру, предварительно предупредив его по телефону, что имеет сообщить некоторые очень важные сведения. При его разговоре с Кулябко присутствовали прибывшие из Петербурга полковник Спиридович и камер-юнкер Веригин.
Далее цитирую показания самого Дм. Богрова от — 2-го сентября 1911 г., подтверждающиеся в этой части всеми остальными данными по делу.
«Я сообщил всем этим лицам вымышленные сведения, схема которых была выработана мною заранее по следующему плану. В бытность мою в Петербурге я сообщил фон Коттену ложное известие о моем знакомстве с молодым террористом, и вот теперь решил воспользоваться этой же несуществующей личностью, которую назвал «Николай Яковлевич» для того, чтобы создать связь между сведениями, сообщенными раньше фон Коттену и ныне сообщаемыми Кулябко, и тем самым придать этим сведениям большую достоверность. Я решил рассказать Кулябко, что этот «Николай Яковлевич» с женщиной «Ниной Александровной», так же не существующей, условились приехать в Киев во время августовских торжеств для совершения убийства одного из видных министров, что они просили меня дать им возможность прибыть в Киев не по железной дороге и на пароходе, а на моторной лодке, для того, чтобы избежать полицейского наблюдения, и что «Николай Яковлевич» имеет намерение остановиться у меня на квартире.
После передачи всех этих сведений я решил убедить Кулябко дать мне пропуск в те места, где будет Столыпин, для того, чтобы иметь возможность предупредить покушение на него. Получив же эти пропуски, я решил воспользоваться близостью Столыпина и стрелять в него. Весь этот план и был мною осуществлен, при чем Кулябко, несомненно вполне искренне считал мои слова правдивыми. Я виделся с Кулябко всего три раза, а именно 26-го или 27-го августа в присутствии Спиридовича и Веригина, затем ночью 31-го августа у него на квартире, и, наконец, 1-го сентября в «Европейской гостинице», в № 14 в присутствии того же Веригина. В эти три раза я ему рассказал все вышеизложенное и прибавил, что «Николай Яковлевич» и «Нина Александровна» приехали и первый из них остановился у меня на квартире. Тогда Кулябко учредил за ней очень густое наблюдение, но, конечно, никого не выследил, так как никто ко мне не приезжал. При первом свидании с Кулябко он, указывая мне на пачку пригласительных билетов на торжества, спросил меня, имею ли я таковые, но я, не желая возбуждать у него подозрений, ответил ему, что мне таковых не надо; однако, я твердо решил достать такие билеты и с этой целью телефонировал ему в 6 часов 31-го августа, что в видах успеха дела мне необходимо иметь билет на вход в Купеческий сад. Кулябко, очевидно, понял, что мое присутствие в саду требуется для предупреждения покушения и сообщил мне, что билет мне будет выдан и чтобы я прислал за ним посыльного. Таким образом я и получил билет и находился в Купеческом саду 31-го августа, где стоял сначала около эстрады с малороссийским хором, а затем перешел на аллею, ближе к царскому шатру; стоял в первом ряду публики и хорошо видел прохождение государя, но Столыпина в тот момент не заметил и видел его только издали и то неотчетливо; поэтому я не мог в него тогда стрелять.
Вернувшись из Купеческого сада и убедившись, что единственное место, где я могу встретить Столыпина, есть городской театр, где был назначен парадный спектакль 1-го сентября, я решил непременно достать туда билет и с этой целью пошел в охранное отделение и, в виду того, что Кулябко уже спал, я написал предъявляемую мне записку, В этой записке я сообщил, что у Нины Александровны имеется бомба, что у Николая Яковлевича имеются высокопоставленные покровители, и что покушение на государя не состоится из опасения еврейского погрома. Я рассчитывал, что эта записка произведет на Кулябко серьезное впечатление и что он примет меня лично и тогда я выпрошу у него билет на спектакль.
Так оно и вышло: Кулябко меня принял и из разговора с ним я понял, что он меня ни в чем не подозревает и что я имею все шансы получить билет. Но окончательно этот вопрос не был тогда разрешен, поэтому я на следующий день снова пошел к Кулябко и сообщил ему, а также присутствовавшему Виригину, что билет мне необходим во-первых для того, чтобы быть изолированным от компании бомбистов, во-вторых, для разных других целей, полезных для охранного отделения. Но эти цели были изложены мною весьма неопределенно и туманно и я, главным образом рассчитывал, что Кулябко среди окружающей его суматохи не станет особенно в них разбираться, а из доверия ко мне выдаст билет. Мои предположения в этом смысле вполне оправдались, и билет был мне прислан в 8 ч. с филером охранного отделения, о чем меня предуведомил по телефону Кулябко. Билет был за № 406, 18 ряд, и был написан на мое настоящее имя, только с ошибкой в заглавной букве моего отчества. Приехал в театр во фраке в четверть девятого и встретил Кулябко, которому сообщил, что Николай Яковлевич по прежнему находится у меня на квартире и, по-видимому, заметил наблюдение.
Тогда Кулябко, боясь прозевать его, просил меня съездить домой и удостовериться, не вышел ли он из дому. Я удалился на некоторое время из театра и в первом антракте не имел случая приблизиться к Столыпину. Затем во время второго антракта, высматривая где находится Столыпин, я в коридоре встретился с Кулябко, который мне сказал, что очень опасается за деятельность Николая Яковлевича и Нины Александровны и предложил мне ехать домой следить за Николаем Яковлевичем. Я согласился, но, когда Кулябко отошел от меня, оставив меня без всякого наблюдения, я воспользовался этим временем и прошел в проход партера, где между креслами приблизился к Столыпину на расстояние 2–3 шагов.
Около него почти никого не было и доступ к нему был совершенно свободен. Револьвер, браунинг, тот самый который был мне предъявлен, находился у меня в правом кармане брюк и был заряжен 8 пулями. Чтобы не было заметно, что карман оттопыривается, я прикрыл его театральной программой. Когда я приблизился к Столыпину на расстоянии 2 аршин, я быстро вынул револьвер из кармана, и, быстро вытянув руку, произвел 2 выстрела и, будучи уверен, что попал в Столыпина, повернулся и пошел к выходу, но был схвачен публикой и задержан… Подтверждаю, что я совершил покушение на убийство статс-секретаря Столыпина единолично без всяких соучастников и не во исполнение каких либо партийных приказаний.»
Одновременно по поводу показаний Дм. Богрова был составлен особый протокол, подписанный Чаплинским, Брандорфом и Фененко, который Богров подписать отказался, мотивируя тем, что «правительство, узнав о его заявлении, будет удерживать евреев от террористических актов, устрашая организацией погромов.» В неподписанном протоколе говорилось, что Богров, давая показания между прочим упомянул, что у него возникла мысль совершить покушение на жизнь государя, но была оставлена из боязни вызвать еврейский погром. Он, как еврей, не считал себя в праве совершить такое деяние, которое вообще могло бы навлечь на евреев подобное последствие и вызвать стеснение их прав» (Цит. по Струмилло. Красная Летопись, Ленинград № 1, 1924 Г. стр. 233–235.).
Это и было то дело, которое «наклевывалось» у Дм. Богрова, по его заявлению М. Богровой, и которое ему действительно удалось, чем, по его глубокому убеждению он должен был осчастливить мир.
Последующее известно: П. Столыпин скончался 5-го сентября 1911 г. 9-го сентября в здании «Косого капонира» Киевской крепости состоялся военный суд над Дм. Богровым. От защитника Дм. Богрова отказался. Дм. Богров был приговорен к смертной казни. Приговор суда был приведен в исполнение в ночь с 11 на 12 сентября 1911 г. на так наз. Лысой Горе, в районе Киевской крепости.
При казни присутствовали кроме должностных лиц, представители от союза русского народа, командированные сюда со специальной целью — убедиться, что Дм. Богров действительно будет казнен и именно он, а не кто либо другой вместо него.
1-го февраля 1928 г. в Киевском суде слушалось дело двух из этих добровольцев свидетелей, членов монархического союза Сергеева и Кузнецова. По словам Сергеева, Дм. Богров перед казнью «плюнул палачу в лицо». Это был его последний знак протеста против мира насилия и произвола, из которого он уходил. В заключение необходимо внимательно остановиться на тех приемах, которые были применены Дм. Богровым по отношению к охранному отделению в лице подполковника Кулябко и друг. с целью осуществления своего плана, начиная с момента появления у Кулябко 27‑го августа 1911 г. и до совершения покушения. Это рассмотрение дает полную картину тактики Дм. Богрова, применявшийся им и в его прежних сношениях с охранным отделением, и может помочь нам понять, каким образом и при прежних сообщениях, имевших гораздо менее серьезное значение. Дм. Богрову удавалось одурачивать охранное отделение. Вымышленные сведения, сообщенные Дм. Богровым Кулябко 27-го августа 1911 г., возбуждали впечатление полной правдоподобности, в виду переплетения ряда характерных подробностей и действительных фактов, уже известных охранному отделению, с абсолютным вымыслом. Подобные «сведения» не давали решительно никакого материала для изобличения каких либо лиц в совершении преступлений.
Одним словом, мы находим здесь именно объяснение тому единственному в истории революционного движения явлению, о котором говорит Г. Сандомирский: «провокатора… без провокации» (Каторга и Ссылка. Москва, 1928 г. № 2 стр. 20).
Вот, что докладывает Кулябко департаменту полиции 2-го сентября 1911 г. по поводу сведений, сообщенных ему Дм. Богровым 27‑го августа, касающихся событий имевших место на Троицу 1910 г. в Петербурге, о которых сообщалось выше. Я цитирую тут же и примечания Е. Лазарева, из которых видно, что все попытки Кулябко изобразить перед начальством Дм. Богрова, как «провокатора», разбиваются о фактические данные, приводимые Лазаревым. «27-го августа 1911 г. — пишет Кулябко — Дм. Богров явился в отделение и заявил, что у него имеются сведения очень серьезного характера, которые он считает своим нравственным долгом сообщить мне, как своему бывшему начальнику, дабы, в случае прибытия в Киев тех лиц, о которых он желает дать сведения, и невозможности сообщить эти сведения после их приезда, я знал бы подробно их намерения и планы. Сведения эти заключались в следующем: на Троицу 1910 г. в С.‑ Петербург из Парижа прибыла дама, которая привезла с собою письма от Ц. К. партии с. — р. Поручение это она получила через посредство Ю. Кальманович, которая в течение нескольких лет проживала в Париже, состоя там слушательницей университета. Кальманович, будучи ее ближайшей подругой, знала, что она нуждается в средствах для поездки к родителям в Москву, а также была осведомлена о ее полной политической благонадежности. Даме этой даны были следующие инструкции: 1. в Петербурге она прежде всего должна была явиться в квартиру прис. пов. Кальмановича, передать ему одно из писем и получить с него 150 руб.
2. явиться в редакцию «Вестника Знания» и вручить там Егору Егоровичу Лазареву два письма и 800 франк, денег, которые ей были даны в Париже, и передать Лазареву на словах, что деньги эти немедленно надо послать по определенному адресу в деревню. Адрес этот Богров сообщил и в петербургское охранное отделение.»
Примеч. Лазарева: Это неправда: он не сообщал и не мог сообщить, как я покажу позднее.
Примеч. мое.: Все эти сведения относились к давно прошедшему времени и вообще не заключали в себе указаний на какие либо преступные деяния.
«3. вручить одно письмо члену Государственной Думы Булату, а если последний не будет в Петербурге, то и это письмо передать Лазареву, с тем, чтобы оно с человеком было отправлено Булату в деревню. Все эти поручения не могли, однако, быть исполнены приехавшей дамой, ибо по случаю праздника Троицы редакция «Вестника Знания» была закрыта в течение двух дней, Кальманович же находился на даче в Финляндии. Очутившись в столь затруднительном положении, дама эта обратилась к Богрову, которого знала с детства. Кальмановичу была послана телеграмма и к вечеру того же дня он явился в Петербург, где в присутствии Богрова ему было вручено приезжей дамой письмо. Прочитав его, он выразил удивление, что перевозка столь важных писем поручается лицу, не имеющему ничего общего с партией с. — р., что парижане не рассчитали дня приезда своей уполномоченной и тем поставили ее и его в глупое положение, которое осложняется тем, что он сегодня же вечером должен ехать в Варшаву по делам. В конце концов он посоветовал даме… передать письма Богрову для вручения Лазареву, ибо Булат тоже уехал из Петербурга».
Примеч. Е. Лазарева: За исключением тонких нюансов все изложенное действительно имело место. С той лишь оговоркой, что Богров, еще в Киеве решивший повидаться со мной, обрадовался случаю, чтобы встретиться со мной.
Примеч. мое: Но и эти все данные не заключают в себе указаний на какие бы то ни было противозаконные действия с чьей либо стороны.
Далее Кулябко пишет: «В тот же день дама { уехала в Москву, а письма были переданы Багровым в петербургское охранное отделение и после этого вручены Лазареву.»
Примеч. Е. Лазарева: Это неверно. Письма были переданы невскрытыми. Кроме того, что я их тщательно исследовал прежде, чем открыть, но в тот же вечер я был у Кальмановича, который действительно уезжал в Варшаву, где у него назначено было к слушанию дело. Я убедился, что со времени выхода Богрова от Кальмановича и до прихода ко мне, на Кавалергардскую улицу, где я жил, он не мог быть в охранном отделении и показывать письма, да еще в праздник Троицы и Духова дня, когда все учреждения закрыты. Далее сам Кулябко опровергает это.
«После этого — продолжает Кулябко — между Лазаревым и Багровым установилась постоянная связь, и в конце концов, к Богрову явилось лицо, отрекомендовавшееся другом Лазарева, и имевшее от него пароль и заявило о своем желании познакомиться. Это лицо в разговоре осведомилось, у кого можно собрать сведения о прежней деятельности Богрова, и обещало поддерживать с ним сношения; кроме того к Богрову являлся еще один неизвестный также от Лазарева. Об этих лицах Богров сообщал начальнику петербургского охранного отделения, указывая довольно точно время и место их посещения Богрова, но были ли они взяты в наблюдение он не знает, хотя, насколько ему казалось, наблюдение в указанное им время не выставлялось. Этим и закончились свидания Богрова с упомянутыми двумя неизвестными.
Примеч. Е. Лазарева: Здесь я отмечу только, что ни с кем из моих друзей и товарищей, кроме меня самого, Богров сношений не имел и наблюдений за неизвестными устанавливать было нельзя.
Я имею все основания думать, что когда Богров виделся со мной, он еще не вошел в сношения с петербургской охранкой; что лишь после второго или третьего свидания со мной он решил завязать сношения с петербургской охранкой уже в целях убийства Столыпина. Прямо идти в охранку он, очевидно, не хотел, а решил использовать свои старые связи с Кулябко, и потому, как увидим далее, Богров запросил Кулябко — уже после свидания со мной; — вот де есть у меня интересные сведения, — к кому бы я мог с ними здесь обратиться. Кулябко телеграфирует: «к фон Коттену», и от себя послал последнему рекомендацию о Богрове.
Если принять во внимание, что Богров виделся со мною как раз на Троицу, — это я тоже хорошо помню, — а к фон Коттену он обратился только в июле… то после всего этого версия о предварительной передаче парижских писем ко мне и к Булату в охранку является вздорной. В письмах шла речь о предупреждении серьезно скомпрометированного товарища нашего, скрывавшегося в одном селе; сообщалось, что его место пребывания открыто и что ему следует немедленно скрыться оттуда. Для верности требовалось послать для этого нарочного. Если бы охранка прочла эти письма, разве можно было бы скрывающемуся спастись? А он благополучно исчез. Сам Богров не знал о содержании писем.
«В конце июня 1911 г. — продолжает Кулябко — после выезда Богрова из Петербурга, им было получено письмо от одного из неизвестных с целым рядом вопросов по поводу убеждений Богрова, его настроения и т. под., при чем для ответа был дан адрес в «Вестник Знания», Невский 40 для Н. Я. Рудакова. Ответ был послан немедленно и составлен в том смысле, что своих убеждений он не менял и менять не собирается. Затем до конца июля никаких известий от этого лица не было, когда, совершенно неожиданно для Богрова, к нему в дачную местность «Потоки» около Кременчуга явился один из тех неизвестных, с которыми он познакомился через Лазарева в Петербурге, отрекомендовавшись «Николаем Яковлевичем…»
Далее следует уже известная нам из приведенных выше показаний Дм. Богрова мистификация Кулябко путем сообщения о подготовке покушения на Столыпина или Кассо со стороны означенного «Николая Яковлевича» и «Нины Александровны», также приехавшей вслед за ним в Киев.
«Мною были посланы — продолжает Кулябко — телеграммы полковнику Коттену с запросами о личности Лазарева, Кальмановича, Булата и неизвестных, находящихся в сношениях с Лазаревым, о которых выше было доложено, в ответ на что полковником Коттеном были присланы справки на Лазарева, Булата и Кальмановича и сообщено, что находившиеся в сношениях с Лазаревым ему неизвестны: сведения о случае передачи писем из за границы через Кальмановича, еврейку и Лазарева в отделение поступили, но уже после передачи, почему не были разработаны.»
Примеч. Е. Лазарева: После предыдущих моих замечаний это место вполне понятно (т. е. никаких «неизвестных», в том числе и «Николая Яковлевича» и «Нины Александровны» Лазарев Дм. Богрову не представлял, а, следовательно, ни получать от них письма, ни встречаться с ними впоследствии в «Потоках» Дм. Богров не мог; сведения же о передаче писем из заграницы были сообщены Дм. Богровым или быть может и кем либо иным фон Коттену значительно позже, и, конечно, без передачи их содержания, так что в этом виде событие являлось совершенно безобидным.
В виду этого петербургской охранкой и не были приняты никакие дальнейшие мероприятия по этому поводу. Задание, которое было дано товарищами, пославшими письма, было давно благополучно выполнено, так как их товарищ, которого искала охранка, давно благополучно скрылся. — Примеч. мое (Е. Лазарев, Дм. Богров и убийство Столыпина. Воля России №№ 6 и 7, 1926 г. стр. 69.).
Тем не менее Е. Лазарев удостоверяет, что имена «Николай Яковлевич» и «Нина Александровна» не просто вымышлены Дм. Богровым, а принадлежат действительным людям, хорошим друзьям Е. Лазарева, которые «живут в добром здравии и по сие время, — первый заграницей, а вторая в Советской России» (Там же стр. 67.).
Анализ этого последнего маневра Дм. Богрова с Кулябко, нам обнаруживает с полной наглядностью тот метод, который им успешно применялся и ранее в отношении киевского охранного отделения. Приводятся имена действительных лиц, более или менее известных охранному отделению, но без всякой связи с какими либо преступными действиями, и приводятся «преступные деяния», но не в связи с какими либо действительными лицами…
Таким образом и получается упомянутая выше «провокация… без провокации.»
Ни Е. Лазарев, который во время события 1-го сентября уже давно находился заграницей, ни Кальманович, ни Булат, ни «дама из Парижа» не могли пострадать и не пострадали от того, что имена их были упомянуты Дм. Богровым, так как в одном лишь факте передачи письма из заграницы, неизвестно от кого исходящего, неизвестно какого содержания, нет ничего преступного. А «Николай Яковлевич» и «Нина Александровна», подготовлявшие действительное преступление — террористический акт — никогда не существовали или, вернее, существовали лишь по имени.
Относительно той части доклада Кулябко, которая касается деятельности Дм. Богрова в период 1907–1910 г. много говорить не приходится. Донесения и показания Кулябко являются свидетельством заинтересованного в деле лица, которому для спасенья своей чести и карьеры, больше того, под угрозой предания уголовному суду, необходимо было во что бы то ни было доказать, что Дм. Богров был ценным сотрудником, которому он имел полное основание доверять, в виду оказанных им серьезных услуг! Однако, мы видели уже выше из «справки» департамента полиции относительно сведений, сообщенных Дм. Богровым киевскому охранному отделению, а также из заключения ревизии сенатора Трусевича, каков был характер этих услуг.
Есть еще одно лицо, имя которого было упомянуто Дм. Богровым во время его последнего, предсмертного показания, данного 10-го сентября 1911 г. т. е. уже после суда и накануне смертной казни, жандармскому, полковнику Иванову. Этот факт, сыграл решающую роль в отношении этого лица к Дм. Богрову. Речь идет о бывшем члене киевской группы анархистов, Петре Лятковском, о котором уже говорилось выше. В связи с показанием Дм. Богрова П. Лятковский был арестован 13-го сентября 1911 г., но после допроса и непродолжительного ареста вновь освобожден. Таким образом и здесь повторился вновь типичный случай «провокации» без потерпевшего лица. Тем не менее арест послужил для Лятковского главным основанием для того, чтобы примкнуть к числу обвинителей Дм. Богрова. Он указывает на то, что Дм. Богров оговорил его, как «анархиста», уже после суда, накануне смертной казни, когда ему, казалось бы, совершенно незачем было «исповедоваться» пред жандармами.
На это необходимо возразить следующее.
Обстановка и цель этого последнего допроса Дм. Богрова нам неизвестны. Русский закон не знал подобных допросов после состоявшегося приговора суда, разве, если бы имелось ввиду выяснение новых обстоятельств по делу, могущих повлечь за собой пересмотр его или облегчение участи осужденного. Нам неизвестен тот предлог, которым воспользовался жандармский полковник Иванов, когда он явился в камеру «Косого капонира» допрашивать Дм. Богрова 10-го сентября 1911 г. Поэтому нам трудно также судить и о тех мотивах, которые побудили тогда Дм. Богрова дать это свое последнее показание, которое для вящей убедительности его заставили целиком собственноручно написать.
Однако, уже поверхностное рассмотрение этого показания сразу же убеждает нас в том, что Дм. Богров назвал имя П. Лятковского лишь после того, как ему была предъявлена фотографическая карточка сего последнего. Вспомним, что по свидетельству самого Лятковского эта же его карточка предъявлялась ранее и горничной Дм. Богрова (П. Лятковский. Нечто о Богрове. Каторга и ссылка, Москва 1926, № 2, стр. 47.) и вообще, как видно, являлась предметом тщательного исследования следственных властей. Поэтому, для Дм. Богрова было бы совершенно бессмысленно отрицать свое знакомство с Лятковским — оно не представляло никаких сомнений для следственных властей и само по себе не представляло ничего «изобличающего» для Лятковского.
Если бы Дм. Богров решил по каким либо соображениям оговорить Лятковского как «анархиста», утверждение, к которому собственно приближается Лятковский, то ведь ему было бы достаточно рассказать содержание имевшего место между ними разговора, когда Лятковский предлагал Дм. Богрову свою помощь в организации «боевиков» для совершения террористического акта во время киевских торжеств (Там же стр. 40.).
В действительности у Дм. Богрова не было никогда на уме оговаривать Лятковского, а потому Лятковский правда был арестован, как тысячи других лиц, имевших самое отдаленное отношение к Дм. Богрову, но был через самое короткое время вновь отпущен на свободу. Правда, Лятковский приписывает свое скорое освобождение исключительно своей хитрой тактике безусловного отрицания своего знакомства с Дм. Богровым. Он пишет: «так и не дождались от меня признания в знакомстве с Богровым, ибо признаться в этом я находил равносильным тому, чтобы надеть самому себе петлю и ее же затягивать»
(Там же стр. 47.).
Наивность этих соображений ясна для всякого, даже не обладающего юридическим опытом, человека. Лятковский убежден, что спрятав голову под подушку, он скрылся от взглядов следственных властей. Неужели безусловное отрицание знакомства с Дм. Богровым могло бы ему помочь, если бы налицо был действительный «оговор» Дм. Богрова, благодаря которому он был бы изобличен, как активный член группы анархистов, к тому же изъявивший готовность поддержать Дм. Богрова в покушении на государя или Столыпина? А ведь таков должен был бы быть смысл «исповеди», за которую упрекает П. Лятковский Дм. Богрова.
На этом я заканчиваю вторую главу о революционной деятельности Дм. Богрова.
Я старался доказать, что деятельность эта с первого до последнего момента являлась прямым и последовательным выражением его анархических убеждений.
Сперва он шел совместно со своими товарищами, потом совершенно одиноко, сперва простым и шаблонным путем подпольной революционной работы, потом сложной и кривой дорогой — одновременного использования для своих революционных целей организации своих политических врагов; он неуклонно стремился к нанесению удара своему политическому противнику, но, как мы слышали от Е. Лазарева, придавал величайшее значение идеологической стороне террористического акта; он был анархистом не только по своим теоретическим убеждениям, но и по существу своей природы, а потому не мог замкнуться ни в какие «партийные» или «групповые» рамки, а готов был на соглашение с любой организацией, которая могла быть полезна для его дела. В конце концов он осуществил давно задуманный план совершенно один, и не вовлек в свое дело ни единой невинной жертвы.
Я утверждаю, что это относится не только к последнему моменту совершения задуманного покушения, но и к всему предшествующему периоду, в течение которого он подготовлял себе содействие охранного отделения. Все сомнения, вопросы и восклицания, относящиеся к этой части дела Дм. Богрова, получают совершенно исчерпывающее разрешение на основании изучения обширного фактического материала по делу, существенную часть которого составляют перечисленные мною выше акты судебного и следственного производства, акты произведенных ревизий, акты департамента полиции, киевского жандармского управления и другие официальные материалы, а также показания бывших товарищей Дм. Богрова по революционной работе.
Поэтому я отношу всю эту часть вопроса к области «мнимых тайн», о которых упоминает Дм. Богров в своем предсмертном письме к родителям. Более трудная задача, является предметом рассмотрения последней главы настоящей книжки.
Это область «действительных тайн», о которых говорит Дм. Богров в том же письме: эти тайны унесены им с собой в могилу, а тех лиц, которые, быть может, могли бы помочь раскрыть эти тайны, я имею в виду Кулябко и Иванова, и для которых теперь исчез побудительный мотив скрывать истину, также уже нет в живых.
Тем не менее, я глубоко убежден, что и в отношении этой последней части вопроса, мое заключение близко подходит к истине, а потому и решаюсь огласить его.
V. Действительные тайны
«Действительной тайной» являются мотивы, руководившие Дм. Богровым при даче некоторых показаний на следствии и суде, стоящих, как ныне с полной достоверностью установлено, в полном противоречии с фактами, и направленных к «очернению» его собственного революционного имени.
Как известно, согласно элементарным правилам юридической науки, каждое показание подсудимого, и даже его сознание, должно быть внимательно проверено на основании имеющегося в деле материала: фактических данных, показаний свидетелей, остальных частей его собственных показаний и пр. Только в случае совпадения всех имеющихся данных по делу с показаниями самого подсудимого, последние могут быть признаны вполне убедительными.
Дм. Богров был допрошен следственными властями всего 4 раза: 1 сентября, немедленно после совершенного им акта, 2 сентября, 4 сентября и 10 сентября 1911 г. Первые 3 допроса состоялись до суда, а последний уже после суда, накануне приведения в исполнение смертного приговора. Судебными властями, а именно следователем по особо важным делам, В. Фененко, Дм. Богров был допрошен лишь один раз — 2 сентября, в остальных же случаях допрос производился киевским жандармским полковником Ивановым, приятелем Кулябко. Протокола показаний Дм. Богрова на военном суде не велось, а потому точное содержание его объяснений на суде не может быть восстановлено.
Отдельные части показаний Дм. Богрова находятся в явном противоречии друг другу и создают впечатление стремления мистифицировать следственную власть. Это отмечено было в свое время и судебным следователем В. Фененко во время допроса Дм. Богрова, сенатором Турау в его докладе 1-ому департаменту государственного совета по делу генерала Курлова, Кулябко, Спиридовича и Веригина, и сенатором Трусевичем в его докладе по ревизии дел киевского охранного отделения; а впоследствии, после революции, явилась возможность установить ряд фактических данных находящихся в противоречии с рядом показаний Дм. Богрова.
Необычным и загадочным в этой мистификации является то, что направлена она не в том смысле, чтобы выдвинуть роль Дм. Богрова, как революционера, а наоборот, несоответствующие действительности указания Дм. Богрова имеют больше целью выдвинуть службу его охранному отделению.
Весьма настойчиво подчеркивает противоречивость показаний Дм. Богрова суд. след. В. Фененко, как это мною уже было выше упомянуто (стр. 62).
В ответ на указания суд. след. В. Фененко, на нелогичность показаний, Дм. Богрова относительно мотивов его появления в охранном отделении, Дм. Богров отвечает; «может быть, по вашему это нелогично, но у меня своя логика. Могу только добавить, что в киевском охранном отделении я действовал исключительно в интересах сего последнего».
Когда, далее, суд. след. В. Фененко задает Дм. Богрову вопрос, зачем ему нужен был «излишек денег», о котором он упомянул, (суд. след. В. Фененко, как киевлянину и члену судебного сословия не могла быть неизвестна материальная обеспеченность отца Дм. Богрова), Дм. Богров и на этот вопрос не пожелал дать объяснений.
В конце того же показания от 2 сентября Дм. Богров категорически заявляет: «подтверждаю, что я совершил покушение на убийство статс-секретаря Столыпина единолично, без всяких соучастников и не во исполнение каких либо партийных приказаний». Между тем, на допросе 10 сентября, произведенном жандармским полковником Ивановым в крепости, уже после состоявшегося приговора военного суда, Дм. Богров дает совершенно иное объяснение своему выступлению.
В этом показании, которое полковник Иванов заставил Дм. Богрова для большей убедительности написать целиком собственноручно, Дм. Богров отвергает то, что показал во всех своих предыдущих показаниях, а именно, что выступил единолично, без какого либо воздействия со стороны товарищей и в чисто революционных целях. В этом последнем показании Дм. Богров, очевидно, по наущению полковника Иванова восполняет «логику», которая не хватала суд. след. В. Фененко, но не в том смысле, в каком это ожидал услышать В. Фененко, стремившийся изобличить Дм. Богрова, как политического преступника-революционера, и недоверявший заявлению Дм. Богрова о том, что он до 1910 г. действовал в интересах охранного отделения. Нет, наоборот, в этом последнем показании Дм. Богров, в угоду жандармскому полковнику Иванову, заинтересованному в том, чтобы выявить Дм. Богрова, как верного охранника, которому он и Кулябко могли вполне довериться, объясняет свое последнее выступление не революционными мотивами, а принуждением со стороны членов группы анархистов.
Конечно, эта версия вполне соответствовала интересам Кулябко и его прислужников, и не может быть никакого сомнения в том, что полковник Иванов ими и был командирован к Дм. Богрову, чтобы какими угодно средствами, в последний момент, добиться от него такого показания.
Привожу эту часть показания Дм. Богрова от 10 сентября 1911 г. с критическими примечаниями Е. Лазарева, также отказывающегося верить в правдивость этого показания. (Е. Лазарев, Дм. Богров и убийство Столыпина, Воля России, Прага, 1926 г. № 6, 7 стр. 91 и след.).
«16 августа 1911 г. ко мне на квартиру явился известный мне еще с 1907 г. — 1908 г. «Степа». Последний был в Киеве в 1908 г. летом. Он бежал тогда с каторги, куда был сослан по приговору екатеринославского суда за убийство офицера… При его появлении 16 августа 1911 г. «Степа» был одет прилично, вообще настолько изменился, что я его не узнал. Приметы его: высокого роста, лет 26–29, темный шатен, волосы слегка завиваются, довольно полный и широкоплечий.
«Степа» заявил мне, что моя провокация безусловно и окончательно установлена, что сомнения, которые были раньше из за того, что многое приписывалось убитому в Женеве в 1908 г. провокатору Нейдорфу (кличка «Бегемот», настоящая фамилия, кажется, Левин, из Минска), теперь рассеялась, и что решено о всех собранных фактах довести до сведения общества, разослать объявления об этом во все те места, в которых я бываю, как например, — суд, комитет присяжных поверенных и т. п., вместе с тем мне в ближайшем будущем угрожает смерть от кого-то из членов организации. Объявления эти будут разосланы в самом ближайшем будущем.
Когда я стал оспаривать достоверность парижских сведений и компетентность партийного суда, «Степа» заявил мне, что реабилитировать себя могу я только одним способом, а именно — путем совершения какого либо террористического акта, при чем намекал мне, что наиболее желательным актом является убийство начальника охранного отделения, Н. Н. Кулябко, но что во время торжеств в августе я имею «богатый выбор». На этом мы расстались, при чем последний срок им был дан мне 5 сентября.
После этого разговора я, потеряв совершенно голову, решил совершить покушение на жизнь Кулябко. Для того, чтобы увидеться с ним, я по телефону передал, что у меня имеются важные сведения, и приготовил в общих чертах рассказ о «Николае Яковлевиче».
Прим. Е. Лазарева: Здесь приходится прервать показания и усомниться в искренности и правдивости этих показаний, в особенности относительно покушения на Кулябко. Кулябко он мог легко убить во всякое время дня и ночи. Для покушения на Кулябко не нужно было выдумывать басен про Петербург, про «Николая Яковлевича», про бомбы. Зачем было так страстно добиваться билетов на вход, сначала в Купеческий сад, а потом в театр? Нет, прежние показания, данные под свежим впечатлением и настроением, непосредственно вытекавшие из положения, были правдивы и вполне понятны.
Здесь же версия о покушении на Кулябко является совершенно неожиданно, как «деус-экс-махина». Неправдоподобность и искусственность новой версии бросается в глаза в дальнейшем изложении его поведения. Но разберите то, что он уже сказал! После разговора со «Степой» Богров «потерял голову» и решил убить Кулябко. Он бросается к телефону, чтобы предупредить свою жертву о своем приходе. Получается впечатление, что потерявши голову он действует поспешно: ведь срок был дан до 5 сентября… Но, мне кажется, что «потерявши голову» 16 августа, до 26 или 27 августа был достаточный срок, чтобы вновь отыскать ее.
Прим. мое: 16 августа т. е. день посещения «Степы», было кануном моего отъезда с женой из Киева. Весь этот день мы провели дома совместно с Дм. Богровым. Посещение «Степы» не могло бы пройти для нас незамеченным. Вряд ли удалось бы и Дм. Богрову скрыть от нас впечатление, произведенное на него таким посещением. Я утверждаю, что версия о посещении «Степы» является чистейшим вымыслом.
Прислуга, открывавшая дверь всем посетителям, также об этом посещении ничего не знает. Нигде, ни в заграничной, ни в послереволюционной русской прессе, означенный «Степа» не объявил о своем существовании, никаких сведений не поступило и от той организации (вероятно это должна была быть организация «анархистов»), от которой будто бы являлся «Степа», и о том, что над Дм. Богровым состоялся какой-то «партийный суд» заграницей.
«Теперь — пишет Е. Лазарев — послушаем Богрова дальше. Вот он у Кулябко. По прежней версии — без револьвера. Встретились. Тут бы только… трах!.. — и все кончено: справедливость восстановлена и «Степа» удовлетворен! Но… встретились непредвиденные обстоятельства и дело расстроилось. Но пусть об этом расскажет сам Богров».
«Но — пишет дальше Богров — будучи встречен Кулябко очень радостно, я не привел своего плана в исполнение, а вместо этого в течение получаса рассказывал ему и приглашенным им Спиридовичу и Веригину вымышленные сведения. Уйдя от Кулябко, я опять в течение 3-х дней ничего не предпринимал, потом, основываясь на его предложении (при первом свидании) дать мне билеты в Купеческое и театр, я попросил у него билет в Купеческое. Там я вновь не решился произвести никакого покушения, и после Купеческого ночью поехал в охранное отделение с твердой решимостью убить Кулябко. Для того, чтобы его увидеть, я в письменном сообщении еще больше подчеркивал грозящую опасность. Кулябко вызвал меня к себе на квартиру, встретил меня совершенно раздетым, и хотя при такой обстановке я имел шансы скрыться, у меня не хватило духа на совершение преступления, и я вновь ушел. Тогда же ночью я укрепился в мысли произвести террористический акт в театре. Буду ли я стрелять в Столыпина или в кого либо другого, я не знал, но окончательно остановился на Столыпине уже в театре, ибо, с одной стороны, он был одним из немногих лиц, которых я раньше знал, отчасти же потому, что на нем было сосредоточено общее внимание публики».
Примеч. Е. Лазарева: Из предыдущего мы видим, что охранник Богров, вступив на террористический путь, в своей деликатности и благородстве далеко превзошел пафос благородства Каляева, который, готовясь бросить бомбу в карету великого князя Сергея Александровича и увидев сидящими с ним жену и детей, быстро спрятал роковую бомбу и пропустил карету. И это было после долгих и сложных подготовлений и наблюдений для встречи с великим князем. Богров в первый раз не мог стрелять в «радушно встретившего» его врага, а во второй раз в человека в нижнем белье. Нужно было видеть Кулябко при всех чинах и орденах… чтобы у Богрова поднялась на него рука.
Примеч. мое: Я с своей стороны должен обратить внимание на последнюю фразу приведенного показания, в которой произведенное покушение на Столыпина изображается, как совершенное без заранее обдуманного намерения в результате решения принятого только в театре и лишь потому, что Столыпин был одним из немногих знакомых Дм. Богрову лиц, на котором к тому же было сосредоточено внимание публики.
Это показание стоит в явном противоречии не только с прежними показаниями Дм. Богрова, в которых он признавал себя виновным в том, что «задолго до наступления августовских торжеств решил совершить покушение на жизнь министра внутренних дел Столыпина» (показание 1 сентября 1911 г.), что «задумав заранее лишить жизни председателя совета министров Столыпина, произвел в него 1-го сентября 2 выстрела» (показание 2-го сентября 1911 г.), но и противоречит показаниям целого ряда свидетелей, с которыми еще задолго до этого времени Дм. Богров говорил о своем намерении совершить покушение на Столыпина (об этом свидетельствуют приведенные мною выше заявления Е. Лазарева, П. Лятковского и, в более отвлеченной форме, разговор со мной).
Поэтому, Е. Лазарев справедливо заявляет, что показания Дм. Богрова от 10-го сентября 1911 г. являются «странными» и «неожиданными» и не заслуживают доверия.
Нельзя не присоединиться вполне к этой оценке Е. Лазарева. Показания Дм. Богрова от 10-го сентября 1911 г., данные в столь необычный момент, неизвестно по чьему постановлению и неизвестно при каких условиях допроса, в крепостной камере «Косого канонира», жандармскому полковнику Иванову, противоречат истине и не заслуживают никакого доверия.
Однако, в таком случае неизбежно возникает вопрос: с какою же целью Дм. Богров искажал истину в своих показаниях и, при том, в смысле невыгодном для него с точки зрения мнения тех кругов общества, которые были для него более близки?
Ведь Дм. Богров был слишком умен для того, чтобы не понимать, что единственная позиция, которая могла спасти его революционное имя, была та совершенно убедительная, напрашивавшаяся у каждого точка зрения, что он использовал охранное отделение для своих революционных целей и вводил его в заблуждение в период 1907‑1910 г. так же, как в августе 1911.
Такое его заявление несомненно было бы подхвачено, как прогрессивными, так и консервативными кругами тогдашнего общества, конечно, каждой группой для того, чтобы сделать другие выводы. Во всяком случае тактика Дм. Богрова, анархиста по убеждениям, и не принадлежавшего ни к какой «партии», нашла бы не мало и защитников. Ни для кого не были бы убедительны противоположные показания Кулябко, так как этот последний был явно заинтересован в том, чтобы свалить на Дм. Богрова всю ответственность за промахи киевского охранного отделения, что было возможно только при условии, если доверие ему оказанное в августе 1911 г. имело серьезное оправдание.
И только благодаря противоречивым показаниям самого Дм. Богрова по вопросу о его сотрудничестве в охранном отделении все дело получило столь запутанный в психологическом смысле характер. Ведь, лишь теперь, по прошествии стольких лет и в результате самого подробного изучения дела, явилась возможность установить, что Дм. Богров в действительности никого не выдавал и являлся «провокатором… без провокации.» Зачем же надо было Дм. Богрову сознательно маскировать свою революционную сущность?
Этот вопрос возникает в равной мере и в том случае, если принять на веру заявление Дм. Богрова, сделанное им на допросе 3 сентября, о том, что по прибытии в Петербург в 1910 г. он «снова» сделался революционером. Зачем же революционеру, который был таковым до середины 1907 г. и вновь стал революционером в 1910 г., специально подчеркивать свою верную службу охранному отделению в промежуточный период.
Ведь всякий другой революционер, оказавшись в положении Дм. Богрова, постарался бы на следствии и суде каким либо способом затушевать этот «темный» период своей жизни. Для этого ему было достаточно воспользоваться тем выходом, который был ему дан на допросе суд. след. В. Фененко: вместо того, чтобы, вопреки всякой логике, утверждать, что он в 1907–1910 г. действовал исключительно в интересах охранного отделения, а с средины 1910 г. снова стал революционером, он с гораздо большей достоверностью и последовательностью мог бы стать на противоположную точку зрения — а именно, что он и в период 1907–1910 г. во время своих сношений с киевским охранным отделением преследовал революционные цели и никаких существенных услуг охранному отделению не оказал.
Таким образом была бы к полному удовольствию В Фененко восстановлена недостающая в показании Дм. Богрова «логика», а обществу был бы указан правильный путь для дальнейшей оценки всего дела.
Наконец, судебное следствие — не исповедь. Это, конечно, прекрасно понимал и чувствовал Дм. Богров. Он сам, явно, в своих показаниях преследовал определенную цель — иногда не договаривал всего, иногда, как мы видели, впадал в противоречия. Почему же в таком случае, принимая во внимание, что ему неизбежно угрожал смертный приговор военного суда, он не преследовал цели своего «возвеличения», как революционера, террориста, совершившего по его собственному убеждению акт огромного революционного значения, а, наоборот, сделал все, для того, чтобы примешать «ложку дегтя к бочке меда» — охранной службы к самоотверженному революционному выступлению?
Ответ на эти вопросы можно найти отчасти в тех данных, которые стали нам известны из свидетельства Е. Лазарева о своих разговорах с Дм. Богровым в Петербурге на Троицу 1910 г. Отчасти же ответ этот нужно искать в существе той анархической идеи, которую до самого последнего мгновения исповедовал Дм. Богров.
Если мы возвратимся к разговору Дм. Богрова с Е. Лазаревым, цитированному нами по вышеприведенной статье Е. Лазарева, (Стр. 81 и след.), то убедимся, что Дм. Богров ставил себе наряду с задачей совершения террористического акта, как такового, и задачу общественно-политическую.
А именно, он стремился достижения совершенным актом наиболее глубокого социального эффекта. «Для определенного воздействия на массы, человеческая деятельность должна быть не только индивидуально моральной, но и общественно целесообразной» — говорит Дм. Богров, По словам Е. Лазарева. «Выкинуть Столыпина с политической арены от имени анархистов я не могу. У анархистов нет партии, нет правил, обязательных для всех членов.
Совершив удачно намеченный акт, я мог бы только ангажировать одного себя, заявив, что я действую от своего имени, кем бы индивидуально я ни был — анархист, монархист или беспартийный. Чтобы вы лучше поняли мою мысль и настроение, представьте такой случай: завтра какой-нибудь пьяный хулиган покончит со Столыпиным, или ревнивый муж пристрелит министра за его непрошенное вмешательство в чужую семейную жизнь. Во всех этих случаях Столыпин становится безвредным и устранен с политической арены.
Я спрашиваю, какое политическое значение будет иметь при таких условиях смерть и удаление Столыпина? Не более, чем нормальная, естественная смерть т. е. — никакого».
Вот почему Дм. Богров и обратился к Е. Лазареву, как соц. — революционеру, с предложением использовать задуманный им террористический акт в интересах партии соц. — революционеров. Он предлагает, чтобы партия соц. — революционеров санкционировала его выступление, как совершенное по постановлению центрального комитета партии. «Я хочу обеспечить за собой уверенность» говорит Дм. Богров «что после моей смерти останутся люди и целая партия, которые правильно истолкуют мое поведение, объяснив его общественными, а не личными мотивами».
Дм. Богров не просит у Е. Лазарева ни технической, ни материальной помощи партии, но опасается, что его поступок может быть истолкован так, что он потеряет всякое политическое значение. «Я прошу партию о том, чтобы она санкционировала мой акт только в том случае, если она убедится, что я веду себя достойно и умру тоже достойно. До смерти я не буду ангажировать партию. Пусть партия обещает только, что она публично санкционирует мой акт после смерти и суда. Но это нужно мне знать теперь же, чтобы знать, как себя держать».
Как известно, Е. Лазарев на предложение Дм. Богрова ответил отказом. На этот отказ Дм. Богров отвечает между прочим следующее; «Признаюсь, ваше отношение во многом расстраивает все мои планы. Я вновь остаюсь наедине со своими думами, совершенно изолированными. У меня вновь нет никого, кто мог бы авторитетно истолковать мое поведение объяснить его не личными, а общественными мотивами.. Несмотря ни на что, я постараюсь привести свое решение в исполнение. Я стремлюсь сделать мое выступление более целесообразным, a вы этому мешаете. Вот результат наших разговоров».
Из этой беседы, ставшей известной лишь недавно, благодаря статье Е. Лазарева, видно, какой вопрос особенно тревожил Дм. Богрова до самой последней минуты — вопрос о том, каким образом он может придать своему индивидуальному террористическому выступлению наиболее глубокое социально-политическое значение. Его не могло удовлетворить с этой точки зрения выступление, как одиночки анархиста,
и он не сомневался, что произведенное им покушение на министра Столыпина в помещении «Комитета», при котором он состоял на службе, или во время какого-нибудь официального приема, без соответственной политической подготовки извне, будет истолковано, как акт умалишенного или акт личной мести, и во всяком случае так, что этот акт окажется лишенным всякого агитационно-политического значения. Не найдя необходимой идейно-политической поддержки у партии соц. — революционеров, он ищет другого пути, что видно из произнесенной им фразы: «мне нужно знать это (т. е. поддержит ли его партия или нет) теперь же, для того, чтобы знать, как себя держать». Надо полагать, что и этот другой путь был им намечен уже раньше.
И вот, Дм. Богров окончательно решает использовать свою связь с охранным отделением не только для технического осуществления своего выступления, но и для достижения того социально-политического эффекта, который являлся для него необходимой предпосылкой для совершения акта.
Не получив возможности, благодаря отказу с. — рев., поставить своим выступлением и совершенным террористическим актом пред обществом проблему — «террор и революция», он решает поставить своим выступлением пред обществом другую проблему: «террор и охрана». Для этой цели он искусственно переплетает роль революционера-анархиста с ролью сотрудника охранного отделения, выступая в одном лице в качестве обоих.
Как анархист, Дм. Богров подчиняется «только требованиям своего разума и своего идеалистического принципа.» Мнение современного буржуазного общества, со строем которого он борется и идеологию которого он отрицает, не интересует его ни при жизни, ни, тем более, после смерти. Его цель — борьба, всеми средствами и до последней минуты, во имя поставленного себе идеала. С этой точки зрения Дм. Богров только и подходит к задуманному им выступлению.
Что до того, что суд. — след. В. Фененко не всегда находит «логику» в его словах! У Дм. Богрова «своя логика» и логика эта заключается в том, чтобы поставить общественное мнение, революционные партии, политические группы и государственную власть пред особенно больной и острой проблемой того времени: революционный террор и охранный террор.
Столыпин убит. Это прямой, непосредственный, физический результат совершенного террористического акта.
Убийство Столыпина совершено в связи с вскормленной и организованной им же самим охранно-провокационной системой, совершено революционером, использовавшим для этой цели охранную организацию, но, с другой стороны, будто бы, использованным и этой организацией в ее интересах.
Это исходное положение для последующих социально-политических результатов выступления. Возникает ряд сомнений, возбуждается множество вопросов первостепенного политического значения, происходит борьба интересов разных политических групп, столкновение взглядов революционных партий и единодушный взрыв негодования, имеющего в каждом случае иные мотивы: бушуют все партии, заседающие в государственной думе, но каждая из них требует чего то иного и в разном видит причину зла — одни требуют уничтожения охранной системы, другие — уничтожения «гидры революции», снаряжаются ревизии охранных отделений, создаются комиссии для предания суду жандармских генералов и на этой благодарной почве все больше обостряется борьба социальных интересов и политических противоречий.
Вряд ли какое либо террористическое выступление после покушения на Александра II вызвало большее политическое смятение, чем убийство министра Столыпина. Ничего подобного, конечно, не имело бы места, если бы Дм. Богров не выступил в маске — одновременно и сотрудника охранного отделения и революционера.
Действительно, если бы Дм. Богров на допросе показал, что был анархистом-одиночкой, использовавшим для своих террористических целей киевское охранное отделение, то произошло бы именно то, чего опасался Дм. Богров в разговоре с Е. Лазаревым.
Правда, не может быть никакого сомнения в том, что общество отнеслось бы к его словам с большим доверием, чем к утверждениям Кулябко, и очень скоро установилось бы отношение к Дм. Богрову, как в революционеру, индивидуально совершившему террористический акт и использовавшему для этой цели охранное отделение, одурачив это последнее с большим умом и ловкостью.
Но разве не правильно предвидел Дм. Богров, что такая оценка хотя несомненно и возвеличила бы его, как революционера-одиночку, но лишила бы его выступления всякого агитационного, социально-политического значения. Для общества и для политики это был бы лишь интересный, из ряда вон выходящий случай индивидуального террористического выступления, но случай, которому никак нельзя было бы придать никакого общего социально-политического значения.
А Дм. Богров, как мы видели из разговора его с Е. Лазаревым, дорожил именно революционным успехом своего дела, а не своего имени. Как анархист, не только на словах, но и на деле, он не обладал революционным пафосом и не искал революционной «славы», тем более за пределами своей жизни.
Это он и доказал на практике добровольно и сознательно пожертвовав своей революционной «честью» во имя признанного им правильным проведения поставленной социально-политической задачи. Поэтому так глубоко неправильна характеристика Дм. Богрова, данная его бывшим единомышленником П. Лятковским, когда он говорит, что Дм. Богров не хотел быть «мелкой сошкой», чернорабочим от революции, а стремился лишь к совершению чего либо грандиозного, из чувства «тщеславия».
Дм. Богров принес в жертву своей революционной идее, как он ее понимал, все — даже больше, чем жизнь, — свое революционное имя и честь.
В тот момент, когда мы станем на указанную точку зрения, мы сразу же поймем многое в поведении Дм. Богрова на следствии и суде, что до сих пор казалось загадочным. Так напр.: почему Дм. Богров отказался от защитника? Казалось бы, защитник мог быть для него единственным человеком, которому он мог доверить всю правду и который стоял бы на стороне его интересов не только в настоящем, но и в будущем.
Теперь нам ясна причина отказа Дм. Богрова от защиты: Дм. Богров имел свой план, который проводил до последней минуты жизни и план этот никак не мог быть им оглашен и согласован с тактикой политического защитника. Общение Дм. Богрова с адвокатом никак не могло бы носить откровенного, искреннего характера, а защитительная речь последнего пред военным судом должна была бы во всяком случае основываться на доводах совершенно противоречащих тем задачам, которые себе поставил Дм. Богров. Дм. Богров должен был довести свою игру до конца один, и никто не должен был быть посвящен в его идеи, уже по тому одному, чтобы преждевременным открытием их, хотя бы после его смерти, не нарушить той цели, которую он преследовал.
По той же причине Дм. Богров и в предсмертном письме к родителям не мог разъяснить истинных мотивов своего поведения — он тем самым преждевременно открыл бы свои карты пред всем миром. Он должен был ограничиться тем, что пишет: «последняя моя мечта была бы, чтобы у вас, милые, осталось обо мне мнение, как о человеке может быть и несчастном, но честном. Простите меня еще раз, забудьте все дурное, что слышите…».
Быть может, Дм. Богров решился доверить свою тайну раввину, с которым ему было предложено переговорить перед казнью, после оглашения приговора на месте казни. Но Дм. Богров поставил условием, чтобы разговор с раввином состоялся в отсутствии свидетелей — полиции. В этом ему было отказано товарищем прокурора. В виду этого Дм. Богров отказался и от разговора с раввином.
В своем докладе 1-ому департаменту государственного совета по делу Курлова, Кулябко, Спиридовича и Веригина, сенатор Е. Турау между прочим указывает на то, что Богров все время «мистифицировал» и это можно заключить по его собственным показаниям на суде. Е. Турау находит для этой «мистификации» следующее объяснение: «возможно, что он рассчитывал, что его приговорят не к смертной казни, и надеялся со временем бежать». Сенатору Е. Турау, как и всем другим, не приходили в голову истинные мотивы этой «мистификации», мотивы политического характера.
Однако, факт тот, что не один сенатор Е. Турау упоминает, о планах бегства Дм. Богрова. Поводом для этих разговоров являлось не столько поведение Дм. Богрова, как по всей вероятности, поведение совершенно иной группы лиц.
Я позволю себе процитировать газетную заметку, появившуюся в парижской газете «Будущее» от 31 декабря 1911 г. № 11, и доказывающую, что кем то действительно распространялись слухи о предполагавшемся бегстве Дм. Богрова.
«По убеждению местной публики, на основании каких то «весьма секретных, но вполне достоверных» источников, охрана не только «попустительствовала», но и «подстрекательствовала», гарантировала Богрову спасение, в форме заранее подстроенного побега, и материальную обеспеченность дальнейшей жизни, в форме ассигнованных кем то на это 200.000 (!) рубл.». «Вы, как и все, вероятно, заметили, что Богров побежал не сразу после выстрела, а как бы дожидался чего то и побежал лишь после некоторой паузы, которая и сгубила его. Теперь непонятная пауза объяснилась. Оказывается, что ему было обещано, что в момент выстрела электричество в театре внезапно и нечаянно потухнет, чтобы он мог, пользуясь темнотою, броситься незаметно в известный, оставленный без охраны проход, в конце которого были припасены для него военная фуражка и шинель, а снаружи дожидался автомобиль с разведенными парами. Но стоявший у «ключа» механик-рабочий не допустил к нему охранника, несмотря на предъявленный ему «билет», электричество не погасло и Богров, потратив драгоценные секунды на ожидание темноты, бросился бежать, когда публика уже оправилась от первого потрясения, вследствие чего и не мог спастись.
«Конечно», — прибавляет передатчик этих басен, «со стороны Богрова наивно было думать, что его «друзья-охранники» отпустят его на волю. Увезти-то его, они увезли бы; но куда! На тот свет! А после мы прочли бы в газетах, что там то «самовольно» объявилось неизвестно кому принадлежащее мертвое тело, изуродованное до неузнаваемости. На том бы дело и кончилось».
Все это, конечно, сказки и плоды обывательской фантазии: неправда, что Богров «бросился бежать» т. к. по свидетельству всей публики, присутствовавшей в театре, он после выстрела спокойно направился к выходу; не подтверждается история с «механиком-рабочим», выступившим в защиту правопорядка, не было обнаружено никакого автомобиля «с разведенными парами» и проч. Слишком трезвый человек был Дм. Богров, чтобы не сознавать, что из театра ему спасения не было.
Тем не менее несомненно, что Дм. Богров, приступая к осуществлению задуманного плана 27 августа 1911 г. не исключал возможности организовать для себя побег, однако, конечно, не с помощью охранного отделения. Такая затея, на первый взгляд совершенно отчаянная, тем не менее вполне отвечала его характеру и принципам того учения, которое он проводил. Это обстоятельство, между прочим, особенно наглядно опровергает версию о «самоубийстве», на которое будто бы решился Дм. Богров.
По свидетельству близкого друга Дм. Богрова, П-го, Дм. Богров, 26 августа 1911 г. т. е. накануне своего первого посещения Кулябко, просил организовать ему помощь для совершения побега из сада киевского купеческого собрания. Как известно, сад этот находится на берегу Днепра и Дм. Богров именно там предполагал первоначально совершить задуманное покушение на Столыпина. Требовалось раздобыть для побега где либо моторную лодку. Однако, это не удалось.
27 августа Дм. Богров во время беседы с Кулябко, Спиридовичем и Веригиным указывает на то, что вымышленный им революционер «Николай Яковлевич» с товарищами собираются приехать в Киев из Кременчуга на моторной лодке. Эту моторную лодку Дм. Богров просил ему предоставить. Однако, в этом ему было отказано, в виду трудности наблюдения за моторной лодкой.
Из сопоставления означенных фактов можно с полной вероятностью предположить, что моторная лодка, которую так старался раздобыть Дм. Богров, предназначалась именно для задуманного после покушения побега.
Однако, главным основанием для циркулировавших слухов о предполагавшемся побеге Дм. Богрова послужили по всей вероятности совершенно иные обстоятельства. Правда, здесь мы переходим в область предположений, однако, я получаю некоторую поддержку также в мнении Е. Лазарева, выраженном им в цитированной выше статье.
(Е. Лазарев. Дм. Богров и убийство Столыпина Воля России, Прага №№ 6, 7. Стр. 87.).
Жандармский полковник Иванов, дважды допрашивавший Дм. Богрова до суда, как известно, произвел третий, последний допрос его 10 сентября 1911 г., т. е. уже после суда и накануне казни Дм. Богрова.
Жандармский полковник Иванов был в приятельских (и даже, кажется, в родственных) отношениях с Кулябко и, несомненно, выступал в интересах сего последнего и той влиятельной группы лиц, (Курлов, Спиридович и Веригин), интересы которых были тождественны с интересами Кулябко.
По странной игре логики, ложь Дм. Богрова, указывавшего, что он действовал в 1907 г. «в интересах киевского охранного отделения», играла для этих лиц, политических его врагов, спасительную роль. Эта ложь давала им возможность оправдать пред начальством оказанное Дм. Богрову в 1911 г. доверие.
Помехой для них служило лишь то, что Дм. Богров заявил на допросе 2 сентября суд. след. В. Фененко, что с 1910 г. вновь стал революционером. Этим заявлением он, с одной стороны нарушил логичность своего показания, что было, как мы видели выше, отмечено суд. след. В. Фененко, с другой стороны он создавал возможность новых упреков по отношению к Кулябко и друг.
Как видно, группа Кулябко решила во что бы то ни стало восстановить эту нарушенную Дм. Богровым «логичность» в его показаниях и командирует к нему для этой цели в крепость 10 сентября 1911 г. полковника Иванова, который блестяще выполнил поставленное ему задание. Дм. Богров собственноручно пишет новое показание, в котором объясняет и последнее свое выступление не революционными мотивами, а принуждением, требованием реабилитации, будто бы предъявленным к нему мифическим «товарищем Степой». Чтобы еще больше подчеркнуть великую опасность, которой будто бы подвергался Кулябко, создается новая версия о том, будто и самое покушение было первоначально задумано не против кого иного, как против самого Кулябко. Лишь случайно, по причинам действительно непонятным. Кулябко спасется от смерти, а неожиданной жертвой выступления Дм. Богрова оказывается… Столыпин.
Таким образом покушение на Столыпина оказывается совершенным без заранее обдуманного намерения, а по внезапно принятому решению, случайному выбору.
Выше эта совершенно лживая версия была нами подробно рассмотрена и отвергнута. В настоящий же момент нас занимает вопрос: каким образом полковник Иванов мотивировал Дм. Богрову свое появление в камере «Косого капонира» 10 сентября 1911 г. для нового допроса? К сожалению в протоколы допросов вносятся лишь показания допрашиваемого лица, а не слова лиц допрос производящих. Такой порядок несомненно помог бы разобраться во многих кажущихся несообразностях в показаниях подследственных лиц. Какими соображениями полковник Иванов заставил Дм. Богрова сознательно изменить данные им прежде показания, в пользу Кулябко и его группы?
Мне кажется, что предположение Е. Лазарева не лишено убедительности, когда он считает, что полковник Иванов определенно обещал Дм. Богрову смягчение его участи, если он в свою очередь согласится дать показание, которое могло бы смягчить участь Кулябко и стоящих за ним Курлова, Спиридовича и Веригина.
Быть может наряду с этим обещанием полковник Иванов старался также просто воздействовать на чувства Дм. Богрова, прося его сжалиться над Кулябко, который отнюдь не являлся целью его выступления. Е. Лазарев думает, что полковник Иванов «намекнул на возможность облегчения участи Богрова» в случае, если он в своих показаниях откажется от агрессивной, боевой, революционной тактики, а изобразит истинные побуждения к крайним, безумным поступкам своим, как способ заглушить голос совести или страха за погубленную жизнь, благодаря сношению с охранкой, благодаря сотрудничеству с Кулябкой…
С этой точки зрения сам Богров является мучеником». И вот, Е. Лазарев считает, что Дм. Богров, выслушав такое предложение полковника Иванова, «спокойно и внушительно ответил: Кулябко мне жаль и я готов сделать для него, что могу. Сам же я — в облегчениях не нуждаюсь. Мне надо умереть». (Там же стр. 87.).
В такой же мере, в какой я принимаю первую часть предположения Е. Лазарева, относительно намеков Иванова на счет облегчения участи Дм. Богрова и призыва, обращенного к его доброму сердцу, настолько же энергично я отвергаю тот ответ, который Е. Лазарев вкладывает в уста Дм. Богрову.
Этот слащавый тон, преисполненный сентиментального Дон-Кихотства совершенно не соответствует тому, как мыслил и чувствовал Дм. Богров, в согласии со своей неугомонной анархической натурой. В ответ на предложение полковника Иванова он мог только ответить следующее: «На Кулябко мне наплевать… Мне его совершенно не жаль, тем более, что угрожает ему только лишение карьеры по охранной службе… Мне также совершенно безразлично, пострадает ли он от современного «правосудия» за глупую и смешную роль, которую сыграл в моем деле или нет.
Но! посколько я при изменении своих показаний и, не впадая в противоречив с той политической целью, которую преследовал своим выступлением, могу облегчить свою участь и спасти свою жизнь, я готов показать то, что вы хотите.»
Мне кажется, что только таким мог быть ответ Дм. Богрова — анархиста. Ни один истинный анархист не согласился бы двинуть пальцем, не то что изменить собственные свои показания, «из жалости» к начальнику охранного отделения, но ни один истинный анархист не произнес бы также слов «мне надо умереть».
Лозунг анархиста — жить и бороться, во что бы то ни стало и до последней возможности, а не покорно класть голову на плаху. Дм. Богров принял предложение полковника Иванова, так как не хотел оставить неиспользованным ни одного шанса на спасение своей жизни, поскольку таковое являлось возможным без принесения в жертву своих принципов и умаления значения того акта, который он совершил. Решившись из политических соображений осветить свою личность одновременно, как революционера и сотрудника охранного отделения, Дм. Богрову казалось безразличным вносить те или иные вариации в свои показания, не изменяя заранее намеченного общего плана. Обещания полковника Иванова были ложью и Дм. Богров был казнен. Но слухи об этих обещаниях и о переговорах полковника Иванова с Дм. Богровым, очевидно, проникли в общество и дали повод для тех разговоров, о которых было упомянуто выше. Вспомним, что при казни Дм. Богрова присутствовали специальные делегации от монархического союза и союза русского народа, командированные затем, чтобы опознать Дм. Богрова и засвидетельствовать, что казнен именно он, а не кто-нибудь другой вместо него.
Мне самому приходилось неоднократно удостоверять интересовавшимся делом лицам, что Дм. Богров был действительно казнен и что все слухи о его спасении совершенно ложны.
——
На этом я заканчиваю настоящую книгу. В заключение повторяю еще раз, что прошу рассматривать ее лишь как попытку осветит личность Дм. Богрова и дать логическое и психологическое разъяснение его делу. Я не сомневаюсь, что дальнейшие исследователи найдут в обширном материале не мало новых фактов, которые подтвердят мои выводы и в той части, где они сделаны априори.
Но, если, как я указывал в вступительной части, эта книга не может рассматриваться, как попытка «реабилитации» Дм. Богрова, то, во всяком случае, она должна служить его апологией, как анархиста-коммуниста.
Этот его образ несомненно зачастую идет в разрез с обычным представлением о «революционере-герое», что, однако, вполне естественно, так как анархизм отвергает также и те принудительные нормы, которые выработаны партийно-революционным кодексом. Исчерпав материал настоящего исследования, я позволю себе еще раз процитировать то место из «анархического манифеста» Пьера Рамуса, в котором он дает характеристику поведения истинного анархиста и мы убедимся, как близко образ действий Дм. Богрова подходит именно к этой характеристике.
«В протесте индивидуума и группы лиц против существующего порядка заключается первый толчок к новому. Анархист это понимает; его протест имеет место каждый день; он подчиняется лишь требованиям своего идеалистического принципа. И тем, что его образ жизни в духовном, моральном, интеллектуальном и психическом отношении отличен от образа жизни рядового человека, он действует разлагающим образом на существующее, строя для будущего, для будущего свободного общества».
Именно, так жил и умер Дм. Богров, и только с этой точки зрения возможна правильная оценка его дела.
Берлин, 10 мая 1931 г.
http://ldn-knigi.lib.ru (ldn-knigi.narod.ru, ldn-knigi@narod.ru)

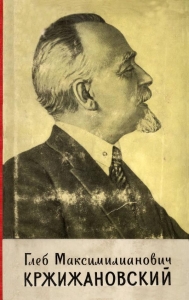



Комментарии к книге «Дм. Богров и убийство Столыпина», Владимир Григорьевич Богров
Всего 0 комментариев