Эта книга больше чем своевременна,
она необходима. Я ее публикую.
В. Г. Париж, 1 октября 1877 года.ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ТОМУ
Книга эта написана двадцать шесть лет тому назад, в Брюсселе, в первые месяцы изгнания. Она была начата 14 декабря 1851 года, на следующий день после приезда автора в Брюссель, и окончена 5 мая 1852 года, как будто случаю угодно было ознаменовать годовщину смерти первого Бонапарта осуждением второго. Случай был также причиной того, что под бременем трудов, забот и горестных утрат автор не мог опубликовать книгу вплоть до этого удивительного 1877 года. Может быть, не без тайного умысла случай приурочил рассказ о прошедших событиях к тому, что происходит сегодня? Надеемся, что нет.
Как уже было сказано, рассказ о государственном перевороте был написан рукой, еще не остывшей от борьбы с переворотом. Изгнанник тотчас же стал историком. Он унес преступление Второго декабря в своей негодующей памяти и не хотел, чтобы из нее изгладилась хотя бы малейшая подробность. Так возникла эта книга.
Рукопись 1851 года оставлена почти без изменений, в том виде, как она была написана, — с изобилием подробностей, живая, полная жестокой правды.
Автор превратился в следователя; свидетелями были все его товарищи по борьбе и изгнанию. К их показаниям он прибавил свои собственные. Теперь дело поступило на рассмотрение Истории. Она произнесет свой приговор.
Если дозволит бог, издание этой книги скоро завершится. Продолжение и окончание выйдут в свет 2 декабря. Как раз подходящая дата!
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗАПАДНЯ
I Беспечность
1 декабря 1851 года Шаррас пожал плечами и разрядил свои пистолеты. В самом деле, теперь уж стыдно было и думать о возможности государственного переворота. Предположение, что Луи Бонапарт может совершить насилие, нарушить законы, не выдерживало серьезной критики. Самым важным вопросом в то время являлось, конечно, избрание Девенка; ясно было, что правительство думает только об этом. Посягнуть на республику, на народ? У кого же мог возникнуть такой замысел? И кто бы пошел на такую нелепость? Чтобы разыграть трагедию, нужно иметь актера, а актера-то как раз и не было. Нарушить закон, распустить Собрание, отменить конституцию, задушить республику, повергнуть в прах нацию, осквернить знамя, обесчестить армию, растлить духовенство и суд, добиться своего, восторжествовать, начальствовать, управлять, изгонять, ссылать, отправлять на каторгу, разорять, убивать, царить, и все это с такими сообщниками, что с ними закон в конце концов станет похожим на постель публичной девки! Кто же совершит все эти чудовищные злодеяния? Гигант? Нет; пигмей! Да это просто смешно! Прежде говорили: «Какое преступление!» Теперь стали говорить: «Какой фарс!» Действительно, подумайте только! Большие злодеяния требуют размаха. Не всякая рука годится для грандиозных преступлений. Чтобы совершить Восемнадцатое брюмера, нужно иметь позади себя Арколе и впереди Аустерлиц. Не каждому дано быть великим разбойником. Люди говорили: «Что собой представляет этот сын Гортензии? В прошлом у него вместо Арколе Страсбург и вместо Аустерлица — Булонь; это француз, родившийся голландцем и принявший швейцарское подданство; это помесь Бонапарта с Верхюлем, он знаменит только той наивностью, с которой принимает позу императора; а вырви перо у его орла — и в руках у тебя, пожалуй, останется перо гусиное. Этот Бонапарт — фальшивая монета, в которой больше свинца, чем золота; она не имеет хождения в армии, и уж, конечно, таким Лженаполеоном не соблазнить французского солдата на мятежи, зверства, резню, преступления и измену. Если бы даже он рискнул на какое-нибудь подлое дело, все равно ничего бы не вышло. Ни один полк не тронулся бы с места. Да, впрочем, для чего ему пытаться? Правда, в нем есть что-то подозрительное, но почему же считать его таким уж негодяем? Столь наглое покушение было бы свыше его сил, у него для этого нет реальной возможности; так зачем же предполагать, что он способен на это нравственно? Ведь он поручился своей честью! Ведь он сказал: «Никто в Европе не сомневается в моем слове. Значит, нечего и опасаться». На это можно было возразить: «Преступления совершаются либо в большом, либо в малом масштабе; в первом случае преступник — Цезарь, во втором — Мандрен. Цезарь переходит через Рубикон, Мандрен шагает через сточную канаву». Но тут вмешивались люди благоразумные. «Мы не вправе, — говорили они, — делать такие оскорбительные предположения. Этот человек был в изгнании, он хлебнул горя; изгнание очищает, горе вразумляет».
Луи Бонапарт, со своей стороны, решительно протестовал. Фактов, говоривших в его пользу, было множество. Почему не хотят верить его чистосердечию? Ведь он связал себя серьезными обязательствами. В конце октября 1848 года, будучи кандидатом на пост президента, он посетил одного человека, жившего на улице Тур-д'Овернь в доме № 37, и сказал ему: «Я пришел объясниться с вами. На меня клевещут. Скажите, разве я похож на сумасшедшего? Говорят, что я хочу пойти по стопам Наполеона! Есть два человека, которых честолюбец может взять себе образцом, — Наполеон и Вашингтон. Один гениален, другой добродетелен. Говорить себе: я стану гениальным человеком, — бессмысленно; сказать себе: я стану человеком добродетельным, — похвально. Что зависит от нас? Чего мы можем достичь своею волей? Гениальности? Нет. Честности? Да. Стать гениальным — цель недостижимая; быть честным — вполне возможно. А что мог бы я повторить из деяний Наполеона? Только одно: преступление. Есть к чему стремиться! Зачем же считать меня безумцем? Теперь у нас республика, я не великий человек, я не стану подражать Наполеону, но я человек порядочный, я последую примеру Вашингтона. Мое имя, имя Бонапарта, останется на двух страницах истории Франции; одна будет говорить о преступлении и славе, другая — о верности и чести. И, возможно, вторая страница будет стоить первой. Почему? Потому что если Наполеон более гениален, то Вашингтон более нравственен. Один — преступный герой, другой — честный гражданин; я выбираю честного гражданина. В этом заключается мое честолюбие».
С тех пор прошло три года. Луи Бонапарта долго подозревали, но длительные подозрения сбивают с толку и, не подтверждаясь, притупляются с течением времени. У Луи Бонапарта были двуличные министры, такие, как Мань или Руэр, но были и министры простодушные, как Леон Фоше и Одилон Барро; тот и другой утверждали, что он честен и искренен. Видели, как он бил себя в грудь перед воротами Гамской крепости; его молочная сестра, госпожа Гортензия Корню, писала Мерославскому: «Я честная республиканка, и я отвечаю за него»; его товарищ по Гамской крепости, Поже, человек прямодушный, говорил: «Луи Бонапарт не способен на измену». Ведь Луи Бонапарт написал книгу о пауперизме! В интимных кругах Елисейского дворца граф Потоцкий слыл республиканцем, а граф д'Орсе либералом; Потоцкому Луи Бонапарт заявлял: «Я сторонник демократии», а графу д'Орсе: «Я сторонник свободы». Маркиз дю Алле был против переворота, а маркиза дю Алле — за переворот. Луи Бонапарт говорил маркизу: «Не бойтесь ничего» (правда, он в то же время говорил маркизе: «Ни о чем не тревожьтесь»). Собрание, вначале проявлявшее некоторую тревогу, отбросило подозрения и успокоилось. Ведь можно было рассчитывать на генерала Неймайера, человека «надежного», — в случае надобности он мог двинуться на Париж из Лиона, где стояли его полки. Шангарнье восклицал: «Депутаты народа, вы можете совещаться спокойно». Луи Бонапарт сам произнес следующие знаменитые слова: «Я счел бы врагом моей родины всякого, кто захотел бы насильственно изменить то, что установлено законом». К тому же главная сила заключалась в армии: у армии были свои, любимые, прославленные победами командиры: Ламорисьер, Шангарнье, Кавеньяк, Лефло, Бедо, Шаррас; разве можно было себе представить, что армия, воевавшая в Африке, пойдет против генералов, командовавших в Африке? В пятницу, 28 ноября 1851 года, Луи Бонапарт сказал Мишелю де Буржу: «Если бы я даже замыслил злое дело, я бы не мог его совершить. Вчера, в четверг, у меня обедали пятеро полковников парижского гарнизона; мне вздумалось расспросить каждого в отдельности; все пятеро ответили, что армия не пойдет на насилие и не посягнет на неприкосновенность Собрания. Вы можете передать это вашим друзьям». «Он улыбался, — рассказывал успокоенный Мишель де Бурж, — и я тоже улыбнулся». После этого Мишель де Бурж говорил с трибуны: «Вот такой человек нам и нужен». Тогда же, в ноябре, президент подал жалобу в суд на некий сатирический журнал, обвиняя его в клевете; редактора приговорили к штрафу и тюремному заключению за карикатуру, изображавшую тир и Луи Бонапарта, целящегося в мишень — конституцию. Министр внутренних дел Ториньи объявил в совете в присутствии президента, что тот, кто облечен верховной властью, ни в коем случае не должен нарушать закон, иначе он будет… «Бесчестным человеком», — докончил за него президент. Все эти слова и факты были широко известны. Как реальная, так и нравственная невозможность переворота была очевидна для всех. Посягнуть на Национальное собрание? Арестовать депутатов народа? Что за нелепость! Как мы видели, Шаррас, все время бывший начеку, в конце концов отказался от всяких предосторожностей. Никому и в голову не приходила мысль о какой-нибудь опасности. Некоторые из нас, депутатов, еще питали подозрения и иногда покачивали головой, но таких считали глупцами.
II Париж спит. Звонок
2 декабря 1851 года Версиньи, депутат от округа Верхней Соны, живший в Париже на улице Леони в доме № 4, спал. Спал он крепко, так как проработал до поздней ночи. Это был молодой человек тридцати двух лет, блондин с кротким выражением лица, очень способный и много занимавшийся социальными и экономическими науками. Он провел часть ночи над книгой Бастиа, которую читал с карандашом в руке; потом, оставив открытую книгу на столе, заснул. Вдруг его разбудил резкий звонок. Он сел на постели. Светало. Было около семи часов утра. Не понимая, кто бы мог так рано к нему прийти, и предположив, что просто ошиблись дверью, он снова лег и уже стал засыпать, когда второй звонок, еще более тревожный, окончательно разбудил его. Он встал и, не одеваясь, пошел открыть.
Вошли Мишель де Бурж и Теодор Бак. Мишель де Бурж жил по соседству с Версиньи на Миланской улице, в доме № 16.
Теодор Бак и Мишель были бледны и, казалось, сильно взволнованы.
— Версиньи, — сказал Мишель, — одевайтесь скорее. Только что арестован Бон.
— Как! — вскричал Версиньи. — Что же это, опять повторяется дело Могена?
— Нет, хуже, — отвечал Мишель. — Жена и дочь Бона были у меня полчаса тому назад. Они разбудили меня. Бон поднят с постели и арестован сегодня в шесть часов утра.
— Что это значит? — спросил Версиньи.
Снова раздался звонок.
— Сейчас, наверно, все разъяснится, — ответил Мишель де Бурж.
Версиньи пошел открыть. Это был депутат Пьер Лефран.
Он и в самом деле принес разгадку.
— Знаете ли вы, что происходит? — спросил он.
— Да, — ответил Мишель. — Бон арестован.
— Арестована республика, — сказал Пьер Лефран. — Читали вы плакаты?
— Нет.
Пьер Лефран рассказал, что всюду на стенах уже расклеены плакаты, что перед ними теснятся любопытные, что он тоже прочитал плакат, наклеенный на углу его улицы, и что переворот совершился.
— Переворот? — воскликнул Мишель. — Не переворот, а преступление!
Пьер Лефран прибавил, что три разных плаката на белой бумаге, декрет и две прокламации, расклеиваются рядом.
Декрет был отпечатан очень крупным шрифтом.
Пришел бывший член Учредительного собрания Лесак, живший по соседству, как и Мишель де Бурж (Сите Гайар, дом № 4). Он сообщил те же новости и рассказал, что этой ночью были произведены и другие аресты.
Нельзя было терять ни минуты.
Пошли предупредить Ивана, секретаря Собрания, назначенного левой, который жил на улице Бурсо.
Нужно было собраться, нужно было известить и немедленно созвать оставшихся на свободе депутатов-республиканцев. Версиньи сказал: «Я иду за Виктором Гюго».
Было восемь часов утра, я уже проснулся и работал в постели. Войдя в спальню, слуга сказал мне с каким-то испуганным видом:
— Пришел депутат, он хочет видеть вас, сударь.
— Кто это?
— Господин Версиньи.
— Проведите его сюда.
Версиньи вошел и рассказал мне обо всем. Я вскочил с постели.
Он сообщил мне, что встреча назначена у бывшего члена Учредительного собрания Лесака.
— Скорее предупредите других депутатов, — сказал я ему.
Он ушел.
III Что произошло ночью
До роковых июньских дней 1848 года площадь Инвалидов была разделена на восемь больших лужаек, окруженных низкой деревянной оградой; с двух сторон их замыкали группы деревьев; посредине, перпендикулярно порталу Дома инвалидов, проходила улица. Ее пересекали три другие улицы, параллельные Сене. На широких газонах играли дети. В центре восьми лужаек возвышался пьедестал, на котором во времена Империи стоял вывезенный из Венеции бронзовый лев Святого Марка, при Реставрации — белая мраморная статуя Людовика XVIII, а при Луи-Филиппе — гипсовый бюст Лафайета. Казарм поблизости не было, и 22 июня 1848 года колонна повстанцев чуть не дошла до дворца Учредительного собрания; после этого генерал Кавеньяк приказал построить в трехстах шагах от дворца Законодательного собрания, там, где прежде были лужайки, длинные ряды бараков. В этих бараках, рассчитанных на три или четыре тысячи человек, были размещены войска, специально предназначенные для охраны Национального собрания.
1 декабря 1851 года в бараках на площади Инвалидов помещались 6-й и 42-й линейные полки; 6-м полком командовал полковник Гардеренс де Буас, прославившийся еще до переворота, а 42-м — полковник Эспинас, прославившийся после этого события.
Ночной караул Национального собрания в обычное время состоял из одного батальона пехоты и тридцати артиллеристов под начальством капитана. Кроме того, военное министерство присылало нескольких кавалеристов, несших службу связи. Направо от парадного двора, в маленьком квадратном дворике, так называемом артиллерийском, стояли две гаубицы и шесть пушек с зарядными ящиками. Командир батальона, он же военный комендант дворца, непосредственно подчинялся квесторам. С наступлением темноты все ворота, решетчатые и сплошные, запирались на засовы, расставлялись часовые, отдавались приказы, и дворец становился неприступным, как крепость. Пароль был тот же, что и для всего парижского гарнизона.
Специальная инструкция, составленная квесторами, запрещала доступ на территорию Национального собрания каким бы то ни было вооруженным силам, кроме дежурного караула.
В ночь с 1 на 2 декабря дворец Законодательного собрания охранялся батальоном 42-го полка.
Заседание 1 декабря, на котором мирно обсуждался муниципальный закон, затянулось до позднего часа и закончилось голосованием на трибуне. В тот момент, когда Баз, один из квесторов, поднимался на трибуну, чтобы подать свой голос, к нему подошел какой-то депутат с так называемых «елисейских скамей» и шепнул ему: «Сегодня ночью вас увезут». Такие предупреждения мы слышали каждый день, и в конце концов, как уже сказано, перестали обращать на них внимание. Все же сразу после заседания квесторы вызвали полицейского комиссара, состоявшего при Собрании. При этом присутствовал председатель Собрания Дюпен. На вопросы квесторов комиссар ответил, что по донесениям его агентов всюду, как он выразился, «было полное затишье» и что этой ночью, уж конечно, бояться нечего. Однако квесторы продолжали свои расспросы, а председатель сказал: «Э, да что там!» и ушел.
В тот же день, 1 декабря, около трех часов пополудни, когда тесть генерала Лефло переходил бульвар у кафе Тортони, кто-то, поравнявшись с ним, шепнул ему на ухо следующие многозначительные слова: «От одиннадцати до двенадцати». Это не произвело большого впечатления в квестуре, некоторые даже посмеивались, — так теперь было принято. Однако генерал Лефло не ложился до указанного времени и ушел из канцелярии квестуры только около часа ночи.
Стенографические отчеты Собрания передавались четырем рассыльным редакции «Монитера». На их обязанности лежало относить рукописи стенограмм в типографию и приносить гранки во дворец Собрания, где их правил Ипполит Прево. Ипполит Прево, в качестве начальника стенографической службы живший во дворце Законодательного собрания, в то же время вел в «Монитере» музыкальный отдел. 1 декабря он был в Комической Опере на премьере и вернулся домой только после полуночи. Четвертый рассыльный «Монитера» ждал его с последними гранками стенографического отчета. Прево выправил гранки, и рассыльный ушел. Был второй час ночи, повсюду царил глубокий покой; за исключением охраны, все во дворце спали.
Около этого времени произошло нечто странное. Капитан, адъютант батальона, охранявшего Собрание, явился к батальонному командиру и доложил ему: «Меня требует полковник». Согласно военному уставу, он добавил: «Разрешите идти?» Командир удивился. «Идите, — сказал он недовольным тоном, — хотя полковнику не следовало бы вызывать дежурного офицера». Один из солдат охраны слышал, как командир, расхаживая взад и вперед, несколько раз повторил: «На кой черт он ему понадобился?» Солдат не понял смысла этих слов.
Через полчаса адъютант вернулся. «Ну, — спросил командир, — чего хотел от вас полковник?» — «Ничего, — ответил адъютант, — он дал мне приказания на завтра». Спустя некоторое время, около четырех часов утра, адъютант опять явился к командиру и доложил: «Меня вызывает полковник». — «Опять? — воскликнул командир. — Это просто странно! Ну что ж, идите».
В обязанности адъютанта батальона входило между прочим отдавать приказы по караулу, а следовательно, и отменять их.
Когда адъютант ушел, встревоженный командир батальона решил, что его долг предупредить военного коменданта дворца. Он поднялся в квартиру коменданта, подполковника Ниоля; Ниоль спал, слуги разошлись по своим комнатам в мансарде; командир батальона, не знавший дворца и незнакомый с его обитателями, в темноте пробирался по коридорам и позвонил у двери, которая, казалось ему, вела в квартиру военного коменданта. Никто не вышел, дверь не открылась, и командир батальона ушел, так ни с кем и не поговорив.
Адъютант тоже вернулся во дворец, но командир батальона больше его не видел. Адъютант остался у решетчатых ворот, выходивших на Бургундскую площадь; закутавшись в свой плащ, он стал расхаживать по двору, словно поджидая кого-то.
В тот момент, когда на больших часах собора пробило пять, солдаты частей, размещенных в бараках на площади Инвалидов, были неожиданно подняты на ноги. Вполголоса был отдан приказ взять оружие, соблюдая тишину. Вскоре после этого два полка, 6-й и 42-й, направились ко дворцу Законодательного собрания. У солдат за плечами были ранцы.
В тот же час повсюду, одновременно во всех концах Парижа, пехота во главе со своими полковниками бесшумно выходила из казарм. Адъютанты и ординарцы Луи Бонапарта, разосланные по всем казармам, наблюдали за сбором. Кавалерия выступила только через три четверти часа после пехоты: боялись, как бы стук копыт по мостовой не разбудил спящий Париж раньше времени.
Де Персиньи, доставивший из Елисейского дворца в бараки на площади Инвалидов приказ о выступлении, шел во главе 42-го полка рядом с полковником Эспинасом. В армии рассказывали (ведь теперь привыкли к поступкам, порочащим честь, и о них говорят с каким-то мрачным безразличием), что, перед тем как вывести свой полк, один полковник — его можно было бы назвать по имени — колебался; тогда офицер, посланный из Елисейского дворца, вынув из кармана запечатанный конверт, сказал ему: «Полковник, я согласен с вами в том, что мы идем на большой риск. Мне поручено передать вам в этом конверте сто тысяч франков банковыми билетами на случай чего-нибудь непредвиденного». Конверт был принят, и полк выступил.
Вечером 2 декабря этот полковник говорил одной женщине: «Я заработал сегодня утром сто тысяч франков и генеральские эполеты». Женщина прогнала его.
Ксавье Дюррье, рассказавший нам эту историю, впоследствии разыскал эту женщину. Она подтвердила приведенный нами факт. О да! Она прогнала этого негодяя! Солдат, изменивший своему знамени, осмелился прийти к ней! Чтобы она приняла такого человека? Нет! До этого она еще не дошла! И, по словам Ксавье Дюррье, она добавила: «Я ведь только публичная женщина!»
Какие-то таинства совершались и в полицейской префектуре. Запоздалые жители Сите, возвращаясь домой глубокой ночью, видели множество фиакров, стоявших разрозненными группами в разных местах, неподалеку от Иерусалимской улицы.
Накануне, в одиннадцать часов вечера, под предлогом прибытия эмигрантов из Генуи и Лондона в префектуре были сосредоточены отряд сыскной полиции и восемьсот полицейских. В три часа ночи вызвали сорок восемь комиссаров и чиновников полиции Парижа и пригородов, в то время находившихся на своих квартирах. Через час все они явились. Их отвели в отдельную комнату, по возможности изолировав друг от друга.
В пять часов из кабинета префекта раздался звонок; префект Мопа вызывал одного за другим полицейских комиссаров к себе в кабинет. Он открыл им задуманный план и определил каждому его участие в преступлении. Никто не отказался, многие благодарили. Нужно было захватить на квартирах семьдесят восемь влиятельных в своих районах демократов; в Елисейском дворце боялись, что они могут повести народ на баррикады. Кроме того, решили — и это было еще более дерзким нарушением прав — арестовать на дому шестнадцать депутатов. Для этого дела среди полицейских комиссаров выбрали тех, которые легче других могли бы стать бандитами. Депутатов распределили между ними. Каждый получил своего. Куртилю достался Шаррас, Дегранжу — Надо, Гюбо-старшему — Тьер, а Гюбо-младшему — генерал Бедо. Генерала Шангарнье отдали Лера, а генерала Кавеньяка — Колену. Дурланс получил депутата Валантена, Бенуа — депутата Мио, Аллар — депутата Шола. Арест Роже (от Севера) поручили Барле; арест генерала Ламорисьера — комиссару Бланше. Комиссар Гронфье получил депутата Греппо, а комиссар Бурдо — депутата Лагранжа. Распределили также и квесторов: База — Приморену, а генерала Лефло — комиссару Бертольо.
Ордера на арест с именами депутатов были написаны тут же, в кабинете префекта. Не были проставлены только фамилии комиссаров. Их вписали при отправлении.
Каждого комиссара, кроме военных частей, отданных в его распоряжение, сопровождали два отряда — отряд полицейских и отряд сыскных агентов в штатском. Как доложил Бонапарту префект Мопа, для ареста генерала Шангарнье в помощь комиссару Лера дали капитана республиканской гвардии Бодине.
Около половины шестого подозвали стоявшие наготове фиакры, и комиссары разъехались выполнять поручения.
В это время в другом районе Парижа, на улице Вьейрю-дю-Тампль, в старинном особняке Субиз, где помещается бывшая Королевская, а ныне Национальная типография, осуществлялась другая часть заговора.
Около часу ночи прохожий, направлявшийся по улице Вьей-Одриет к улице Вьей-рю-дю-Тампль, заметил, что в угловом доме несколько больших окон ярко освещены. То были окна Национальной типографии. Он свернул направо на улицу Вьей-рю-дю-Тампль и через минуту поравнялся с фасадом в форме подковы, где находились главные ворота типографии; они были на запоре; двое часовых стояли на страже у боковой калитки. Через эту полуотворенную калитку прохожий заглянул во двор типографии и увидел, что он полон солдат. Солдаты не разговаривали между собой, царила тишина, но видно было, как в темноте поблескивали штыки. Удивленный прохожий подошел поближе. Один из часовых грубо оттолкнул его и крикнул: «Проходи!»
Так же, как в префектуре задержали полицейских, в Национальной типографии для ночной работы задержали наборщиков. В то самое время, когда Ипполит Прево возвращался во дворец Законодательного собрания, директор Национальной типографии возвращался в типографию; он тоже шел из Комической Оперы, где смотрел новую пьесу, автором которой был его брат, де Сен-Жорж. Едва войдя, директор, на имя которого еще днем пришел приказ из Елисейского дворца, сунул в карман пару пистолетов и спустился в вестибюль, откуда через невысокое крыльцо можно выйти во двор. Немного погодя ворота, ведущие на улицу, отворились, въехал фиакр, из него вышел человек с большим портфелем. Управляющий пошел навстречу этому человеку и спросил: «Это вы, господин де Бевиль?» — «Да, я», — ответил тот.
Фиакр поставили в каретный сарай, лошадей отвели в конюшню, а кучера заперли в полуподвальном помещении; ему дали вина и сунули в руку кошелек. Бутылки с вином и луидоры — вот основа такой политики. Кучер выпил вино и заснул. Дверь полуподвального помещения заперли на засов.
Не успели закрыть главные ворота типографии, как их снова пришлось открывать, чтобы пропустить вооруженных людей, вошедших в полном молчании. Ворота за ними заперли. Это была 4-я рота 1-го батальона подвижной жандармерии под командой капитана Ларош д'Уази. Как будет видно из дальнейшего, сообщники Луи Бонапарта для всех ответственных операций старались использовать подвижную жандармерию и республиканскую гвардию, то есть войска, почти целиком состоявшие из бывшей муниципальной гвардии, затаившей злобу на февральскую революцию.
Капитан Ларош д'Уази предъявил письмо от военного министра, в котором было сказано, что он и его рота поступают в распоряжение директора Национальной типографии. В полном молчании солдаты зарядили ружья, повсюду были расставлены часовые: в помещениях, в коридорах, у дверей, у окон; у ворот, ведущих на улицу, поставили двоих. Капитан спросил, какой приказ отдать солдатам: «Проще простого, — ответил человек, приехавший в фиакре, — стрелять в каждого, кто попытается выйти или открыть окно».
Человек, который назывался де Бевиль и был адъютантом Бонапарта, прошел вместе с управляющим в большой уединенный кабинет, расположенный во втором этаже и выходящий в сад; там он вручил директору привезенные им документы: декрет о роспуске Собрания, воззвание к армии, воззвание к народу, декрет о созыве избирателей; кроме того, прокламацию префекта Мопа и его письмо полицейским комиссарам. Первые четыре документа президент писал собственноручно. Кое-где были помарки.
Наборщики ожидали. Возле каждого из них поставили двух жандармов и строжайше запретили разговаривать, затем роздали текст для набора, разрезанный на мелкие полоски так, чтобы никто из наборщиков не мог прочесть целиком ни одной фразы. Директор объявил, что все должно быть напечатано в течение часа. Разрозненные полоски были затем переданы полковнику Бевилю, который соединил их и выправил корректуру. Печатание производилось с такими же предосторожностями, возле каждого печатного станка стояли по два солдата. Как ни торопились, работа все же заняла два часа; жандармы следили за рабочими, Бевиль следил за Сен-Жоржем.
Когда все было кончено, произошло нечто подозрительное, весьма похожее на измену измене. Предатели предавали друг друга. В таких преступлениях это случается нередко. Бевиль и Сен-Жорж, два доверенных лица, в руках которых находилась тайна задуманного переворота, — иными словами, голова президента, — тайна, которую любой ценой нужно было сохранить до назначенного срока, чтобы не сорвать все дело, вздумали тут же посвятить в эту тайну двести человек солдат: «им хотелось проверить, какое это произведет впечатление», — как впоследствии несколько наивно объяснял бывший полковник Бевиль. Они прочли свежеотпечатанные тайные документы выстроенным во дворе солдатам подвижной жандармерии. Бывшие муниципальные гвардейцы ответили приветственными криками. Спрашивается, что стали бы делать эти двое, пытавшиеся проверить, удастся ли переворот, если бы в ответ на чтение раздались свистки? Может быть, Бонапарт очнулся бы от своих грез в Венсенском замке?
Кучера выпустили, фиакр запрягли, и в четыре часа утра адъютант и директор Национальной типографии, отныне два преступника, с кипами декретов прибыли в полицейскую префектуру. Тут они впервые были отмечены позорным клеймом: префект Мопа пожал им руки.
Толпа специально нанятых расклейщиков разошлась по всем направлениям, унося декреты и прокламации.
В этот же час войска окружили дворец Национального собрания. Один из его подъездов, бывший подъезд Бурбонского дворца, выходит на Университетскую улицу; здесь начинается аллея, ведущая к дому председателя Собрания. Этот подъезд, так называемый Председательский, по обычаю охранялся часовым. С некоторого времени батальонный адъютант, которого ночью дважды вызывал к себе полковник Эспинас, неподвижно и молча стоял около этого часового. 42-й полк появился на Университетской улице через пять минут после того, как выступил из бараков у Дома инвалидов; за ним на некотором расстоянии следовал 6-й линейный полк, который прошел по Бургундской улице. Полк, как говорит очевидец, двигался словно по комнате тяжело больного. Солдаты подкрались к Председательскому подъезду. Это была настоящая засада, устроенная с целью захватить врасплох закон.
Часовой, видя приближающиеся войска, взял ружье наперевес; в тот момент, когда он хотел крикнуть: «Кто идет?», адъютант батальона схватил его за руку и, как офицер, имеющий право отменять приказы, велел ему пропустить 42-й полк; тут же он приказал оторопевшему привратнику открыть ворота. Ворота повернулись на своих петлях; солдаты рассыпались по аллее; Персиньи вошел и сказал: «Дело сделано».
Войска заняли здание Национального собрания.
На шум шагов прибежал командир батальона Менье.
— Майор, — крикнул ему полковник Эспинас, — я пришел сменить ваш батальон.
Командир батальона побледнел, на минуту потупил глаза, затем вдруг быстро поднес руку к плечам и сорвал с себя погоны. Он выхватил шпагу, сломал ее о колено, бросил обломки на мостовую и, весь дрожа, в отчаянии крикнул изменившимся голосом:
— Полковник, вы позорите свой полк!
— Ладно, ладно! — сказал Эспинас.
Председательский подъезд остался открытым, но все другие ворота и двери были по-прежнему на запоре. Сменили все посты и всех часовых, батальон охраны был отослан в бараки Дома инвалидов, солдаты составили ружья в козлы в аллее и на парадном дворе; 42-й полк, по-прежнему соблюдая тишину, занял подъезды, ворота, внутренние двери, двор, залы, галереи, коридоры, проходы; во дворце никто не просыпался.
Вскоре прибыли две небольшие кареты, известные под названием «сорок су», и два фиакра в сопровождении двух отрядов — республиканской гвардии и Венсенских стрелков, а также несколько отрядов полицейских. Из карет вышли комиссары Бертольо и Приморен.
Когда кареты приблизились, у решетки ворот, выходящих на Бургундскую площадь, появился еще не старый, но лысый человек. С виду это был светский щеголь, возвращающийся из оперы; он и в самом деле шел оттуда, правда, по пути завернув в притон: он успел побывать в Елисейском дворце. То был господин де Морни. С минуту он смотрел на солдат, составлявших ружья в козлы, потом подошел к Председательскому подъезду. Там он обменялся несколькими словами с Персиньи. Четверть часа спустя в сопровождении двухсот пятидесяти венсенских стрелков он занял министерство внутренних дел, захватил врасплох, в постели, ошеломленного де Ториньи и без всяких объяснений вручил ему отставку, подписанную Бонапартом. За несколько дней до этого простодушный де Ториньи, наивные слова которого мы уже приводили, сказал своим собеседникам, когда мимо проходил Морни: «Как эти монтаньяры клевещут на президента! Ведь нарушить присягу и совершить государственный переворот мог бы только негодяй!» Разбуженный внезапно, среди ночи, снятый с поста министра совершенно так же, как были сняты часовые у дворца Национального собрания, этот простак, оторопев и протирая глаза, пробормотал: «Вот тебе раз! Так, значит, президент все-таки…» — «Ну, конечно!» — ответил Морни и расхохотался.
Пишущий эти строки лично знал Морни. Морни и Валевский занимали в этой так называемой царствующей семье особое положение: один был бастардом королевского дома, другой — императорского. Что за человек был Морни? Ответим на этот вопрос. Заносчивый весельчак, ловкий интриган, любитель пожить в свое удовольствие, друг Ромье и прислужник Гизо, с манерами светского человека и моралью азартного игрока; самодовольный, остроумный, он даже отличался некоторым свободомыслием и ничего не имел против полезных преступлений; умел приятно улыбаться, несмотря на скверные зубы, любил развлечения, жизнь вел рассеянную, но целеустремленную; некрасивый, всегда в отличном расположении духа, жестокий, изысканно одетый, готовый на все, он мало беспокоился об участи брата, сидевшего под замком, но не прочь был рискнуть головой за брата, метившего в императоры; у него была та же мать, что и у Луи Бонапарта, и так же, как у Луи Бонапарта, неизвестный отец; он мог бы называться Богарне, мог бы называться Флао, но стал называться Морни; литература в его руках вырождалась в водевиль, а политика превращалась в трагедию. Веселый душегуб, легкомысленный, насколько это возможно для убийцы; персонаж, достойный пера Мариво, но при условии, что его портрет закончит Тацит; бессовестный, безупречно элегантный и любезный, он при случае мог вести себя как настоящий герцог; вот каков был этот злодей.
Еще не было шести часов утра. Войска начали стягиваться на площадь Согласия, где Леруа Сент-Арно верхом производил им смотр.
Полицейские комиссары Бертольо и Приморен приказали построить две роты в боевом порядке у подножия главной лестницы квестуры, но сами не стали подниматься по ней. В сопровождении полицейских агентов, которые знали все потайные закоулки Бурбонского дворца, они пошли по коридорам.
Квартира генерала Лефло находилась в павильоне, где во времена герцога Бурбонского жил де Фешер. У генерала Лефло гостили его сестра и зять, которые приехали к нему в Париж и ночевали в комнате, выходившей в один из коридоров дворца. Комиссар Бертольо стал стучать в эту дверь, пока ему не открыли, и вместе со своими агентами ворвался в комнату, где спала женщина. Зять генерала вскочил с постели и крикнул квестору, находившемуся в соседней комнате:
— Адольф, взламывают двери, во дворце солдаты, вставай!
Генерал открыл глаза; у своей кровати он увидел комиссара Бертольо.
Он сел на постели.
— Генерал, — сказал комиссар, — я пришел исполнить свой долг.
— Понимаю, — ответил генерал Лефло, — вы изменник!
Комиссар, бормоча что-то о «заговоре против безопасности государства», развернул ордер на арест. Генерал, не сказав ни слова, отбросил эту гнусную бумажонку.
Потом он встал, надел мундир, бывший на нем в боях под Константиной и Медеей, воображая, как честный воин, что для солдат, которых он ожидал сейчас встретить, еще существуют генералы, сражавшиеся в Африке. Но теперь оставались только генералы, умевшие нападать из-за угла. Жена обняла его; сын, семилетний мальчик, в одной рубашонке, плача, упрашивал полицейского комиссара:
— Господин Бонапарт, простите папу!
Генерал, обнимая жену, шепнул ей на ухо: «Во дворе есть пушки, постарайся, чтобы дали залп!»
Комиссар и агенты увели его. Он презирал полицейских и не желал разговаривать с ними, но когда он очутился во дворе, увидел солдат, узнал полковника Эспинаса, его сердце бретонского воина не выдержало.
— Полковник Эспинас, — сказал он, — вы подлец, и я надеюсь дожить до того дня, когда смогу сорвать погоны с вашего мундира!
Бывший полковник Эспинас опустил голову и пробормотал:
— Я вас не знаю.
Один из командиров батальона стал размахивать шпагой и крикнул:
— Довольно с нас генералов-адвокатов!
Несколько солдат направили штыки на безоружного пленника, трое полицейских втолкнули его в фиакр, а какой-то сублейтенант, подойдя к экипажу и глядя в лицо этому человеку — своему депутату, если бы он был гражданином, и своему генералу, если бы он был солдатом, — бросил ему мерзкое слово: «Каналья!»
Тем временем комиссар Приморен пошел обходным путем, чтобы вернее захватить другого квестора, База.
Одна из дверей квартиры База выходила в коридор, ведущий в зал заседаний. В эту дверь и постучал Приморен. Служанка одевалась.
— Кто там? — спросила она.
— Полицейский комиссар, — ответил Приморен.
Служанка, думая, что это полицейский комиссар, состоящий при Собрании, открыла дверь.
В этот момент Баз, который только что проснулся, услышал шум и, надевая халат, крикнул:
— Не открывайте!
Не успел он одеться, как в его комнату ворвались человек в штатском и трое полицейских в форме. Человек в штатском, распахнув свой сюртук и показав трехцветный пояс, обратился к Базу:
— Видите это?
— Вы негодяй, — ответил квестор.
Полицейские схватили База.
— Вы не посмеете тронуть меня! — оказал он, — вы — полицейский комиссар, государственный чиновник, вы знаете, что вы делаете, вы покушаетесь на национальное представительство, вы нарушаете закон, вы преступник!
Началась рукопашная схватка, борьба одного против четверых; госпожа Баз и обе ее дочурки кричали, полицейские кулаками отталкивали служанку. «Вы разбойники!» — кричал Баз. Они унесли его на руках; он отбивался, полуголый, халат на нем был изорван в клочья, все тело в синяках, кисть руки в ссадинах и в крови.
На лестнице, в первом этаже, во дворе — всюду были солдаты с ружьями у ноги, с примкнутыми штыками. Квестор обратился к ним:
— Ваших депутатов арестуют! Вам доверили оружие не для того, чтобы нарушать закон! — У одного из сержантов был совсем новенький крест. — Не за это ли вам дали крест?
Сержант ответил:
— Мы знаем только одного начальника.
— Я заметил ваш номер, — продолжал Баз, — вы опозорили свой полк.
Солдаты слушали его с унылым безучастием, словно еще не очнувшись от сна. Комиссар Приморен говорил им: «Не отвечайте! Это вас не касается!» Квестора пронесли через двор в кордегардию у Черной двери — так называется маленькая дверь под аркой у кассы Собрания; она выходит на Бургундскую улицу против Лилльской.
База заперли в кордегардии под охраной трех полицейских, а у дверей на небольшом крыльце поставили часовых. Несколько солдат без оружия и мундиров ходили взад и вперед возле караулки. Квестор пытался обратиться к ним, взывая к их воинской чести. «Не отвечайте», — говорили солдатам полицейские.
Две дочурки господина База в ужасе следили за ним глазами; когда они потеряли его из виду, младшая зарыдала. «Сестрица, — сказала старшая, которой было только семь лет, — давай помолимся». И обе девочки, сложив руки, опустились на колени.
Комиссар Приморен со сворой полицейских ворвался в кабинет квестора. Он все перерыл. Первые документы, которые он заметил на столе, были знаменитые декреты, приготовленные на случай, если Собрание примет предложение квесторов. Они отперли и обшарили все ящики стола. Это бесцеремонное хозяйничанье в бумагах База, которое полицейский комиссар назвал «домашним обыском», продолжалось больше часа.
Тем временем Базу принесли его платье, он оделся. Когда «домашний обыск» окончился, квестора вывели из кордегардии. Во дворе стоял фиакр. Баз сел в него, с ним вместе сели трое полицейских. Чтобы попасть к Председательскому подъезду, фиакр должен был проехать через парадный двор, затем через артиллерийский. Светало. Баз посмотрел, на месте ли еще пушки. Он увидел ряд повозок с зарядными ящиками, в полном порядке, с поднятыми дышлами; шести пушек и двух гаубиц не было на месте.
В аллее, ведущей к Председательскому подъезду, фиакр на мгновение остановился. На тротуарах по обеим сторонам аллеи в два ряда выстроились солдаты, опираясь правой рукой на ружье с примкнутым штыком. Под одним из деревьев стояли три человека: полковник Эспинас, которого Баз видел прежде и тотчас узнал, какой-то подполковник с черно-оранжевой лентой на шее и командир уланского эскадрона. С саблями в руках, они о чем-то совещались. Стекла фиакра были подняты. Баз хотел опустить их, чтобы обратиться к этим людям, полицейские схватили его за руки. Подошел комиссар Приморен, намереваясь сесть в двухместную карету, в которой он приехал.
— Господин Баз, — сказал он с той любезностью каторжника, которой участники переворота охотно сдабривали свое преступление, — вам неудобно с этими тремя людьми в фиакре, вам тесно, садитесь со мной.
— Оставьте меня, — отозвался арестованный, — с этими тремя мне тесно, а о вас я могу запачкаться.
По обеим сторонам фиакра построился конвой из пехоты. Полковник Эспинас крикнул кучеру:
— Поезжайте через набережную Орсе шагом до тех пор, пока не встретите кавалерийский конвой: когда охрану передадут кавалерии, пехотинцы вернутся.
Тронулись в путь.
Когда фиакр сворачивал на набережную Орсе, навстречу ему быстрым аллюром несся пикет 7-го уланского полка; это и был конвой. Всадники окружили фиакр, и все помчались галопом.
В пути не было никаких происшествий. Кое-где, заслыша стук копыт, обыватели открывали окна, высовывали головы; пленник, которому, наконец, удалось опустить стекло, слышал растерянные голоса: «Что это такое?»
Фиакр остановился.
— Где мы? — спросил Баз.
— В Мазасе, — ответил полицейский.
Квестора повели в канцелярию. Входя, он увидел, как оттуда уводили Бона и Надо. Посреди комнаты стоял стол, за него сел комиссар Приморен, который ехал вслед за фиакром в своей карете. Пока комиссар писал, Баз увидел на столе бумагу, очевидно список арестованных, где в следующем порядке были написаны фамилии: Ламорисьер, Шаррас, Кавеньяк, Шангарнье, Лефло, Тьер, Бедо, Роже (от Севера), Шамболь. Очевидно, в этом порядке народные депутаты были доставлены в тюрьму.
Когда Приморен кончил писать, Баз заявил:
— Теперь вы обязаны принять мой протест и присоединить его к вашему протоколу.
— Это не протокол, — возразил комиссар, — это просто приказ о приеме в тюрьму.
— Я хочу написать свой протест сейчас же, — настаивал Баз.
— Вы успеете сделать это в своей камере, — ответил с улыбкой человек, стоявший у стола.
Баз повернулся к нему.
— Кто вы? — спросил он.
— Я начальник тюрьмы, — ответил человек.
— В таком случае, — продолжал Баз, — мне вас жаль, так как вам известно, какое преступление вы совершаете.
Тот побледнел и пробормотал что-то невнятное. Комиссар поднялся; Баз быстро сел на его место за стол и сказал Приморену:
— Вы официальное лицо, я требую, чтобы вы присоединили мой протест к протоколу.
— Ну что ж, пожалуй, — сказал комиссар. Баз написал следующий протест:
«Я, нижеподписавшийся, Жан-Дидье Баз, народный депутат и квестор Национального собрания, насильственно увезенный из своей квартиры во дворце Национального собрания и доставленный в эту тюрьму с применением вооруженной силы, сопротивляться которой я не имел возможности, объявляю протест от имени Национального собрания и от своего имени против нарушения неприкосновенности национального представительства, совершенного в отношении меня и моих коллег.
Мазас, 2 декабря 1851 года, восемь часов утра.
Баз».
Пока все это происходило в Мазасе, во дворе Национального собрания солдаты смеялись и пили. Они варили кофе в котелках и зажгли во дворе огромные костры; пламя, раздуваемое ветром, временами касалось стен Собрания. Один из высших служащих квестуры, офицер Национальной гвардии Рамон де Лакруазет, отважился сказать им: «Вы подожжете дворец». Какой-то солдат ударил его кулаком.
Из четырех пушек, захваченных в артиллерийском дворе, была составлена батарея, обращенная теперь против Собрания. Две пушки поставили на Бургундской площади, жерла их направили на ограду, две другие с моста Согласия целились в главный подъезд.
На полях этой поучительной истории нужно отметить один факт: 42-й линейный полк — тот самый, который арестовал Луи Бонапарта в Булони. В 1840 году этот полк своим оружием поддержал закон против заговорщиков; в 1851 году он своим оружием поддержал заговорщика против закона. Прекрасные примеры пассивного повиновения.
IV Другие ночные события
В ту же ночь во всех районах Парижа происходили разбойничьи нападения; неизвестные лица во главе вооруженных отрядов и сами вооруженные топорами, молотками, клещами, ломами, кастетами, скрытыми под одеждой шпагами, пистолетами, рукоятки которых виднелись в складках платья, молча окружали какой-нибудь дом, преграждали к нему доступ, оцепляли улицу, открывали отмычками ворота, связывали привратника, занимали лестницу и, взломав дверь, врывались в комнату спящего человека; и когда он, внезапно проснувшись, спрашивал этих бандитов: «Кто вы такие?», их вожак отвечал: «Полицейский комиссар». Так поступили с Ламорисьером — его схватил за шиворот Бланше, пригрозив заткнуть ему рот кляпом; с Греппо, на которого грубо напал, свалив его с ног, Грофье, явившийся в сопровождении шести человек с потайными фонарями и дубинами; с Кавеньяком, которого арестовал Колен, — этот слащавый бандит был возмущен тем, что Кавеньяк отчаянно ругался; с Тьером, которого увел Гюбо-старший: впоследствии он уверял, будто бы Тьер «дрожал и плакал» — ложь, приплетенная к преступлению; с Валантеном, которого схватили в постели люди Дурланса, подняли за ноги и за руки и отнесли в запертый на замок полицейский фургон; так же забрали Мио, которого ждали мучения в африканских казематах, и Роже (от Севера), с бесстрашной и остроумной иронией предложившего бандитам выпить хереса. Шаррас и Шангарнье были захвачены врасплох. Они жили на улице Сент-Оноре почти друг против друга — Шангарнье в доме № 3, Шаррас в доме № 14. С 9 сентября Шангарнье отпустил пятнадцать человек, вооруженных до зубов, которые охраняли его по ночам. Шаррас 1 декабря, как мы уже говорили, разрядил свои пистолеты. Когда за ним пришли, эти разряженные пистолеты лежали у него на столе. Полицейский комиссар бросился к ним. «Дурак, — сказал ему Шаррас, — если бы они были заряжены, ты уже был бы мертв». Отметим следующую деталь: эти пистолеты подарил Шаррасу после взятия Маскары генерал Рено — тот самый Рено, который, перейдя на сторону переворота, разъезжал верхом по улицам как раз в то время, когда заговорщики арестовали Шарраса. Если бы пистолеты не были разряжены и если бы арест поручили генералу Рено, то Рено был бы убит из своих собственных пистолетов — Шаррас не стал бы раздумывать. Мы уже назвали имена этих негодяев из полиции, но повторить их не бесполезно. Шарраса арестовал Куртиль; Шангарнье — Лера, Надо — Дегранж. Люди, арестованные у себя дома, были депутатами народа, они были неприкосновенны — таким образом, уголовное преступление, насилие над личностью дополнялось государственным преступлением, нарушением конституции.
Это злодеяние совершалось с величайшей наглостью. Полицейские веселились. Некоторые из этих мерзавцев издевались над арестованными. В Мазасе они насмехались над Тьером. Надо сурово оборвал их. Гюбо-младший разбудил генерала Бедо:
— Генерал, вы арестованы.
— Я пользуюсь правом неприкосновенности.
— Но не в тех случаях, когда вас застают на месте преступления.
— Значит, — сказал Бедо, — мое преступление в том, что я спал. — Его схватили за шиворот, потащили в фиакр.
Встретившись в Мазасе, Надо пожал руку Греппо, а Лагранж Ламорисьеру. Это рассмешило полицейских. Некто Тирьон, полковник с крестом командора Почетного Легиона на шее, следил за приемом в тюрьму арестованных генералов и депутатов. «Ну-ка, вы, посмотрите мне прямо в глаза», — сказал ему Шаррас. Тирьон ушел.
Таким образом, не считая других арестов, произведенных позже, в ночь на 2 декабря были заключены в тюрьму шестнадцать депутатов и семьдесят восемь частных лиц. Оба главных исполнителя преступления доложили об этом Луи Бонапарту. «Упрятаны», — написал Морни. «Зацапаны», — написал Мопа. Один изъяснялся на салонном жаргоне, другой на жаргоне каторжников, — разница только в выражении.
V Мрак преступления
Версиньи ушел. Я стал поспешно одеваться — вдруг ко мне вошел человек, которому я вполне доверял. Это был безработный столяр-краснодеревщик, честный малый, сильно нуждавшийся, по фамилии Жерар; он получил кое-какое образование; я приютил его в одной из комнат моего дома. Жерар только что был на улице, он весь дрожал.
— Ну, — спросил я его, — что говорит народ?
Жерар ответил:
— Пока неясно. Дело обделано так, что ничего не понять. Рабочие читают плакаты, не говорят ни слова и идут на работу. Высказывается один из ста, да и тот говорит: «Ну ладно». Вот как они себе это представляют. Закон от тридцать первого мая отменен. — Это хорошо. — Всеобщая подача голосов восстановлена. — Хорошо. — Выгнали реакционное большинство. — Чудесно. — Тьер арестован. — Великолепно. — Шангарнье в кутузке. — Браво! — Перед каждым плакатом стоят клакеры. Ратапуаль объясняет государственный переворот Жаку-Простаку. Жак-Простак идет на удочку. Словом, я убежден, что народ согласится.
— Ну что ж, — сказал я.
— А как поступите вы, господин Виктор Гюго? — спросил Жерар.
Я вынул из шкафа перевязь депутата и показал ему.
Он понял.
Мы пожали друг другу руки.
Когда он выходил, вошел Карини.
Полковник Карини — человек отважный. Он командовал кавалерией при Мерославском во время восстания в Сицилии. На нескольких взволнованных и страстных страницах он рассказал об этом героическом восстании. Карини — один из тех итальянцев, которые любят Францию так же, как мы, французы, любим Италию. В нашу эпоху у каждого человека со смелой душой две родины — древний Рим и современный Париж.
— Слава богу, — сказал Карини, — вы еще на свободе.
И он добавил:
— Удар нанесен с неимоверной силой. Собрание окружено. Я сейчас оттуда. Площадь Революции, набережные, Тюильри, бульвары покрыты войсками. Солдаты в походном снаряжении. Батареи запряжены. Если начнется битва — это будет ужасно.
Я ответил:
— Битва начнется. — И прибавил, смеясь: — Вы доказали, что полковники умеют писать, как поэты, теперь очередь поэтов доказать, что они умеют сражаться, как полковники.
Я вошел в спальню жены; она ничего не знала и спокойно читала газету, лежа в постели.
Я рассовал себе в карманы пятьсот франков золотом, поставил на кровать жены шкатулку, где было девятьсот франков — все, что у меня оставалось, — и рассказал ей о том, что происходило.
Она побледнела и спросила:
— Что ты хочешь делать?
— Исполнить свой долг.
Она обняла меня и сказала одно только слово:
— Иди.
Мне подали завтрак. Я наскоро проглотил котлету.
В это время вошла моя дочь. Я обнял ее так крепко, что она встревожилась и спросила:
— Что случилось?
— Мать объяснит тебе, — ответил я.
И я вышел.
На улице Тур-д'Овернь было спокойно и пустынно, как всегда. Однако у дверей моего дома стояли, разговаривая, четверо рабочих. Они поклонились мне.
Я крикнул им:
— Вы знаете, что происходит?
— Да, — ответили они.
— Ведь это измена! Луи Бонапарт убивает республику. На народ нападают, нужно, чтобы народ защищался.
— Он будет защищаться.
— Вы мне обещаете?
Они воскликнули:
— Да!
Один из них прибавил:
— Мы клянемся!
Они сдержали слово. На моей улице (улица Тур-д'Овернь), на улице Мартир, в Сите Родье, на улице Кокнар и близ Нотр-Дам-де-Лоретт были построены баррикады.
VI Плакаты
Расставшись с этими мужественными людьми, я увидел на углу улицы Тур-д'Овернь и улицы Мартир три позорных плаката, расклеенных ночью на стенах парижских домов.
Вот они:
ПРОКЛAMАЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
ВОЗЗВАНИЕ К НАРОДУ
Французы!
Существующее положение не может больше продолжаться. Опасность, угрожающая стране, усиливается с каждым днем. Национальное собрание, долг которого — быть оплотом порядка, превратилось в очаг заговоров. Патриотизм трехсот его членов не мог остановить его гибельных стремлений. Вместо того чтобы создавать законы на благо всем, оно кует оружие для междоусобной войны, оно посягает на власть, дарованную мне самим Народом, оно разжигает пагубные страсти, оно ставит под угрозу спокойствие Франции; я распустил его и призываю весь Народ быть судьей между мною и Собранием.
Вы знаете, что конституция была создана с целью заранее ослабить власть, которую вы хотели доверить мне. Ярким свидетельством недовольства этой конституцией явилось то, что шесть миллионов голосовало против нее, и все же я свято ее соблюдал. Я невозмутимо сносил провокации, клевету, оскорбления. Но сегодня, когда основной договор не выполняется теми, кто беспрестанно на него ссылается, когда люди, погубившие две монархии, хотят связать мне руки, чтобы низвергнуть республику, — мой долг расстроить их коварные планы, сохранить республику и спасти страну, воззвав к суду единственного владыки, которого я во Франции признаю, — Народа.
Итак, я честно обращаюсь ко всей нации и говорю вам: Если вы хотите, чтобы тревожное состояние, унижающее нас и ставящее под угрозу наше будущее, продолжалось, выберите на мое место другого, ибо я не хочу больше власти, бессильной творить добро, возлагающей на меня ответственность за деяния, которых я не могу предотвратить, и привязывающей меня к кормилу, когда я вижу, что корабль несется к гибели.
Но если вы еще доверяете мне, дайте мне возможность выполнить великую миссию, вами на меня возложенную.
Эта миссия состоит в том, чтобы закончить эру революций, удовлетворив законные нужды народа и оградив его от пагубных страстей. Она состоит прежде всего в том, чтобы создать учреждения, которые пережили бы людей и стали бы, наконец, основой для построения более прочного порядка.
Уверенный в том, что неустойчивость власти, преобладание одного только Собрания является причинами беспрестанных смут и раздоров, я предлагаю вашему голосованию основные начала конституции, которая в дальнейшем должна быть разработана народными собраниями:
1. Ответственный глава государства, избираемый на десять лет.
2. Министры, зависящие только от исполнительной власти.
3. Государственный совет, состоящий из людей выдающихся, подготовляющий законы и поддерживающий их при обсуждении в Законодательном корпусе.
4. Законодательный корпус, обсуждающий, принимающий или отвергающий законы, избранный всеобщим голосованием, без голосования списками, которое не отражает мнения народа.
5. Второе Собрание, состоящее из лучших людей страны, — власть уравновешивающая, охраняющая основной договор и общественные свободы.
Эта система, созданная в начале нашего века первым консулом, уже дала однажды Франции покой и благоденствие; она может гарантировать их и теперь.
Таково мое глубокое убеждение. Если вы разделяете его, докажите это вашим голосованием. Если же, напротив, вы предпочитаете бессильное правительство, монархическое или республиканское, которое будто бы существовало когда-то прежде или должно существовать в каком-то фантастическом будущем, — отвечайте отрицательно.
Итак, в первый раз после 1804 года вы будете голосовать, ясно понимая положение вещей, зная, за что и за кого вы голосуете.
Если я не получу большинства ваших голосов, я потребую созыва нового Собрания и возвращу ему право на власть, которой вы меня облекли.
Но если вы верите, что дело, символом которого является мое имя, — то есть Франция, обновленная революцией 1789 года и организованная императором, — по-прежнему ваше кровное дело, заявите об этом, утвердив полномочия, которых я прошу у вас.
Тогда Франция и Европа будут спасены от анархии, препятствия будут устранены, исчезнут раздоры, ибо все будут уважать волю провидения, выразившуюся в решении Народа.
Дано в Елисейском дворце, 2 декабря 1851 года.
Луи-Наполеон Бонапарт.
ПРОКЛАМАЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ К АРМИИ
Солдаты!
Гордитесь возложенной на вас миссией: вы спасете родину, ибо я рассчитываю на вас не для того, чтобы нарушать законы, а для того, чтобы заставить уважать суверенитет нации, основной закон страны, представителем которого я являюсь по праву.
Уже давно вы, так же как и я, страдаете от того, что мне препятствуют трудиться на благо родины, а вам — выражать мне свое сочувствие. Эти препятствия уничтожены.
Собрание пыталось посягнуть на власть, которую мне доверила вся нация; оно перестало существовать.
Я честно обращаюсь к народу и армии и говорю им: или дайте мне возможность обеспечить ваше благоденствие, или выберите на мое место другого.
В 1830 году, так же как и в 1848-м, с вами обращались как с побежденными. Надругавшись над вашим бескорыстным героизмом, не нашли даже нужным спросить вас о ваших симпатиях и желаниях, а ведь вы — цвет нации! Я хочу, чтобы сегодня, в эту торжественную минуту, прозвучал голос армии.
Голосуйте же свободно, как граждане; но, как солдаты, не забывайте, что пассивное повиновение приказам главы правительства — священный долг всей армии, от генерала до солдата.
Мне, ответственному за свои действия перед народом и будущими поколениями, надлежит принять меры, которые я считаю необходимыми для общего блага.
Вы же будьте непоколебимо верны дисциплине и чести. Ваша спокойная, но грозная сила поможет стране выразить свою волю мирно и обдуманно.
Будьте готовы подавить всякую попытку помешать свободному проявлению верховной воли народа.
Солдаты, я не говорю вам о тех воспоминаниях, которые вызывает мое имя. Они запечатлены в вашем сердце. Мы связаны неразрывными узами. У нас одна история. И у меня и у вас в прошлом общая слава и общие горести.
В будущем наши общие чувства и решения обеспечат спокойствие и величие Франции.
Дано в Елисейском дворце, 2 декабря 1851 года.
Подписано: Л.-Н. Бонапарт.
ИМЕНЕМ ФРАНЦУЗСКОГО НАРОДА
Президент Республики объявляет:
Статья первая. Национальное собрание распускается.
Статья вторая. Всеобщая подача голосов восстанавливается. Закон от 31 мая отменяется.
Статья третья. Французский народ голосует по своим округам с 14 декабря по 21 декабря с. г.
Статья четвертая. Первый военный округ объявляется на осадном положении.
Статья пятая. Государственный совет распускается.
Статья шестая. Исполнение настоящего декрета возлагается на министра внутренних дел.
Дано в Елисейском дворце, 2 декабря 1851 года.
Луи-Наполеон, Бонапарт.
Министр внутренних дел де Морни.
VII Улица Бланш, дом № 70
Сите Гайяр довольно трудно найти. Это пустынный переулок в новом квартале, отделяющий улицу Мартир от улицы Бланш. Я все же отыскал его. Когда я подошел к дому № 4, из ворот вышел Иван и оказал мне:
— Я жду вас, чтобы предупредить. За этим домом наблюдает полиция. Мишель ждет вас на улице Бланш, в доме номер семьдесят, в нескольких шагах отсюда.
Я знал дом № 70 по улице Бланш. Там жил Манин, памятный всем президент Венецианской республики. Впрочем, собраться должны были не у него.
Привратница дома № 70 сказала мне, что нужно подняться во второй этаж. Дверь отворилась, и женщина лет сорока, красивая, с седыми волосами, — баронесса Коппенс, которую я узнал, так как встречал ее в обществе и принимал у себя, — провела меня в гостиную.
Там были Мишель де Бурж и Александр Рей, бывший член Учредительного собрания, красноречивый писатель и мужественный человек. Александр Рей был тогда редактором «Насьоналя».
Мы пожали друг другу руки.
Мишель сказал мне:
— Гюго, что вы намерены делать?
Я ответил:
— Все, что возможно.
— Я с вами согласен, — отозвался он.
Пришли многие другие депутаты, и среди них Пьер Лефран, Лабрус, Теодор Бак, Ноэль Парфе, Арно (от Арьежа), Демостен Оливье, бывший член Учредительного собрания, Шарамоль. Все были глубоко возмущены, но никто не произносил бесполезных фраз. Это был тот мужественный гнев, который порождает великие решения.
Завязался разговор. Обсудили положение вещей. Каждый сообщал, что ему было известно.
Теодор Бак только что был у Леона Фоше, на улице Бланш. Он разбудил его и рассказал о происшедшем. Первые слова Леона Фоше были: «Какая подлость!»
Шарамоль сразу же обнаружил присутствие духа, которое не покидало его ни на мгновение в течение всех четырех дней борьбы. Шарамоль человек высокого роста с энергичным лицом; речь его проникнута убеждением; в Собрании он голосовал вместе с левыми, но сидел среди правых. Его место было рядом с Монталамбером и де Риансе. Он иногда жестоко ссорился с ними, и мы забавлялись, издали наблюдая за их пререканиями.
Шарамоль пришел на собрание в дом № 70 в каком-то синем суконном плаще военного покроя и, как мы увидели в дальнейшем, вооруженный.
Положение было серьезное. Арестованы шестнадцать депутатов, все генералы, бывшие членами Собрания, и в том числе Шаррас, который был больше чем генерал. Все газеты закрыты, все типографии заняты войсками. На стороне Бонапарта армия в восемьдесят тысяч человек, которая за несколько часов может быть удвоена, на нашей стороне — ничего. Народ обманут и безоружен. Телеграф в их распоряжении. Все стены покрыты их плакатами, а у нас — ни одного типографского станка, ни одного листа бумаги. Никакой возможности вызвать протест, никакой возможности начать борьбу. Переворот закован в броню, республика обнажена, у мятежников рупор, у республики кляп.
Что делать?
Налетом на республику, на конституцию, на Национальное собрание, на право, на закон, на прогресс, на цивилизацию руководили генералы, воевавшие в Африке. Эти храбрецы теперь доказали, что они трусы. Они приняли все предосторожности, чтобы действовать наверняка. Только страх может придать такую ловкость. Были арестованы все военные члены Собрания и все активные деятели левой, Бон, Шарль Лагранж, Мио, Валантен, Надо, Шола. Добавим, что все, кто мог возглавить баррикадные бои, оказались в тюрьме. Эти мастера засады умышленно забыли Жюля Фавра, Мишеля де Буржа и меня, считая, что мы лучше умеем говорить, чем действовать. Они хотели оставить левой людей, способных сопротивляться, но не способных победить, рассчитывая обесчестить нас, если мы не будем сражаться, и расстрелять нас, если мы возьмемся за оружие.
Впрочем, никто не колебался. Началось совещание. Каждую минуту прибывали новые депутаты — Эдгар Кине, Дутр, Пеллетье, Кассаль, Брюкнер, Боден, Шоффур. В гостиной стало тесно, некоторые сидели, большинство стояли где придется, но шума не было.
Я первый взял слово.
Я заявил, что нужно немедленно начать борьбу. Ответить ударом на удар. Я сказал, что, по моему мнению, сто пятьдесят депутатов левой должны опоясаться перевязями и торжественно пройти по улицам и бульварам до площади Сент-Мадлен с возгласами: «Да здравствует республика! Да здравствует конституция!» — появиться перед войсками без охраны и оружия и спокойно потребовать от силы, чтобы она повиновалась закону. Если войска пойдут за нами, — отправиться в Собрание и покончить с Луи Бонапартом. Если солдаты будут стрелять в законодателей — рассеяться по Парижу, призывать к оружию и строить баррикады. Начать сопротивление законным путем и в случае неудачи продолжать его путем революционным. Не терять времени.
— Злодей, — говорил я, — должен быть застигнут на месте преступления. Великая ошибка — допустить, чтобы в течение долгих часов посягательство на закон не встретило отпора. Каждая минута дорога. Бездействие — попустительство, оно санкционирует преступление. Страшитесь самого ужасного — того, что называют свершившимся фактом. К оружию!
Многие энергично поддержали мое мнение, среди них Эдгар Кине, Пеллетье и Дутр.
Мишель де Бурж привел серьезные возражения. Инстинкт подсказывал мне, что нужно начинать немедленно. Ему казалось, что лучше выждать.
По его мнению, было опасно ускорять развязку. Переворот тщательно подготовлен, народ не организован. Он захвачен врасплох, не нужно обманывать себя иллюзиями, массы еще не всколыхнулись. В предместьях полный покой. Люди удивлены, но не разгневаны. Парижский народ, всегда такой сметливый, на этот раз не понял, в чем дело.
— Сейчас не 1830 год, — прибавил Мишель. — Карл Десятый, разогнав Собрание из двухсот двадцати одного депутата, сам напросился на пощечину — перевыборы двухсот двадцати одного. Мы в другом положении. Двести двадцать один были популярны, чего нельзя сказать о нынешнем Собрании. Насильственно распущенная палата, которую поддерживает народ, всегда может быть уверена в том, что она победит. В 1830 году народ действительно поднялся. Сейчас он безмолвствует. Пока он только одурачен; вскоре его начнут притеснять. — И Мишель де Бурж заключил: — Нужно дать народу время понять, возмутиться и восстать. Что касается нас, депутатов, то с нашей стороны пытаться ускорить ход событий было бы безрассудством. Идти сейчас прямо к войскам — значит совершенно напрасно подставить себя под картечь и заранее лишить благородное восстание, вспыхнувшее во имя права, его естественных вождей — депутатов народа. Это значило бы обезглавить народную армию. Лучше было бы повременить, нельзя увлекаться, нужно беречь себя; дать себя арестовать — значит проиграть сражение раньше, чем оно начнется. Поэтому не следует идти на собрание, назначенное правой на двенадцать часов дня: все, кто пойдет туда, будут арестованы. Оставаться на свободе, быть начеку, сохранять спокойствие и начать действовать, как только поднимется народ. Три-четыре дня такого напряжения без боев утомят армию. — Все же Мишель считал нужным начинать теперь же, только предлагал ограничиться расклейкой 68-й статьи конституции. Но где найти типографию, чтобы напечатать ее?
Мишель де Бурж говорил на основании революционного опыта, которого у меня не было. В течение долгих лет ему приходилось довольно близко соприкасаться с народными массами. Он подал благоразумный совет. Нужно добавить, что сведения, которые мы получали, как бы подтверждали его точку зрения и опровергали мою. Париж притих. Войска, поддерживавшие переворот, спокойно занимали город. Никто даже не срывал плакатов. Почти все присутствовавшие депутаты, даже самые смелые, соглашались с мнением Мишеля; выждать и посмотреть, что будет. «Волнение начнется завтра в ночь», — говорили они и приходили к тому же выводу, что и Мишель де Бурж: нужно подождать, пока народ поймет. Если начать слишком рано, можно остаться в одиночестве. В первый момент нам никак не удастся поднять народ. Пусть негодование постепенно подступит к его сердцу. Наше выступление провалится, если оно будет преждевременным. Так думали все. Я сам, слушая их, поколебался. Вероятно, они были правы. Было бы ошибкой напрасно дать сигнал к бою. К чему молния, если за ней не следует удар грома?
Поднять голос, крикнуть, найти типографию — вот самая неотложная задача. Но оставался ли еще хоть один свободный типографский станок?
Вошел старый, храбрый полковник Форестье, бывший командир 6-го легиона Национальной гвардии. Он отозвал в сторону Мишеля де Буржа и меня.
— Послушайте, — сказал он, — я присоединяюсь к вам, я в отставке, я больше не командую своим легионом, но назначьте меня от имени левой командиром Шестого легиона. Подпишите приказ. Я сейчас же пойду туда и велю бить сбор. Через час легион будет в боевой готовности.
— Полковник, — ответил я, — не стоит писать приказ. Я сделаю больше. Я пойду с вами.
Я обратился к Шарамолю, которого внизу ждал экипаж.
— Поедем с нами, — сказал я ему.
Форестье был уверен в двух батальонных командирах 6-го легиона. Мы решили сейчас же отправиться к ним, с тем чтобы Мишель и другие депутаты ждали нас в ресторане Бонвале, на бульваре Тампль, возле Турецкого кафе. Там мы должны были решить, что делать дальше.
Мы отправились.
Мы проехали по всему Парижу, где уже замечалось какое-то грозное брожение. Бульвары были запружены взволнованной толпой. Прохожие сновали взад и вперед. Незнакомые люди обращались друг к другу с вопросами — явный признак общей тревоги. Собравшись группами на углах улиц, люди громко разговаривали. Торговцы закрывали лавки.
— Давно пора! — вскричал Шарамоль.
Он с утра бродил по городу и с грустью наблюдал безучастие масс.
Мы застали дома обоих батальонных командиров, на которых рассчитывал полковник Форестье. Это были богатые торговцы полотном; они приняли нас с некоторым замешательством. Приказчики их магазинов, собравшись у витрин, смотрели, как мы проходили. С их стороны это было простое любопытство.
Все же один из батальонных командиров отменил поездку, которая предстояла ему в тот день, и обещал нам свое содействие.
— Но, — прибавил он, — не поддавайтесь иллюзиям; национальные гвардейцы понимают, что они будут разбиты. Мало кто из них выступит.
Полковник Форестье сказал нам:
— Ватрен, теперешний командир Шестого легиона, не очень рвется в бой; возможно, он передаст командование добровольно. Я поговорю с ним наедине, чтобы не слишком напугать его, и присоединюсь к вам у Бонвале.
У Порт-Сен-Мартен мы с Шарамолем отпустили свой экипаж и пошли пешком по бульвару, чтобы ближе присмотреться к людям и лучше судить о настроении толпы.
В результате последней нивелировки мостовой бульвар Порт-Сен-Мартен превратился в глубокую ложбину, окаймленную двумя откосами. Наверху проложены тротуары с перилами. Ложбина предназначена для экипажей, а тротуары для пешеходов.
Когда мы вышли на бульвар, в ложбину вступила длинная колонна пехоты с барабанщиками во главе. Волнующаяся масса штыков заполняла площадку у Порт-Сен-Мартен и терялась в глубине бульвара Бон-Нувель.
Оба тротуара на бульваре Сен-Мартен покрывала огромная сплошная толпа. Было множество рабочих в блузах; они стояли, опершись на перила.
В тот момент, когда голова колонны вступила в узкий проход у театра Порт-Сен-Мартен, из всех уст сразу вырвался единодушный крик: «Да здравствует республика!» Солдаты продолжали двигаться в молчании, но шаги их как будто замедлились, многие удивленно смотрели на толпу. Что означал этот крик: «Да здравствует республика!»? Приветствие? Возмущение?
В эту минуту мне показалось, что республика подняла чело, а переворот опустил голову.
Вдруг Шарамоль сказал мне:
— Вас узнали.
В самом деле, когда мы поравнялись с Шато д'О, меня окружила толпа. Несколько молодых людей закричали: «Да здравствует Виктор Гюго!» Один из них спросил меня:
— Гражданин Виктор Гюго, что нужно делать?
Я ответил:
— Срывайте беззаконные плакаты и кричите: «Да здравствует конституция!»
— А если в нас будут стрелять? — спросил молодой рабочий.
— Тогда беритесь за оружие.
— Браво! — закричала толпа.
Я добавил:
— Луи Бонапарт мятежник. Он совершает сейчас все преступления, какие только можно совершить. Мы, депутаты народа, объявляем его вне закона, но и без нашей декларации самым фактом своей измены он поставил себя вне закона. Граждане! У каждого из вас две руки; вооружите одну руку вашим правом, в другую возьмите ружье и идите на Бонапарта.
— Браво! Браво! — повторяли в толпе.
Один торговец, запиравший свою лавку, сказал мне: — Не так громко. Если услышат, что вы говорите такие вещи, вас расстреляют.
— Ну что ж! — возразил я. — Вы понесете по улицам мой труп, и моя смерть послужит благу народа, если она приведет к торжеству правосудия!
Все закричали: «Да здравствует Виктор Гюго!»
— Кричите: «Да здравствует конституция!» — сказал я.
Из всех уст вырвался оглушительный крик: «Да здравствует конституция! Да здравствует республика!»
Молнии воодушевления, возмущения, гнева сверкали во всех взорах. Я думал тогда, думаю и сейчас, что то была, быть может, решающая минута. Я был готов повести за собой всю эту толпу и тут же начать бой.
Шарамоль удержал меня. Он тихо сказал мне:
— Это поведет только к бесполезному кровопролитию. Все безоружны. Пехота в двух шагах от нас, а вот подходит и артиллерия.
Я обернулся. Действительно, несколько артиллерийских упряжек крупной рысью выезжали по улице Бонди из-за Шато д'О.
Совет Шарамоля воздержаться от немедленных действий поразил меня. Со стороны такого отважного человека этот совет, конечно, не внушал подозрений. Кроме того, я чувствовал себя связанным решением, принятым в собрании на улице Бланш.
Я отступил перед ответственностью, которую готов был принять на себя. Если бы я воспользовался этим моментом, мы могли бы победить, но могли и потерпеть полное поражение. Был ли я прав? Или ошибался?
Толпа вокруг нас росла. Идти становилось все труднее. Но мы хотели добраться до места встречи — ресторана Бонвале.
Вдруг кто-то тронул меня за руку. Это был Леопольд Дюра, сотрудник «Насьоналя».
— Не ходите дальше, — сказал он мне, понизив голос. — Ресторан Бонвале оцеплен. Мишель де Бурж пытался обратиться к народу с речью, но подошли войска. Он едва выбрался оттуда. Многие из депутатов, которые пошли туда, чтобы встретиться с ним, арестованы. Поверните назад. Мы идем на старое место встречи, на улицу Бланш. Я искал вас, чтобы сообщить вам это.
Мимо нас проезжал кабриолет; Шарамоль сделал знак кучеру, мы вскочили в экипаж; за нами бежала толпа, люди кричали: «Да здравствует республика! Да здравствует Виктор Гюго!»
Говорили, что как раз в этот момент на бульваре появился отряд полиции, посланный арестовать меня. Кучер погнал лошадей во весь опор. Через четверть часа мы были на улице Бланш.
VIII Разгон Собрания
В семь часов утра мост Согласия еще не был занят войсками, большие решетчатые ворота Национального собрания были закрыты; сквозь решетку виднелись ступени подъезда, того самого подъезда, откуда 4 мая 1848 года была провозглашена республика; теперь там стояли солдаты, ружья были составлены в козлы на площадке за высокими колоннами, где во времена Учредительного собрания после 15 мая и 23 июня прятались легкие гаубицы, заряженные и наведенные на площадь.
У калитки возле главных ворот стоял швейцар с красным воротником — в ливрее Национального собрания. Каждую минуту прибывали депутаты. Швейцар спрашивал их: «Господа, вы депутаты?» — и открывал калитку. Иногда он спрашивал фамилию.
К Дюпену входили беспрепятственно. В большой галерее, в столовой, в парадной гостиной квартиры председателя стояли ливрейные лакеи, как обычно, безмолвно отворявшие двери.
На рассвете, сразу после ареста квесторов База и Лефло, де Пана, единственный квестор, оставшийся на свободе (его пощадили как легитимиста или пренебрегли им на том же основании), разбудил Дюпена и предложил ему немедленно послать за депутатами на квартиры. Дюпен дал невероятный ответ. Он сказал: «Я не вижу в этом необходимости».
Почти одновременно с де Пана явился депутат Жером Бонапарт. Он требовал от Дюпена, чтобы тот стал во главе Собрания. Дюпен ответил: «Я не могу, я нахожусь под стражей». Жером Бонапарт расхохотался. И в самом деле, у дверей Дюпена даже не поставили часового. Знали, что его стережет его собственная низость.
Только позже, около полудня, над ним сжалились. Почувствовали, что презрение к нему выражалось слишком явно, и дали ему двух часовых.
В половине восьмого в гостиной Дюпена собрались пятнадцать или двадцать депутатов, среди них Эжен Сю, Жоре, де Рессегье и де Талуэ. Они тоже старались уговорить председателя, и с тем же успехом. В оконной нише остроумный член большинства глуховатый Демуссо де Живре, совершенно взбешенный, крайне резко говорил с таким же, как и он, депутатом правой, которого он ошибочно подозревал в сочувствии перевороту.
В стороне от группы депутатов Дюпен, весь в черном, заложив руки за спину, опустив голову, расхаживал взад и вперед перед камином, где пылал яркий огонь. Все громко говорили о нем при нем, у него дома, но он как будто ничего не слышал.
Пришли два члена левой, Бенуа (от Роны) и Кретен. Кретен вошел в гостиную, направился прямо к Дюпену и сказал ему:
— Господин председатель, знаете ли вы, что происходит? Чем объяснить, что Собрание до сих пор еще не созвано?
Дюпен остановился и ответил, по своему обыкновению передернув плечами:
— Ничего нельзя сделать.
И он снова стал расхаживать по комнате.
— Это уж чересчур, — сказал де Рессегье.
— Это уж слишком, — сказал Эжен Сю.
Тем временем на мосту Согласия сосредоточивались войска. Генерал Васт-Виме, тощий старичок с прямыми, зализанными на висках седыми волосами, в парадной форме, с расшитой треуголкой на голове, в больших эполетах, с непомерно длинной, волочившейся по земле перевязью (не депутата, а генерала), пеший бегал по мосту и, обращаясь к солдатам, нечленораздельно выкрикивал восторженные фразы, выражавшие восхищение империей и переворотом. Такие фигуры можно было видеть в 1814 году. Только тогда вместо большой трехцветной кокарды они щеголяли большими белыми кокардами. В сущности то же самое явление: старики, кричащие: «Да здравствует прошлое!» Почти в ту же минуту де Ларошжаклен переходил площадь Согласия; за ним молчаливо, словно любопытствуя, шли около сотни блузников. На главной аллее Елисейских Полей были выстроены несколько кавалерийских полков.
В восемь часов крупные вооруженные силы окружили дворец Национального собрания. Все подъезды к нему охранялись, все ворота были закрыты. Однако нескольким депутатам еще удалось проникнуть во дворец, но не через Председательский подъезд, с площади Инвалидов, как потом ошибочно утверждали, а через маленькую дверь, выходящую на Бургундскую улицу, так называемую Черную дверь. 2 декабря эту дверь, по забывчивости или намеренно, не запирали почти до полудня. Тем временем Бургундская улица заполнилась войсками. На Университетской улице кое-где стояли отдельные взводы, не препятствовавшие движению редких прохожих.
Депутаты, прибывавшие с Бургундской улицы, направлялись в Конференц-зал и там присоединялись к своим товарищам, вышедшим от Дюпена.
Скоро в зале образовалась довольно многочисленная группа из членов всех фракций Собрания, среди которых были: Эжен Сю, Ришарде, Фейоль, Жоре, Марк Дюфрес, Бенуа (от Роны), Кане, Гамбон, д'Адельсвард, Крепю, Репелен, Тейяр-Латерис, Рантьон, генерал Лейде, Полен Дюррье, Шане, Брийе, Кола (от Жиронды), Моне, Гастон, Фавро и Альбер де Рессегье.
Каждый вновь пришедший спрашивал де Пана:
— Где заместители председателя?
— В тюрьме.
— А два других квестора?
— Тоже. И я прошу вас верить, господа, — добавлял де Пана, — что я неповинен в том оскорблении, которое мне нанесли, оставив меня на свободе.
Возмущение достигло предела; все различия убеждений исчезли в общем чувстве презрения и гнева; де Рессегье проявил не меньше энергии, чем Эжен Сю. Впервые казалось, что у всего Собрания одно сердце и один голос. Каждый высказывал, наконец, свое истинное мнение о человеке из Елисейского дворца, и теперь обнаружилось, хотя раньше никто не отдавал себе в этом отчета, что Луи Бонапарт давно уже создал в Собрании полное единодушие, единодушие презрения.
Кола (от Жиронды) рассказывал что-то, оживленно жестикулируя. Он только что был в министерстве внутренних дел, он видел де Морни, он говорил с ним, он, Кола, был возмущен преступлением Бонапарта. Впоследствии это преступление сделало его членом Государственного совета.
Де Пана переходил от одной группы к другой, объявляя депутатам, что он назначил экстренное заседание на час дня. Но мы не могли ждать. События развивались стремительно. В Бурбонском дворце, так же как и на собрании на улице Бланш, все сознавали, что каждый лишний час довершает переворот, все терзались своим молчанием и своим бездействием, железное кольцо сжималось, поток солдат все прибывал и безмолвно наводнял дворец; то и дело у какой-нибудь двери, где только что проход был свободен, появлялся часовой. Однако на группу депутатов, собравшихся в зале заседаний, никто еще не посягал. Нужно было действовать, говорить, заседать, бороться, не теряя ни минуты.
Гамбон сказал: «Попробуем еще уговорить Дюпена; он официальное лицо, он нам нужен». За ним послали. Его не нашли. Его не было, он исчез, отсутствовал, спрятался, притаился, забился в какую-нибудь щель, зарылся, застыл, провалился сквозь землю. Где он был? Никто не знал. У трусости есть неведомые норы.
Вдруг в зал вошел человек — человек, не имевший никакого отношения к Собранию, в мундире с погонами старшего офицера, со шпагой на боку. Это был один из батальонных командиров 42-го полка; он потребовал, чтобы депутаты оставили здание, где находились по праву. Все, и роялисты и республиканцы, набросились на него, по выражению одного возмущенного очевидца. Генерал Лейде обратился к нему с такими словами, которые хлещут не слух, а щеки.
— Я исполняю свои обязанности, я повинуюсь приказу, — пробормотал офицер.
— Если вы думаете, что исполняете свои обязанности, — значит, вы глупец, — крикнул ему Лейде, — а если вы сознаете, что совершаете преступление, то вы негодяй! Понимаете ли вы, что я говорю? Рассердитесь, если смеете.
Офицер счел за лучшее не сердиться и продолжал:
— Итак, господа, вы не желаете разойтись?
— Нет.
— Я пойду за солдатами.
— Идите.
Он вышел и отправился за приказаниями в министерство внутренних дел.
Депутаты ожидали, охваченные тем неописуемым волнением, которое можно назвать агонией права, задыхающегося в борьбе с насилием.
Вскоре один из них, вышедший из Конференц-зала, поспешно вернулся и сообщил, что прибыли две роты подвижной жандармерии с ружьями у плеча.
Марк Дюфрес воскликнул:
— Пусть же они нарушат закон до конца! Пусть переворот застанет нас на наших местах! Пойдем в зал заседаний! — Он добавил: — Раз уж дело дошло до этого, насладимся живым, подлинным зрелищем Восемнадцатого брюмера.
Все пошли в зал заседаний. Проход был свободен. Зал Казимира Перье еще не был занят войсками.
Депутатов было около шестидесяти. Многие надели свои перевязи. Входя в зал, все хранили сосредоточенное молчание.
Де Рессегье, желая создать впечатление единства, без всякой задней мысли стал настаивать на том, чтобы все сели с правой стороны.
— Нет, — возразил Марк Дюфрес, — все по своим скамьям.
Депутаты рассеялись по залу и заняли свои обычные места.
Моне, сидевший на одной из нижних скамей левого центра, держал в руках печатный экземпляр конституции.
Прошло несколько минут. Все молчали. Это было безмолвное ожидание, предшествующее решительным действиям и завершающим схваткам, молчание, во время которого каждый, казалось, благоговейно прислушивался к последним советам своей совести.
Вдруг в дверях показались солдаты подвижной жандармерии; впереди шел капитан с саблей наголо. Неприкосновенность зала заседаний была нарушена. Депутаты все разом встали со скамей с возгласом: «Да здравствует республика!», затем они снова заняли свои места.
Не сел только депутат Моне; громким и негодующим голосом, словно трубный звук раздавшимся в полупустом зале, он приказал солдатам остановиться.
Солдаты остановились, с растерянным видом глядя на депутатов.
Они еще не дошли до трибуны и заполняли только левый проход.
Тогда депутат Моне прочел 36-ю, 37-ю и 68-ю статьи конституции.
Статьи 36 и 37 утверждали неприкосновенность депутатов. Статья 68 гласила, что в случае измены президент должен быть отрешен от должности.
Это была торжественная минута. Солдаты слушали безмолвно.
Когда статьи были прочитаны, депутат д'Адельсвард, сидевший на первой нижней скамье с левой стороны, ближе всех к солдатам, повернулся к ним и сказал:
— Солдаты, вы видите, президент изменник, он хочет и вас сделать изменниками. Вы врываетесь в священный зал народного представительства; именем конституции, именем закона мы приказываем вам удалиться!
Пока д'Адельсвард говорил, вошел командир батальона подвижной жандармерии.
— Господа, — сказал он, — я получил приказ предложить вам разойтись, а если вы откажетесь, удалить вас силой.
— Приказ удалить нас! — воскликнул д'Адельсвард; и все депутаты закричали:
— От кого исходит этот приказ? Покажите нам приказ! Кто подписал приказ?
Командир вынул бумагу и развернул ее, но тотчас сделал быстрое движение, чтобы положить ее обратно в карман; генерал Лейде бросился к нему и схватил его за руку. Несколько депутатов заглянули через плечо батальонного командира и прочли приказ о разгоне Собрания, подписанный Фортулем, министром флота.
Марк Дюфрес повернулся к жандармам и крикнул:
— Солдаты! Одно ваше присутствие здесь уже государственное преступление. Вон отсюда!
Солдаты, казалось, не знали, на что решиться. Но вдруг через дверь справа вошла другая колонна, и по знаку командира капитан скомандовал:
— Вперед! Гоните их вон!
И тут началась неслыханная рукопашная схватка между жандармами и законодателями. Солдаты с ружьями наперевес заполняли проходы между скамьями сената. Репелена, Шане и Рантьона силой стащили с их мест. Двое жандармов набросились на Марка Дюфреса, двое на Гамбона. Оба депутата долго отбивались на первой скамье справа, на том месте, где обычно сидели Одилон Барро и Аббатуччи. Полен Дюррье насилию противопоставил силу; понадобились три жандарма, чтобы оторвать его от скамьи. Моне повалили на скамью комиссаров. Д'Адельсварда схватили за горло и вышвырнули из зала. Ришарде, калеку, свалили с ног и избили. Некоторых поранили штыками; почти у всех была разорвана одежда.
Командир кричал солдатам: «Очищайте зал!»
Так государственный переворот выбросил за шиворот из Собрания шестьдесят депутатов народа. Измена завершилась насилием. Исполнение было достойно замысла.
Последними вышли Фейоль, Тейяр-Латерис и Полен Дюррье.
Их пропустили через главные ворота, и они очутились на Бургундской площади.
Бургундская площадь была занята 42-м линейным полком под командой полковника Гардеренса.
Против главных ворот, между дворцом и статуей Республики, занимавшей центр площади, стояла пушка, наведенная на Собрание.
Рядом с этой пушкой венсенские стрелки заряжали ружья и рвали патроны.
Полковник Гардеренс был верхом, он находился возле группы солдат, привлекшей внимание Тейяр-Латериса, Фейоля и Полена Дюррье.
В центре этой группы отчаянно отбивались три человека; они кричали: «Да здравствует конституция! Да здравствует республика!»
Фейоль, Полен Дюррье и Тейяр-Латерис подошли ближе и узнали в арестованных трех членов большинства, депутатов Тупе де Виня, Радуб-Лафоса и Арбе.
Арбе энергично протестовал. Когда он повысил голос, полковник Гардеренс прервал его следующими словами, достойными того, чтобы привести их полностью:
— Замолчите! Еще одно слово, и я велю избить вас прикладами!
Трое депутатов левой, возмущенные, потребовали, чтобы полковник отпустил их коллег.
— Полковник, — сказал Фейоль, — вы трижды нарушаете закон.
— Я нарушу его шесть раз, — ответил полковник; и он приказал арестовать Фейоля, Полена Дюррье и Тейяр-Латериса.
Солдаты получили приказ отвести их на полицейский пост при строившемся здании министерства иностранных дел.
По дороге шестеро пленников, шагавших между двумя рядами штыков, встретили трех своих коллег-депутатов — Эжена Сю, Шане и Бенуа (от Роны).
Эжен Сю преградил путь офицеру, командовавшему; отрядом, и сказал ему:
— Мы требуем, чтобы вы освободили наших коллег.
— Не могу, — ответил офицер.
— В таком случае завершайте ваше преступление, — оказал Эжен Сю, — мы требуем, чтобы вы арестовали и нас.
Офицер арестовал их.
Депутатов повели на пост при недостроенном здании министерства иностранных дел, а потом в казарму на набережной Орсе. Только к ночи за ними прислали две роты линейных войск, чтобы отвести их в эти казармы.
Приказав поставить их между двумя рядами солдат, офицер, командовавший отрядом, поклонился чуть ли не до земли и вежливо сказал:
— Господа, ружья моих солдат заряжены.
Как мы говорили, депутатов выгоняли из зала без всякого порядка, солдаты просто выталкивали их изо всех дверей.
Некоторые депутаты, в том числе те, о которых мы только что упомянули, вышли на Бургундскую улицу; других вывели через зал ожидания к воротам напротив моста Согласия.[1]
Перед залом ожидания есть передняя, нечто вроде перекрестка, куда выходит лестница верхних трибун и несколько дверей, среди них большая застекленная дверь галереи, ведущей в квартиру председателя Собрания.
Доведя депутатов до этой передней, смежной с маленьким круглым залом, куда выходит боковая дверь дворца, солдаты отпустили их.
Здесь быстро образовалась группа; депутаты Кане и Фавро взяли слово. Кто-то крикнул: «Пойдем за Дюпеном, притащим его сюда, если он будет упираться!»
Открыли застекленную дверь и бросились в галерею. На этот раз Дюпен был дома. Узнав, что жандармы очистили зал, он вышел из своего тайника. Теперь, когда Собрание было повержено, Дюпен мог выпрямиться. Как только закон оказался в плену, этот человек почувствовал себя на свободе.
Группа депутатов с Кане и Фавро во главе вошла к нему в кабинет.
Там завязался разговор. Депутаты требовали от председателя, чтобы он, олицетворение Собрания, возглавил их, олицетворявших нацию, и вернулся вместе с ними в зал.
Дюпен отказался наотрез, был непреклонен, проявил большую твердость и героически цеплялся за свое ничтожество.
— Что вы от меня хотите? — говорил он, приплетая к своим сумбурным возражениям множество юридических формул и латинских цитат: инстинкт говорящих птиц, которые, испугавшись, выкладывают весь свой репертуар. — Что вы от меня хотите? Кто я такой? Что я могу? Я ничто. Все мы теперь ничто. Ubi nihil, nihil. [2] Мы должны подчиниться силе. Там, где действует сила, народ теряет свои права. Novus nascitur ordo. [3] Надо с этим считаться. Что до меня, я должен покориться. Dura lex, sed lex. [4] Закон, порожденный необходимостью, само собой разумеется, а не правом. Но что поделаешь? Оставьте меня в покое. Я ничего не могу сделать, я делаю то, что могу. У меня нет недостатка в доброй воле. Если бы у меня были четыре солдата с капралом, я пожертвовал бы их жизнью.
— Этот человек признает только силу, — сказали депутаты, — ну что же, придется применить силу.
Как он ни отбивался, ему накинули на шею перевязь, словно веревку, и потащили его в зал, а он сопротивлялся, требовал «свободы», жаловался, упирался, — я бы сказал, боролся, если бы это слово не было благородным.
Спустя несколько минут после разгона Собрания через тот же зал ожидания, по которому жандармы волокли депутатов, депутаты волокли Дюпена.
Но далеко идти не пришлось. Большую двустворчатую зеленую дверь охраняли солдаты. Прибежал полковник Эспинас, прибежал командир жандармов. Из карманов командира торчали рукоятки двух пистолетов.
Полковник был бледен, майор был бледен, Дюпен весь побелел. Обе стороны были охвачены страхом. Дюпен боялся полковника; полковник, конечно, не боялся Дюпена, но за этой смешной и жалкой фигурой ему виделось нечто ужасное, его собственное преступление; и он дрожал. У Гомера есть сцена, в которой за спиной Терсита появляется Немезида.
Несколько мгновений Дюпен, отупев и утратив дар речи, не знал, на что решиться.
Депутат Гамбон крикнул ему:
— Говорите же, господин Дюпен, левые вас не прерывают.
Тогда, подхлестываемый словами депутатов, видя прямо перед собой штыки солдат, несчастный заговорил. То, что вышло тогда из его уст, то, что председатель Верховного собрания Франции бормотал перед жандармами в эту торжественную минуту, невозможно даже воспроизвести.
Те, кто слышал этот жалкий лепет агонизирующей подлости, постарались поскорее очистить свой слух от этой скверны. Он, кажется, сказал, заикаясь, нечто вроде следующего:
— Вы сила, у вас штыки, я взываю к праву и ухожу. Честь имею кланяться.
Он ушел.
Его не удерживали. Выходя, он обернулся и проронил еще несколько слов. Мы не станем подбирать их. У Истории нет мусорной корзины.
IX Конец, худший, чем смерть
С этим чeлoвeкoм, три года носившим высокое звание председателя Народного собрания Франции и умевшим только прислуживать большинству, нам хотелось бы покончить сейчас же, чтобы никогда больше о нем не говорить. В последний час он умудрился пасть еще ниже, чем можно было ожидать даже от него. Его карьера в Собрании была карьерой слуги, конец его был концом лакея. Неслыханное поведение Дюпена перед жандармами, когда он выдавил из себя свое подобие протеста, показалось даже подозрительным. Гамбон воскликнул:
— Он сопротивляется, как сообщник! Ему все было известно.
Мы считаем эти подозрения несправедливыми. Дюпен ничего не знал. Кому из зачинщиков переворота нужно было его согласие? Соблазнить Дюпена! Возможно ли это? Да и к чему? Платить ему? Зачем? Это были бы выброшенные деньги; достаточно его напугать. Заранее было известно, что он согласится на все. Трусость издавна ладила с подлостью. Пролитую кровь закона вытереть недолго. Вслед за убийцей с кинжалом всегда приходит трус с губкой.
Дюпен убежал в свой кабинет. Депутаты пошли за ним следом.
— Боже мой! — воскликнул он. — Я хочу, чтобы меня оставили в покое! Неужели никто этого не понимает?
И в самом деле, его мучили с самого утра, стараясь извлечь из него невозможное: искорку мужества.
— Вы терзаете меня хуже жандармов, — говорил он.
Депутаты расположились у него в кабинете, заняли его стол пока он ворчал и охал в своем кресле, и составили протокол о том, что произошло, так как хотели, чтобы в архивах сохранилось официальное описание совершенного преступления.
Когда протокол был составлен, депутат Кане прочел его председателю и подал ему перо.
— Зачем оно мне? — спросил он.
— Вы председатель, — ответил Кане, — это наше последнее заседание. Ваш долг — подписать протокол.
Этот человек отказался.
X Черная дверь
Дюпен — это позор беспримерный.
Впоследствии он получил мзду. Кажется, его сделали чем-то вроде главного прокурора кассационного суда.
Дюпен оказал Луи Бонапарту услугу, став вместо него последним из людей.
Продолжим эту мрачную повесть.
Многие из депутатов правой, растерявшись от неожиданности, в начале событий, побежали к Дарю, который был вице-председателем Собрания и одновременно одним из председателей Союза Пирамид. Этот Союз всегда поддерживал политику Елисейского дворца. Дарю жил на Лилльской улице в доме № 75.
К десяти часам утра у Дарю собралось около сотни депутатов правой. Они решили проникнуть в зал заседаний Национального собрания. Лилльская улица выходит на Бургундскую почти напротив небольшой двери, ведущей во дворец; ее называют Черной дверью.
Депутаты во главе с Дарю направились к этой двери. Они шли, держа друг друга под руку. Некоторые опоясались своими перевязями. Потом они их сняли.
Черная дверь, как всегда приотворенная, охранялась только двумя часовыми.
Некоторые из наиболее возмущенных депутатов правой, среди них де Кердрель, бросились к этой двери и пытались войти.
Но ее резко захлопнули, и тогда между депутатами и сбежавшимися полицейскими произошло нечто вроде потасовки, во время которой одному из депутатов вывихнули кисть руки.
В это время построенный в линию на Бургундской площади батальон беглым шагом направился к группе депутатов.
Дарю с большим достоинством и твердостью знаком приказал командиру остановить солдат. Батальон остановился, и Дарю, как вице-председатель Собрания, именем конституции обратился к солдатам с требованием опустить оружие и дать дорогу представителям верховной власти народа.
Командир батальона ответил приказанием немедленно очистить улицу, заявив, что Собрания больше не существует, а лично он не знает, кто такие депутаты народа; если же люди, стоящие перед ним, не уйдут по доброй воле, он прогонит их силой.
— Мы уступим только силе, — сказал Дарю.
— Вы совершаете государственное преступление, — добавил де Кердрель.
Офицер дал сигнал к атаке.
Роты двинулись сомкнутым строем.
Наступило минутное замешательство; еще немного, и произошло бы столкновение. Грубо оттесненные, депутаты отхлынули на Лилльскую улицу. Некоторые упали. Многих членов правой солдаты опрокинули в грязь. Одного из них, Этьена, ударили прикладом в плечо. Добавим тут же, что неделю спустя Этьен стал членом так называемой совещательной комиссии. Переворот пришелся ему по вкусу, включая и удар прикладом.
Вернулись к Дарю; по дороге рассеянная группа собралась снова; к ней присоединились и еще несколько запоздавших.
— Господа, — сказал Дарю, — председателя у нас нет, зал для нас закрыт. Я вице-председатель, мой дом будет дворцом Собрания.
Он приказал открыть большую гостиную, и депутаты правой расположились там. Вначале совещались довольно беспорядочно. Затем Дарю напомнил, что дорога каждая минута, и воцарилась тишина.
Прежде всего нужно было в силу 68-й статьи конституции объявить о низложении президента республики. Несколько депутатов, из тех, кого с моей легкой руки прозвали «бургграфами», сели за стол и составили акт об отрешении.
Когда они собирались прочесть его, в дверях гостиной появился вновь пришедший депутат; он объявил Собранию, что войска занимают Лилльскую улицу и особняк окружен.
Нельзя было терять ни минуты.
Бенуа д'Ази предложил:
— Господа, пойдем в мэрию Десятого округа, мы сможем совещаться там под охраной Десятого легиона, которым командует наш коллега, генерал Лористон.
По черному ходу особняка Дарю можно было пройти к маленькой калитке в глубине сада. Многие депутаты вышли через нее.
Дарю собирался последовать за ними. В гостиной оставались только он, Одилон Барро и еще двое или трое, как вдруг дверь отворилась. Вошел какой-то капитан; он обратился к Дарю:
— Господин граф, я вас арестую.
— Куда вы намерены вести меня?
— Мне приказано держать вас под домашним арестом.
И действительно, особняк был занят солдатами. Так Дарю помешали присутствовать на заседании в мэрии X округа.
Одилону Барро офицер позволил уйти.
XI Верховный суд
В то время как все это происходило на левом берегу Сены, во Дворце правосудия, в большом зале ожидания, около полудня расхаживал взад и вперед какой-то человек в наглухо застегнутом пальто. За ним поодаль следовали несколько подозрительных личностей, по-видимому с тем, чтобы в случае надобности оказать ему поддержку. Полиция иной раз пользуется в своих предприятиях такими помощниками, двусмысленный вид которых внушает прохожим тревогу и вызывает в них недоумение: кто это, должностные лица или разбойники? Человек в застегнутом пальто бродил от двери к двери, из одного коридора в другой, обменивался какими-то знаками со следовавшими за ним молодчиками, затем возвращался в большой зал, по дороге останавливая адвокатов, поверенных, приставов, писарей, рассыльных и вполголоса, так, чтобы не услышали проходящие, задавал один и тот же вопрос; на этот вопрос одни отвечали: «да», другие говорили: «нет». И человек продолжал рыскать по зданию суда с видом ищейки, идущей по следу.
То был полицейский комиссар, состоявший при арсенале.
Что он искал?
Верховный суд.
Что же делал Верховный суд?
Скрывался.
Зачем? Чтобы судить?
И да и нет.
Полицейский комиссар Арсенала утром получил от префекта Мопа приказание во что бы то ни стало разыскать Верховный суд, в случае если тот сочтет нужным собраться. Спутав Верховный суд с Государственным советом, полицейский комиссар пошел сначала на набережную Орсе. Не найдя там ничего, даже Государственного совета, он вернулся ни с чем и наудачу направился сюда, решив, что раз ему нужно искать правосудие, то он может найти его здесь.
Ничего не найдя, он ушел.
А между тем Верховный суд собрался.
Где и как? Сейчас увидим.
В ту эпоху, историю которой мы здесь излагаем, до последней перестройки старинных парижских зданий, посетитель, войдя в помещение суда через двор Арле, попадал на невзрачную лестницу, которая через несколько поворотов приводила в длинный коридор, называемый галереей Мерсьер. Посреди этого коридора были две двери: одна, направо, вела в апелляционный суд, другая, налево, — в кассационный. Левая двустворчатая дверь открывалась в старинную галерею, так называемую галерею Людовика Святого, недавно реставрированную; теперь она служит залом ожидания для адвокатов кассационного суда. Против входной двери стояла деревянная статуя Людовика Святого. Направо от этой статуи был выход в коридор; свернув по этому коридору, посетитель попадал в тупичок, который справа и слева замыкали две двойных двери. На правой было написано: «Кабинет первого председателя», на левой: «Зал совета». Между этими двумя дверьми было устроено нечто вроде узкого и темного прохода для адвокатов, идущих в зал гражданского суда, помещавшийся в бывшем главном зале парламента; по выражению одного из адвокатов, в этом проходе «можно было совершить безнаказанно любое преступление».
Повернув налево от кабинета первого председателя и отворив дверь с надписью «Зал совета», посетитель попадал в просторную комнату, где стоял большой стол в виде подковы, окруженный стульями с зеленой обивкой. В этой комнате, в 1793 году служившей залом совещания для судей революционного трибунала, в деревянной обшивке задней стены была проделана дверь, ведущая в коридор, по которому, повернув направо, можно было пройти в кабинет председателя уголовной палаты, повернув налево — в буфет. «К смертной казни, и пойдем обедать!» — в течение многих веков слова эти сливаются в одном предложении. В самом конце коридора была третья дверь. Это была, можно сказать, последняя дверь во Дворце правосудия, самая отдаленная, самая неведомая, самая глухая; она вела в так называемую библиотеку кассационного суда, обширную прямоугольную комнату с двумя окнами, выходящими на большой внутренний двор тюрьмы Консьержери; там стоял большой стол, покрытый зеленым сукном, и несколько стульев с кожаными сиденьями, а стены от пола до потолка были покрыты сплошными рядами книг.
Эта комната, как мы видим, была самой далекой и уединенной во всем здании.
Сюда-то, в эту комнату, 2 декабря, около одиннадцати часов утра, один за другим явились несколько человек, одетых в черное, без мантий, без знаков отличия; растерянные, сбитые с толку, они качали головами и говорили шепотом. Эти дрожащие от страха люди были члены Верховного суда.
Согласно конституции, Верховный суд состоял из семи высших судебных чиновников: председателя, четырех постоянных членов и двух запасных, избираемых из членов кассационного суда сроком на один год.
В декабре 1851 года этими семью судьями были: Ардуэн, Патайль, Моро, Делапальм, Коши, Гранде и Кено; два последние были запасными.
Эти люди, ничем не замечательные, в прошлом не имели никаких заслуг. Коши, несколько лет тому назад занимавший должность председателя Палаты королевского суда в Париже, человек мягкого нрава, очень пугливый, был братом математика, члена Академии, вычислившего звуковые волны, и бывшего архивариуса Палаты пэров. Делапальм, в прошлом главный прокурор, принимал деятельное участие в процессах против прессы при Реставрации; Патайль был депутатом центра при Июльской монархии; Моро (от Сены) был замечателен тем, что его прозвали «от Сены» в отличие от другого Моро, от Мерты, со своей стороны замечательного только тем, что его прозвали «от Мерты», чтобы не путать с Моро от Сены. Первый заместитель, Гранде, был председателем судебной палаты в Париже. Я читал о нем следующий лестный отзыв: «У него нет ни характера, ни убеждений». Второй заместитель, Кено, либерал, депутат, крупный чиновник, товарищ прокурора, консерватор, отличавшийся ученостью и послушанием, видел во всем на свете только средство для восхождения по лестнице чинов и дошел до уголовной палаты кассационного суда, где стал известен своей строгостью. 1848 год оскорбил его понятие о праве, и после 24 февраля он подал в отставку; после 2 декабря он в отставку не подал.
Ардуэн, председатель Верховного суда, был прежде председателем суда присяжных. Человек религиозный, непреклонный янсенист, считавшийся среди своих собратьев «неподкупным судией», он был проникнут идеями Пор-Рояля, усердно читал Николя, принадлежал к роду тех старых судей из Маре, которые ездили в суд верхом на мулах; теперь мулы вышли из моды, и тот, кто навестил бы председателя Ардуэна, не обнаружил бы в его конюшне упрямства — так же, как и в его совести.
2 декабря в девять часов утра два человека, поднявшись по лестнице к Ардуэну, в доме № 10 на улице Конде, встретились у его дверей. Один из них был Патайль, другой известный адвокат кассационного суда, бывший член Учредительного собрания Мартен (от Страсбурга). Патайль пришел с тем, чтобы предоставить себя в распоряжение Ардуэна.
Прочитав объявления о перевороте, Мартен (от Страсбурга) прежде всего подумал о Верховном суде. Ардуэн провел Патайля в комнату рядом со своим кабинетом, а Мартена, желая говорить с ним без свидетелей, принял в кабинете. Когда Мартен потребовал от него созыва Верховного суда, он просил предоставить ему «свободу действий», заявив, что Верховный суд «исполнит свой долг», но что прежде всего ему нужно «обсудить вопрос со своими коллегами», и закончил следующими словами: «Это будет сделано сегодня или завтра».
— Сегодня или завтра! — воскликнул Мартен (от Страсбурга), — господин председатель, спасение республики, может быть спасение страны, зависит от того, что предпримет или не предпримет Верховный суд. На вас лежит большая ответственность, подумайте об этом. Те, кто представляет верховное правосудие, обязаны исполнить свой долг не сегодня или завтра, а сейчас же, немедленно, не, теряя ни минуты, не раздумывая ни мгновения.
Мартен (от Страсбурга) был прав. Правосудие не терпит отлагательств.
Мартен (от Страсбурга) прибавил:
— Если вам нужен человек для решительных действий, предлагаю вам себя.
Ардуэн отклонил это предложение, заверив Мартена, что не будет терять ни минуты, и просил его дать ему возможность «посоветоваться» со своим коллегой Патайлем.
Он действительно созвал Верховный суд к одиннадцати часам; встреча была назначена в библиотеке.
Судьи явились точно в условленное время. В четверть двенадцатого все были в сборе. Патайль пришел последним.
Заседали у краешка большого стола, покрытого зеленым сукном. В библиотеке больше никого не было.
Никакой торжественности. Председатель Ардуэн открыл заседание словами: «Господа, нет надобности излагать положение вещей, все знают, о чем идет речь».
Статья 68 конституции сформулирована категорически. Верховному суду пришлось собраться, иначе он совершил бы «государственное преступление». Чтобы выиграть время, определили состав суда: секретарем назначили Бернара, главного секретаря кассационной палаты; за ним послали, а тем временем попросили библиотекаря, г-на Деневера, вести протокол. Условились, где и когда собраться вечером. Обсудили предложение члена Учредительного собрания Мартена (от Страсбурга), на которого даже слегка сердились, находя, что в его лице политика позволила себе подгонять правосудие. Поговорили немного о социализме, о Горе, о красной республике и немного о том приговоре, который предстояло вынести. Беседовали, рассказывали, обсуждали, делали предположения, словом всячески тянули. Чего же они ждали?
Мы уже говорили о том, чем в это время был занят полицейский комиссар.
Кстати сказать, этим сообщникам переворота приходило в голову, что народ может ворваться во Дворец правосудия и заставить Верховный суд исполнить свой долг; но они успокаивали себя тем, что их никогда не найдут в этом помещении, — им казалось, что место выбрано удачно; они учитывали и то, что полиция, конечно, тоже будет разыскивать Верховный суд, чтобы разогнать его, и, может быть, ей не удастся его найти, — и тогда каждый в душе сожалел, что выбрали именно это место. Они хотели спрятать Верховный суд, — это им слишком хорошо удалось. Они с грустью думали о том, что когда явится полиция и вооруженная сила, дело, может быть, зайдет уже далеко, и Верховный суд окажется скомпрометированным.
Назначив секретариат, нужно было организовать само заседание. Это был второй шаг, более ответственный, чем первый.
Судьи старались выиграть время, надеясь, что судьба решит вопрос в ту или другую сторону, либо в пользу Собрания, либо в пользу президента — либо за переворот, либо против него: кто-нибудь окажется побежденным, и тогда Верховный суд сможет схватить его за шиворот с полной безопасностью для себя.
Они долго обсуждали вопрос о том, следует ли им немедленно составить обвинительный акт против президента или ограничиться простым предварительным следственным постановлением. Было принято второе.
Они составили постановление. Но оно не имело ничего общего с честным суровым постановлением, расклеенным и опубликованным стараниями представителей левой, в котором встречались слова дурного тона, как, например, «преступник» и «государственная измена», — это постановление было боевым снарядом, который так и остался невыпущенным. Когда приходится быть судьей, мудрость иногда заключается в том, чтобы вынести постановление, в сущности не являющееся таковым, одно из тех, которые ни к чему не обязывают, где все условно, где никому не предъявляется никаких обвинений и не устанавливается никакой виновности. Это нечто вроде частного определения, позволяющего подождать и посмотреть, как обернется дело. Серьезные люди понимают, что в таких щекотливых обстоятельствах нельзя опрометчиво применять к возможным событиям суровый критерий, именуемый правосудием. Верховный суд отдавал себе в этом отчет; он вынес осторожное решение: это решение никому не известно; мы публикуем его здесь впервые. Вот оно. Это великолепный образчик уклончивого стиля.
ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА ВЕРХОВНОГО СУДА
Верховный суд,
На основании статьи 68-й конституции,
Принимая во внимание, что не далее, как сегодня, в Париже были расклеены печатные плакаты, начинающиеся со слов: «Президент Республики», и подписанные: «Луи-Наполеон Бонапарт» и «министр внутренних дел де Морни», что указанные плакаты объявляют, среди других мероприятий, о роспуске Национального собрания и что факт роспуска Национального собрания президентом Республики, предусмотренный статьей 68-й конституции, в соответствии с этой статьей вызывает необходимость созыва Верховного суда,
Объявляет, что состав Верховного суда определен; обязанности государственного прокурора возлагаются на……[5] обязанности секретаря возлагаются на г-на Бернара, главного секретаря кассационного суда; для вынесения постановления согласно вышеозначенной статье 68-й конституции заседание откладывается на завтра, 3 декабря, в двенадцать часов дня.
Постановлено и обсуждено на заседании Верховного суда в составе: председателя, г-на Ардуэна, и судей, г-д Патайля, Моро, Делапальма и Коши, 2 декабря 1851 года.
Двое запасных судей, Гранде и Кено, тоже хотели подписать постановление, но председатель решил, что правильнее будет поставить только подписи действительных членов суда, так как подписи запасных не имеют силы в тех случаях, когда суд заседает в полном составе.
Был уже час дня; в Париже стал распространяться слух о том, что часть Собрания издала декрет об отрешении от должности Луи Бонапарта; один из судей, выходивший во время обсуждения, сообщил об этом слухе своим коллегам. Это вызвало прилив энергии. Председатель обратил внимание суда на то, что было бы уместно назначить главного прокурора.
Здесь возникло затруднение. Кого назначить? Во всех предыдущих процессах главным прокурором при Верховном суде всегда являлся главный прокурор парижского апелляционного суда. Зачем вводить новшества? Решили привлечь прокурора апелляционного суда. Эту должность в то время занимал де Руайе, министр юстиции Бонапарта. Новое затруднение и долгая дискуссия.
Согласится ли де Руайе? Ардуэн вызвался передать ему предложение Верховного суда. Для этого нужно было только пройти по галерее Мерсьер.
Де Руайе был в своем кабинете. Предложение Ардуэна сильно его смутило. Он оторопел от неожиданности: согласиться было опасно, отказаться рискованно.
Государственная измена была налицо. 2 декабря в час пополудни переворот еще был преступлением. Де Руайе, не зная, увенчается ли успехом государственное преступление, рискнул в интимном кружке назвать его своим именем, с благородным стыдом опуская глаза перед нарушением закона — нарушением, которому три месяца спустя принесли присягу столько людей в красных мантиях, в том числе и он сам. Но его негодование не доходило до обвинений. Обвиняют во весь голос; де Руайе пока только шептал. Он растерялся.
Ардуэн понял его затруднительное положение. Настаивать было бы неделикатно. Он ушел.
Он возвратился в зал, где дожидались его коллеги.
Тем временем вернулся полицейский комиссар Арсенала.
Он в конце концов «откопал», по собственному его выражению, Верховный суд. Он добрался до зала совещаний гражданской палаты; в этот момент его сопровождали еще только несколько агентов, те же, что были с ним утром. Проходил рассыльный, и комиссар спросил его, где находится Верховный суд. «Верховный суд? — переспросил рассыльный. — А что это такое?» На всякий случай рассыльный обратился к библиотекарю; Деневер вышел к комиссару. Они обменялись несколькими словами:
— Что вам нужно?
— Верховный суд.
— Кто вы такой?
— Мне нужен Верховный суд.
— Он заседает.
— Где он заседает?
— Здесь.
И библиотекарь указал на дверь.
— Хорошо, — сказал комиссар.
Он не сказал больше ни слова и вернулся в галерею Мерсьер.
Мы уже говорили, что в этот момент с ним было только несколько агентов.
Верховный суд в самом деле заседал. Председатель докладывал судьям о своем свидании с главным прокурором. Вдруг из коридора, ведущего из зала совещаний в комнату, где происходило заседание, послышался шум шагов. Дверь распахнулась. Появились штыки, и посреди этих штыков человек в застегнутом пальто с надетым поверх него трехцветным поясом.
Судьи смотрели на все это в изумлении.
— Господа, — сказал этот человек, — немедленно разойдитесь.
Председатель Ардуэн встал.
— Что это значит? Кто вы такой? Знаете ли вы, с кем говорите?
— Знаю. Вы Верховный суд, а я полицейский комиссар.
— Ну и что же?
— Уходите отсюда.
Перед судьями стояли тридцать пять муниципальных гвардейцев с барабанщиком во главе под командой лейтенанта.
— Но ведь… — сказал председатель.
Комиссар прервал его словами, которые я привожу буквально:
— Господин председатель, я не собираюсь вступать с вами в пререкания. У меня есть приказ, и я передаю его вам. Повинуйтесь.
— Кому?
— Префекту полиции.
Председатель задал следующий странный вопрос, который означал подчинение приказанию:
— Есть у вас мандат?
Комиссар ответил:
— Да.
И он подал председателю бумагу.
Судьи побледнели.
Председатель развернул бумагу; Коши заглянул через плечо Ардуэна; председатель прочел:
— «Приказ распустить Верховный суд и, в случае отказа, арестовать господ Беранже, Роше, де Буассье, Патайля и Элло».
Повернувшись к судьям, председатель прибавил:
— «Подписал Мопа».
Затем, обращаясь к комиссару, он продолжал:
— Произошла ошибка. Это не наши фамилии. Господа Беранже, Роше и де Буассье давно уже не состоят членами Верховного суда; что касается господина Элло, то он умер.
В самом деле, Верховный суд избирался на определенный срок, члены менялись; переворот ломал конституцию, но он не знал ее. Мандат, подписанный Мопа, относился к предыдущему составу суда. Мятежникам попался старый список. Легкомыслие разбойников!
— Господин полицейский комиссар, — продолжал председатель, — вы видите, это не наши фамилии.
— Мне это безразлично, — возразил комиссар. — Относится этот мандат к вам или не относится — расходитесь, или я вас всех арестую.
И он прибавил:
— И притом немедленно.
Судьи замолчали; один из них взял со стола листок бумаги, на котором было написано вынесенное ими постановление, положил этот листок в карман, и они собрались уходить.
Комиссар показал им на дверь, где виднелись штыки, и сказал:
— Пройдите здесь.
Они прошли через коридор между двумя шеренгами солдат. Взвод республиканской гвардии проводил их до галереи Людовика Святого.
Там их оставили на свободе, и они разошлись, понурив головы.
Было около трех часов.
Пока все это происходило в библиотеке, в бывшем большом зале парламента, расположенном поблизости, как обычно, заседал и судил кассационный суд, даже не подозревая того, что делалось рядом. Надо думать, что у полиции нет запаха.
Покончим тут же с этим Верховным судом.
Вечером, в половине восьмого, семеро судей собрались у одного из них, у того самого, который унес с собой постановление, составили протокол, написали протест и, понимая, что нужно заполнить пустую строку в постановлении, по предложению Кено назначили главным прокурором Ренуара, своего коллегу по кассационному суду. Ренуар, которого немедленно известили об этом, согласился.
В последний раз они собрались снова в библиотеке кассационного суда на следующий день, 3 декабря, в одиннадцать часов утра, на час раньше времени, указанного в приведенном выше постановлении.
Ренуар присутствовал на заседании. Ему передали акт о том, что он согласился взять на себя обязанности прокурора и потребовал дальнейшего расследования дела.
Кено передал постановление суда в главную канцелярию, где его немедленно внесли в реестр внутренних постановлений кассационного суда, поскольку Верховный суд не имел своего специального реестра и, согласно издавна заведенному порядку, пользовался реестром суда кассационного. Вслед за постановлением были вписаны еще два документа, обозначенные в реестре следующим образом: 1) протокол, констатирующий вторжение полиции во время обсуждения предыдущего постановления; 2) акт о согласии Ренуара принять на себя обязанности главного прокурора. Кроме того, семь копий со всех документов, снятые самими судьями и подписанные всеми ими, были спрятаны в надежном месте, так же как и блокнот, в котором, как говорят, были записаны семь других секретных постановлений, относившихся к перевороту.
Сохранилась ли еще эта страница реестра кассационного суда? Правда ли, что префект Мопа, как утверждают, приказал принести к нему реестр и вырвал ту страницу, куда было занесено постановление? Мы не могли выяснить этого обстоятельства; теперь реестр никому не показывают, а служащие главной канцелярии немы.
Таковы факты. Резюмируем их.
Если бы этот так называемый Верховный суд имел представление о том, что значит долг, то, собравшись, он в несколько минут мог бы определить свой состав; он действовал бы быстро и решительно, он назначил бы главным прокурором какого-нибудь энергичного человека из кассационного суда, из числа судей, например Фрелона, или из адвокатов, например Мартена (от Страсбурга). На основании 68-й статьи и не дожидаясь декретов Национального собрания, Верховный суд установил бы наличие государственной измены, издал бы декрет об аресте президента и его сообщников и приказ о заключении Луи Бонапарта в тюрьму. Со своей стороны главный прокурор выдал бы мандат на арест. Все это можно было закончить к половине двенадцатого, а до этого времени никто еще не пытался разогнать Верховный суд. Приняв все эти неотложные меры, члены Верховного суда могли, открыв наглухо запертую дверь, ведущую в зал ожидания, выйти на улицу и объявить народу свое решение. Тогда они еще не встретили бы никаких препятствий. Наконец, судьи во всяком случае должны были заседать в трибунале, облаченные в мантии, в торжественной обстановке; когда явился полицейский агент с солдатами, судьи должны были потребовать от солдат, которые, может быть, повиновались бы им, чтобы они арестовали агента; в случае неповиновения солдат судьям надлежало торжественно проследовать под конвоем в тюрьму, дабы народ тут же, на улице, своими глазами видел, как грязный сапог переворота топчет мантию правосудия.
Что же сделал Верховный суд вместо всего этого?
Мы это только что видели.
— Уходите отсюда!
— Уходим.
Вероятно, Матье Моле не так бы разговаривал с Видоком.
XII Мэрия X округа
Выйдя от Дарю, депутаты сошлись на улице. Тут они, разбившись на группы, наскоро обсудили положение. Депутатов было много. Известив на дому, в виду неотложности дела, хотя бы только тех членов Собрания, которые жили на левом берегу, можно было за какой-нибудь час собрать свыше трехсот человек. Но где встретиться? У Лемарделе? Улица Ришелье была оцеплена. В зале Мартель? Это было слишком далеко. Рассчитывали на помощь 10-го легиона, которым командовал генерал Лористон, поэтому остановились на мэрии X округа. Кстати, мэрия находилась поблизости, и, чтобы добраться туда, не нужно было переходить мосты.
Построились колонной и отправились в путь.
Дарю, как мы уже говорили, жил на Лилльской улице, по соседству с Собранием. Весь отрезок Лилльской улицы между его домом и Бурбонским дворцом был занят пехотой. Последний взвод преграждал доступ к дверям его дома, но только с правой стороны, а с левой проход был свободен. Выйдя от Дарю, депутаты направились в сторону улицы Сен-Пэр и оставили солдат позади себя. В это время войскам было приказано только не пускать депутатов во дворец Собрания; поэтому тем удалось беспрепятственно построиться на улице в колонну и двинуться дальше. Если бы они повернули направо, их задержали бы, но они повернули налево. Приказ не предусматривал такой возможности, и они как бы прошли сквозь брешь в инструкции.
Когда через час об этом узнал Сент-Арно, он пришел в бешенство.
По дороге к идущим присоединялись новые депутаты, и колонна все росла. Она почти целиком состояла из депутатов большинства, так как члены правой по преимуществу жили в Сен-Жерменском предместье.
У набережной д'Орсе они встретили членов левой, которые собрались здесь по выходе из дворца Собрания и теперь совещались. Это были Эскирос, Марк Дюфрес, Виктор Эннекен, Кольфаврю и Шамьо.
Депутаты, шедшие во главе колонны, отделились от нее, подошли к этой группе и предложили:
— Пойдемте с нами.
— Куда вы идете? — спросил Марк Дюфрес.
— В мэрию Десятого округа.
— Зачем?
— Составить текст декрета об отрешении Луи Бонапарта от должности.
— А потом?
— Потом все вместе пойдем во дворец Собрания, пробьемся через охрану и со ступеней главного подъезда прочтем этот декрет солдатам.
— Хорошо, мы идем с вами, — сказал Марк Дюфрес.
Пятеро членов левой двинулись в путь на некотором расстоянии от колонны. К ним присоединились многие из их друзей, присутствовавших при этом. Констатируем здесь, не преувеличивая значения этого факта, что две фракции Собрания, представленные на неожиданно созванном совещании в мэрии X округа, шли, не сливаясь, по разным сторонам улицы. Волею случая члены большинства шли по правой стороне, члены меньшинства — по левой.
Ни у кого не было перевязей. Никаких признаков, по которым можно было бы узнать депутатов. Прохожие смотрели на них с удивлением и, очевидно, не понимали, что это за люди, безмолвной процессией идущие по пустынным улицам Сен-Жерменского предместья. Часть Парижа еще ничего не знала о перевороте.
В стратегическом отношении, как пункт обороны, мэрия X округа была выбрана неудачно. Расположенная в узкой улице Гренель-Сен-Жермен, в коротком ее отрезке между улицей Сен-Пэр и улицей Сепюлькр, поблизости от перекрестка Круа-Руж, к которому войска могли подойти отовсюду, мэрия X округа могла быть окружена со всех сторон, блокирована и обстреляна с окрестных высот; она была бы плохой защитой в случае, если бы национальное представительство подверглось нападению. Правда, выбирать крепость было невозможно, так же как в дальнейшем выбирать полководца.
Вначале все как будто предвещало удачу. Большие ворота мэрии, ведущие на четырехугольный двор, были закрыты; при приближении колонны депутатов они отворились. Два десятка национальных гвардейцев, охранявших мэрию, взяли на караул и отдали воинские почести Собранию. Депутаты вошли; на пороге их почтительно встретил один из помощников мэра.
— Дворец Собрания занят войсками, — сказали депутаты, — мы пришли заседать сюда.
Помощник мэра провел их во второй этаж и приказал открыть для них большой зал мэрии. Национальные гвардейцы кричали: «Да здравствует Национальное собрание!»
Когда депутаты вошли в зал, было приказано закрыть двери. На улице начала собираться толпа; раздавались возгласы: «Да здравствует Собрание!» Вместе с депутатами в мэрию проникли некоторые лица, непричастные к Собранию. Опасались излишнего скопления народа и у маленькой боковой двери поставили двух часовых, приказав им не пропускать никого, кроме членов Собрания, которые могли еще прибыть. Овен Траншер взялся дежурить у этой двери и опознавать вновь прибывших.
Когда депутаты явились в мэрию, их было немного меньше трехсот человек. Потом их стало больше трехсот. Было около одиннадцати часов утра. В зал, где должно было происходить заседание, поднялись не все сразу: многие, в особенности члены левой, остались во дворе вместе с национальными гвардейцами и прочими гражданами.
Говорили о том, что предпринять.
Сразу же возникло затруднение.
Старейшим по возрасту из присутствовавших был де Кератри.
Избрать ли его председателем?
Депутаты, собравшиеся в зале, выдвигали его кандидатуру.
Депутаты, оставшиеся во дворе, колебались.
Марк Дюфрес подошел к Жюлю де Ластери и Леону де Мальвилю, оставшимся во дворе вместе с депутатами левой, и сказал им:
— Что они надумали там, наверху, — избрать председателем Кератри! Имя Кератри испугает народ совершенно так же, как мое имя испугало бы буржуазию!
К ним подошел один из членов правой, де Керанфлек, и, желая поддержать это возражение, сказал:
— А потом подумайте о возрасте господина де Кератри. Это безумие. Возложить такую ответственность на человека восьмидесяти лет, и в такой грозный час!
Но Эскирос воскликнул:
— Довод неубедительный. Восемьдесят лет — это сила.
— Да, если восьмидесятилетний старик еще бодр, — сказал Кольфаврю. — Кератри уже одряхлел.
— Нет ничего величественнее маститых восьмидесятилетних старцев, — продолжал Эскирос.
— Прекрасно иметь председателем Нестора, — добавил Шамьо.
— Но не Жеронта! — вставил Виктор Эннекен.
Эти слова положили конец спору. Кандидатура Кератри была отклонена. Леон де Мальвиль и Жюль де Ластери, люди, пользовавшиеся уважением всех партий, взялись убедить депутатов правой; было решено, что вести собрание будет бюро. Налицо были пять его членов: два вице-председателя, Бенуа д'Ази и Вите, и три секретаря, Гримо, Шапо и Мулен. Из двух других вице-председателей один, генерал Бедо, был в Мазасе, второй, Дарю, — под домашним арестом. Из трех остальных секретарей двое, Пепен и Лаказ, сторонники Елисейского дворца, не явились, третий, Иван, член левой, был на собрании левой на улице Бланш, происходившем почти в то же самое время.
Между тем на крыльце мэрии появился пристав и, как в самые спокойные дни, возгласил:
— Господа депутаты, заседание начинается!
Этот пристав, преданный Собранию и скитавшийся с ним в течение целого дня, вместе со всеми был отведен на набережную Орсе.
По голосу пристава все депутаты, оставшиеся во дворе, среди которых был один из заместителей председателя, Вите, поднялись в зал, и заседание началось.
Это было последнее заседание, происходившее в установленном порядке. Левая, которая, как мы видели, бесстрашно взяла в руки законодательную власть, дополнив ее тем, чего требовали обстоятельства, — революционным долгом, — левая, без бюро, без пристава, без секретарей-редакторов, организовала заседания, которые, хотя и не были воспроизведены в точном и холодном стенографическом отчете, однако живут в наших воспоминаниях и будут запечатлены в истории.
На заседании в мэрии X округа присутствовали два стенографа Собрания, Грослен и Б. Лагаш. Им удалось составить о нем стенографический отчет. Цензура перекроила их отчет после победы переворота, и его историографы опубликовали эту искаженную версию, выдав ее за подлинный текст. Одна лишняя ложь в счет не идет. Этот стенографический рассказ должен быть присоединен к материалам, относящимся к событиям 2 декабря; он станет одним из главных документов дела, по которому будущее произведет дознание. В примечаниях к этой книге отчет приведен полностью. В кавычки поставлены те места, которые изъяла цензура Бонапарта. Тот факт, что они были изъяты, доказывает их значение и важность.
Стенография воспроизводит все, кроме жизни. Стенограф — это только ухо, он слышит, но не видит. Поэтому мы должны здесь восполнить неизбежные пробелы стенографического отчета.
Чтобы составить полное представление об этом заседании в X округе, нужно вообразить себе большой зал мэрии в форме длинного прямоугольника, справа освещенный четырьмя или пятью окнами, выходящими во двор, а слева, вдоль стены, уставленный несколькими рядами принесенных второпях скамей, возле которых в беспорядке толпились триста депутатов. Никто не сидел, в передних рядах стояли на полу, в задних — на скамьях. Кое-где были поставлены маленькие столики. Посреди зала оставалось свободное пространство, по которому ходили взад и вперед. В глубине, против входа — длинный стол со скамьями, занимавший всю ширину стены: за этим столом заседало бюро. Заседало — условное выражение: бюро не заседало, члены его стояли, как и все присутствовавшие. Секретари, Шапо, Мулен и Гримо, писали стоя. Иногда оба вице-председателя вставали на скамьи, чтобы их лучше было видно из всех концов зала. Стол был покрыт старым зеленым сукном, запачканным чернилами; на нем стояли три или четыре чернильницы и были разбросаны листы бумаги. Здесь писали декреты по мере того, как они издавались. Тут же их переписывали; несколько депутатов взяли на себя обязанности секретарей и помогали секретарям официальным.
Большой зал выходил прямо на площадку довольно узкой лестницы. Как мы уже сказали, он помещался во втором этаже; чтобы попасть туда, нужно было подняться по этой лестнице.
Напомним, что почти все присутствовавшие в зале депутаты принадлежали к правой.
Первые минуты были трагичны. Беррье держался прекрасно. Как все импровизаторы, не имеющие стиля, Беррье оставит после себя только имя, и то очень спорное, — Беррье скорее искусный адвокат, чем убежденный оратор. В тот день Беррье был краток, логичен и серьезен. Началось с общего крика: «Что делать?» — «Написать декларацию», — сказал де Фаллу. «Выразить протест», — предложил де Флавиньи. «Издать декрет», — заявил Беррье.
И в самом деле, декларация была бы дуновением ветра; протест — только пустым звуком; декрет был бы действием. Со всех сторон закричали: «Какой декрет?» — «Об отрешении от должности президента», — ответил Беррье. Отрешение от должности — это был крайний предел энергии правой. За отрешением могло последовать только объявление вне закона; правая могла пойти на отрешение; на объявление вне закона могла пойти только левая. И в самом деле, именно левая объявила Луи Бонапарта вне закона. Она это сделала еще на первом своем собрании на улице Бланш. Мы увидим это в дальнейшем. Отрешение — это конец законности; объявление вне закона — начало революции. Возобновление революции — логическое следствие государственных переворотов. Когда проголосовали за отрешение, человек, впоследствии ставший предателем, Кантен Бошар, крикнул: «Подпишем все!» Все подписали. Вошел Одилон Барро и подписал, вошел Антони Туре и тоже подписал. Вдруг Пискатори сообщил, что мэр запрещает пропускать в зал вновь прибывших депутатов. «Прикажем ему это декретом», — сказал Беррье. Тотчас проголосовали соответствующий декрет. Благодаря этому декрету в зал были допущены Фавро и Моне. Они пришли прямо из дворца Законодательного собрания и рассказали о подлости Дюпена. Даже Даирель, один из главарей правой, был возмущен и говорил: «Нас кололи штыками!» Раздались возгласы: «Вызовем Десятый легион! Пусть бьют сбор! Лористон колеблется. Прикажем ему защищать Собрание». — «Прикажем ему это декретом», — предложил Беррье. Декрет был издан, однако это не помешало Лористону отказаться. Другой декрет, предложенный опять-таки Беррье, объявлял государственным преступником всякого, кто посягнет на парламентскую неприкосновенность, и приказывал немедленно освободить противозаконно арестованных депутатов. Все это было принято сразу, без обсуждения, в каком-то грандиозном и единодушном порыве, среди целой бури яростных выкриков и реплик. Время от времени Беррье удавалось восстановить тишину. Затем снова раздавались гневные голоса: «Они не посмеют явиться сюда! Мы здесь хозяева! Мы у себя! Напасть на нас здесь невозможно. Эти негодяи не осмелятся!» Если бы в зале не было так шумно, депутаты могли бы слышать через открытые окна, совсем рядом, как щелкали затворы ружей.
То был батальон Венсенских стрелков, только что безмолвно вошедший в сад мэрии; в ожидании приказа солдаты заряжали ружья.
Мало-помалу заседание, сначала беспорядочное и бурное, пошло по обычным правилам. Гул превратился в жужжание. Голос пристава, кричавшего: «Тише, господа!», наконец преодолел шум. Каждую минуту входили новые депутаты и спешили к столу, чтобы подписать декрет об отрешении. Вокруг бюро образовалась толпа желающих подписать декрет, поэтому пустили по рукам с десяток отдельных листов, на которых депутаты, находившиеся в большом зале и в двух соседних комнатах, ставили свои подписи.
Декрет об отрешении первым подписал Дюфор, последним — Бетен де Ланкастель. Один из двух председателей, Бенуа д'Ази, говорил с трибуны, другой, Вите, бледный, но спокойный и твердый, раздавал инструкции и приказы. Бенуа д'Ази держался прилично, но некоторая неуверенность речи выдавала его внутреннее смятение. В этот критический момент разногласия даже среди членов правой не прекратились. Один из представителей легитимистов сказал вполголоса о вице-председателе: «Этот длинный Вите похож на повапленный гроб». Вите был орлеанистом.
Некоторые легитимисты из простаков сильно трусили, зная, что им приходится иметь дело с авантюристом, что Луи Бонапарт способен на все, что личность эта темная, так же как приближающиеся сумерки. Это было весьма комично. Маркиз де ***, который в правой оппозиции играл роль мухи, утверждающей, что она везет на себе весь воз, бегал взад и вперед, разглагольствовал, кричал, ораторствовал, требовал, заявлял и дрожал. Другой, А. Н., потный, красный, запыхавшийся, бессмысленно суетился: «Где охрана? Сколько там солдат? Кто командует? Офицера! Пошлите мне офицера! Да здравствует республика! Национальные гвардейцы, держитесь!» «Да здравствует республика!» Это кричала вся правая. «Вы, значит, хотите погубить республику!» — говорил им Эскирос. Некоторые были мрачны; Бурбуссон хранил молчание с видом побежденного государственного деятеля. Другой, виконт де ***, родственник герцога д'Эскара, был так напуган, что каждую минуту ходил в укромный уголок двора. Среди толпы, наполнявшей двор, был один парижский гамен, дитя Афин, впоследствии ставший смелым и очаровательным поэтом, Альбер Глатиньи. Альбер Глатиньи крикнул перепуганному виконту: «Вот тебе раз! Уж не думаете ли вы, что государственный переворот можно потушить тем же способом, каким Гулливер тушил пожары?»
О смех, как ты мрачен, когда звучишь посреди трагедии!
Орлеанисты были спокойнее и держались более достойно. Это объяснялось тем, что им угрожала большая опасность.
Паскаль Дюпра указал, что в начале декрета нужно вписать пропущенные там слова: «Французская республика».
Время от времени, словно забыв о том, что произошло, некоторые депутаты весьма некстати произносили это странно звучавшее имя: «Дюпен»; тогда раздавались свистки и взрывы смеха. «Не произносите больше имени этого подлеца!» — крикнул Антони Туре.
Со всех сторон сыпались предложения; стоял сплошной шум, временами прерываемый глубоким и торжественным молчанием. От группы к группе передавались тревожные слова «Мы в ловушке. Мы пойманы здесь, как в мышеловке!» Затем после каждого предложения раздавались голоса: «Хорошо! Правильно! Решено!» Депутаты вполголоса уславливались встретиться на улице Шоссе д'Антен, № 19, на случай, если Собрание будет изгнано из мэрии. Биксио взял декрет об отрешении, чтобы отпечатать его. Эскирос, Марк Дюфрес, Паскаль Дюпра, Ригаль, Лербет, Шамьо, Латрад, Кольфаврю, Антони Туре то и дело подсказывали смелые решения. Дюфор, полный решимости и негодования, резко протестовал. Одилон Барро, неподвижно сидя в углу с наивно-удивленным видом, хранил молчание.
Пасси и де Токвиль, окруженные слушателями, рассказывали, как, будучи министрами, они все время опасались переворота и ясно видели, что в голове у Луи Бонапарта засела эта навязчивая мысль. Де Токвиль прибавил: «Каждый вечер я говорил себе: я засыпаю министром, как бы мне не проснуться арестантом!»
Некоторые из тех, кто называл себя «сторонниками порядка», подписывая декрет об отрешении, ворчали: «Дождемся мы красной республики!» Казалось, они одинаково боялись и поражения и победы. Ватимениль пожимал руки членам левой и благодарил их за то, что они присутствуют на собрании. «Вы создаете нам популярность», — говорил он. Антони Туре отвечал ему: «Сегодня я не знаю ни правой, ни левой, я вижу здесь только Собрание».
После речи каждого депутата младший из двух стенографов передавал выступавшему исписанные листки с просьбой сейчас же просмотреть их и говорил: «У нас не будет времени перечитывать». Некоторые депутаты, выйдя на улицу, показывали толпе копии декрета об отрешении, подписанные членами бюро. Какой-то человек из народа взял одну копию и крикнул: «Граждане! Чернила еще не просохли! Да здравствует республика!»
Помощник мэра стоял у дверей зала, лестница была запружена национальными гвардейцами и посторонней публикой. Многие из них вошли в зал, в том числе бывший член Учредительного собрания Беле, человек редкого мужества. Их хотели вывести, но они воспротивились, заявив: «Дело касается и нас, вы — Собрание, но мы — народ». «Они правы», — сказал Беррье.
Де Фаллу в сопровождении де Керанфлека подошел к члену Учредительного собрания Беле и, прислонясь рядом с ним к печке, сказал: «Здравствуйте, коллега». Затем он напомнил ему, что оба они были членами комиссии по национальным мастерским и вместе посетили рабочих в парке Монсо: чувствуя, что почва колеблется у них под ногами, правые старались сблизиться с республиканцами. Республика — это завтрашний день.
Каждый говорил со своего места, один вставал на скамью, другой на стул, некоторые становились на столы. Сразу проявились все противоречия. В одном углу бывшие вожаки «партии порядка» говорили, что опасаются возможного торжества «красных». В другом углу члены правой окружили представителей левой и спрашивали их: «Неужели предместья не поднимутся?»
Долг историка — повествовать. Он передает все — как хорошее, так и дурное. Несмотря на все те подробности, о которых мы не могли умолчать, за исключением лишь отдельных указанных нами случаев, поведение членов правой, составлявших громадное большинство этого Собрания, было во многих отношениях достойным и заслуживавшим уважения. Некоторые, как мы говорили, проявили нарочитую решительность и энергию, словно хотели соперничать с членами левой.
В дальнейшем ходе нашего рассказа нам не раз придется отмечать, что некоторые члены правой выражали желание обратиться к народу; но, — скажем об этом сразу же, не следует заблуждаться, — эти монархисты, говорившие о народном восстании и возлагавшие надежды на предместья, составляли меньшинство среди большинства, меньшинство почти незаметное. Антони Туре предложил тем, кто возглавлял их, пойти по кварталам, населенным рабочим людом, с декретом об отрешении в руках. Припертые к стене, они отказались. Они заявили, что согласны стать под защиту организованной силы, но не народа. Приходится констатировать странную вещь: из-за их политической близорукости всякое вооруженное сопротивление народа, даже во имя закона, представлялось им бунтом. Из всего того, что напоминало революцию, они могли стерпеть самое большее легион национальных гвардейцев с барабанщиками во главе. Мысль о баррикаде страшила их; право, одетое в блузу, не было для них правом, истина, вооруженная пикой, не была для них истиной, закон, выворачивающий булыжники из мостовой, казался им эвменидой. Впрочем, если вспомнить, кем они были и что представляли собой как политические деятели, нужно признать, что эти люди были правы. Зачем им был народ? И зачем они были народу? Разве сумели бы они поднять массы? Разве можно представить себе Фаллу трибуном, раздувающим пламя восстания в Сент-Антуанском предместье?
Увы! Посреди всех этих темных проблем, при роковом стечении обстоятельств, так гнусно и коварно использованных государственным переворотом, в этом чудовищном недоразумении, к которому сводилась вся ситуация, сам Дантон не в силах был бы зажечь в сердце народа искру революции!
Переворот с колпаком каторжника на голове бесстыдно ворвался в это Собрание. Здесь, как, впрочем, и всюду, он держал себя с наглой самоуверенностью. Большинство Собрания насчитывало триста народных депутатов: чтобы прогнать их, Луи Бонапарт послал одного сержанта. Собрание оказало сопротивление сержанту. Тогда он послал офицера, временно командовавшего 6-м батальоном Венсенских стрелков. Этот офицер, молодой, белокурый, заносчивый, издеваясь и угрожая, показывал пальцем на лестницу, запруженную штыками, и насмехался над Собранием. «Что это за блондинчик?» — спросил один из членов правой. Стоявший рядом национальный гвардеец сказал: «Вышвырните его в окно!» — «Дайте ему пинка в зад!» — прибавил какой-то человек из народа, найдя тем самым перед лицом переворота Второго декабря такое же грубое и меткое слово, какое Камброн нашел перед лицом Ватерлоо.
Это Собрание, как бы оно ни погрешило против принципов революции, — и за эти грехи была вправе упрекнуть его только демократия, — это Собрание, говорю я, было все же Национальным собранием, иначе говоря, олицетворением республики, воплощением всеобщего голосования, живым и очевидным величием нации. Луи Бонапарт предательски убил это Собрание и, более того, оскорбил его. Пощечина хуже удара кинжалом.
Окрестные сады, занятые войсками, были усеяны разбитыми бутылками. Солдат спаивали. Они беспрекословно подчинялись эполетам и, по выражению очевидца, как бы «одурели». Депутаты окликали их, говоря: «Но ведь это преступление!» Они отвечали: «Не можем знать».
Слышали, как один солдат спросил другого: «Куда ты дел те десять франков, что получил сегодня утром?»
Сержанты «подавали пример» офицерам. За исключением командира, который, вероятно, рассчитывал на орден, офицеры держались почтительно, сержанты же были грубы.
Какой-то лейтенант, по-видимому, колебался: сержант крикнул ему: «Ведь вы не один здесь командуете. Ну, живей!»
Де Ватимениль спросил солдата: «Неужели вы посмеете арестовать нас, депутатов народа?» — «Еще как!»— ответил тот.
Узнав из разговоров самих депутатов, что многие из них ничего не ели с утра, солдаты иногда предлагали им хлеб из своего пайка. Некоторые депутаты брали этот хлеб. Де Токвиль, больной и очень бледный, стоял у окна, прислонившись к стене; солдат дал ему кусок хлеба, который тот разделил с Шамболем.
Явились два полицейских комиссара, одетые по-парадному — в черных фраках, с поясом-перевязью и в шляпах, обшитых черной тесьмой. Один из них был стар, другой молод. Первого звали Лемуан Ташра, а не Башрель, как было напечатано по ошибке; второго — Барле. Нужно отметить эти две фамилии. Все обратили внимание на неслыханную наглость Барле. У него было все: и дерзкие слова, и вызывающие жесты, и иронический тон. Требуя от Собрания, чтобы оно разошлось, он с невыразимо наглым видом добавил: «законно это или незаконно». На скамьях шептали: «Кто этот холуй?» Второй по сравнению с ним казался сдержанным и пассивным. Эмиль Пеан крикнул: «Старый делает свое дело, молодой делает карьеру».
До появления этих Ташра и Барле, до того, как ружейные приклады загремели по плитам лестницы, Собрание еще думало о сопротивлении. О каком сопротивлении? Мы только что говорили об этом. Большинство признавало только сопротивление при помощи военной силы, по всем правилам, в мундирах и в эполетах. Издать декрет о таком сопротивлении было легко, организовать сопротивление — трудно. Генералы, на которых большинство Палаты привыкло рассчитывать, были арестованы, и теперь оно могло надеяться только на двоих: Удино и Лористона. Генерал маркиз де Лористон, бывший пэр Франции, командир 10-го легиона и вместе с тем депутат, отделял свой долг командира от своих обязанностей депутата. Когда некоторые его друзья, члены правой, потребовали от него, чтобы он приказал бить сбор и вызвал 10-й легион, он ответил: «Как народный депутат я обязан предъявить обвинение исполнительной власти, но как полковник я должен ей подчиниться». Кажется, он упрямо держался этого странного рассуждения, и разубедить его было невозможно.
— Как он глуп! — говорил Пискатори.
— Как он умен! — говорил де Фаллу.
Лицо первого офицера Национальной гвардии, который явился в мундире, показалось знакомым двум членам правой. Они воскликнули: «Это господин де Перигор!» Они ошибались; это был Гильбо, командир 3-го батальона 10-го легиона. Он заявил, что готов выступить по первому приказу своего начальника, генерала Лористона. Генерал Лористон спустился во двор, но через минуту вернулся и сказал: «Моим приказаниям не подчиняются. Я только что подал в отставку». Впрочем, имя Лористона было мало знакомо солдатам. Армия лучше знала Удино. Но с какой стороны?
В тот момент, когда было произнесено имя Удино, по Собранию, почти исключительно состоявшему из членов правой, пробежал трепет. И действительно, в эту критическую минуту при роковом имени Удино всех охватило тревожное раздумье.
Что такое в сущности был переворот?
Это была «римская экспедиция внутри страны»; против кого она была направлена? Против тех, кто совершил римскую экспедицию за пределами страны. У Национального собрания Франции, распущенного силой, в этот решительный час не было другого защитника, кроме одного-единственного генерала, — и кого же? Того, кто именем Национального собрания Франции силой разогнал Национальное собрание Рима. Мог ли спасти республику Удино, убийца другой республики? Его собственные солдаты могли бы ответить ему: «Что вы от нас хотите? Мы делаем в Париже то же самое, что мы делали в Риме!» Как поучительна история этого предательства! Первую его главу Законодательное собрание Франции написало кровью Учредительного собрания Рима; вторую главу провидение написало кровью Законодательного собрания Франции; перо держал Луи Бонапарт.
В 1849 году Луи Бонапарт убил верховную власть народа в лице ее римских представителей; в 1851-м он убил ее в лице представителей французских. Это было логично и справедливо, хотя и гнусно. Законодательное собрание одновременно несло бремя двух преступлений, оно было соучастником первого и жертвой второго. Все члены большинства чувствовали это и склоняли головы. Или, вернее, это было одно и то же преступление, преступление Второго июля 1849 года, все еще явное, все еще живое; оно только переменило имя и называлось Второе декабря, — теперь оно убивало то самое Собрание, которое его породило. Почти все преступления — отцеубийцы. Рано или поздно они оборачиваются против тех, кто их совершил, и наносят им смертельный удар.
Теперь, размышляя обо всем этом, де Фаллу, наверно, искал глазами де Монталамбера. Де Монталамбер был в Елисейском дворце.
Когда Тамизье встал и произнес эти страшные слова: «Римский вопрос!», де Дампьер вне себя закричал ему:
— Замолчите! Вы губите нас!
Их губил не Тамизье, а Удино.
Де Дампьер не сознавал, что его крик «Замолчите!» был обращен к истории.
Притом, даже если оставить в стороне это зловещее воспоминание, которое в такой момент могло подавить самого одаренного военачальника, генерал Удино, впрочем, превосходный командир и достойный сын своего отважного отца, не обладал ни одним из тех свойств, которые в решающую минуту революции могут воодушевить солдат и поднять народ. Для того чтобы в этот момент повернуть назад стотысячную армию, чтобы загнать ядра обратно в жерла пушек, чтобы отыскать под потоками вина, которым спаивали преторианцев, подлинную душу французского солдата, отравленную и полумертвую, чтобы вырвать знамя из когтей переворота и вернуть его закону, чтобы окружить Собрание громом и молниями, нужен был такой человек, каких уже нет; нужна была твердая рука, спокойная речь, холодный и проницательный взгляд Дезе, этого французского Фокиона; нужны были мощные плечи, высокий рост, громовой голос, клеймящее, дерзкое, циничное, веселое и возвышенное красноречие Клебера, этого военного Мирабо; нужен был Дезе, с его ликом праведника, или Клебер, с его физиономией льва! Генерал Удино, маленький, неловкий, застенчивый, с нерешительным и тусклым взглядом, с красными пятнами на скулах, с узким лбом, седеющими прилизанными волосами, с вежливым голосом и смиренной улыбкой, скованный в движениях, лишенный дара слова и энергии, храбрый перед лицом неприятеля, робкий перед первым встречным, — он, конечно, был похож на солдата, но смахивал и на священника; смотришь на него и не знаешь, о чем думать: о шпаге или о церковной свече; глаза его как будто говорили: «Да будет воля твоя!»
У него были самые лучшие намерения, но что он мог сделать? Один, без всякого престижа, без настоящей славы, без личного авторитета, да еще с римской экспедицией за плечами! Он сам чувствовал все это и был как бы парализован. Когда его назначили командующим Национальной гвардией, он встал на стул и поблагодарил Собрание, конечно с мужеством в сердце, но нерешительными словами. Когда же белокурый офицерик осмелился взглянуть на него в упор и нагло заговорить с ним, он, генерал Верховного собрания, державший в руках меч народа, пробормотал лишь какие-то несуразные слова: «Заявляю вам, что только принуждение, насилие может заставить нас повиноваться приказу, запрещающему нам продолжать заседание». Он, кому надлежало повелевать, говорил о повиновении. Его опоясали перевязью, но она, казалось, мешала ему. Он держал шляпу и трость в руке и с приветливым видом склонял голову то к правому, то к левому плечу. Один из депутатов легитимистов шепнул своему соседу: «Точь-в-точь деревенский староста, произносящий речь на свадьбе». А сосед, тоже легитимист, отвечал: «Он напоминает мне герцога Ангулемского».
Другое дело Тамизье! Тамизье, прямодушный, вдумчивый, преданный своим убеждениям, был простым артиллерийским капитаном, но казался генералом. У Тамизье было серьезное и доброе лицо, сильный ум, бесстрашное сердце, — солдат-мыслитель, который, будь он более известен, оказал бы неоценимые услуги. Кто знает, что произошло бы, если бы провидение наделило Удино душой Тамизье или дало бы Тамизье эполеты Удино.
Во время этой кровавой декабрьской авантюры нам не хватало генерала, умеющего с достоинством носить свой мундир. Можно написать целую книгу о роли галунов в судьбах народов.
Тамизье, назначенный начальником главного штаба за несколько минут до того, как войска заняли зал, отдал себя в распоряжение Собрания. Он вскочил на стол. Он говорил взволнованно и искренно. Даже самые растерянные обрели уверенность при виде этого скромного, честного, преданного человека. Вдруг он выпрямился и, глядя в упор на все это роялистское большинство, воскликнул:
— Да, я принимаю мандат, который вы мне вручаете, я принимаю мандат на защиту республики — только республики, понимаете вы или нет?
Ему ответили единодушным криком:
— Да здравствует республика!
— Смотрите-ка, — сказал Беле, — вы опять заговорили полным голосом, как второго мая.
— Да здравствует республика! Только республика! — повторяли члены правой. Удино кричал громче других.
Все бросились к Тамизье, все пожимали ему руку. Опасность! С какой непреодолимой силой ты обращаешь людей в новую веру! В час великого испытания атеист взывает к богу и роялист к республике. Люди хватаются за то, что раньше отвергали.
Официальные историографы переворота рассказывают, что еще в самом начале заседания Собрание послало двух депутатов в министерство внутренних дел «для переговоров». Достоверно одно: у этих двух депутатов не было никаких официальных полномочий. Они явились не от имени Собрания, а от своего собственного имени. Они предложили себя в качестве посредников, чтобы привести начавшуюся катастрофу к мирному концу. С несколько наивной честностью они потребовали от Морни, чтобы он дал арестовать себя и подчинился закону, объявив ему, что в случае отказа Собрание исполнит свой долг и призовет народ к защите конституции и республики. Морни ответил им улыбкой, приправленной следующими простыми словами: «Если вы будете призывать к оружию и если на баррикадах я увижу депутатов, я прикажу расстрелять их всех до единого».
Собрание X округа уступило силе. Председатель Вите потребовал, чтобы его арестовали. Агент, схвативший его, был бледен и дрожал. В некоторых случаях наложить руку на человека значит наложить ее на право, и те, кто осмеливается это сделать, дрожат, как будто им передается трепет оскорбленного закона.
Из мэрии выходили долго. Солдаты стояли в две шеренги, а полицейские комиссары, делая вид, будто оттесняют прохожих на улицу, на самом деле посылали за приказаниями в министерство внутренних дел. Так прошло около получаса. В это время некоторые депутаты, сидя за столом в большом зале, писали своим семьям, женам, друзьям. Вырывали друг у друга последние листки бумаги, не хватало перьев; де Люин написал жене записку карандашом. Облаток не было, приходилось посылать письма незапечатанными; некоторые из солдат предложили снести их на почту. Сын Шамболя, сопровождавший отца, взялся передать письма, адресованные госпожам де Люин, де Ластери и Дювержье де Оран.
Посягательством на закон руководил генерал Ф., тот самый, который отказался предоставить свой батальон в распоряжение председателя Учредительного собрания Мараста, за что и был произведен из полковников в генералы. Он стоял посреди двора мэрии, полупьяный, весь багровый; передавали, что он только что позавтракал в Елисейском дворце. Один из членов Собрания (к сожалению, мы не знаем его имени) окунул кончик сапога в сточную канаву и вытер его о золотой галун форменных брюк генерала Ф. Депутат Лербет подошел к генералу Ф. и сказал ему «Генерал, вы подлец». Затем, повернувшись к своим товарищам, он крикнул: «Слышите, я говорю этому генералу, что он подлец». Генерал Ф. и бровью не повел. Он принял как должное и грязь, замаравшую его мундир, и оскорбление, брошенное ему в лицо.
Собрание не призвало народ к оружию: мы только что объяснили, что на это у него не хватило сил; однако в последнюю минуту один из членов левой, Латрад, сделал еще одну попытку: он отвел Беррье в сторону и оказал ему:
— Здесь сопротивляться бесполезно; теперь наша задача — не дать себя арестовать. Рассеемся по улицам и будем кричать: «К оружию!» — Беррье переговорил об этом с заместителем председателя Бенуа д'Ази, — тот отказался.
Помощник мэра, сняв шляпу, проводил членов Собрания до самых дверей мэрии; когда они спустились во двор и проходили между двумя шеренгами солдат, национальные гвардейцы, стоявшие на посту, взяли на караул и крикнули: «Да здравствует Собрание! Да здравствуют депутаты народа!» Венсенским стрелкам приказали немедленно разоружить национальных гвардейцев; при этом им пришлось применить силу.
Против мэрии был кабачок. Когда большие ворота мэрии распахнулись и вслед за генералом Ф., ехавшим верхом на лошади, на улице показались члены Собрания во главе с заместителем председателя Вите, которого полицейский тащил за галстук, несколько человек в белых блузах, теснившиеся у окон кабачка, хлопали в ладоши и кричали: «Правильно! Долой двадцатипятифранковых!»
Двинулись в путь.
Венсенские стрелки, шедшие в два ряда по обе стороны колонны, поглядывали на них с ненавистью. Генерал Удино говорил вполголоса: «Эти невзрачные пехотинцы просто страшны, во время осады Рима они бросались на приступ как бешеные; эти мальчишки — настоящие черти». Офицеры избегали смотреть на депутатов. При выходе из мэрии Куален, поравнявшись с одним из офицеров, воскликнул: «Какой позор для мундира!» Офицер ответил гневными словами и вызвал Куалена на дуэль. Через несколько минут он на ходу приблизился к Куалену и сказал ему: «Послушайте, сударь, я подумал и теперь вижу, что я неправ».
Шли медленно. В нескольких шагах от мэрии навстречу процессии попался Шегаре. Депутаты закричали ему: «Идите сюда». Он развел руками и пожал плечами, словно говоря: «Да зачем же! Раз меня не взяли!..» — и хотел было пройти мимо. Однако ему стало стыдно, и он все-таки вошел в ряды. Его имя значится в списке, составленном на перекличке в казарме.
Потом встретили де Лесперю; ему закричали: «Лесперю! Лесперю!» — «Я с вами» — ответил он. Солдаты отталкивали его. Он схватился за приклады и прорвался в колонну.
Когда процессия переходила какую-то улицу, в одном доме вдруг открылось окно. В нем показалась женщина с ребенком, ребенок узнал среди арестованных своего отца и стал звать его, протягивая к нему ручонки; мать, стоя позади ребенка, плакала.
Сначала хотели вести все Собрание прямо в тюрьму Мазас; но министерство внутренних дел распорядилось иначе. Такой длинный переход пешком, среди бела дня, по людным улицам, сочли опасным: так можно было вызвать возмущение. Поблизости были казармы Орсе. Их сделали временной тюрьмой.
Один из командиров нагло показывал шпагой прохожим на арестованных депутатов и громко говорил: «Это белые! Приказано обращаться с ними поделикатнее. Теперь очередь за господами красными депутатами. Пусть они поберегутся!»
Повсюду, где проходило шествие, с тротуаров, из дверей, из окон жители кричали: «Да здравствует Национальное собрание!» Заметив в колонне депутатов левой, люди кричали: «Да здравствует республика! Да здравствует конституция! Да здравствует закон!» Магазины были открыты, по улицам ходил народ. Некоторые говорили: «Подождем до вечера, это еще не конец».
Какой-то офицер главного штаба в парадной форме, верхом на лошади, поравнявшись с процессией, заметил де Ватимениля и подъехал, чтобы поздороваться с ним. На улице Бон, когда колонна проходила перед редакцией «Демократи пасифик», кучка людей закричала: «Долой изменника из Елисейского дворца!»
На набережной Орсе крики стали еще громче. Там толпился народ. По обеим сторонам набережной солдаты линейных полков, построенные в две шеренги, вплотную друг к другу, сдерживали зрителей. В свободном пространстве посредине, под конвоем, медленно двигались члены Собрания; их охраняли справа и слева по две цепи солдат: одна застыла на месте, угрожая народу, другая двигалась, угрожая его депутатам.
Подробности великого злодеяния, о котором должна рассказать эта книга, наводят на множество серьезных размышлений. Перед лицом переворота, совершенного Луи Бонапартом, всякий честный человек услышит в глубине своей совести только гул возмущенных мыслей. Тот, кто прочтет до конца нашу книгу, конечно, не заподозрит нас в намерении смягчить что-либо в описании этого чудовищного дела. Но историк всегда должен вскрывать глубокую логику событий, а потому необходимо напомнить и повторять постоянно, даже рискуя надоесть читателю, что, за исключением лишь нескольких названных нами членов левой, триста проходивших перед толпой депутатов составляли старое роялистское и реакционное большинство. Если бы можно было забыть о том, что, несмотря на их заблуждения, несмотря на их ошибки и — мы настаиваем на этом — несмотря на их иллюзии, эти люди, подвергшиеся такому насилию, были представителями цивилизованнейшей нации, верховными законодателями, народными сенаторами, неприкосновенными и священными носителями великих демократических прав; что в каждом из этих избранников народного голосования было нечто от души самой Франции, как в каждом человеке есть нечто от духа божия, — если бы можно было на мгновение забыть обо всем этом, зрелище, которое представлялось взорам в это декабрьское утро, показалось бы скорее смешным, чем достойным сожаления: после того как «партия порядка» издала столько притесняющих народ законов, приняла столько экстренных мер, столько рал голосовала за цензуру и за осадное положение, так часто отказывала в амнистии, выступала против равенства, справедливости, совести, обманывала доверие народа, оказывала услуги полиции, улыбалась произволу, — после всего этого она сама, в это декабрьское утро, в полном своем составе оказалась под арестом и шествовала в участок под полицейским конвоем.
В тот день, или, вернее, в ту ночь, когда наступил момент спасти общество, переворот внезапно схватил демагогов, и оказалось, что он держит за шиворот — кого же? — роялистов.
Дошли до казармы. Это была бывшая казарма лейб-гвардии; на фронтоне ее сохранился лепной щит со следами трех королевских лилий, сбитых в 1830 году. Остановились. Ворота распахнулись. «А, — воскликнул де Бройль, — вот куда мы попали!»
В то время на стене казармы, рядом с воротами, был наклеен плакат, на котором было напечатано крупными буквами: ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ.
Это была реклама брошюры, опубликованной за два или три дня до переворота, без имени автора, и требовавшей восстановления империи. Ее приписывали президенту республики.
Депутаты вошли, и ворота закрылись за ними. Кричи смолкли; толпа, которая тоже иногда начинает размышлять, еще долго не расходилась: молчаливая, неподвижная, она поглядывала то на закрытые ворота казармы, то на видневшийся в двухстах шагах, полускрытый сумеречной дымкой декабрьского дня, безмолвный фронтон дворца Собрания.
Оба полицейских комиссара пошли докладывать де Морни о своем «успехе». Де Морни сказал: «Значит, борьба началась! Прекрасно. Это последние депутаты, которых мы сажаем в тюрьму».
XIII Луи Бонапарт в профиль
Заметим, что все эти люди восприняли происшедшее событие далеко не одинаково.
Скажем прямо, фракция крайних легитимистов, отстаивавшая белое знамя, не так уж возмущалась переворотом. У многих на лицах можно было прочесть то, что сказал де Фаллу: «Я так доволен, что с трудом делаю вид, будто покоряюсь силе». Безупречные опускали глаза — это к лицу безупречности; кто был посмелее, те поднимали голову. Бесстрастное негодование этих людей допускало известную долю восхищения. Как искусно провели этих генералов! Растерзать родину, конечно, это ужасно, но ловкость рук, с которой дело было сделано, вызывала восторг. Один из главарей правой сказал со вздохом зависти и сожаления: «Среди нас нет такого таланта!» — «Теперь наступит порядок», — пробормотал другой и добавил: «Увы!» Третий воскликнул: «Страшное преступление, и великолепно выполненное». Иные колебались, не зная, что предпочесть — законность, неотделимую от Собрания, или гнусность, присущую Бонапарту: честные души, балансировавшие между долгом и подлостью. Нашлись такие, как Томин Демазюр, который, дойдя до дверей большого зала мэрии, остановился, заглянул в зал, осмотрелся вокруг — и не вошел. Нельзя умолчать о том, что многие роялисты чистейшей воды, и в особенности де Ватимениль, были искренно возмущены вопиющим нарушением законности.
Как бы то ни было, партия легитимистов в целом спокойно отнеслась к перевороту. Ей нечего было бояться. И в самом деле, почему бы роялистам бояться Луи Бонапарта!
Равнодушных бояться нечего. Луи Бонапарт был из числа равнодушных. Он знал только одно — свою цель. Он хотел расчистить к ней путь, остальное его не интересовало. В этом заключалась вся его политика. Раздавить республиканцев, пренебречь роялистами.
Луи Бонапарт — человек без страстей. Однажды пишущий эти строки, беседуя о Луи Бонапарте с бывшим вестфальским королем, заметил: «Голландская кровь охлаждает в нем корсиканскую». — «Если в нем есть корсиканская кровь», — ответил Жером.
Луи Бонапарт всю свою жизнь только и делал, что подстерегал случай; пройдоха, желавший провести самого господа бога. Ему была свойственна холодная сосредоточенность игрока, который собирается сплутовать. Плутовство допускает дерзость, но исключает гнев. Находясь в заключении в Гаме, он читал только одну книгу: «Государь». У него не было семьи, — он мог считать себя и Бонапартом и Верхюлем; у него не было родины, — он мог выбирать между Францией и Голландией.
Этот Наполеон не питал злобы к Англии из-за острова св. Елены. Он восхищался Англией. Сердиться? К чему? Для него на земле существовала одна только выгода. Он все прощал, потому что из всего извлекал пользу; он забывал обиды, потому что всегда руководствовался только расчетом. Какое ему было дело до его дяди? Он не служил ему, он поставил его себе на службу. В своем убожестве он мнил повторить Аустерлиц. Из орла он сделал чучело.
Помнить зло — расход непроизводительный Луи Бонапарт помнил только то, что могло быть ему полезно. Он улыбался англичанам, позабыв о Гудсоне Лоу, он улыбался роялистам, позабыв о маркизе де Моншеню,
Этот политический деятель был человек серьезный, хорошо воспитанный, никому не открывавший свои преступные замыслы. Никогда не увлекаясь, он поступал лишь так, как было принято, не любил резкостей и грубых слов; скромный, корректный, образованный, он мог поговорить о необходимости резни и учинил кровавую бойню лишь потому, что того требовали обстоятельства.
Все это, повторяем, без страсти и без гнева.
Луи Бонапарт был одним из тех, кто испытал на себе леденящее влияние Макьявелли.
И этому-то человеку удалось обесславить имя Наполеона, взгромоздив на брюмер свой декабрь.
XIV Казармы Орсе
Было около половины четвертого. Арестованные депутаты вошли в просторный четырехугольный двор казармы, со всех сторон окруженный высокими стенами. По таким мрачным стенам, прорезанным тремя рядами окон, сразу можно узнать казармы, духовные семинарии и тюрьмы.
Чтобы попасть во двор, нужно миновать сводчатую арку, проходящую сквозь всю ширину переднего корпуса. Эта арка, под которой находится кордегардия, закрывается со стороны набережной большими сплошными двустворчатыми, а со стороны двора железными решетчатыми воротами. За депутатами закрыли и те и другие. Их «выпустили на свободу» в запертом на засовы и охраняемом стражей дворе.
— Пусть себе побродят, — сказал офицер.
Воздух был холодный, небо серое. Несколько солдат в куртках и фуражках, занятые в нарядах, ходили вокруг арестованных.
Сначала Гримо, потом Антони Туре устроили перекличку. Все собрались вокруг них. Лербет, смеясь, заметил: «Это как раз под стать казармам. Мы словно сержанты, явившиеся с рапортом». Назвали одну за другой все семьсот пятьдесят фамилий депутатов. При каждой фамилии отвечали: «здесь» или «нет», и секретарь карандашом отмечал тех, кто был налицо. Когда дошли до фамилии Морни, кто-то отозвался: «В Клиши!», при имени Персиньи тот же голос крикнул: «В Пуасси!» Импровизатор этих двух рифм, кстати не богатых, впоследствии примкнул к сторонникам Второго декабря, к Морни и к Персиньи; свою подлость он прикрыл расшитым золотом мундиром сенатора.
Перекличка установила присутствие двухсот двадцати депутатов. Вот их имена:
Герцог де Люин, д'Андинье де Лашас, Антони Туре, Арен, Одрен де Кердрель (от округа Иль-и-Вилен), Одрен де Кердрель (от Морбигана), де Бальзак, Баршу де Пеноэн, Барильон, О. Барро, Бартелеми Сент-Илер, Кантен-Бошар, Ж. де Бомон, Бешар, Беагель, де Бельвез, Бенуа д'Ази, де Бернарди, Беррье, де Берсе, Бас, Беттен де Ланкастель, Блавуайе, Боше, Буассье, де Ботмилан, Буватье, герцог де Бройль, де Лабруаз, де Бриа, Бюффе, Кайе дю Терт, Калле, Камю де Лагибуржер, Кане, де Кастильон, де Казалис, адмирал Сесиль, Шамболь, Шамьо, Шампанне, Шапе, Шапо, де Шарансе, Шассень, Шовен, Шазан, де Шазель, Шегаре, граф де Куален, Кольфаврю, Кола де Ламот, Кокерель, де Корсель, Кордье, Корн, Кретон, Дагийон-Пюжоль, Даирель, виконт Дамбре, маркиз де Дампьер, де Бротон, де Фонтен, де Фонтене, виконт де Сез, Демар, де Ладевансе, Дидье, Дьелеве, Дрюэ-Дево, А. Дюбуа, Дюфор, Дюфужере, Дюфур, Дюфурнель, Марк Дюфрес, П. Дюпра, Дювержье де Оран, Этьен, виконт де Фаллу, де Фотрие, Фор (от Роны), Фавре, Фер, де Феррес, виконт де Флавиньи, де Фоблан, Фришон, Ген, Расселен, Жермоньер, де Жикьо, де Гулар, де Гуйон, де Гранвиль, де Грассе, Грелье-Дюфужере, Греви, Грильон, Грима, Гро, Гюделье де Латуш, Арскуэ де Сен-Жорж, маркиз д'Авренкур, Эннекен, д'Эспель, Уэль, Овен-Траншер, Юо, Жоре, Жуанне, де Керанфлек, де Кератри, де Керидек, де Кермазек, де Керсорон Пенендреф, Лео де Лаборд, Лабули, Лакав, Оскар Лафайет, Лафос, Лагард, Лагрене, Леме, Лене, граф Ланжюине, Лараби, де Ларси, Ж. де Ластери, Латрад, Лоро, Лорансо, генерал маркиз де Лористон, де Лосса, Лефевр де Грорьез, Легран, Легро-Дево, Лемер, Эмиль Леру, Лесперю, де Леспинуа, Лербет, де Ленсаваль, де Люппе, Марешаль, Мартен де Виллер, Маз-Соне, Мез, Арно де Мелен, Анатоль де Мелен, Мерантье, Мишо, Мипуле, Моне, герцог Монтебелло, де Монтиньи, Мулен, Мюрат, Систриер, Альфред Неттеман, д'Оливье, генерал Удино (герцог Реджо), Пайе, Дюпарк, Пасси, Эмиль Пеан, Пекуль, Казимир Перье, Пиду, Пижон, де Пьоже, Пискатори, Проа, Прюдом, Кероан, Рандуэн, Родо, Ролен, де Равинель, де Ремюза, Рено, Резаль, граф де Рессегье, Анри де Риансе, Ригаль, де Ларошет, Рода, де Рокфейль, де Ротур де Шолье, Руже-Лафос, Рулье, Ру-Карбонель, Сент-Бев, де Сен-Жермен, генерал граф де Сен-Прист, Сальмон (от Мозеля), маркиз Совер-Бартелеми, де Серре, граф де Семезон, Симоно, де Стапланд, де Сюрвиль, маркиз де Талуэ, Талон, Тамизье, Тюрьо де Ларозьер, де Тенги, граф де Токвиль, де Латурет, граф де Тревенек, Мортимер-Терно, де Ватимениль, барон де Вандевр, Вернет (от Эро), Вернет (от Авейрона), Везен, Вите, граф де Вогюэ.
После этого списка в стенографическом отчете сказано следующее:
«По окончании переклички генерал Удино просит депутатов, рассеянных по двору, собраться вокруг него и делает следующее сообщение:
— Старший адъютант, капитан, оставшийся здесь в качестве коменданта казарм, только что получил приказ приготовить комнаты, в которых мы должны будем разместиться, считая себя арестованными. («Отлично!») Хотите, я позову старшего адъютанта? («Нет! Нет! Это ни к чему!») Тогда я скажу ему, чтобы он исполнял полученные им приказания. («Да! Конечно!»)»
Депутаты, загнанные на этот двор, «бродили» там в течение двух долгих часов. Они прогуливались под руку. Ходили быстро, чтобы согреться. Члены правой твердили членам левой: «Ах, если бы вы голосовали за предложение квесторов!» Они говорили также: «Ну, как «невидимый часовой?»[6]
И они смеялись, а Марк Дюфрес отвечал: «Избранники народа! Совещайтесь спокойно!» Тогда смеялись левые. При этом никакой горечи. Общее несчастье создало дружелюбные отношения.
Расспрашивали о Луи Бонапарте его бывших министров. Адмиралу Сесилю задали вопрос: «Но в конце концов что же он собой представляет?» Адмирал ответил следующим определением: «Весьма немногое». Везен прибавил: «Он хочет, чтобы история называла его «ваше величество». — «Тогда уж скорее ваше ничтожество», — заметил Камю де Лагибуржер. Одилон Барро воскликнул: «Какое несчастье, что мы были вынуждены пользоваться услугами такого человека!»
Высказав эти высокие соображения, все замолчали. Политическая философия была исчерпана.
Направо, у ворот, помещалась солдатская столовая. Чтобы пройти туда, нужно было подняться на несколько ступеней. «Возведем эту столовую в достоинство нашего буфета», — сказал бывший посол в Китае Лагрене. Вошли. Одни стали греться у печки, другие спросили бульона. Фавро, Пискатори, Лараби и Ватимениль устроились в уголке. В другом углу пьяные солдаты заигрывали с уборщицами казармы. Де Кератри, согбенный под бременем своих восьмидесяти лет, грелся у печки, сидя на старом, источенном червями стуле; стул качался, старик дрожал.
Около четырех часов во двор прибыл батальон Венсенских стрелков со своими котелками и принялся за еду. Солдаты пели и громко смеялись. Глядя на них, де Бройль сказал Пискатори: «Странно, что котелки янычар, исчезнувшие в Константинополе, появились в Париже!»
Почти в ту же минуту штабной офицер пришел предупредить депутатов от имени генерала Форе, что «предназначенные для них квартиры готовы», и пригласил следовать за ним. Их привели в восточный корпус — флигель казармы, наиболее удаленный от дворца Государственного совета; им пришлось подняться в четвертый этаж. Они думали, что их ждут комнаты и постели. Они увидели длинные залы, просторные чердаки с грязными стенами и низким потолком, где не было ничего, кроме столов и деревянных скамей. Это были «квартиры». Все эти чердаки, расположенные в ряд, выходили в общий коридор — узкий проход, тянувшийся вдоль всего корпуса. В одном из таких чердаков в углу были свалены барабаны — среди них один огромный — и инструменты военного оркестра. Депутаты разместились в этих залах, как пришлось. Больной де Токвиль разостлал свой плащ на полу в оконной нише и лег на него. Так он пролежал несколько часов.
Эти чердаки отапливались, притом очень плохо, чугунными печками, имевшими форму ульев. Один из депутатов хотел было помешать в печке, но опрокинул ее, и пол чуть не загорелся.
Крайний из чердаков выходил на набережную. Антони Туре открыл окно и облокотился на подоконник. Подошли еще несколько депутатов. Солдаты, расположившиеся биваком внизу на тротуаре, увидев их, стали кричать: «А! Вот они, эти негодяи двадцатипятифранковые! Они хотели урезать наше жалованье!» Действительно, полиция накануне распространила в казармах ложный слух, будто в Собрании было предложено снизить войскам жалованье; называли даже депутата, внесшего это предложение. Антони Туре пытался разубедить солдат. Какой-то офицер крикнул ему: «Это один из ваших внес такое предложение, это Ламенне!»
Около половины второго на чердаки привели Валета, Биксио и Виктора Лефрана, которые решили присоединяться к своим коллегам и добровольно пошли под арест.
Наступил вечер. Все проголодались. Многие ничего не ели с самого утра. Овен Траншер, человек обходительный и услужливый, в мэрии взявший на себя обязанности швейцара, в казармах вызвался быть каптенармусом. Он собрал с депутатов по пять франков и послал заказать обед на двести человек в кафе д'Орсе, на углу набережной и улицы Бак. Обед был скверный, но веселый. Пережаренная баранина, дрянное вино и сыр. Хлеба хватило не на всех. Ели как придется, кто стоя, кто сидя на стуле, тот за столом, этот верхом на скамье, поставив тарелку перед собой, «словно на бальном ужине», — как говорил, смеясь, один щеголь, член правой, Тюрьо де Ларозьер, сын Тюрьо, голосовавшего за казнь короля. Де Ремюза сидел, охватив голову руками. Эмиль Пеан утешал его: «Мы еще выпутаемся». А Гюстав де Бомон воскликнул, обращаясь к республиканцам: «Ну, а ваши друзья, члены левой? Окажутся они на высоте? Будет ли по крайней мере восстание?» Передавали друг другу блюда и тарелки, причем правые были чрезвычайно предупредительны по отношению к левым. «Теперь нам нужно объединиться», — говорил один молодой легитимист. Прислуживали солдаты и маркитанты. На каждом столе горели и коптили две или три сальные свечи. Посуды не хватало. Правые и левые пили из одного стакана: «Равенство, братство!» — говорил маркиз Совер-Бартелеми, член правой. А Виктор Эннекен отвечал ему: «Не хватает только свободы».
Казармами командовал полковник Фере, зять маршала Бюжо; он предложил свою гостиную де Бройлю и Одилону Барро, которые согласились перейти туда. Кератри, ввиду его преклонного возраста, выпустили из казармы, выпустили также Дюфора, так как его жена рожала, и Этьена, раненного утром на Бургундской улице. В то же время к двумстам двадцати депутатам присоединили Эжена Сю, Бенуа (от Роны), Фейоля, Шане, Тупе де Виня, Радуб-Лафоса, Арбе и Тейяр-Латериса, до тех пор находившихся под арестом в новом здании министерства иностранных дел.
После обеда, к восьми часам вечера, надзор был несколько ослаблен, и пространство между сплошными и решетчатыми воротами было завалено постельными и туалетными принадлежностями, которые прислали семьи арестованных.
Депутатов вызывали по фамилиям. Они спускались по очереди и возвращались кто с плащом, кто с бурнусом, кто с меховым мешком для ног. Все это проделывалось быстро и весело. Некоторым женам удалось пробраться к своим мужьям. Шамболь через решетку пожал руку своему сыну.
Вдруг кто-то крикнул: «Э, да мы будем здесь ночевать!» Принесли тюфяки, разостлали их по столам, по полу, где попало.
Тюфяков хватило только на пятьдесят или шестьдесят депутатов, большинству пришлось довольствоваться скамьями. Марк Дюфрес устроился на ночь на табурете и спал, облокотившись на стол. Те, кому достались стулья, считали себя счастливцами.
Впрочем, царило веселье и дружеское согласие. «Место бургграфам!» — сказал, улыбаясь, почтенный старец из правой. Молодой депутат-республиканец встал и уступил ему свой тюфяк. Все предлагали друг другу пальто, плащи, одеяла.
«Мир!» — сказал Шамьо, уступая половину своего тюфяка герцогу де Люину. Герцог де Люин, у которого было два миллиона годового дохода, улыбаясь, ответил Шамьо: «Вы — святой Мартин, а я — нищий».
Пайе, знаменитый адвокат, принадлежавший к третьему сословию, говорил: «Я провел ночь на бонапартистской подстилке, завернувшись в плащ монтаньяра, укрыв ноги овчиной демократа и социалиста и надев на голову ночной колпак легитимиста».
Депутаты, заключенные в казарме, могли передвигаться в ее пределах. Им разрешалось выходить во двор. Кордье (от Кальвадоса), вернувшись оттуда, сказал: «Я только что говорил с солдатами. Они еще не знали, что генералы арестованы. Мне показалось, что они удивлены и недовольны». Это обрадовало, как хорошее предзнаменование.
Депутат Мирель Рено (от Нижних Пиренеев) увидел среди Венсенских стрелков, стоявших во дворе, своих земляков. Некоторые из них голосовали за него и напомнили ему об этом: «Да мы и сейчас голосовали бы за красный список». Один солдат, совсем юный, отвел его в сторону и сказал: «Сударь, не нужно ли вам денег? У меня есть при себе сорок су».
Около десяти часов вечера во дворе поднялся оглушительный шум. Сплошные и решетчатые ворота со скрежетом поворачивались на своих петлях. Что-то со страшным грохотом катилось по двору. Заключенные бросились к окнам и увидели, что внизу у лестницы остановился большой продолговатый сундук на колесах, выкрашенный в черный, желтый, красный и зеленый цвета. Сундук этот был запряжен почтовыми лошадьми, его окружали люди в длинных сюртуках, со свирепыми лицами; в руках у них были факелы. В темноте разыгравшемуся воображению этот возок казался совсем черным. В нем была дверца, но никаких других отверстий. Он походил на большой движущийся гроб. «Что это такое? Похоронная колесница?» — «Нет, это арестантский фургон». — «А эти люди — факельщики?» — «Нет, это тюремщики». — «За кем же они приехали?»
— За вами, господа, — крикнул чей-то голос.
Это был голос офицера; колымага, только что въехавшая во двор, действительно была арестантским фургоном.
В то же время раздалась команда: «Первый эскадрон, на конь!» И через пять минут уланы, которые должны были сопровождать фургоны, выстроились во дворе в боевом порядке.
Тогда в казармах поднялся шум, словно в потревоженном улье. Депутаты поднимались и спускались по лестницам, чтобы вблизи рассмотреть арестантский фургон. Некоторые ощупывали его и не верили своим глазам. Пискатори, встретившись с Шамболем, крикнул ему: «Меня увозят в этом ящике!» Беррье столкнулся с Эженом Сю, они перекинулись несколькими словами:
— Куда вы едете?
— В Мон-Валерьен. А вы?
— Не знаю.
В половине одиннадцатого началась перекличка перед отправкой. Внизу у лестницы за столом с двумя свечами уселись конвойные и стали вызывать депутатов по двое. Депутаты условились не откликаться и на каждую названную фамилию отвечать: «Его нет». Но те из «бургграфов», которые нашли приют у полковника Фере, сочли это мелочное сопротивление недостойным себя и отозвались на свои фамилии. Их примеру последовали остальные. Все стали отзываться. Среди легитимистов происходили трагикомические сцены. Они, единственные, кому ничего не угрожало, обязательно хотели считать себя в опасности. Они ни за что не отпускали кого-то из своих ораторов: обнимая и удерживая его почти со слезами на глазах, они кричали: «Не уезжайте! Знаете ли вы, куда вас везут? Подумайте о рвах Венсенского замка!»
Депутаты, которых, как мы только что отметили, вызывали по двое, спустившись с лестницы, проходили мимо конвойных, затем их сажали в фургон для воров. Погрузка, казалось, происходила вперемежку, как попало; впоследствии, однако, по различному обращению с депутатами, которых отвезли в разные тюрьмы, стало ясно, что этот беспорядок был, очевидно, заранее подготовлен. Когда первый фургон наполнился, во двор пропустили второй фургон, в таком же сопровождении. Конвойные с карандашом и блокнотом в руках записывали фамилии членов Собрания, посаженных в каждый фургон. Эти люди знали депутатов в лицо. Когда Марк Дюфрес, вызванный в свою очередь, спустился вниз, с ним вместе шел Бенуа (от Роны). «А, вот господин Марк Дюфрес», — сказал конвойный, составлявший список. Когда у Бенуа спросили фамилию, он ответил: «Бенуа». — «От Роны, — добавил агент и продолжал: — Ведь есть еще Бенуа д'Ази и Бенуа-Шампи».
Погрузка в каждый фургон продолжалась около получаса. Вместе с прибывшими позже число арестованных депутатов дошло до двухсот тридцати двух. Посадка, или, употребляя выражение де Ватимениля, набивка в фургоны, начатая вечером в начале одиннадцатого, закончилась только к семи часам утра. Когда не хватило арестантских фургонов, вызвали омнибусы. Отправка производилась в три очереди, причем все три партии уехали под охраной улан. Первая партия отбыла около часу ночи и направилась в Мон-Валерьен; вторая около пяти часов — в Мазас; третья около половины седьмого — в Венсен.
Дело затягивалось, и те, кого еще не успели вызвать, улеглись на тюфяки и пытались уснуть. Поэтому на чердаках время от времени наступало молчание. Воспользовавшись одной из таких пауз, Биксио приподнялся на своей постели и, возвысив голос, сказал: «Господа, что вы думаете о пассивном повиновении?» Ему ответили дружным хохотом. Другой раз, тоже среди общего молчания, какой-то голос крикнул:
— Ромье станет сенатором.
Эмиль Пеан спросил:
— А что тогда будет с красным призраком?
— Он сделается священником, — ответил Антони Туре, — и превратится в черный призрак.
Другие замечания, которые приведены историографами Второго декабря, в действительности не были произнесены. Так, Марк Дюфрес никогда не говорил фразы, которой приспешники Луи Бонапарта хотели прикрыть свои преступления: «Если президент не велит расстрелять всех тех из нас, кто будет сопротивляться, значит, он плохо знает свое дело!»
Для переворота эти слова были бы весьма кстати, но для истории это выдумка.
Пока депутаты размещались, фургоны были освещены. Окошечки некоторых клеток не закрывались. Поэтому Марк Дюфрес через форточку мог заметить де Ремюза в камере напротив той, где находился он сам. Де Ремюза вошел в паре с Дювержье де Ораном.
— Честное слово, господин Марк Дюфрес, — крикнул Дювержье де Оран, когда они столкнулись в проходе фургона, — честное слово, если бы кто-нибудь предсказал мне. «Вы поедете в Мазас в арестантском фургоне», я бы ответил: «Это неправдоподобно»; но если бы еще добавили: «Вы поедете с Марком Дюфресом», я бы сказал: «Это невозможно!»
Когда фургон наполнялся, в него входили пять или шесть полицейских и становились в проходе. Закрывали двери, поднимали подножку и трогались в путь. Фургонов не хватило: во дворе оставалось еще много депутатов. Тогда, как уже было сказано, вызвали омнибусы. Грубо, всех подряд, не считаясь ни с возрастом, ни с именем, втолкнули туда депутатов. Полковник Фере, верхом на лошади, управлял и командовал отправкой. Поднимаясь на подножку предпоследнего омнибуса, герцог Монтебелло крикнул ему: «Сегодня годовщина битвы при Аустерлице, и зять маршала Бюжо загоняет в фургон для каторжников сына маршала Ланна».
В последнем омнибусе было только семнадцать мест, а оставалось еще восемнадцать депутатов. Самые проворные вошли первыми, Антони Туре, который один уравновешивал всю правую, ибо был остроумен, как Тьер, и грузен, как Мюрат, — Антони Туре, медлительный толстяк, поднялся последним. Когда его тучная фигура появилась в дверях омнибуса, раздались испуганные возгласы: «Куда же он сядет?»
Антони Туре пошел прямо к сидевшему в глубине омнибуса Беррье, сел к нему на колени и спокойно заявил: «Вы хотели, господин Беррье, чтобы было оказано давление. Вот оно».
XV Мазас
У Мазаса арестантские фургоны, прибывшие под конвоем улан, встретил другой уланский эскадрон. Депутаты один за другим выходили из фургонов. Офицер, командовавший уланами, стоял возле двери и с тупым любопытством разглядывал их.
Тюрьма Мазас, заменившая разрушенную теперь тюрьму Форс, — огромное красноватое здание, сооруженное рядом с платформой Лионской железной дороги на пустырях Сент-Антуанского предместья. Издали можно принять его за кирпичное, но вблизи видно, что око построено из булыжника, залитого цементом. Шесть больших трехэтажных корпусов, смежных вначале и лучами расходящихся вокруг круглого здания, которое служит им общим центром, отделены друг от друга дворами, расширяющимися по мере удаления от ротонды. Корпуса прорезаны множеством крохотных окошек, пропускающих свет в камеры, окружены высокой стеной и с птичьего полета имеют вид веера. Вот что такое Мазас. Над ротондой, образующей центр, поднимается нечто вроде минарета: это вышка для подачи сигналов. В первом этаже — круглая комната, служащая канцелярией. Во втором этаже — часовня, где один-единственный священник служит мессу для всех, и наблюдательный пункт, откуда один надсмотрщик одновременно следит за всеми дверьми всех галерей. Каждый корпус называется отделением. Дворы разбиты высокими стенами на множество маленьких продолговатых площадок.
Каждого депутата, вышедшего из фургона, сразу же вели в ротонду, где помещалась канцелярия. Там записывали его фамилию и вместо фамилии ему давали номер. Все равно, разбойник это или законодатель, так уж в этой тюрьме заведено; переворот уравнивал всех. Как только депутат был зарегистрирован и снабжен номером, его посылали «катиться» дальше. Ему говорили: «Поднимайтесь», или: «Идите», и надзирателю того коридора, куда его направляли, кричали: «Такой-то номер! Принимайте». Надзиратель отвечал: «Посылайте!» Заключенный поднимался один и шел вперед, пока не встречал надзирателя, стоявшего у открытой двери. Надзиратель говорил: «Сюда, сударь». Заключенный входил, надзиратель закрывал за ним дверь; потом отправляли следующего.
С арестованными депутатами переворот обращался по-разному. Тех, с кем считались, — членов правой, — поместили в Венсен; тех, кого ненавидели, — членов левой, — посадили в Мазас. Попавшие в Венсен получили помещение герцога де Монпансье, открытое специально для них, прекрасный обед за общим столом, свечи, отопление; комендант, генерал Куртижи, встречал их улыбками и рассыпался в любезностях. Но вот как обошлись с теми, кто попал в Мазас.
Арестантский фургон привез их в тюрьму. Из одной клетки они попали в другую. В Мазасе канцелярист зарегистрировал их, измерил их рост, осмотрел с ног до головы и перенумеровал, как каторжников. После этого каждого из них вели по темной висячей галерее, под длинными сырыми сводами, до узкой, неожиданно раскрывавшейся двери. Тогда тюремщик вталкивал депутата за плечи в эту дверь, и она тут же снова захлопывалась.
Запертый таким образом депутат оказывался в маленькой клетушке, длинной, узкой, темной. На иносказательном языке современного закона эти клетушки называются камерами одиночного заключения. В декабре даже в полдень туда проникал только сумеречный полусвет. В одном конце дверь с глазком, в другом, у самого потолка, на высоте десяти или двенадцати футов, — окошечко с рифленым стеклом. Это стекло обманывало глаз, не позволяло отличить голубое небо от серого, солнечный луч от облака, и придавало какую-то неопределенность тусклому свету зимнего дня. Свет был не то что слабый — он был мутный. Изобретателям такого рифленого стекла удалось испортить небо.
Через несколько секунд узник начинал неясно различать предметы, и вот что он видел: стены, выбеленные известкой, там и сям позеленевшие от сочащейся из них сырости, в углу круглая дыра, покрытая железными прутьями и распространяющая зловоние, в другом углу дощечка, которая поднималась на шарнире, как откидная скамеечка в наемных каретах, и могла служить столом, и стул с соломенным сиденьем. Кровати не было. Под ногами пол, выложенный кирпичами. Первое впечатление — мрак, второе — холод.
Итак, узник был здесь в полном одиночестве; он стучал зубами от холода; его окружал мрак; все, что он мог делать, — это только расхаживать взад и вперед по площади в восемь квадратных футов, словно волк по клетке, или сидеть на стуле, как умалишенный в Бисетре.
Оказавшись в таком положении, некий бывший республиканец, ставший членом большинства, а при случае даже не чуждавшийся бонапартизма, Эмиль Леру, кстати, посаженный в Мазас по ошибке, — его, конечно, приняли за какого-то другого Леру, — расплакался от ярости. Так прошло три, четыре, пять часов. При этом многие не ели с самого утра, а некоторые из-за волнений, связанных с переворотом, не успели даже позавтракать. Голод давал себя знать. Неужели их забудут здесь? Нет. Тюремный колокол зазвонил, окошечко в двери отворилось, чья-то рука протягивала узнику оловянную миску и кусок хлеба.
Узник жадно хватал хлеб и миску.
Хлеб был черный и липкий, в миске была какая-то теплая бурда рыжеватого цвета. Ничто не могло сравниться с запахом этой «похлебки». Что касается хлеба, то он отзывал только плесенью.
Несмотря на сильный голод, в первую минуту большинство заключенных бросали хлеб на пол и выливали содержимое миски в дыру с железными прутьями. Однако желудок требовал своего, часы проходили, многие подняли хлеб и в конце концов съели его. Один узник дошел до того, что подобрал миску и вытер ее дно хлебом, а хлеб съел. Впоследствии этот узник, депутат, выпущенный на свободу и отправленный в изгнание, описывая мне эту пищу, добавил: «У голодного брюха не бывает нюха».
При этом полное одиночество, глубокая тишина. Однако спустя несколько часов Эмиль Леру, — он сам рассказал об этом факте Версиньи, — услышал за стеной направо какой-то странный стук, раздельный, перемежающийся с неравными промежутками. Он прислушался: почти в тот же миг за стеной налево в ответ раздался такой же стук. Эмиль Леру пришел в восторг, — как приятно услышать хоть какой-нибудь шум. Он вспомнил о своих товарищах, заключенных, как и он, и стал громко кричать: «А! вы все, значит, тоже здесь!» Не успел он закончить фразу, как заскрежетали петли и засовы, дверь камеры отворилась, появился человек — это был тюремщик — и в бешенстве крикнул:
— Замолчите!
Народный депутат, немного озадаченный, попросил объяснений.
— Замолчите, — повторил надзиратель, — или я вас упрячу в карцер.
Этот тюремщик говорил с заключенными тем же языком, каким переворот говорил с нацией.
Однако Эмиль Леру по своей упрямой привычке к парламентаризму попробовал настаивать.
— Как! — сказал он. — Неужели я не могу отвечать на сигналы, которые мне подают двое моих коллег!
— Хороши коллеги! — возразил тюремщик. — Это два вора. — И он со смехом закрыл за собой дверь.
Это и в самом деле были два вора, между которыми Эмиль Леру был не распят, но заперт.
Тюрьма Мазас так хитроумно построена, что из одной камеры в другую слышно каждое слово. Следовательно, несмотря на одиночные камеры, полной изоляции там нет. Поэтому строгая и жестокая логика тюремного режима требует безусловного молчания. Что делают воры? Они придумали систему перестукивания, против которой тюремный режим бессилен. Эмиль Леру просто прервал начатый разговор.
— Дайте же нам попетюкать, [7] — крикнул ему его сосед, вор, которого за это восклицание посадили в карцер.
Так жили депутаты в Мазасе. Вдобавок, согласно правилам одиночного заключения, им не давали ни одной книги, ни листка бумаги, ни пера, им даже не полагалось обычной часовой прогулки по тюремному двору.
Как мы только что видели, воров тоже сажают в Мазас. Но тем из них, кто знает какое-нибудь ремесло, разрешают работать, грамотным дают книги, тем, кто умеет писать, предоставляют чернила и бумагу; всем полагается часовая прогулка, необходимая для здоровья и разрешенная тюремными правилами.
Депутатам — ничего. Изоляция, полное уединение, молчание, темнота, холод, «такая скука, что можно сойти с ума», как сказал Ленге, говоря о Бастилии.
Целый день сидеть на стуле, скрестив руки, поджав ноги! Вот все, что им оставалось делать.
А постель? Разве нельзя было полежать?
Нет.
Постели не было.
В восемь часов вечера в камеру являлся надзиратель; войдя, он протягивал руку к полке под потолком и доставал оттуда какой-то сверток. Это был гамак.
Повесив, укрепив и натянув его, тюремщик желал заключенному доброй ночи.
На гамаке было шерстяное одеяло, иногда тюфяк толщиной в два пальца. Завернувшись в это одеяло, узник пытался заснуть, но напрасно: всю ночь он дрожал от холода.
Но на другой день? Разве не мог он до самого вечера пролежать в гамаке?
Отнюдь нет.
В семь часов утра опять приходил надзиратель, желал депутату «доброго утра», заставлял его встать, скатывал гамак и клал его в нишу под потолком.
Но можно же было самовольно взять гамак, развернуть его, повесить и снова лечь?
Конечно, но за это сажали в карцер.
Таков был порядок. Ночью полагалось лежать в гамаке, днем — сидеть на стуле.
Будем, однако, справедливы. Кое-кто получил кровать, например, Тьер и Роже (от Севера). Греви кровати не дали.
Мазас — тюрьма передовая; несомненно, Мазас нельзя сравнить с венецианскими «пьомби» и подводной темницей Шатле. Мазас — создание филантропов-доктринеров. Однако несомненно, что Мазас оставляет желать лучшего. Скажем прямо, с известной точки зрения мы не очень огорчены кратковременным пребыванием изготовителей законов в одиночных камерах Мазаса. Провидение, по-видимому, принимало некоторое участие в перевороте. Посадив законодателей в Мазас, оно хотело их кое-чему научить. Отведайте вашей собственной стряпни! Пусть те, кто строит тюрьмы, сами в них посидят.
XVI Происшествие на бульваре Сен-Мартен
Когда мы с Шарамолем по пустынной, круто поднимающейся в гору улице Бланш подъехали к дому № 70, у дверей расхаживал взад и вперед человек, одежда которого походила на форму унтер-офицера флота. Привратница, узнав нас, обратила на него наше внимание.
— Ну! — сказал Шарамоль. — Человек, который так прогуливается, и в таком странном наряде, не может быть шпионом!
— Дорогой коллега, — возразил я ему, — Бедо доказал, что полиция глупа.
Мы поднялись по лестнице. В гостиной и смежной с ней маленькой передней толпились депутаты и много других людей, не имевших отношения к Собранию. Здесь было несколько бывших членов Учредительного собрания, среди них Бастид и кое-кто из журналистов демократического направления. «Насьональ» представляли Александр Рей и Леопольд Дюрас, «Революсьон» — Ксавье Дюррье, Васбантер и Ватрипон, от «Авенман де Пепль» был один только А. Кост, так как все остальные редакторы «Авенман» сидели в тюрьме. Присутствовали около шестидесяти членов левой, и среди них Эдгар Кине, Шельшер, Мадье де Монжо, Карно, Ноэль Парфе, Пьер Лефран, Бансель, де Флотт, Брюкнер, Ше, Кассаль, Эскирос, Дюран-Савуайя, Иван, Карлос Форель, Этшегуайен, Лабрус, Бартелеми (от Эры-и-Луары), Югенен, Обри (от Севера), Малардье, Виктор Шоффур, Белен, Рено, Бак, Версиньи, Сен, Жуаньо, Брив, Гильго, Пеллетье, Дутр, Жендрие, Арно (от Арьежа), Реймон (от Изеры), Брийе, Мень, Сартен, Рейно, Леон Видаль, Лафон, Ламарг, Бурза, генерал Рей.
Все стояли. Слышались отрывки разговоров. Леопольд Дюрас только что рассказал о том, как оцепили кафе Бонвале. Жюль Фавр и Боден писали, сидя за столиком в простенке. Перед Боденом лежал открытый экземпляр конституции, он переписывал 68-ю статью.
Когда мы вошли, разговоры стихли; нас стали расспрашивать: «Ну как? Что нового?»
Шарамоль рассказал о том, что произошло сейчас на бульваре Тампль, и о совете, который он счел своим долгом дать мне. Его одобрили.
Со всех сторон посыпались вопросы: «Что же предпринять?» Я взял слово.
— Ближе к делу! — сказал я. — Луи Бонапарт успешно наступает, а мы теряем свои позиции, или, лучше сказать, в его руках пока еще все, у нас же до сих пор — ничего. Нам с Шарамолем пришлось расстаться с полковником Форестье. Я сомневаюсь в успехе его начинания. Луи Бонапарт делает все, чтобы уничтожить наше влияние. Нам нужно выйти из мрака. Нужно дать знать о нашем присутствии. Нужно раздуть этот начинающийся пожар, искру которого мы видели на бульваре Тампль. Нужно издать прокламацию, пусть кто угодно напечатает ее и кто угодно расклеит, ню это необходимо! И немедленно! Что-нибудь краткое, резкое и энергичное. Не нужно фраз! Десяток строк, призыв к оружию! Мы — это закон: бывают дни, когда закон должен призвать к восстанию. Закон, объявляющий изменника вне закона, — это великое и страшное дело. Совершим его.
Меня прервали крики: «Верно, верно, прокламацию!» — «Диктуйте! Диктуйте!»
— Диктуйте, — сказал мне Боден, — я буду писать.
Я продиктовал:
«К народу
Луи-Наполеон Бонапарт — изменник.
Он нарушил конституцию.
Он клятвопреступник.
Он — вне закона».
Со всех сторон раздались крики:
— Правильно! Объявите его вне закона! Продолжайте!
Я стал диктовать дальше. Боден писал:
«Депутаты-республиканцы напоминают народу и армии статью шестьдесят восьмую…»
Меня перебили:
— Приведите ее полностью.
— Нет, — возразил я, — это будет слишком длинно. Нужно что-то такое, что можно было бы напечатать на открытке, приклеить облаткой и прочитать в одну минуту. Я приведу статью сто десятую, она короткая и содержит призыв к оружию.
Я продолжал:
«Депутаты-республиканцы напоминают народу и армии статью шестьдесят восьмую и статью сто десятую, которая гласит: «Учредительное собрание доверяет охрану настоящей конституции и прав, освященных ею, патриотам-французам».
Народ, отныне и навсегда пользующийся правом всеобщего голосования, не нуждается ни в каком монархе, который возвратил бы ему это право, и сумеет покарать мятежника.
Пусть народ исполнит свой долг. Народ возглавляют депутаты-республиканцы.
Да здравствует республика! К оружию!»
Раздались рукоплескания.
— Подпишем все, — сказал Пеллетье.
— Нужно поскорее найти типографию, — прибавил Шельшер, — и сейчас же расклеить прокламацию.
— До наступления темноты, теперь дни короткие, — добавил Жуаньо.
— Сейчас же, сейчас же, несколько копий! — раздались голоса.
Боден, молчаливый и проворный, успел уже снять две копии с прокламации.
Один молодой человек, редактор провинциальной республиканской газеты, выступил из толпы и сказал, что если ему сейчас же дадут текст, через два часа прокламация будет расклеена на всех парижских улицах.
Я спросил его:
— Как ваша фамилия?
Он ответил:
— Мильер.
Мильер! Вот при каких обстоятельствах это имя впервые появилось в мрачные дни нашей истории. Я как сейчас вижу этого бледного молодого человека, его проницательный и вместе с тем задумчивый взгляд, кроткий и в то же время сумрачный профиль. Его ожидали смерть от руки убийцы и Пантеон; слишком мало известный для того, чтобы покоиться в этом храме, он был достоин того, чтобы умереть на его пороге.
Боден показал ему только что снятую копию.
Мильер подошел.
— Вы меня не знаете, — сказал он, — моя фамилия Мильер, но я вас знаю, вы — Боден.
Боден протянул ему руку.
Я присутствовал при рукопожатии этих двух призраков.
Ксавье Дюррье, один из редакторов «Революции», предложил то же, что и Мильер.
Человек двенадцать депутатов, взяв перья, уселись, одни вокруг стола, другие — держа листок бумаги на коленях, и сказали мне: «Диктуйте прокламацию».
В первый раз я продиктовал Бодену: «Луи-Наполеон Бонапарт — изменник». Жюль Фавр предложил вычеркнуть слово «Наполеон», это славное имя, имеющее роковую власть над народом и армией, и поставить взамен: «Луи Бонапарт — изменник». «Вы правы», — ответил я.
Тут начался спор. Некоторые предлагали вычеркнуть слово «принц». Но большинство присутствующих выражали нетерпение. Слышались крики: «Скорее! Скорее!» — «Ведь сейчас декабрь, дни короткие», — повторял Жуаньо.
За несколько минут сняли сразу двенадцать копий. Шельшер, Рей, Ксавье Дюррье, Мильер взяли каждый по копии и отправились на поиски типографии.
Не успели они уйти, как вошел какой-то человек, — я не знал его, но многие депутаты с ним поздоровались, — и сказал:
— Граждане, этот дом указан полиции. Его хотят окружить. Солдаты уже идут сюда. Не теряйте ни минуты!
Раздалось несколько голосов:
— Что ж! Пусть нас арестуют!
— Мы не боимся!
— Пусть они завершают свои преступления.
— Друзья мои! — вскричал я. — Не дадим себя арестовать. После борьбы — как будет угодно богу; но до боя — нет! Народ ждет, чтобы мы сделали первый шаг. Если нас схватят, все будет кончено! Наш долг — начать битву, наше право — скрестить оружие с переворотом. Не дадим ему арестовать нас, сколько бы он нас ни искал. Нужно обмануть руку, которой он хочет схватить нас, скрываться от Бонапарта, мучить его, утомлять, сбивать с толку, истощать его силы, исчезать и снова появляться, менять места убежища и неустанно бороться, всегда быть перед его глазами и никогда не попадаться ему в руки. Не покинем поля боя. Нас мало: будем отважны!
Меня поддержали.
— Это правильно, — сказали депутаты, — но куда мы пойдем?
Лабрус сказал:
— Наш бывший товарищ по Учредительному собранию, Беле, предлагает свой дом.
— Где он живет?
— На улице Серизе, номер тридцать три, в квартале Маре.
— Хорошо, — продолжал я, — разойдемся и встретимся через два часа у Беле, на улице Серизе, номер тридцать три.
Все разошлись поодиночке и в разных направлениях. Я просил Шарамоля зайти ко мне домой и подождать меня там, а сам пошел пешком вместе с Ноэлем Парфе и Лафоном.
Мы шли по еще нежилому кварталу, граничащему со старыми укреплениями. Дойдя до угла улицы Пигаль, мы увидели в пустынных переулках, пересекавших ее, в ста шагах от нас, солдат, бесшумно двигавшихся вдоль стен, направляясь к улице Бланш.
В три часа члены левой снова встретились на улице Серизе. Но кое-какие сведения уже просочились, жители этого немноголюдного квартала стояли у окон и смотрели на депутатов, квартира, где мы должны были собраться, расположенная в тесном тупике в глубине заднего двора была выбрана неудачно, там можно было разом захватить всех нас; эти неудобства тотчас бросились нам в глаза, и собрание продолжалось всего несколько минут. Его вел Жоли. Присутствовали редакторы «Революсьон» Ксавье Дюррье и Жюль Гуаш, а также несколько изгнанников-итальянцев и среди них полковник Карини и Монтанелли, бывший министр великого герцога Тосканского. Я любил Монтанелли, человека нежной и бесстрашной души.
Мадье де Монжо принес новости из предместий. Полковник Форестье, сам не теряя надежды и не отнимая ее у нас, рассказал о своих затруднениях при попытке созвать 6-й легион. Он торопил меня и Мишеля де Буржа подписать приказ о его назначении командиром, но Мишеля де Буржа не было на собрании, и к тому же ни он, ни я не имели еще в тот момент полномочий от левой. Однако, сделав эти оговорки, я все-таки подписал приказ. Помехи множились. Прокламация еще не была напечатана, а ночь приближалась. Шельшер сообщил, что не мог выполнить наше поручение: все типографии закрыты и охраняются, расклеено предупреждение о том, что всякий, кто напечатает призыв к оружию, будет немедленно расстрелян, наборщики запуганы, денег нет. Стали обходить присутствующих со шляпой, и каждый бросал в нее все деньги, какие имел при себе. Собрали несколько сот франков.
Ксавье Дюррье, пылкое мужество которого не ослабевало ни на минуту, снова подтвердил, что берет на себя заботы о печатании, и обещал, что к восьми часам вечера у нас будет сорок тысяч экземпляров прокламаций. Нельзя было терять ни минуты. Расстались, условившись встретиться в помещении ассоциации краснодеревщиков, на улице Шаронны, в восемь часов вечера, рассчитывая, что к этому времени обстановка должна выясниться. Мы шли от Беле и переходили улицу Ботрельи; там я увидел направлявшегося ко мне Пьера Леру. Он не принимал участия в наших собраниях. Леру сказал мне:
— Я думаю, что борьба бесполезна. Хотя у нас с вами разные точки зрения, я ваш друг. Берегитесь. Еще есть время остановиться. Вы спускаетесь в катакомбы. Катакомбы — это смерть.
— Но это и жизнь, — ответил я.
Как бы то ни было, я с радостью думал о том, что оба мои сына в тюрьме и мрачный долг сражаться в уличных боях выпал только на мою долю.
До назначенной встречи оставалось пять часов. Мне захотелось вернуться домой и еще раз обнять жену и дочь, прежде чем броситься в зияющую темную неизвестность, которая вскоре должна была поглотить навсегда многих из нас.
Арно (от Арьежа) взял меня под руку; два итальянских изгнанника, Карини и Монтанелли, шли вместе с нами.
Монтанелли пожимал мне руки, говоря:
— Право победит. Вы победите. О, пусть Франция на этот раз не будет эгоистичной, как в тысяча восемьсот сорок восьмом году, пусть она освободит Италию.
Я отвечал ему:
— Она освободит Европу.
Таковы были тогда наши иллюзии, и, несмотря ни на что, таковы и сейчас наши надежды. Для тех, кто верит, мрак доказывает только то, что существует свет.
У портала церкви св. Павла есть стоянка фиакров. Мы направились туда. На улице Сент-Антуан чувствовалось ни с чем не сравнимое возбуждение, всегда предшествующее тем необычайным сражениям идеи с фактом, которые именуются революциями. Мне показалось, что в этом обширном квартале, населенном простым народом, мелькнул какой-то свет, но этот свет, увы, быстро погас!
На стоянке перед церковью св. Павла не было ни одного фиакра. Кучера почуяли, что могут начаться баррикадные бои, и скрылись.
Я и Арно находились на расстоянии доброго лье от своих домов. Невозможно было пройти такой путь пешком, в самом центре Парижа, где нас узнавали на каждом шагу. Двое прохожих помогли нам выйти из затруднения. Один из них сказал другому: «По бульварам еще ходят омнибусы».
Мы услышали эти слова, пошли к омнибусу, идущему от площади Бастилии, и вчетвером сели в него.
У меня в душе — повторяю, может быть я был неправ — осталось горькое сожаление о случае, которым я ню воспользовался утром. Я говорил себе, что в решающие дни такие мгновения не возвращаются. Есть две теории революционной борьбы: увлекать народ за собой или ждать, пока он поднимется сам. Я был сторонником первой теории; дисциплина заставляла меня повиноваться второй. Я упрекал себя в этом. Я говорил себе: народ готов был выступить, но мы не повели его за собой. Теперь наш долг не только выразить готовность к борьбе, но и самим броситься в бой.
Тем временем омнибус тронулся в путь. Он был полон. Я сел в глубине налево. Арно (от Арьежа) сел рядом со мной, Карини напротив, Монтанелли возле Арно. Никто не разговаривал: мы с Арно молча обменивались рукопожатиями — это ведь своего рода обмен мыслями.
По мере того как мы приближались к центру Парижа, толпа на бульваре становилась все гуще. Когда омнибус въехал в ложбину у Порт-Сен-Мартен, навстречу ему двигался полк тяжелой кавалерии. Через несколько секунд этот полк поравнялся с нами. То были кирасиры. Они ехали крупной рысью, с обнаженными саблями. Люди смотрели на них с высоты тротуаров, перегнувшись через перила. Ни одного возгласа. Это зрелище — безмолвный народ с одной стороны и торжествующие солдаты с другой — глубоко потрясло меня.
Вдруг полк остановился. Какое-то препятствие в этой узкой ложбине, где мы были сжаты с обеих сторон, на мгновение задержало его. Омнибусу тоже пришлось остановиться. Солдаты были около нас. Совсем близко перед собой, в двух шагах, так что лошади их теснили лошадей омнибуса, мы видели этих французов, ставших мамелюками, этих граждан, солдат великой республики, превращенных в защитников империи эпохи упадка. С того места, где я сидел, я мог достать до них рукой. Я не выдержал.
Я опустил стекло омнибуса, высунулся в окно и, глядя в упор на эти сплошные ряды солдат, стоявших передо мной, крикнул:
— Долой Луи Бонапарта! Те, кто служит изменникам, сами изменении!
Кирасиры, что были поближе, повернули голову в мою сторону и тупо посмотрели на меня, другие не шевельнулись, они словно застыли с саблями наголо, в низко надвинутых на глаза касках, устремив взгляд на уши своих коней.
В величии порой есть неподвижность статуй, в низости — безжизненность манекенов.
Пассивное повиновение преступным начальникам превращает солдат в манекенов.
На мой крик Арно быстро обернулся; он тоже опустил стекло и, наполовину высунувшись из омнибуса, протянув руку к солдатам, закричал:
— Долой изменников!
Его смелое движение, красивое бледное и спокойное лицо, пламенный взгляд, борода и длинные каштановые волосы придавали ему сходство с лучезарным и в то же время грозным обликом разгневанного Христа.
Пример был заразителен и подействовал как электрическая искра.
— Долой изменников! — закричали Карини и Монтанелли.
— Долой диктатора! Долой изменников! — повторил незнакомый отважный молодой человек, сидевший рядом с Карини.
За исключением этого молодого человека все остальные пассажиры омнибуса были явно охвачены ужасом.
— Замолчите! — кричали в смятении эти люди. — Из-за вас нас всех перебьют! — Один из них, самый испуганный, опустил стекло и изо всех сил завопил: — Да здравствует принц Наполеон! Да здравствует император!
Нас было пятеро, и мы заглушили этот крик упорными протестующими возгласами:
— Долой Луи Бонапарта! Долой изменников!
Кирасиры слушали в мрачном безмолвии. Один бригадир повернулся к нам и угрожающе взмахнул саблей. Толпа смотрела в оцепенении.
Что происходило со мной в этот момент? Я не мог бы этого объяснить. Я был захвачен каким-то вихрем. Я действовал одновременно и по расчету, считая, что это подходящий случай, и повинуясь бешенству, овладевшему мной при этой оскорбительной встрече. Какая-то женщина закричала нам с тротуара: «Замолчите, вас изрубят в куски!» Мне все казалось, что произойдет какое-то столкновение, что в толпе или среди солдат вспыхнет желанная искра. Я надеялся на то, что какой-нибудь кирасир пустит в ход саблю или из толпы раздастся крик возмущения. Словом, я скорее следовал инстинкту, чем рассудку.
Но ничего не произошло, ни удара сабли, ни крика возмущения. Войска не шевельнулись, и народ хранил молчание. Было ли слишком поздно? Или слишком рано?
Проходимец из Елисейского дворца не предусмотрел, что его имени может быть нанесено оскорбление прямо перед лицом солдат. Солдаты не имели никаких инструкций на этот случай. Они получили их в тот же вечер. Это дало себя знать на следующий день.
Минуту спустя эскадрон помчался галопом, и омнибус покатился дальше. Пока кирасиры проносились мимо, Арно (от Арьежа), высунувшись из кареты, продолжал кричать им в самые уши — так как кони их, как я уже сказал, почти задевали нас:
— Долой диктатора! Долой изменников!
На улице Лафит мы вышли из омнибуса. Я расстался с Карини, Монтанелли и Арно и пошел один к улице Латур-д'Овернь. Смеркалось. Когда я завернул за угол, со мной поравнялся какой-то человек. При свете фонаря я узнал рабочего соседней кожевенной мастерской; он быстро вполголоса сказал мне:
— Не ходите к себе. Полиция оцепила ваш дом.
Я опять спустился к бульвару по вновь проложенным, еще не застроенным улицам, образующим букву Y под моими окнами позади дома. Мне нельзя было обнять жену и дочь, и теперь я думал о том, как употребить те минуты, которые у меня оставались. Во мне ожило одно воспоминание.
XVII Как 24 июня отразилось на событиях 2 декабря
В воскресенье 26 июня 1848 года битва, длившаяся четыре дня, грандиозная битва, в которой обе стороны проявили такое ожесточение и такой героизм, все еще продолжалась, но восстание было подавлено почти повсюду, за исключением только Сент-Антуанского предместья. Четверо из самых отважных защитников баррикад на улицах Понт-о-Шу, Сен-Клод и Сен-Луи в квартале Маре успели скрыться после взятия баррикад и нашли приют на улице Сент-Анастаз, в доме № 12. Их спрятали на чердаке. Национальные гвардейцы и солдаты подвижной гвардии разыскивали их, чтобы расстрелять. Мне сказали об этом. Я был в числе шестидесяти депутатов, посланных Учредительным собранием на место сражения, чтобы до начала военных действий обратиться к защитникам баррикад со словами умиротворения, рискуя жизнью, предотвратить кровопролитие и положить конец гражданской войне. Я пошел на улицу Сент-Анастаз и спас этих четырех человек.
В числе их был бедный рабочий с улицы Шаронны, жена которого как раз в это время рожала. Он плакал. Слыша его рыдания и видя его лохмотья, я понял, почему он так быстро прошел путь от нужды к отчаянию и возмущению. Главарем их был бледный белокурый молодой человек с выдающимися скулами, с умным лбом, с серьезным и решительным взглядом. Когда я освободил его и назвал себя, он тоже заплакал и сказал: «Подумать только, ведь час тому назад я знал, что вы находитесь где-то перед нами, и мне хотелось, чтобы у моего ружья были глаза, чтобы оно увидело вас и убило». Он прибавил: «Мы живем в такое время, что, может быть, я вдруг понадоблюсь вам, тогда приходите». Его звали Огюст, у него был кабачок на улице Ларокет.
С тех пор я видел его только один раз, 26 августа 1850 года, в тот день, когда я провожал прах Бальзака на кладбище Пер-Лашез. Похоронная процессия проходила мимо кабачка Огюста. Все улицы на ее пути были запружены народом. Огюст стоял на пороге со своей молодой женой, вместе с двумя или тремя рабочими. Увидев меня, он поклонился.
О нем-то я и думал, идя по пустынным улицам, расположенным позади моего дома; напомнили мне о нем события 2 декабря. Я полагал, что он сообщит, что делается в Сент-Антуанском предместье, и поможет нам поднять восстание. Мне казалось, что этот молодой человек сможет быть одновременно и солдатом и вождем, я припомнил слова, которые он мне тогда сказал, и решил, что будет полезно повидаться с ним. Я начал с того, что разыскал на улице Сент-Анастаз смелую женщину, спрятавшую в тот день у себя Огюста и трех его товарищей; она и после того много раз помогала им. Я попросил ее проводить меня. Она согласилась.
По дороге я пообедал плиткой шоколада, которую мне дал Шарамоль.
Бульвары на пути от Итальянской Оперы к Маре поразили меня. Все магазины были открыты, как обычно. Особых военных приготовлений не замечалось. В богатых кварталах — сильное волнение и толпы народа; но по мере того, как мы приближались к населенным беднотой районам, улицы пустели. Перед Турецким кафе был выстроен полк в боевом порядке. Толпа молодых блузников прошла мимо этого полка, распевая Марсельезу. Я ответил им криком: «К оружию!» Полк не шевельнулся; свет фонарей освещал театральные афиши на соседней стене, театры были открыты, проходя, я взглянул на афиши. В Итальянской Опере давали «Эрнани», выступал новый тенор, по фамилии Гуаско.
На площади Бастилии, как обычно, самым спокойным образом расхаживали люди. Только возле Июльской колонны собрались несколько рабочих, они тихо разговаривали между собой. Прохожие смотрели в окна кабачка на двух яростно споривших людей: один был за переворот, другой против; сторонник переворота был в блузе, ею противник в сюртуке. Несколькими шагами дальше какой-то фокусник поставил свой складной столик, зажег на нем четыре сальные свечи и жонглировал бокалами, окруженный толпой, которая, очевидно, не думала ни о каком другом фокуснике, кроме этого. В глубине темной и пустынной набережной смутно виднелись несколько артиллерийских упряжек. Там и сям при свете зажженных факелов выступали черные силуэты пушек.
На улице Ларокет я не сразу отыскал дверь кабачка Огюста. Почти все лавки были заперты, и потому на улице царил мрак. Наконец я увидел за небольшой витриной свет, падавший на оцинкованную стойку. В глубине, за перегородкой, тоже застекленной и закрытой белыми занавесками, виднелся другой огонек, и неясно вырисовывались два или три силуэта сидевших за столиками людей. Сюда-то мне и было нужно.
Я вошел. Открываясь, входная дверь качнула колокольчик, он задребезжал. Дверь застекленной перегородки, отделявшей лавку от заднего помещения, открылась, и показался Огюст. Он сразу же узнал меня и шагнул мне навстречу.
— А, это вы, сударь, — сказал он.
— Вы знаете, что происходит? — спросил я.
— Да, сударь.
Это «да, сударь», произнесенное спокойно и даже с некоторым смущением, объяснило мне все. Вместо крика негодования, которого я ожидал, я услышал этот спокойный ответ. Мне показалось, что я говорю с самим Сент-Антуанским предместьем. Я понял, что с этой стороны все кончено и здесь нам не на что надеяться. Народ, этот достойный преклонения народ, не хотел бороться. Я все же сделал попытку.
— Луи Бонапарт предает республику, — сказал я, не замечая, что возвысил голос.
Он дотронулся до моей руки, показав пальцем на силуэты, видневшиеся на фоне застекленной перегородки.
— Осторожнее, сударь, говорите тише.
— Как, — воскликнул я, — вот до чего мы дошли! Вы не смеете говорить, не смеете громко произнести имени «Бонапарт», вы едва решаетесь потихоньку пробормотать несколько слов, здесь, на этой улице, в этом Сент-Антуанском предместье, где все двери, все окна, все булыжники, все камни должны были бы возопить: «К оружию!»
Огюст объяснил мне то, что я и сам уже довольно ясно понимал, о чем я догадывался еще утром, после своего разговора с Жераром: моральное состояние предместий. «Народ «одурачен», — говорил он, — все поверили, что восстанавливается всеобщее голосование. Они довольны тем, что закон от тридцать первого мая отменен».
Здесь я прервал его:
— Да сам же Луи Бонапарт требовал этого закона тридцать первого мая, ведь его составил Руэр, ведь его предложил Барош, ведь это бонапартисты голосовали за него. Вы одурачены вором, который украл у вас кошелек и сам же возвращает его вам!
— Я — нет, — возразил Огюст, — но другие — да. В сущности, — продолжал он, — простые люди не очень дорожат конституцией, они любят республику, а республика ведь «осталась неприкосновенной»; во всем этом ясно видно только одно: пушки, готовые расстреливать народ; июнь тысяча восемьсот сорок восьмого года еще не забыт, бедные люди сильно тогда пострадали; Кавеньяк наделал много зла, и женщины теперь цепляются за блузы мужчин и не пускают их на баррикады; несмотря на все это, если руководство возьмут на себя такие люди, как мы, народ, может быть, станет драться, но, главное, никто толком не знает, из-за чего. — Он закончил словами: — Верхняя часть предместья никуда не годится, нижняя лучше. Здесь будут драться. На улицу Ларокет можно рассчитывать, на улицу Шаронны тоже, но те, кто живет близ кладбища Пер-Лашез, спрашивают: «А какая мне будет от этого польза?» Они знают только те сорок су, которые зарабатывают за день. Они не пойдут, не рассчитывайте на мраморщиков. — Он прибавил с улыбкой: — У нас говорят не холодный, как мрамор, а холодный, как мраморщик, — и продолжал: — Что до меня, то если я жив, этим я обязан вам. Располагайте мной, пусть меня убьют, но я сделаю все, что вы захотите.
Пока он говорил, я заметил, как позади него приподнялась белая занавеска, висевшая на застекленной перегородке. Его молодая жена с тревогой смотрела на нас.
— Да нет же, — сказал я ему, — ведь нам нужно общее усилие, а не жизнь одного человека.
Он замолчал, а я продолжал говорить:
— Так вот, послушайте меня, Огюст, вы человек смелый и умный, — неужели парижские предместья, полные героизма даже тогда, когда они заблуждаются, те самые предместья, которые в июне тысяча восемьсот сорок восьмого года из-за недоразумения, из-за плохо понятого вопроса о заработной плате, из-за неудачного определения социализма поднялись против Собрания, избранного ими самими, против всеобщей подачи голосов, против того, за что они сами голосовали, теперь, в декабре тысяча восемьсот пятьдесят первого года, не встанут на защиту права, закона, народа, свободы, республики! Вы говорите, что дело запутанное и вам многое непонятно, но ведь совсем наоборот — в июне все было темно, а сейчас все совершенно ясно.
Когда я произнес последние слова, дверь заднего помещения тихо отворилась, и кто-то вошел. То был молодой человек, белокурый, как и Огюст, в пальто и в фуражке. Я вздрогнул. Огюст обернулся и сказал:
— Ему можно доверять.
Молодой человек снял фуражку, подошел вплотную ко мне и, встав спиной к застекленной перегородке, сказал вполголоса:
— Я вас хорошо знаю. Я был сегодня на бульваре Тампль. Мы спросили вас, что нужно делать; вы ответили: «Браться за оружие». Смотрите!
Он засунул обе руки в карманы пальто и вытащил оттуда два пистолета.
Почти в тот же момент звякнул колокольчик у входной двери. Юноша быстро сунул пистолеты обратно в пальто. Вошел человек в блузе, рабочий лет пятидесяти. Ни на кого не глядя, не говоря ни слова, он бросил на прилавок монету; Огюст достал рюмку и налил в нее водки; человек выпил залпом, поставил рюмку на прилавок и вышел.
Когда дверь за ним закрылась, Огюст сказал:
— Вы видите, они пьют, едят, спят и больше ни о чем не думают. Все они таковы!
Другой запальчиво прервал его:
— Один человек еще не весь народ! — И, повернувшись ко мне, он продолжал: — Гражданин Виктор Гюго, народ поднимется. Если и не все выступят, то найдутся такие, которые пойдут. По правде сказать, может быть, начинать надо не здесь, а по другую сторону Сены.
Он вдруг остановился.
— Однако вы ведь не знаете моей фамилии.
Он вынул из кармана записную книжку, вырвал из нее листок, написал карандашом свою фамилию и подал мне. Я жалею, что забыл эту фамилию. Это был рабочий-механик. Чтобы не подвести его, я сжег эту бумажку вместе со многими другими в субботу утром, когда меня чуть не арестовали.
— Сударь, — сказал Огюст, — это верно, мой приятель прав, не нужно так уж обвинять предместье, оно, может быть, и не начнет первым, но если другие поднимутся, то и за ним дело не станет.
Я воскликнул:
— Кто же тогда поднимется, если Сент-Антуанское предместье не шевельнется? Кто еще жив, если народ мертв?
Рабочий с машиностроительного завода подошел к выходной двери, убедился, что она плотно закрыта, затем вернулся и сказал:
— Охотники найдутся. Некому только руководить ими. Послушайте, гражданин Виктор Гюго, вам я могу это сказать… — И он прибавил, понизив голос: — Я думаю, что восстание начнется сегодня ночью.
— Где?
— В предместье Сен-Марсо.
— В котором часу?
— В час ночи.
— Почему вы это знаете?
— Потому что я буду участвовать в нем. — Он продолжал: — Теперь скажите, гражданин Виктор Гюго, если сегодня ночью в предместье Сен-Марсо начнется восстание, вы будете руководить им? Вы согласны?
— Да.
— Ваша перевязь с вами?
Я вытащил ее конец из кармана. Глаза его засияли радостью.
— Хорошо, — сказал он, — у гражданина при себе его пистолеты, у депутата его перевязь. Все вооружены.
Я спросил его:
— Вы уверены, что восстание начнется сегодня ночью?
Он ответил:
— Мы его подготовили и рассчитываем на него.
— В таком случае я хочу быть на первой же баррикаде, которую вы построите, — сказал я, — приходите за мной.
— Куда?
— Туда, где я буду.
Он сказал, что если восстание решат начать ночью, он будет знать об этом самое позднее в половине одиннадцатого, а меня предупредят до одиннадцати часов. Мы условились, что, где бы я ни находился до этого времени, я сообщу о своем местопребывании Огюсту, а тот известит его.
Молодая женщина по-прежнему смотрела на нас. Разговор затянулся и мог возбудить подозрения в людях, сидевших в помещении за лавкой.
— Я ухожу, — сказал я Огюсту.
Я приоткрыл дверь, он взял мою руку, пожал ее нежно, словно женщина, и сказал мне с глубоким чувством:
— Вы уходите, вы еще вернетесь?
— Не знаю.
— Верно, — продолжал он, — никто не знает, что может случиться. Послушайте, вас, может быть, будут преследовать и разыскивать, как в свое время меня: может быть, настанет ваша очередь скрываться от расстрела, а моя — спасать вас. Знаете, маленькие люди тоже могут пригодиться. Господин Виктор Гюго, если вам понадобится убежище, мой дом в вашем распоряжении. Приходите сюда. Вы найдете здесь постель, где вы сможете спать, и человека, который пойдет за вас на смерть.
Я поблагодарил его крепким пожатием руки и ушел. Пробило восемь часов. Я торопился на улицу Шаронны.
XVIII Депутатов преследуют
На углу улицы Фобур-Сент-Антуан, перед бакалейной лавкой Пепена, в том самом месте, где в июле 1848 года поднималась гигантская, высотой в два этажа, баррикада, были расклеены изданные утром декреты; несколько человек рассматривали их, хотя прочесть что-либо в темноте было невозможно. Какая-то старуха говорила: «Двадцатипятифранковых прогнали. Вот и хорошо!»
Я сделал еще несколько шагов, меня окликнули. Я обернулся. Это проходили Жюль Фавр, Бурза, Лафон, Мадье де Монжо и Мишель де Бурж. Я попрощался с отважной и преданной женщиной, которая провожала меня. Посадив ее в проезжавший мимо фиакр, я присоединился к пяти депутатам. Они шли с улицы Шаронны. Помещение ассоциации краснодеревщиков было закрыто.
— Там никого нет, — сказал мне Мадье де Монжо. — Эти добрые люди начинают накапливать капиталец и не хотят рисковать им. Они боятся нас, они говорят: нас перевороты не касаются, пусть себе делают, что хотят.
— Это меня не удивляет, — ответил я, — в настоящий момент ассоциация — то же, что буржуа.
— Куда мы идем? — спросил Жюль Фавр.
Лафон жил в двух шагах отсюда, на набережной Жемап, в доме № 2. Он предложил нам свою квартиру, мы согласились и приняли необходимые меры для того, чтобы сообщить членам левой о нашем местопребывании.
Через несколько минут мы были у Лафона, в пятом этаже высокого старого дома. Этот дом видел взятие Бастилии.
Вход в этот дом был с набережной Жемап; чтобы попасть на узкий двор, нужно было пройти через калитку и спуститься с набережной на несколько ступеней. Бурза остался у этой калитки, чтобы предупредить нас в случае тревоги и указывать дом депутатам, которые еще должны были прибыть.
Через несколько минут нас собралось довольно много, пришли почти все те, кто был утром, и прибавилось еще несколько человек. Лафон предоставил нам свою гостиную, окна которой выходили на задний двор. Мы избрали нечто вроде бюро, и Жюль Фавр, Карно, Мишель и я сели за большой стол у камина, освещенный двумя свечами. Депутаты и все присутствующие уселись вокруг нас на стульях и креслах. Группа, стоявшая у двери, загораживала вход.
Мишель де Бурж, входя, воскликнул:
— Мы пришли в Сент-Антуанское предместье поднять народ. Мы здесь. Здесь мы и останемся!
В ответ на эти слова раздались рукоплескания.
Изложили положение: предместья бездействуют, в ассоциации краснодеревщиков — никого нет, почти повсюду двери заперты. Я рассказал обо всем, что видел и слышал на улице Ларокет, о том, что говорил о равнодушии народа виноторговец Огюст, о надеждах механика и о предполагаемом восстании в предместье Сен-Марсо. Было решено, что по первому зову я отправлюсь туда.
Впрочем, о событиях этого дня еще ничего не было известно. Сообщали, что Гавен, помощник командира 5-го легиона Национальной гвардии, разослал своим офицерам приказ явиться в часть.
Прибыли несколько журналистов демократического направления, среди них Александр Рей и Ксавье Дюррье, а также Кеслер, Вилье и Амабль Леметр, из газеты «Революсьон»; одним из этих журналистов был Мильер.
У Мильера над бровью виднелась широкая кровавая ссадина; утром, когда он, расставшись с нами, нес с собой одну из копий продиктованной мною прокламации, кто-то набросился на него и пытался вырвать у него листок; очевидно, полиция была уже предупреждена о прокламации и разыскивала ее; Мильер вступил в рукопашную схватку с полицейским агентом и свалил его с ног, но вышел из борьбы со ссадиной на лбу. Тем не менее прокламации до сих пор не были напечатаны. Было уже около девяти часов вечера, а их все еще не принесли. Ксавье Дюррье заявил, что не пройдет и часа, как у нас будут обещанные сорок тысяч экземпляров. Мы надеялись ночью расклеить их на всех парижских домах. Каждый из присутствующих должен был стать расклейщиком.
Среди нас — явление неизбежное в бурном смятении этих первых часов — находилось много людей, которых мы не знали. Один из них принес десять или двенадцать экземпляров призыва к оружию. Он попросил меня собственноручно подписать их, чтобы иметь возможность, как он сказал, показать мою подпись народу… «Или полиции», — улыбаясь, шепнул мне Боден. Но нам было не до этих предосторожностей. Я подписал все экземпляры.
Слово взял Жюль Фавр. Нужно было организовать действия левой и руководить ими, придать подготовлявшемуся движению единство, обеспечить ему центр, дать восстанию стержень, а народу — точку опоры. Он предложил немедленно составить комитет, который представлял бы всю левую со всеми ее оттенками, и поручить ему организовать и возглавить восстание.
Все депутаты шумно одобрили речь этого смелого и красноречивого человека. Предложили составить комитет из семи членов. Сразу же назвали кандидатуры Карно, де Флотта, Жюля Фавра, Мадье де Монжо, Мишеля де Буржа и мою. Так был единогласно избран этот комитет восстания, который, по моему настоянию, назвали Комитетом сопротивления: ибо мятежником был Луи Бонапарт, а мы воплощали республику. Было высказано пожелание ввести в комитет представителя от рабочих. Предложили Фора (от Роны). Но Фор, как мы потом узнали, утром был арестован. Таким образом оказалось, что комитет фактически состоял только из шести членов.
Члены комитета тут же распределили между собой обязанности. Они выделили из своей среды постоянный комитет, который должен был в случае крайней необходимости издавать декреты от имени всей левой, служить средоточием сведений, директив, инструкций, материальных средств, приказов. В этот постоянный комитет вошли четверо представителей: Мишель де Бурж, Карно, Жюль Фавр и я. Де Флотт и Мадье де Монжо получили специальные задания: де Флотту поручили левый берег Сены и район высших учебных заведений, Мадье — бульвары и пригороды.
Когда закончилась эта предварительная работа, Лафон отозвал в сторону Мишеля де Буржа и меня и сказал нам, что бывший член Учредительного собрания Прудон хочет повидаться с кем-нибудь из нас двоих, что он минут пятнадцать простоял внизу и теперь ушел, передав, что будет ждать нас на площади Бастилии.
Прудон, в это время отбывавший трехгодичный срок заключения в тюрьме Сен-Пелажи за оскорбление Луи Бонапарта, время от времени получал разрешение выйти. Случайно одно из этих разрешений совпало с днем 2 декабря.
Нельзя не отметить следующего факта: 2 декабря Прудон находился в заключении на основании судебного приговора, и в тот самый день, когда в тюрьму незаконно бросили депутатов, пользовавшихся неприкосновенностью, из нее выпустили Прудона, которого могли держать там совершенно законно.
Оказавшись на свободе, Прудон пришел к нам.
Я был знаком с Прудоном, так как видел его в Консьержери, где сидели оба моих сына, а вместе с ними мои знаменитые друзья, Огюст Вакери и Поль Мерис, и мужественные писатели, Луи Журдан, Эрдан и Сюше; в голове у меня невольно мелькнула мысль, что в этот день, конечно, не выпустили бы никого из этих людей.
Тут Ксавье Дюррье шепотом сказал мне:
— Я только что расстался с Прудоном; он хотел бы вас видеть. Он ждет вас внизу, совсем близко, у входа на площадь, вы увидите его — он стоит, облокотившись на парапет канала.
— Я иду, — ответил я.
Я спустился.
В самом деле, Прудон стоял в указанном месте, в раздумье, опершись обоими локтями на парапет. На нем была та самая широкополая шляпа, в которой он часто прогуливался большими шагами, один, по двору Консьержери.
Я подошел к нему.
— Вы хотите говорить со мной? — спросил я его.
— Да.
И он пожал мне руку.
Место было пустынное. Налево от нас расстилалась обширная и темная площадь Бастилии; на ней ничего нельзя было различить, но чувствовалось присутствие множества людей; там в боевом порядке стояли полки; они не располагались биваком и были готовы выступить; слышался глухой шум их дыхания; на площади мелькали бледные искры — это во тьме поблескивали штыки. Над этой бездной мрака, прямая и черная, вздымалась Июльская колонна.
Прудон продолжал.
— Вот в чем дело. Я пришел предупредить вас как друг. Вы во власти иллюзий. Народ одурачен. Он не тронется с места. Бонапарт одержит верх. Этот вздор, восстановление всеобщего голосования, вводит простаков в заблуждение. Бонапарт слывет социалистом. Он сказал: «Я буду императором черни». Это наглость, но наглость может иметь успех, когда к ее услугам вот это.
И Прудон показал рукой на зловещие отблески штыков. Он продолжал:
— У Бонапарта есть своя цель. Республика создала народ, он хочет воссоздать чернь. Он добьется своего, а вы проиграете. На его стороне сила, пушки, заблуждение народа и промахи Собрания. Несколько человек из левой, к которым вы принадлежите, не справятся с переворотом. Вы честные люди, а он мошенник. У вас есть совесть, а у него ее нет, — и в этом его преимущество. Поверьте мне, прекратите сопротивление. Положение безвыходное. Нужно ждать, а сейчас борьба была бы безумием. На что вы надеетесь?
— Ни на что, — ответил я.
— А что же вы будете делать?
— Все.
По звуку моего голоса он понял, что настаивать бесполезно.
— Прощайте! — сказал он мне.
Мы расстались. Он скрылся во мраке: больше я его не видел.
Я вернулся к Лафону.
Печатных прокламаций с призывом к оружию все еще не было. Встревоженные депутаты спускались и поднимались по лестнице. Некоторые выходили на набережную Жемап, чтобы подождать там и узнать новости. В комнате стоял неясный шум разговоров. Члены комитета Мадье де Монжо, Жюль Фавр и Карно ушли, передав мне через Шарамоля, что они будут на улице Мулен в доме № 10, у бывшего члена Учредительного собрания Ландрена, в округе 5-го легиона, так как там удобнее совещаться: они просили меня тоже прийти туда. Но я счел нужным остаться. Я обещал принять участие в предполагавшемся восстании в предместье Сен-Марсо. Я ждал известий от Огюста и не хотел далеко уходить; кроме того, если бы я ушел, представители левой, видя, что среди них не осталось ни одного члена комитета, могли бы разойтись, не приняв никакого решения, а я считал это нежелательным во многих отношениях.
Время шло, а прокламаций все не было. На другой день мы узнали, что весь тираж был захвачен полицией. Присутствовавший среди нас бывший офицер республиканского флота Курне взял слово. Что за человек был этот Курне, какая это была энергичная и решительная натура, мы увидим в дальнейшем. Он напомнил нам, что мы находимся здесь уже около двух часов, что об этом непременно узнает полиция, что первый долг членов левой — сохранить себя и возглавить народ; что в нашем положении необходимо из предосторожности почаще менять пристанище, и закончил, предложив нам совещаться в его мастерских, на улице Попенкур в доме № 82, в конце тупика, тоже поблизости от Сент-Антуанского предместья. Это предложение было принято, я послал известить Огюста о моем местонахождении и просил сообщить ему адрес Курне. Лафон остался на набережной Жемап, с тем чтобы послать нам прокламации, как только их принесут, и мы тут же отправились в путь.
Шарамоль взялся послать кого-то на улицу Мулен предупредить остальных членов комитета, что мы ждем их на улице Попенкур в доме № 82.
Мы шли, как и утром, небольшими отдельными группами. Набережная Жемап тянется вдоль левого берега канала Сен-Мартен; мы пошли по набережной. Мы встретили там только нескольких шедших поодиночке рабочих, которые оборачивались, когда мы проходили, и с удивлением смотрели нам вслед. Ночь была темная. Накрапывал дождь.
Перейдя через улицу Шмен-Вер, мы свернули направо и пошли по улице Попенкур. Там мы не встретили ни души, огни были потушены, все закрыто и погружено в безмолвие, как и в Сент-Антуанском предместье. Это длинная улица, мы шли долго, миновали казармы. Курне уже не было с нами, он отстал, чтобы предупредить кого-то из своих друзей и позаботиться об обороне на случай нападения на его дом. Мы стали искать дом № 82. Темнота была такая, что мы не могли различить номера домов. После долгих поисков в конце улицы направо мы увидели свет; это была мелочная лавка, на всей улице только она одна и была открыта. Кто-то из нас вошел и спросил хозяина, сидевшего за прилавком, где живет г-н Курне. «Напротив», — сказал торговец, показав пальцем на старые низкие ворота, видневшиеся на другой стороне улицы.
Мы постучали в ворота. Они отворились. Боден вошел первым, стукнул в окно привратницкой и спросил: «Здесь живет господин Курне?» Старушечий голос ответил: «Здесь».
Привратница уже лежала в постели. В доме все спали. Мы вошли.
Войдя и закрыв за собой ворота, мы очутились на маленьком квадратном дворе перед убогим двухэтажным строением; тишина как в монастыре, ни одного огонька в окнах; возле сарая — низенький вход, а за ним узкая, темная, извилистая лестница. «Мы ошиблись, — сказал Шарамоль, — не может быть, чтобы это был дом Курне».
Тем временем привратница, слыша шаги целой толпы под воротами, окончательно проснулась, зажгла ночник и показалась в окне; прижавшись лицом к стеклу, она испуганно смотрела на шестьдесят черных призраков, неподвижно стоявших во дворе.
Эскирос обратился к ней:
— Точно здесь живет господин Курне?
— Господин Корне? — ответила старушка. — Конечно.
Все объяснилось. Мы спрашивали «Курне», а лавочнику и привратнице послышалось «Корне». Случайно оказалось, что какой-то господин Корне как раз жил здесь.
В дальнейшем мы увидим, какую необыкновенную услугу оказала нам судьба.
Мы вышли, к великой радости бедной привратницы, и снова пустились на поиски. Ксавье Дюррье удалось, наконец, осмотреться и вывести нас из затруднительного положения.
Через несколько минут мы повернули налево и попали в довольно длинный глухой переулок, слабо освещенный старым масляным фонарем, какие прежде горели на улицах Парижа; потом опять повернули налево и через узкий проход вышли на широкий двор, застроенный навесами и загроможденный разными материалами. На этот раз мы были у Курне.
XIX На краю могилы
Курне нас ожидал. Он провел нас в низкое помещение первого этажа, где топилась печь, стояли стол и несколько стульев. Но помещение было маленькое; когда вошли человек пятнадцать, там уже негде было повернуться; другим пришлось остаться во дворе.
— Здесь нельзя совещаться, — сказал Бансель.
— У меня наверху есть комната побольше, — ответил Курне, — но дом еще не достроен, и потому там не топлено и нет мебели.
— Ничего, — ответили ему, — пойдем наверх.
Мы поднялись во второй этаж по крутой и узкой деревянной лестнице и расположились в двух комнатах с очень низким потолком, из которых одна была довольно поместительна. Стены были выбелены известкой, вся мебель состояла из нескольких табуреток с соломенными сиденьями.
Мне крикнули: «Ведите собрание!»
Я сел на табурет в углу первой комнаты; по правую сторону от меня находился камин, по левую дверь на лестницу. Боден сказал мне: «У меня есть карандаш и бумага. Я буду вашим секретарем». Он взял другой табурет и сел рядом со мной.
Депутаты и прочие присутствовавшие, среди которых было несколько блузников, образовали перед Боденом и мной нечто вроде треугольника, прилегавшего к двум стенам зала, даже на лестнице толпились люди.
Казалось, что собрание вдохновляла единая душа. Лица были бледны, но глаза сверкали одной и той же великой решимостью. Во всех этих призраках пылало одно и то же пламя. Слова попросили несколько человек сразу. Я предложил, чтобы они сказали свои фамилии Бодену, который записал их и затем подал мне список.
Первым говорил один рабочий. Он сперва извинился за то, что выступает перед депутатами, не будучи членом Собрания. Его тут же перебили: «Нет! Нет! Народ и его депутаты едины. Говорите!» Он сказал, что взял слово только для того, чтобы снять всякое подозрение с чести своих собратьев, рабочих Парижа: он слышал, что некоторые депутаты сомневаются в них, но это несправедливо, — рабочие понимают всю тяжесть преступления Бонапарта и долг, который ложится на народ; они не будут глухи к призывам депутатов-республиканцев, и скоро все это увидят. Он говорил просто, с каким-то гордым смущением и честной прямотой. Он сдержал слово. Я встретил его на другой день среди защитников баррикады на улице Рамбюто.
Рабочий заканчивал свою речь, когда вошел Матье (от Дромы). «Важные новости!» — воскликнул он. Воцарилось глубокое молчание.
Как я уже сказал, до нас еще утром дошли слухи о том, что члены правой должны были собраться и что некоторые из наших друзей, очевидно, приняли участие в их заседании; это все, что мы знали. Матье (от Дромы) рассказал о событиях дня, об арестах, беспрепятственно произведенных на дому, о том, как было разогнано совещание у Дарю, на Бургундской улице, как вытолкали депутатов из зала Национального собрания, о низости председателя Дюпена, о полном бессилии Верховного суда, о ничтожестве Государственного совета, о жалком заседании в мэрии X округа, о провале Удино, о смещении президента, о том, как двести двадцать депутатов были арестованы и отведены на набережную Орсе. Он закончил мужественными словами: «Ответственность левой возрастает с каждым часом. Завтрашний день, по всей вероятности, будет решающим». Он заклинал Собрание принять необходимые меры.
Какой-то рабочий сообщил еще следующий факт: утром он был на улице Гренель, видел, как вели арестованных членов Собрания, и слышал, как один из командиров Венсенских стрелков сказал: «Теперь очередь господ красных депутатов. Им несдобровать!»
Один из сотрудников «Революсьон», Эннет де Кеслер, впоследствии мужественно отправившийся в изгнание, дополнил сведения, принесенные Матье (от Дромы). Он рассказал о попытке двух членов Собрания обратиться к так называемому министру внутренних дел Морни и об ответе упомянутого Морни: «Если я обнаружу депутатов на баррикадах, то расстреляю их всех до одного!» Кеслер привел и другие слова этого негодяя — о депутатах, отведенных на набережную Орсе: «Это последние депутаты, которых мы сажаем в тюрьму». Он сообщил нам, что в это самое время в Национальной типографии печатается плакат, оповещающий о том, что «всякий, кого застанут на каком-нибудь тайном совещании, будет немедленно расстрелян». На следующее утро в самом деле появился такой плакат.
Тогда поднялся Боден.
— Ярость переворота удвоилась, — воскликнул он. — Граждане, удвоим и мы нашу энергию!
Вдруг вошел какой-то блузник. Он запыхался от быстрой ходьбы; он сказал нам, что видел своими собственными глазами, как по улице Попенкур по направлению к тупику, где находился дом № 82, в молчании двигался батальон, что дом уже окружен и сейчас на нас нападут.
— Граждане депутаты! — воскликнул Курне. — У меня в тупике поставлены дозорные, которые вернутся и предупредят нас, если батальон повернет сюда. Ворота узкие, их можно забаррикадировать в мгновение ока. Нас здесь вместе с вами пятьдесят человек, мы вооружены и готовы на все, а при первом же выстреле нас станет двести. У нас есть патроны. Вы можете спокойно совещаться.
При этих словах он поднял правую руку; в его рукаве блеснул спрятанный там кинжал с широким лезвием; левой рукой он стукнул одну о другую рукоятки пары пистолетов, лежавших у него в кармане.
— Ну что ж, — сказал я, — заседание продолжается.
Затем один за другим выступили трое ораторов левой, да числа самых молодых и красноречивых, Бансель, Арно (от Арьежа) и Виктор Шоффур. Всем троим не давала покоя мысль, что наш призыв к оружию до сих пор еще не расклеен, что попытки поднять народ на бульваре Тампль и у кафе Бонвале не привели ни к каким результатам, что из-за насильственных мер, принимаемых Бонапартом, ни одного из наших решений не удалось осуществить, — а между тем слухи о собрании в мэрии X округа уже начали распространяться по Парижу, и таким образом могло создаться впечатление, что правая организовала сопротивление раньше левой. Их воодушевляло благородное соревнование, стремление действовать ради общего блага. Для них было радостью узнать о том, что где-то здесь, совсем близко, находится батальон, готовый к бою, что, быть может, через несколько минут польется их кровь.
Впрочем, советов было множество, а вместе с ними росла и неуверенность. У некоторых оставались еще иллюзии. Рабочий, стоявший рядом со мной у камина, сказал вполголоса своему товарищу, что рассчитывать на народ нельзя и драться «было бы безумием».
События этого дня несколько изменили мой взгляд на то, как надлежит действовать в таких трудных условиях. Молчание толпы в тот момент, когда Арно (от Арьежа) и я обратились к войскам, произвело на меня тяжелое впечатление, и если за несколько часов до этого, на бульваре Тампль, я был уверен в том, что народ будет драться, то теперь эта уверенность пошатнулась. Колебания Огюста заставили меня призадуматься; ассоциация краснодеревщиков, видимо, уклонялась от борьбы, безучастие Сент-Антуанского предместья было так же очевидно, как и инертность предместья Сен-Марсо, — механик должен был известить меня до одиннадцати часов, а было уже больше одиннадцати, — все надежды постепенно рушились. Тем более важно было, по моему мнению, разбудить Париж, поразить его необыкновенным зрелищем, смелыми действиями, проявлением энергии и силы объединенных депутатов левой, их отвагой и безграничной преданностью народу.
В дальнейшем мы увидим, что случайное стечение обстоятельств помешало этой мысли осуществиться так, как я ее понимал. Депутаты до конца исполнили свой долг, провидение, быть может, не до конца исполнило свой. Как бы то ни было, предположив, что мы не погибнем тут же в ночном бою и что у нас еще не все потеряно в будущем, я считал необходимым привлечь общее внимание к вопросу, как нам действовать на следующий день. Я стал говорить.
Я начал с того, что решительно сорвал покров, окутывавший действительное положение дел. Несколькими словами я обрисовал обстановку: конституция выброшена в сточную канаву, Собрание прикладами загнано в тюрьму, Государственный совет уничтожен, Верховный суд распущен полицейским агентом, — явно намечается победа Луи Бонапарта; Париж весь, словно сетью, покрыт войсками, повсюду оцепенение, все власти повержены, ни один договор не действителен. Остались только две силы: переворот и мы.
— Мы! А что такое мы? Мы, — сказал я, — это истина и справедливость! Мы — это верховная, суверенная власть, мы — это воплощенный народ, это право!
Я продолжал:
— С каждой минутой Луи Бонапарт все больше погрязает в своем преступлении. Для него нет ничего неприкосновенного, ничего святого; сегодня утром он силой ворвался во дворец представителей нации, несколько часов спустя он наложил руку на самих депутатов, завтра, может быть сейчас, он прольет их кровь. Он наступает на нас, будем же и мы наступать на него. Опасность растет, будем расти вместе с опасностью.
Слова мои были встречены одобрением. Я продолжал:
— Повторяю и настаиваю — не простим этому гнусному Бонапарту ни одного из его чудовищных преступлений. Раз он нацедил вина — я хочу сказать крови, — пусть выпьет. Мы не одиноки, мы — нация. Каждый из нас облечен верховной властью народа, Бонапарт не может посягнуть на нас, не поправ ее. Пусть же его картечь вместе с нашей грудью пробьет наши перевязи. Путь, избранный этим человеком, с неумолимой логикой приведет его к измене родине. Это ее он убивает сейчас! Ну что ж, если пуля исполнительной власти пробьет перевязь власти законодательной, — это будет явная измена родине. И это все должны увидеть!
— Мы готовы! — закричали все. — Скажите, какие меры, по вашему мнению, нужно принять?
— Никаких полумер, — ответил я, — нужно великое деяние! Завтра, если только мы выйдем отсюда сегодня ночью, встретимся все в Сент-Антуанском предместье…
Меня прервали: «Почему в Сент-Антуанском?»
— Да, — повторил я, — в Сент-Антуанском предместье! Я не могу поверить, чтобы сердце народа перестало так биться. Встретимся завтра все в Сент-Антуанском предместье. Напротив рынка Ленуар есть зал, где в тысяча восемьсот сорок восьмом году был клуб…
Мне закричали: «Зал Руазен!»
— Да, — подтвердил я, — зал Руазен. На свободе остались сто двадцать депутатов-республиканцев. Займем этот зал. Водворимся там во всей полноте и величии законодательной власти. Отныне мы представляем Собрание, все Собрание! Будем там заседать, будем совещаться в перевязях среди народа. Потребуем от Сент-Антуанского предместья, чтобы оно дало приют национальному представительству, чтобы оно укрыло верховную власть народа, отдадим народ под охрану народа, призовем его защищаться, в случае надобности прикажем ему это!
Какой-то голос прервал меня: «Народу не приказывают!»
— Нет, — воскликнул я, — когда дело касается общественного блага, когда дело касается будущего всех европейских наций, когда нужно защищать республику, свободу, цивилизацию, революцию, мы, представители всей нации, имеем право приказывать от имени французского народа народу Парижа. Соберемся же завтра в этом зале Руазен. В котором часу? Не слишком рано. Среди бела дня. Чтобы лавки были открыты, чтобы всюду ходили люди, чтобы началось движение пешеходов, чтобы на улице было много народа, чтобы нас видели, чтобы знали, кто мы, чтобы величие поданного нами примера всем бросалось в глаза и волновало каждое сердце. Сойдемся там все от девяти до десяти часов утра. Если не удастся почему-либо собраться в зале Руазен, мы займем первую попавшуюся церковь, манеж, сарай, любое помещение, где можно совещаться; если понадобится, то, как сказал Мишель де Бурж, мы будем заседать на перекрестке между четырьмя баррикадами. Но я пока назначаю зал Руазен. Не забывайте, во время такого кризиса перед народом не должно быть пустоты. Это пугает его. Где-то должно быть правительство, и об этом все должны знать. Мятежники в Елисейском дворце, правительство в Сент-Антуанском предместье; левая — это правительство, Сент-Антуанское предместье — это крепость; вот чем завтра нужно поразить Париж. Итак, в зал Руазен! Там, среди бесстрашной толпы рабочих этого большого района Парижа, утвердившись в предместье, как в крепости, одновременно законодательствуя и руководя борьбой, мы используем все возможные средства обороны и нападения, мы будем издавать прокламации и строить баррикады из булыжников мостовой; мы заставим женщин писать воззвания, пока мужчины будут сражаться; мы декретом заклеймим Луи Бонапарта, заклеймим его сообщников, мы объявим изменниками генералов, мы поставим вне закона все преступление в целом и всех преступников, мы призовем граждан к оружию, мы заставим армию исполнить ее долг, мы грудью встанем перед Бонапартом, грозные, как живая республика, мы сразимся с ним, и с нами будет и сила закона и сила народа; мы сокрушим этого презренного мятежника и восторжествуем, как великая законная власть, как великая власть революционная!
Говоря, я все больше опьянялся своей идеей. Мое воодушевление передалось собранию. Меня приветствовали. Я заметил, что слишком далеко зашел в своих надеждах, увлекся и увлек других, и рисовал им успех возможным, почти что легким в такой момент, когда никому нельзя было обольщаться иллюзиями. Действительность была мрачная, и я должен был об этом сказать. Я подождал, пока восстановилась тишина, и дал знак рукой, что хочу добавить еще несколько слов. Я продолжал, понизив голос:
— Послушайте, вы должны ясно отдать себе отчет в том, что вы делаете. На одной стороне сто тысяч солдат, семнадцать батарей полевой артиллерии, шесть тысяч крепостных орудий, склады, арсеналы, боеприпасов столько, что их хватило бы на поход в Россию; на другой стороне сто двадцать депутатов народа, тысяча или тысяча двести патриотов, шестьсот ружей, по два патрона на человека, ни одного барабана, чтобы бить сбор, ни одной колокольни, чтобы ударить в набат, ни одной типографии, чтобы напечатать прокламации, разве что где-нибудь в подвале два-три типографских станка, на которых можно наспех, украдкой оттиснуть плакат; смертная казнь тому, кто выворотит булыжник из мостовой, смертная казнь за скопление на улицах, смертная казнь за тайные сборища, смертная казнь за расклейку призыва к оружию; если вас застанут в бою, — смерть; если вас захватят после боя, — каторга или ссылка; на одной стороне армия и с ней преступление, на другой горсть людей и с ними право. Вот какова эта борьба. Готовы ли вы на нее?
Ответом был единодушный крик: «Готовы!»
Этот крик вырвался не из уст, это был крик души. Боден, все еще сидевший рядом со мной, молча пожал мне руку.
Тут же условились встретиться на другой день во вторник, между девятью и десятью часами утра, в зале Руазен; договорились собираться поодиночке или небольшими группами и известить о назначенной встрече отсутствующих. После этого оставалось только разойтись. Было, вероятно, около полуночи.
Вошел один из дозорных Курне.
— Граждане депутаты, — сказал он, — батальон ушел. Улица свободна.
Батальон этот, вышедший, вероятно, из казарм, расположенных очень близко, на улице Попенкур, целых полчаса простоял против тупика, затем вернулся в казармы. Уж не сочли ли несвоевременным и опасным вести нападение ночью, в этом узком тупике, среди грозного квартала Попенкур, где в июне 1848 года так долго не могли подавить восстание? Известно только, что солдаты обыскали несколько соседних домов. По сведениям, полученным позже, за нами, когда мы вышли из дома № 2 по набережной Жемап, следовал полицейский агент; он видел, как мы входили в дом, где жил некий Корне, и сразу же отправился в префектуру донести, где мы укрываемся. Батальон, посланный, чтобы захватить нас, окружил этот дом, обшарил его сверху донизу, ничего не нашел и повернул восвояси.
Это почти полное совпадение фамилий «Корне» и «Курне» было причиной тому, что ищейки переворота потеряли след. Как видите, нас выручил только случай.
Я стоял у дверей с Боденом, уславливаясь с ним насчет завтрашней встречи, как вдруг ко мне подошел молодой человек с каштановой бородкой, со светскими манерами и прекрасно одетый, — я заметил его, еще когда говорил свою речь.
— Господин Виктор Гюго, — спросил он, — где вы собираетесь ночевать?
Я об этом еще не подумал.
Возвращаться домой было бы весьма неразумно.
— Право, не знаю, — ответил я.
— Хотите пойти ко мне?
— С удовольствием.
Он назвал себя. Это был де Лар…, он знал семью жены моего брата Абеля, Монферье, родственников Камбасересов, и жил на улице Комартен. При временном правительстве он был префектом. Его ждала карета. Мы сели; я дал адрес де Лар… Бодену, который собирался ночевать у Курне, чтобы он послал за мной, если придет известие о восстании в предместье Сен-Марсо или еще где-нибудь. Но я уже не надеялся, что оно начнется этой ночью, и был прав.
Приблизительно через четверть часа после того, как депутаты разошлись и мы уехали с улицы Попенкур, Жюль Фавр, Мадье де Монжо, де Флотт и Карно, за которыми мы послали на улицу Мулен, явились к Курне вместе с Шельшером, Шарамолем, д'Обри (от Севера) и Бастидом. У Курне еще оставалось несколько депутатов. Некоторые, как, например, Боден, предпочли ночевать у него. Нашим товарищам сообщили о решении, принятом по моему совету, и о встрече в зале Руазен, но, по-видимому, позабыли, в какой час была назначена эта встреча. Боден тоже не помнил этого точно, и наши товарищи вообразили, что нужно явиться не в девять часов утра, а в восемь. Виновата в этом только чья-то память, и упрекать здесь нельзя никого. Это помешало осуществить мой план, водворить Собрание в предместье и вступить в бой с Луи Бонапартом, зато повлекло за собой героическое событие — баррикаду на улице Сент-Маргерит.
XX Похороны великой годовщины
Таков был этот первый день. Рассмотрим его внимательно. Он этого заслуживает: это — годовщина Аустерлица; племянник чествует дядю. Аустерлиц — самая славная битва в истории; племянник поставил себе задачу — совершить подлость, столь же черную, сколь эта битва была блистательна. Он достиг цели.
Первый день, за которым наступят другие, уже содержите себе все, что будет дальше. Из всех попыток повернуть историю вспять эта — самая страшная. Невиданное доселе крушение цивилизации. То, что было зданием, стало развалинами; земля покрылась обломками. В одну ночь исчезли неприкосновенность закона, право гражданина, достоинство судьи, честь солдата. Все было чудовищно извращено. Присяга стала клятвопреступлением, знамя — грязной тряпкой, армия — шайкой разбойников, правосудие — злодейством, закон — насилием, управление страной — мошенничеством, Франция — притоном. И это называется — спасти общество.
Так на большой дороге бандит спасает путника.
Франция шла своей дорогой, Бонапарт остановил ее.
Предшествовавшее преступлению лицемерие по своему безобразию не уступает дерзости, которая за ним последовала. Нация была доверчива и спокойна. Ей нанесли внезапный и наглый удар. В истории нет ничего подобного Второму декабря. Никакой славы, одна только мерзость. Никаких прикрас. Те, кто говорил о своей честности, теперь объявляют себя подлецами, — что может быть проще? Почти непостижимая удача этого дня доказала, что политика может быть предельно непристойной. Измена вдруг задрала свой грязный подол. Она сказала: «Вот я какая!» И мы увидели гнусную душу во всей ее наготе. Луи Бонапарт появился без маски, и обнаружилась мерзость, он сорвал с себя покровы, и обнаружилась клоака.
Вчера президент республики, сегодня каторжник. Он клялся, он клянется еще и теперь, но уже совсем другим тоном. Клятва превратилась в проклятия. Словно женщина, которая вчера еще твердила о своей невинности, а сегодня, смеясь над дураками, пошла в публичный дом. Представьте себе Жанну д'Арк, сознавшуюся в том, что она Мессалина. Вот что такое Второе декабря.
В этом преступном деле замешаны женщины. В этом злодеянии участвуют и будуар и каторга. К тяжелому смраду пролитой крови примешивается неясный аромат пачули. Соучастники этого разбоя — люди обходительные, Ромье, Морни; запутавшись в долгах, они пришли к преступлению.
Европа была ошеломлена. Это был удар грома, подготовленный рукою плута. Нужно признаться, гром иногда попадает в дурные руки. Пальмерстон, этот изменник, одобрил свершившееся; старый Меттерних, погруженный в раздумье на своей Ренвегской вилле, покачал головой. Что до Сульта, первого после Наполеона героя Аустерлица, он сделал то, что должен был сделать: в день преступления он умер. Увы! Слава Аустерлица тоже.
ВТОРОЙ ДЕНЬ БОРЬБА
I Меня разыскивает полиция
Чтобы попасть с улицы Попенкур на улицу Комартен, нужно пересечь весь Париж. Повсюду, казалось, царило полное спокойствие. Был уже час ночи, когда мы приехали к де Лар… Фиакр остановился у калитки, которую де Лар… открыл своим ключом: направо, под аркой, лестница вела во второй этаж отдельного флигеля, где жил де Лар…, он провел меня к себе.
Мы вошли в небольшую гостиную, очень богато обставленную, освещенную ночником; наполовину задернутая портьера из гобелена отделяла ее от спальни. Де Лар… вошел туда и через несколько минут вернулся в сопровождении прелестной белокурой женщины в капоте; красивая, свежая, с распущенными волосами и нежным цветом лица, удивленная и все же приветливая, она смотрела на меня с тем растерянным видом, который придает юному взгляду еще большую прелесть. С минуту она оставалась на пороге комнаты, улыбающаяся, полусонная, оторопевшая, немного испуганная, и переводила глаза с мужа на меня; она, вероятно, никогда не думала о том, что такое гражданская война, которая теперь, внезапно, среди ночи, ворвалась к ней в дом в лице этого просящего приюта незнакомца.
Я стал извиняться перед г-жой де Лар…; она отвечала с милым добродушием; эта очаровательная женщина, которую мы подняли с постели среди ночи, воспользовалась случаем, чтобы приласкать хорошенькую двухлетнюю девочку, спавшую в колыбельке в гостиной, и, целуя ребенка, она простила разбудившему ее изгнаннику.
Не переставая разговаривать, де Лар… развел большой огонь в камине, а его жена устроила мне постель из подушек, плаща мужа и своей шубки; стоявший перед камином диван, где мне предстояло спать, был для меня немного короток, но мы приставили к нему кресло.
Во время совещания на улице Попенкур, где я только что председательствовал, Боден дал мне свой карандаш, чтобы записать несколько фамилий. Этот карандаш еще был при мне. Я написал записку жене, а госпожа де Лар… взялась лично передать ее на следующее утро госпоже Гюго. Роясь в карманах, я нашел купон на ложу в Итальянскую Оперу и отдал его госпоже де Лар…
Я смотрел на эту колыбель, на эту прекрасную и счастливую молодую чету и на себя: волосы мои были растрепаны, одежда в беспорядке, башмаки покрыты грязью, в голове — мрачные мысли; я казался самому себе совой, попавшей в соловьиное гнездо.
Через несколько минут г-н и г-жа де Лар… ушли в свою спальню, полураздвинутая портьера задернулась, я лег, не раздеваясь, на диван, и нарушенный мною безмятежный покой снова воцарился в уютном гнездышке.
Можно спать накануне сражения двух армий, но накануне гражданской битвы заснуть невозможно. Я слышал бой часов на ближней церкви; всю ночь под окном гостиной, где я лежал, по улице проезжали кареты, увозившие из Парижа напуганных событиями людей; они быстро, непрерывно следовали одна за другой; можно было подумать, что это разъезд после бала. Не в силах заснуть, я встал. Я немного раздвинул кисейную занавеску окна и пытался рассмотреть, что делается на улице; там царил полный мрак. Звезд не было, по ночному зимнему небу стремительно бежали бесформенные тучи. Дул зловещий ветер. Этот ветер, проносившийся в небесах, был подобен дыханию стихий.
Я смотрел на спящего ребенка.
Я ждал рассвета. Он наступил. По моей просьбе де Лар… еще вечером объяснил мне, как выйти, никого не беспокоя. Я поцеловал ребенка в лобик и вышел из гостиной. Я спустился, как можно тише закрыв за собой дверь, чтобы не разбудить г-жу де Лар… Калитка отворилась, и я очутился на улице. Там никого не было. Лавки еще не открывались; молочница спокойно расставляла на тротуаре свои кувшины, возле нее стоял ослик.
Я больше не встречался с де Лар… Впоследствии, в изгнании, я узнал, что он написал мне письмо, которое было перехвачено. Он, кажется, уехал из Франции. Пусть эти взволнованные страницы напомнят ему обо мне.
Улица Комартен выходит на улицу Сен-Лазар. Я пошел в эту сторону. Было уже совсем светло; ежеминутно меня нагоняли и перегоняли фиакры с чемоданами и узлами, направлявшиеся к Гаврскому вокзалу. Кое-где показывались прохожие. Рядом со мной по улице Сен-Лазар двигалось несколько военных фургонов. Напротив дома № 62, где жила м-ль Марс, я увидел на стене только что наклеенный плакат. Подойдя, я узнал шрифт Национальной типографии и прочел:
СОСТАВ НОВОГО МИНИСТЕРСТВА
Министр внутренних дел — де Морни.
Военный министр — дивизионный генерал де Сент-Арно.
Министр иностранных дел — де Тюрго.
Министр юстиции — Руэр.
Министр финансов — Фульд.
Министр флота — Дюко.
Министр общественных работ — Мань.
Министр народного образования — А. Фортуль.
Министр торговли — Лефевр-Дюрюфле.
Я сорвал плакат и бросил его в сточную канаву; солдаты обоза, сопровождавшие фургоны, безучастно посмотрели на меня и проехали своей дорогой.
На улице Сен-Жорж возле какой-то двери я увидел еще одно объявление. Это было «Воззвание к народу». Несколько человек читали его. Я сорвал и этот плакат, несмотря на сопротивление привратника, которому, по-видимому, было поручено его охранять.
Когда я вышел на площадь Бреда, там уже стояло несколько фиакров. Я нанял один из них.
Я находился совсем близко от своего дома. Искушение было слишком велико, я решил зайти. Когда я шел по двору, швейцар удивленно уставился на меня. Я позвонил. Дверь отворил мой слуга Исидор, он громко воскликнул: «Ах, это вы, сударь! Сегодня ночью за вами приходила полиция». Я вошел в спальню жены, она лежала в постели, но не спала и рассказала мне, что произошло.
Накануне она легла в одиннадцать часов. Около половины первого, сквозь дрему, похожую на бессонницу, она услышала мужские голоса. Ей показалось, что Исидор с кем-то разговаривает в передней. Сначала она не обратила на это внимания и попыталась снова уснуть, но голоса не умолкали. Она приподнялась на постели и позвонила.
Явился Исидор. Она спросила его:
— Кто-нибудь пришел?
— Да, сударыня.
— Кто же?
— Он говорит, что ему нужно повидать господина Виктора Гюго.
— Его нет дома.
— Я так и сказал ему, сударыня.
— Ну и что же? Этот человек не уходит?
— Нет, сударыня. Он говорит, что ему непременно нужно видеть господина Виктора Гюго и что он будет ждать.
Исидор стоял на пороге спальни. Вдруг позади него в дверях появился толстый румяный человек; из-под его пальто виднелся черный сюртук. Человек слушал, не говоря ни слова.
Г-жа Гюго заметила его.
— Это вы, сударь, хотите видеть господина Виктора Гюго?
— Да, сударыня.
— Его нет дома.
— Я буду иметь честь подождать, сударыня.
— Он сегодня не придет.
— Мне обязательно нужно видеть его.
— Сударь, если вам нужно сказать ему что-нибудь важное, вы вполне можете довериться мне, я все передам ему в точности.
— Нет, сударыня, мне необходимо говорить с ним лично.
— Но в чем же дело? Это касается политики?
Человек промолчал.
— А кстати, — продолжала моя жена, — что происходит?
— Я полагаю, сударыня, что все уже кончено.
— Что вы имеете в виду?
— То, что президент одержал верх.
Жена пристально посмотрела на этого человека и сказала:
— Сударь, вы пришли арестовать моего мужа.
— Верно, сударыня, — ответил незнакомец и, распахнув пальто, показал свой пояс полицейского комиссара.
Помолчав, он добавил:
— Я полицейский комиссар, у меня ордер на арест господина Виктора Гюго. Я должен произвести обыск и осмотреть весь дом.
— Как ваша фамилия, сударь? — спросила г-жа Гюго.
— Моя фамилия Ивер.
— Вы знаете конституцию?
— Конечно, сударыня.
— Вы знаете, что депутаты народа неприкосновенны?
— Да, сударыня.
— Прекрасно, сударь, — холодно сказала она. — Вы знаете, что совершаете преступление. За это вам придется расплачиваться в будущем. Ну что ж, делайте свое дело.
Ивер что-то забормотал, пытаясь объясниться или, вернее, оправдаться; он выговорил слово «совесть»; запинаясь, произнес слово «честь». Г-жа Гюго, все время державшая себя спокойно, здесь не выдержала и довольно резко перебила его:
— Делайте свое дело, сударь, и не рассуждайте; вы знаете, что каждый чиновник, поднимающий руку на представителя народа, совершает государственное преступление. Вы знаете, что для депутатов президент — только чиновник, как и всякий другой, что он первый обязан исполнять их приказания. Вы посмели явиться в дом к народному депутату и хотите арестовать его, как преступника! Уж если есть здесь преступник, которого следовало бы арестовать, так это вы.
Ивер, опустив голову, вышел из комнаты, и через полуоткрытую дверь моя жена видела, как за этим упитанным, хорошо одетым плешивым комиссаром шмыгнули гуськом семь или восемь тощих субъектов, в грязных долгополых сюртуках до пят и засаленных старых шляпах, надвинутых на глаза, — волки, которых вел за собою пес. Они обыскали квартиру, заглянули в шкафы и ушли — с понурым видом, как сказал мне Исидор.
Ниже всех опустил голову комиссар Ивер. Впрочем, был момент, когда он ее поднял. Исидор, возмущенный тем, как эти люди ищут его хозяина по всем углам, рискнул посмеяться над ними. Он выдвинул какой-то ящик и сказал: «Посмотрите, нет ли его здесь?» Полицейский комиссар злобно сверкнул на него глазами и крикнул: «Берегись, лакей!» Лакеем был он сам.
Когда эти люди ушли, обнаружилось, что не хватает многих моих бумаг. Были похищены кое-какие рукописи, между прочим одно стихотворение, написанное в июле 1848 года и направленное против военной диктатуры Кавеньяка; там были стихи, протестовавшие против цензуры, военно-полевых судов, запрещения газет и, главное, против ареста выдающегося журналиста Эмиля де Жирардена:
…О, стыд! Вот солдафон: Неловкий комедьянт, он в Цезаря играет, Из глубины казарм страною управляет.[8]Рукописи эти пропали.
Полиция могла вернуться с минуты на минуту, — она и в самом деле явилась вскоре после моего ухода, — я обнял жену, не стал будить только что уснувшую дочь и вышел. Во дворе меня поджидали испуганные соседи; я крикнул им смеясь: «Пока еще не поймали!»
Четверть часа спустя я был на улице Мулен, в доме № 10. Еще не было восьми часов утра; полагая, что мои товарищи по Комитету восстания ночевали там, я решил зайти за ними, чтобы всем вместе отправиться в зал Руазен.
На улице Мулен я застал только г-жу Ландрен. Предполагая, что полиция осведомлена и за домом наблюдают, мои товарищи перешли на улицу Вильдо, в дом № 7, к бывшему члену Учредительного собрания Леблону, юрисконсульту рабочих ассоциаций. Жюль Фавр там и ночевал. Г-жа Ландрен завтракала, она и меня пригласила к столу, но нельзя было терять времени: я взял с собой кусок хлеба и ушел.
На улице Вильдо в доме № 7 открывшая мне дверь служанка провела меня в кабинет, где сидели Карно, Мишель де Бурж, Жюль Фавр и хозяин дома, наш бывший коллега, член Учредительного собрания Леблон.
— Внизу меня ждет фиакр, — сказал я им, — встреча назначена на девять часов в зале Руазен, в Сент-Антуанском предместье. Едем.
Но они держались другого мнения. Им казалось, что после вчерашних попыток в Сент-Антуанском предместье все выяснилось и больше там делать нечего; настаивать бесполезно; очевидно, рабочие кварталы не поднимутся; нужно обратиться к торговым кварталам, отказаться от мысли поднять окраины города и начать агитацию в центре. Мы — Комитет сопротивления, душа восстания; идти в Сент-Антуанское предместье, занятое крупными военными частями, значит отдаться в руки Луи Бонапарту. Они напомнили мне то, что я сам говорил накануне по этому поводу на улице Бланш. По их мнению, следовало немедленно организовать восстание против переворота, и организовать его в тех кварталах, где это было возможно, то есть в лабиринте старых улиц Сен-Дени и Сен-Мартен; они считали необходимым составить прокламацию, подготовить декреты, каким-либо способом обеспечить гласность; ожидались важные сообщения от рабочих ассоциаций и тайных обществ. Решительный удар, который я намеревался нанести нашим торжественным собранием в зале Руазен, по их мнению, был обречен на неудачу, они считали своим долгом оставаться там, где были, они и меня просили не уходить, так как членов комитета было немного, а работа предстояла огромная.
Люди, говорившие это, были благородны и мужественны; очевидно, они были правы, но я не мог не явиться на встречу, которую сам назначил. Все приведенные ими доводы были основательны; конечно, я мог бы противопоставить им некоторые сомнения, но спор затянулся бы, а время шло. Я не стал возражать и под каким-то предлогом вышел из комнаты. Шляпа моя была в передней. Фиакр ждал меня, и я отправился в Сент-Антуанское предместье.
В центре Парижа все, казалось, имело обычный вид. По улицам ходили люди, покупали и продавали, болтали и смеялись, как бывало всегда. На улице Монторгейль я услышал звуки шарманки. Но, подъезжая к Сент-Антуанскому предместью, я обратил внимание на то, что ощущалось и вчера, а теперь стало еще заметнее: улицы становились все пустыннее, и вокруг царило какое-то мрачное спокойствие.
Мы прибыли на площадь Бастилии.
Кучер остановил лошадей.
— Поезжайте, — сказал я ему.
II От Бастилии до улицы Кот
На площади Бастилии было пустынно и вместе с тем многолюдно. Три полка в боевом порядке и ни одного прохожего.
У подножия колонны выстроились четыре запряженные батареи. Там и сям группами стояли офицеры и разговаривали вполголоса с зловещим видом.
Одна из этих групп, самая заметная, привлекла мое внимание. Здесь все молчали, разговоров не было. Все были верхом: впереди — генерал в мундире и шляпе с галунами и черными перьями, за ним — два полковника, а за полковниками — адъютанты и штабные офицеры. Этот отряд в расшитых золотом мундирах стоял неподвижно, словно настороже, между колонной и въездом в предместье. На некотором расстоянии от этой группы, занимая всю площадь, стояли полки и пушки, построенные в боевом порядке.
Мой фиакр снова остановился.
— Поедем дальше, — сказал я кучеру, — въезжайте в предместье.
— Да нас не пропустят, сударь.
— Увидим.
Нас никто не задержал. Фиакр снова тронулся, кучер робел и ехал шажком. Карета на площади вызвала удивление, из домов начали выходить люди. Кое-кто подошел к фиакру.
Мы проехали мимо группы офицеров с густыми эполетами. Эти люди сделали вид, что не замечают нас, — их тактику я понял только впоследствии.
Меня охватило то же волнение, как накануне, когда я очутился лицом к лицу с кирасирами. Видеть прямо перед собой, в нескольких шагах, убийц отечества, спокойных, торжествующих в своей наглости, — было выше моих сил; я не мог сдержаться. Я сорвал с себя перевязь, крепко сжал ее в руке и, высунувшись в опущенное окно фиакра, размахивая ею, закричал:
— Солдаты, посмотрите на эту перевязь — это символ закона, это эмблема Национального собрания. Там, где эта перевязь, там право. Так вот что повелевает вам право: вас обманывают, вернитесь к исполнению своего долга! С вами говорит представитель народа, а тот, кто представляет народ, представляет и армию. Солдаты, прежде, чем стать солдатами, вы были крестьянами, вы были рабочими, вы были и остались гражданами. Граждане, я обращаюсь к вам, я говорю: только закон может вам повелевать. Но сегодня закон нарушен. Кем? Вами. Луи Бонапарт вовлекает вас в преступление. Солдаты, вы — воплощение чести! Слушайте меня, потому что я — воплощение долга. Солдаты, Луи Бонапарт убивает республику. Защищайте ее. Луи Бонапарт — разбойник, все его сообщники пойдут вместе с ним на каторгу. Они и сейчас уже там. Кто достоин каторги, тот тем самым становится каторжником. Заслужить кандалы — значит носить их. Посмотрите на этого человека, который командует вами и осмеливается приказывать вам. Вы принимаете его за генерала, а это — каторжник.
Солдаты словно окаменели.
Кто-то из стоявших рядом (приношу благодарность этому великодушному человеку), подойдя ко мне, схватил меня за руку и шепнул: «Вы добьетесь того, что вас расстреляют».
Но я не слышал и не хотел ничего слушать.
Я продолжал, по-прежнему потрясая перевязью:
— Эй вы, там, в генеральском мундире! Я с вами говорю, сударь. Вы знаете, кто я: я депутат народа, и я знаю, кто вы, я уже сказал вам это: вы преступник. Теперь хотите знать мое имя? Вот оно.
И я крикнул ему свое имя.
Затем я прибавил:
— А теперь назовите мне свое.
Он не ответил.
Я продолжал:
— Ладно, мне не нужно знать вашего имени, пока вы еще генерал: я узнаю ваш номер, когда вы станете каторжником.
Человек в генеральском мундире опустил голову. Свита его молчала. Они не смотрели на меня, но я угадал выражение их глаз, я знал, что в них сверкает бешенство. Я почувствовал безграничное презрение и поехал дальше.
Как звали этого генерала? Я не знал этого и не знаю до сих пор.
Какая-то книжка, прославляющая переворот и опубликованная в Англии, рассказывая об этом происшествии, называет мое поведение «бессмысленной и преступной провокацией» и утверждает, что «сдержанность, проявленная военным командованием, делает честь генералу»… Оставим на совести этого панегириста фамилию генерала и вознесенную ему хвалу.
Я поехал по улице Фобур-Сент-Антуан.
Кучер, который знал теперь, кто я, уже не колебался и погнал лошадей. Парижские кучера народ сметливый и храбрый.
Когда я проезжал мимо первых лавок главной улицы, на колокольне церкви св. Павла пробило девять часов.
«Отлично, — думал я, — я поспею вовремя».
Предместье имело необычный вид. Въезд охранялся двумя ротами пехоты, но не был закрыт. Подальше, на равных расстояниях, были построены еще две роты; они занимали улицу, оставляя свободным проход. Двери лавок в начале предместья были широко открыты, а дальше, шагов через сто, — только чуть-чуть приотворены. Жители, среди которых я заметил много блузников, разговаривали, стоя в дверях и глядя на улицу. На каждом шагу попадались нетронутые объявления о перевороте.
За фонтаном, на углу улицы Шаронны, лавки были закрыты. По обеим сторонам мостовой вдоль тротуаров растянулись два кордона: солдаты стояли цепью на расстоянии пяти шагов друг от друга, в молчании, настороже, подняв ружье к плечу, слегка откинувшись назад, положив палец на курок, готовые открыть огонь. Начиная отсюда, на углу каждого переулка, выходящего на главную улицу предместья, стояла пушка. Иногда ее заменяла гаубица. Чтобы ясно представить себе расположение войск, вообразите два ряда цепочек, растянутые по обеим сторонам Сент-Антуанского предместья: солдаты были звеньями цепочек, а пушки — местами их соединения.
Между тем мой кучер беспокоился. Он повернулся ко мне и сказал:
— Сударь, сдается мне, что мы здесь наткнемся на баррикады. Не вернуться ли?
— Поезжайте дальше, — сказал я.
Он продолжал путь.
Внезапно нам загородила дорогу рота пехоты, выстроенная в три шеренги и занимавшая всю улицу от одного тротуара до другого. Направо был переулок. Я сказал кучеру:
— Сверните сюда.
Он повернул направо, потом налево. Мы попали в лабиринт пересекающихся улиц.
Вдруг я услышал выстрел.
Кучер спросил:
— Сударь, в какую сторону ехать?
— Туда, где стреляют.
Мы ехали по узкой уличке; налево над какой-то дверью я увидел надпись: «Большая прачечная», направо была четырехугольная площадь и посередине какое-то строение — вероятно, рынок. На площади и на улице не было ни души; я спросил у кучера:
— Какая это улица?
— Улица Кот.
— Где здесь кафе Руазен?
— Прямо перед нами.
— Поезжайте туда.
Лошади тронулись все так же, шагом. Опять раздался выстрел, на этот раз совсем близко; конец улицы заволокло дымом; в этот момент мы проезжали мимо дома № 22, над дверью которого я прочел надпись: «Малая прачечная».
Вдруг кто-то крикнул кучеру:
— Стой!
Кучер остановил лошадь, и поверх опущенного стекла фиакра кто-то протянул мне руку. Я узнал Александра Рея.
Этот отважный человек был бледен.
— Поворачивайте обратно, — сказал он, — все кончено.
— Как кончено?
— Да, пришлось начать раньше назначенного часа: баррикада взята, я только что оттуда. Она здесь, совсем рядом.
И он добавил:
— Боден убит.
Дым в конце улицы рассеялся.
— Смотрите, — сказал мне Александр Рей.
В ста шагах от нас, в том месте, где улица Кот соединяется с улицей Сент-Маргерит, я увидел совсем низенькую баррикаду, которую разбирали солдаты. Несли чей-то труп.
Это было тело Бодена.
III Сент-Антуанская баррикада
Вот что произошло.
В ту ночь де Флотт был в Сент-Антуанском предместье уже с четырех часов утра. Он решил, что если до рассвета начнется какое-нибудь движение, то хоть один депутат должен быть налицо; а сам он принадлежал к числу тех, кто первым выворачивает булыжники для баррикады, когда вспыхивает благородное восстание в защиту права.
Но все было спокойно. Де Флотт всю ночь бродил по улицам, один среди пустынного спящего предместья.
В декабре рассветает поздно. Еще до утренней зари де Флотт был на месте встречи, у рынка Ленуар.
Эта часть предместья охранялась слабо. Войск вокруг не было, кроме караула на самом рынке; другой караул был расположен на некотором расстоянии, в кордегардии на углу улицы Фобур-Сент-Антуан и улицы Монтрейль, возле старого древа свободы, посаженного в 1793 году Сантером. На этих постах офицеров не было.
Сделав рекогносцировку, де Флотт прошелся несколько раз взад и вперед по тротуару, затем, видя, что никого еще нет, и боясь привлечь к себе внимание, опять углубился в боковые улицы предместья.
Обри (от Севера) тоже встал рано, в пять часов утра. Вернувшись домой с улицы Попенкур поздно ночью, он спал только три часа. Привратник предупредил его, что какие-то подозрительные люди спрашивали его вечером 2 декабря и что в дом напротив, № 12 по той же улице Расина, к Югенену приходила полиция, чтобы арестовать его. Поэтому Обри решил выйти до рассвета.
Он пошел пешком в Сент-Антуанское предместье. Когда он подходил к назначенному месту, он увидел Курне и других из тех, что были на улице Попенкур. К ним почти сразу же присоединился Малардье.
Светало. В предместье не видно было ни души. Они шли в глубоком раздумье и тихо разговаривали. Вдруг мимо них вихрем пронесся какой-то необыкновенный отряд.
Они обернулись. Это был пикет улан, окружавший странный экипаж, в котором при тусклом утреннем свете они узнали арестантский фургон. Он бесшумно катился по макадамовой мостовой.
Они еще недоумевали, что бы это могло значить, когда появился второй отряд, подобный первому, затем третий и четвертый. Так, следуя друг за другом на очень близком расстоянии, почти соприкасаясь, проехали десять арестантских фургонов.
— Да ведь это наши коллеги! — воскликнул Обри (от Севера).
В самом деле, через предместье везли депутатов, арестованных на набережной Орсе; это была последняя партия, направлявшаяся в Венсенскую крепость. Было около семи часов утра. В окнах лавок появился свет. Некоторые из них открылись. Кое-где из домов выходили люди.
Фургоны ехали вереницей, под стражей, запертые, мрачные, немые. Не слышно было ни крика, ни возгласа, ни звука. С быстротой и стремительностью вихря, посреди шпаг, сабель и пик, они увозили нечто, хранившее молчание. Что же было это нечто, проносившееся мимо в зловещем безмолвии? Это была разбитая трибуна, верховная власть народных собраний, великий источник гражданственности, — слово, заключающее в себе будущее мира, голос Франции. Показался последний экипаж, почему-то запоздавший. От остальных его отделяло расстояние в триста или четыреста метров; его сопровождали только трое улан. Это был не арестантский фургон, а омнибус, единственный во всей партии. За полицейским агентом, заменявшим кучера, можно было ясно различить депутатов, теснившихся внутри. Казалось, что освободить их — дело нетрудное.
Курне обратился к прохожим.
— Граждане, — воскликнул он, — это увозят ваших депутатов! Вы видели, они только что проехали в фургонах для преступников! Бонапарт арестовал их вопреки всем законам. Освободим их! К оружию!
Вокруг Курне образовалась группа из блузников и ремесленников, шедших на работу. Среди них раздались крики: «Да здравствует республика!», и несколько человек бросились к фургонам. Карета и уланы пустились в галоп.
— К оружию! — повторил Курне.
— К оружию! — подхватил народ.
На мгновение всех охватил единый порыв. Кто знает, что могло бы произойти? Было бы знаменательно, если бы в борьбе против переворота для сооружения первой баррикады употребили этот омнибус и если бы, послужив сначала преступлению, он стал орудием возмездия! Но в ту минуту, когда рабочие бросились к карете, некоторые из сидевших в ней депутатов стали махать обеими руками, чтобы остановить их.
— Э, — сказал один рабочий, — да они не хотят!
Второй продолжал:
— Они не хотят свободы!
Третий прибавил:
— Они не хотели ее для нас, не хотят ее и для себя.
Этим все было сказано: омнибус пропустили. Через минуту крупной рысью пронесся арьергард конвоя; толпа, окружавшая Обри (от Севера), Малардье и Курне, рассеялась.
Кафе Руазен только что открылось. Все помнят, что в большом зале этого кафе происходили заседания знаменитого в 1848 году клуба. Здесь, как уже говорилось, и была назначена встреча.
С улицы в кафе Руазен попадают через проход, ведущий в вестибюль в несколько метров длиною, оттуда посетитель входит в довольно большой зал с высокими окнами и зеркалами по стенам. Посреди зала стоят несколько бильярдных столов, мраморные столики и обитые бархатом стулья и скамьи. В этом зале, не очень удобном для больших совещаний, и заседал в свое время клуб Руазен. Курне, Обри и Малардье сели за столик. Войдя в кафе, они не скрыли от хозяев, кто они такие; их приняли хорошо и на всякий случай указали выход через сад.
Тут же к ним присоединился де Флотт.
К восьми часам депутаты стали собираться. Первыми пришли Брюкнер, Мень и Брийе, затем, один за другим, Шарамоль, Кассаль, Дюлак, Бурза, Мадье де Монжо и Боден. На улице было грязно, и Бурза, по своему обыкновению, надел деревянные башмаки. Те, кто принимает Бурза за крестьянина, ошибаются: это бенедиктинец. Бурза — человек с южным воображением, живым, тонким умом, образованный, блестящий, остроумный; в голове у него вся Энциклопедия, а на ногах — крестьянские башмаки. Что в этом странного? Он вместе — мысль и народ. Бастид, бывший член Учредительного собрания, пришел вместе с Мадье де Монжо. Боден горячо пожимал всем руки, но молчал. Он был задумчив. «Что с вами, Боден, — спросил его Обри (от Севера), — вам грустно?» — «Мне? — возразил Боден, подняв голову. — Никогда я не был так доволен!»
Быть может, он уже чувствовал себя избранником? Когда человек находится так близко от смерти, озаренной славой, улыбающейся ему во мраке, быть может он уже видит ее?
Депутатов сопровождали и окружали люди, посторонние Собранию, но исполненные такой же решимости, как и сами депутаты.
Их возглавлял Курне. Среди них были и рабочие, но ни на ком не было блуз. Чтобы не испугать буржуазию, рабочим, особенно с заводов Дерона и Кайля, посоветовали прийти в сюртуках.
У Бодена была при себе копия прокламации, которую я продиктовал ему накануне. Курне развернул ее и прочел. «Расклеим ее сейчас же по предместью, — сказал он. — Народ должен знать, что Луи Бонапарт — вне закона». Один рабочий-литограф предложил сейчас же напечатать ее. Все присутствовавшие депутаты подписали прокламацию и среди своих подписей поставили мою фамилию. Обри (от Севера) прибавил в заголовке слова: «Национальное собрание». Рабочий унес прокламацию и сдержал слово. Через несколько часов Обри (от Севера), а потом один из друзей Курне, некий Ге, видели, как он в предместье Тампль с банкой клея в руке наклеивал прокламации на всех перекрестках, совсем рядом с объявлениями Мопа, угрожавшими смертной казнью тому, кто будет распространять призыв к оружию.
Прохожие читали обе прокламации одну за другой. Нужно отметить такую подробность: рабочего сопровождал и охранял человек в форме сержанта пехоты, в красных штанах и с ружьем на плече. Это был, очевидно, солдат, недавно отслуживший свой срок.
Накануне общий сбор назначили от девяти до десяти часов утра. Этот час был выбран с таким расчетом, чтобы хватило времени оповестить всех членов левой; следовало подождать, пока они соберутся, чтобы наша встреча больше походила на народное собрание и чтобы действия левой произвели в предместье более внушительное впечатление.
Некоторые из уже прибывших депутатов были без перевязей. В соседнем доме второпях изготовили несколько перевязей из полосок красного, белого и синего коленкора и роздали этим депутатам. Среди тех, кто надел эти импровизированные перевязи, были Боден и де Флотт.
Толпа, стоявшая вокруг них, уже выражала нетерпение, хотя еще не было девяти часов.[9]
Это благородное нетерпение охватило многих депутатов.
Боден хотел подождать,
— Не будем начинать раньше назначенного часа, — говорил он, — подождем наших товарищей.
Но вокруг Бодена роптали:
— Нет, начинайте, подайте сигнал, выходите на улицу. Как только жители предместья увидят ваши перевязи, они сразу восстанут. Вас немного, но все знают, что скоро к вам присоединятся ваши друзья. Этого достаточно. Начинайте.
Как показали дальнейшие события, такая поспешность могла привести только к неудаче. Однако депутаты решили, что они должны подать народу пример личного мужества. Не дать потухнуть ни одной искорке, выступить первыми, идти вперед — вот в чем заключался долг. Видимость колебания могла оказаться более пагубной, чем самая дерзкая отвага.
Шельшер — героическая натура, он всегда готов ринуться навстречу опасности.
— Пойдем, — воскликнул он, — друзья нас догонят. Вперед!
У них не было оружия.
— Обезоружим ближайший караул, — сказал Шельшер.
Они вышли из зала Руазен, построившись по двое, держась под руку. С ними были человек пятнадцать или двадцать рабочих, которые шли впереди и кричали: «Да здравствует республика! К оружию!»
Перед ними и позади них бежали мальчишки с криками: «Да здравствует Гора!»
Запертые двери лавок приоткрылись. В дверях показались мужчины, и кое-где из окон выглядывали женщины. Группы людей, шедших на работу, провожали их глазами. Раздались крики: «Да здравствуют наши депутаты! Да здравствует республика!»
Все выражали сочувствие, но не было никаких признаков восстания. По пути процессия почти не увеличилась.
К ней присоединился какой-то человек, который вел под уздцы оседланную лошадь. Никто не знал, кто он и откуда взялась лошадь. Он словно предлагал свои услуги тому, кто захотел бы бежать. Депутат Дюлак приказал этому человеку удалиться.
Так они дошли до кордегардии на улице Монтрейль. При их приближении часовой подал сигнал тревоги, и солдаты в беспорядке выскочили из караулки.
Шельшер, спокойный, невозмутимый, с манжетами и белым галстуком, как обычно, весь в черном, в наглухо застегнутом сюртуке, похожий на квакера, приветливый и бесстрашный, направился прямо к ним.
— Товарищи, — сказал он, — мы депутаты народа и пришли от имени народа просить у вас оружие для защиты конституции и законов.
Караул дал себя обезоружить. Один только сержант пытался сопротивляться, но ему сказали: «Ведь вы один!», и он уступил. Депутаты роздали ружья и патроны окружавшим их смельчакам.
Некоторые из солдат кричали: «Почему вы отбираете от нас ружья? Мы готовы драться за вас, на вашей стороне».
Депутаты не решались принять это предложение. Шельшер хотел было согласиться. Кто-то из депутатов заметил, что солдаты подвижной гвардии уверяли в том же самом июньских повстанцев, а получив оружие, повернули его против восставших.
Поэтому оружия солдатам не вернули.
Сосчитали отобранные ружья, их было пятнадцать
— Нас сто пятьдесят человек, — заметил Курне, — ружей нам не хватит.
— Не беда, — сказал Шельшер. — Где тут еще есть караул?
— На рынке Ленуар.
— Идем туда.
В сопровождении пятнадцати вооруженных людей во главе с Шельшером депутаты направились к рынку Ленуар. Караул рынка Ленуар дал обезоружить себя еще охотнее, чем караул на улице Монтрейль. Солдаты сами поворачивались, чтобы удобнее было брать патроны из их сумок.
Ружья немедленно зарядили.
— Теперь у нас тридцать ружей, — крикнул де Флотт, — выберем какой-нибудь перекресток и построим баррикаду.
В это время у них было уже около двухсот бойцов.
Они пошли вверх по улице Монтрейль. Пройдя шагов пятьдесят, Шельшер оказал:
— Куда же мы идем? Мы повернулись спиной к Бастилии. Мы повернулись спиной к бою.
Они снова спустились к предместью.
Они кричали: «К оружию!» В ответ раздавалось: «Да здравствуют наши депутаты!» Но к ним присоединились только несколько молодых людей. Было ясно: ветер восстания не поднимется.
— Все равно, — говорил де Флотт, — начнем сражение. Пусть на нашу долю выпадет слава пасть первыми.
Когда они подошли к тому месту, где, пересекая предместье, соединяются улицы Сент-Маргерит и Кот, на улицу Сент-Маргерит въезжала крестьянская телега, груженная навозом.
— Сюда! — крикнул де Флотт.
Телегу остановили и опрокинули посреди улицы Фобур Сент-Антуан.
Подъехала молочница.
Опрокинули и тележку молочницы.
Проезжал булочник со своим хлебным фургоном. Увидев, что происходит, он хотел улизнуть и погнал лошадь. Два-три мальчугана — настоящие дети Парижа, храбрые, как львы, и проворные, как кошки, — побежали за булочником, бросились наперерез мчавшейся галопом лошади, остановили ее и привели к строящейся баррикаде.
Повалили и хлебный фургон.
Показался омнибус, ехавший от площади Бастилии.
— Ладно! — сказал кондуктор. — Видно, уж ничего ни поделаешь!
Он добровольно сошел с козел и высадил пассажиров, а кучер отпряг лошадей и ушел, оправляя свой плащ.
Омнибус опрокинули. Его положили в ряд с тремя другими повозками, но все же не удалось перегородить всю улицу, в этом месте очень широкую. Выравнивая баррикаду, люди говорили:
— Как бы не попортить повозки!
Баррикада вышла неважная, чересчур низкая и слишком короткая — с обеих сторон ее можно было обойти по тротуару.
В это время проезжал штабной офицер в сопровождении ординарца; увидев баррикаду, он ускакал.
Шельшер спокойно обходил опрокинутые повозки. Дойдя до крестьянской телеги, несколько возвышавшейся над другими, он сказал: «Только эта одна и годится».
Постройка баррикады продолжалась. Сверху набросали пустые корзины; от этого она стала шире и выше, но не прочнее.
Работа еще не была окончена, когда прибежал мальчуган и крикнул: «Солдаты!»
И в самом деле, от Бастилии через предместье беглым шагом подходили две роты, взводами, следовавшими на некотором расстоянии друг от друга; они шли во всю ширину улицы.
Жители торопливо закрывали двери и окна.
Тем временем, стоя в углу баррикады, Бастид невозмутимо рассказывал Мадье де Монжо такой анекдот.
— Мадье, — говорил он ему, — лет двести тому назад принц Конде, готовясь дать сражение в этом самом Сент-Антуанском предместье, спросил у сопровождавшего его офицера: «Видел ты когда-нибудь, как проигрывают сражение?» — «Нет, монсеньер…» — «Ну, так сейчас увидишь». Мадье, сегодня я говорю вам: «Сейчас вы увидите, как берут баррикаду».
Те, у кого было оружие, стали за баррикадой и приготовились к бою.
Решительная минута приближалась.
— Граждане! — крикнул Шельшер. — Не стреляйте! Когда армия сражается с предместьями, с обеих сторон льется кровь народа. Дайте нам сначала поговорить с солдатами.
Он поднялся на корзину, возвышавшуюся над баррикадой. Другие депутаты встали возле него на омнибус. Мадье и Дюлак стояли справа. Дюлак сказал:
— Вы меня почти не знаете, гражданин Шельшер, я вас знаю и люблю. Позвольте мне быть возле вас. В Собрании я занимаю второстепенное место, но в бою я хочу быть в первых рядах.
В эту минуту на углу улицы Сент-Маргерит совсем близко от баррикады показались несколько блузников из числа завербованных 10 декабря; они крикнули: «Долой двадцатипятифранковых!»
Боден, уже выбравший свой боевой пост и стоявший на баррикаде, смерил этих людей взглядом и сказал:
— Сейчас вы увидите, как умирают за двадцать пять франков!
На улице поднялся шум. Последние еще приоткрытые двери захлопнулись. Обе наступающие колонны были уже совсем близко от баррикады. Вдали смутно виднелись другие ряды штыков, те самые, которые преградили мне дорогу.
Шельшер властно поднял руку и подал капитану, шедшему во главе первого взвода, знак остановиться.
Капитан взмахнул саблей, что означало отказ.
Весь переворот 2 декабря воплотился в этих двух жестах. Закон говорил: «Остановитесь!» Сабля отвечала: «Нет!»
Обе роты продолжали идти вперед, но замедленным шагом, сохраняя дистанцию между взводами.
Шельшер сошел с баррикады на мостовую. За ним спустились де Флотт, Дюлак, Малардье, Брийе, Мень и Брюкнер.
Это было прекрасное зрелище.
Семь депутатов, вооруженные одними своими перевязями, иначе говоря — облеченные величием закона и права, сойдя с баррикады, ступили на улицу и пошли прямо на солдат, стоявших в ожидании с наведенными ружьями.
Другие депутаты, оставшиеся за баррикадой, заканчивали последние приготовления. Бойцы держались мужественно. Выше всех ростом был морской лейтенант Курне. Боден по-прежнему стоял на опрокинутом омнибусе, баррикада закрывала его только до пояса.
При виде семерых депутатов солдаты и офицеры сначала опешили. Капитан сделал депутатам знак остановиться.
Они остановились, и Шельшер произнес спокойно и торжественно:
— Солдаты! Мы депутаты народа, обладающего верховной властью, мы ваши депутаты, мы избраны всеобщим голосованием. Во имя конституции, во имя всеобщего избирательного права, во имя республики мы, Национальное собрание, мы, воплощение закона, приказываем вам перейти на нашу сторону, мы требуем от вас повиновения. Ваши командиры — это мы. Армия принадлежит народу, и депутаты народа — высшие военачальники. Солдаты, Луи Бонапарт нарушил конституцию, мы объявили его вне закона. Повинуйтесь нам.
Офицер, командовавший отрядом, капитан по фамилии Пти, прервал его.
— Господа, — сказал он, — у меня приказ. Я сам вышел из народа. Я республиканец, как и вы, но ведь я только орудие!
— Вы знаете конституцию, — возразил Шельшер.
— Я знаю только приказ.
— Но существует приказ, который выше всех приказов, — настаивал Шельшер, — солдат, как и всякий гражданин, обязан повиноваться закону.
Он снова повернулся к солдатам, чтобы продолжать свою речь, но капитан крикнул:
— Ни слова больше! Запрещаю вам говорить! Замолчите, или я прикажу стрелять!
— Мы не боимся ваших пуль! — воскликнул Шельшер.
В это время подъехал верхом другой офицер. То был командир батальона. Он что-то тихо сказал капитану.
— Господа депутаты, — продолжал капитан, размахивая саблей, — уходите, или я прикажу стрелять!
— Стреляйте! — крикнул де Флотт.
Депутаты — странное и героическое повторение Фонтенуа — обнажили головы, бесстрашно стоя перед наведенными на них ружьями.
Один только Шельшер не снял шляпы и ждал, скрестив на груди руки.
— Ружья наперевес! — крикнул капитан. И, повернувшись к взводу, скомандовал: — В штыки!
— Да здравствует республика! — крикнули депутаты.
Роты двинулись, солдаты беглым шагом с ружьями наперевес бросились в атаку; депутаты не тронулись с места.
То было грозное, трагическое мгновение. Безмолвно, не шевелясь, не отступая ни на шаг, смотрели семеро депутатов на приближавшиеся штыки, их не покинуло мужество, — но сердца солдат дрогнули.
Солдаты ясно поняли, что их мундиру грозит двойное бесчестие: посягнуть на депутатов народа — измена, убивать безоружных — подлость. А с такими эполетами, как измена и подлость, иной раз мирится генерал, но солдат — никогда.
Штыки придвинулись к депутатам вплотную и почти касались их груди, но вдруг острия сами собой отклонились в сторону, и солдаты, словно по уговору, прошли между депутатами, не причинив им никакого вреда. Только у Шельшера сюртук в двух местах был разорван, но, по его словам, это произошло скорее по неловкости, чем намеренно. Бежавший на него солдат хотел штыком отстранить его от капитана и слегка кольнул. Штык наткнулся на книжку с адресами депутатов, лежавшую у Шельшера в кармане, и прорвал только одежду.
Один из солдат сказал де Флотту:
— Гражданин, мы не хотим вас трогать.
А другой подошел к Брюкнеру и прицелился в него.
— Ну что ж, — сказал Брюкнер, — стреляйте!
Солдат смущенно опустил ружье и пожал Брюкнеру руку.
Удивительно: несмотря на приказ, отданный командирами, обе роты, одна за другой, подойдя к депутатам вплотную, отвели штыки в сторону. Приказ повелевает, но верх берет безотчетное чувство. Приказ может быть преступлением, но безотчетное чувство всегда благородно. Командир батальона П. впоследствии говорил: «Нас предупреждали, что мы будем сражаться с разбойниками, а перед нами оказались герои».
Тем временем на баррикаде начали тревожиться: желая выручить депутатов, окруженных войсками, кто-то выстрелил из ружья. Этим злополучным выстрелом был убит солдат, стоявший между де Флоттом и Шельшером.
Когда несчастный солдат упал, мимо Шельшера проходил офицер, командир второго из наступавших взводов. Шельшер указал ему на распростертого на земле человека:
— Лейтенант, вы видите?
Офицер промолвил с жестом отчаяния:
— Что же мы можем сделать?
Обе роты ответили на выстрел залпом и ринулись к баррикаде, оставив позади себя семерых депутатов, изумленных тем, что они уцелели.
С баррикады ответили залпом. Но защищать ее было невозможно.
Ее взяли штурмом.
Боден был убит.
Он не покидал своего боевого поста на омнибусе. Его ранили три пули. Одна из них попала в правый глаз, прошла снизу вверх и проникла в мозг. Он упал и уже не приходил в сознание. Через полчаса он был мертв. Его тело отнесли в больницу Сент-Маргерит.
Бурза вместе с Обри (от Севера) стоял рядом с Боденом, пуля пробила его плащ.
Нужно отметить еще одно обстоятельство; на этой баррикаде солдаты никого не взяли в плен. Ее защитники частью рассеялись по улицам предместья, частью нашли приют в соседних домах. Депутат Мень, которого испуганные женщины втолкнули в какой-то темный проход, очутился там вместе с одним из солдат, только что захвативших баррикаду. Минуту спустя депутат вышел оттуда вместе с солдатом. С этого первого поля сражения депутаты еще могли уйти беспрепятственно.
Это было торжественное начало борьбы; луч справедливости и права еще не угас окончательно, и воинская честь с какой-то мрачной тревогой отступала перед злодеянием, на которое ее толкали. Можно упиваться добром, но можно до одури опьяниться злом: в этом пьяном разгуле вскоре захлебнулась совесть армии.
Французской армии несвойственно совершать преступления. Когда борьба затянулась и войскам было предписано исполнять зверские приказы, солдатам пришлось одурманивать себя. Они повиновались, но не хладнокровно, что было бы чудовищно, а с раздражением, — это извинит их в глазах истории; возможно, что у многих из них под этим раздражением скрывалось отчаяние.
Упавший солдат все еще лежал на мостовой. Шельшер стал его поднимать. Из соседнего дома вышли несколько отважных женщин с заплаканными глазами. Подошли солдаты. Его отнесли — Шельшер держал ему голову — сначала в фруктовую лавку, потом в больницу Сент-Маргерит, куда уже доставили тело Бодена.
То был новобранец. Пуля попала ему в бок. На его доверху застегнутой серой шинели виднелась кровавая дыра. Голова его склонилась на плечо, лицо, стянутое ремешком кивера, было бледно, изо рта сочилась струйка крови. Ему было лет восемнадцать. Уже солдат и еще ребенок. Он был мертв.
Этот несчастный стал первой жертвой переворота. Второй жертвой был Боден.
До того как его выбрали в Национальное собрание, Боден был школьным учителем.[10]
Он принадлежал к числу тех умных и смелых школьных учителей, которые всегда подвергались преследованиям, то по закону Гизо, то по закону Фаллу, то по закону Дюпанлу. Преступление школьного учителя состоит в том, что у него в руках раскрытая книга; этого достаточно, духовенство его осуждает. Сейчас во Франции в каждом селении есть горящий светильник, — то есть школьный учитель, — и мракобес, готовый потушить его, — то есть священник. Школьные учителя Франции, умеющие умирать голодной смертью во имя истины и науки, вполне достойны того, чтобы один из их собратьев был убит за свободу.
Первый раз я видел Бодена в Собрании 13 января 1850 года. Я хотел выступить против закона о преподавании. Я не был записан в число ораторов; Боден был записан вторым. Он уступил мне свою очередь. Я согласился и получил слово через день, 15 января.
Боден был на примете у Дюпена, который всегда призывал его к порядку, стараясь при этом оскорбить. Боден разделял эту честь с депутатами Мио и Валантеном.
Боден не раз говорил с трибуны. Его речь, несколько неуверенная по форме, была проникнута внутренней силой. Он заседал на вершине Горы. У него был твердый характер, но держался он застенчиво. Поэтому весь его облик выражал одновременно и робость и решительность. Он был среднего роста. Его румяное полное лицо, богатырская грудь, широкие плечи говорили о мощной натуре учителя-землепашца, крестьянина-мыслителя. Этим он походил на Бурза. У него была привычка склонять голову набок, он внимательно слушал и говорил негромким и серьезным голосом. В его взгляде сквозила грусть, в улыбке — горечь обреченности.
Вечером 2 декабря я спросил у него.
— Сколько вам лет?
Он ответил:
— Скоро исполнится тридцать три.
— А вам? — задал он вопрос.
— Мне сорок девять.
Он сказал:
— Сегодня мы с вами ровесники.
Он думал, конечно, об ожидающем нас грядущем дне, где таится великое «может быть», которое всех уравняет.
Первые выстрелы прогремели, один из депутатов убит, а народ все не поднимался. Какая повязка закрывала ему глаза? Какая печать была на его сердце? Увы! Мрак, под покровом которого Луи Бонапарт совершил свое преступление, не только не рассеялся, а, наоборот, еще больше сгущался. В первый раз за последние шестьдесят лет, с тех пор как открылась благодетельная эра революций, Париж, город разума, видимо не понимал того, что творилось.
Оставив баррикаду на улице Сент-Маргерит, де Флотт отправился в предместье Сен-Марсо, Мадье де Монжо в Бельвиль, Шарамоль и Мень на бульвары. Шельшер, Дюлак, Малардье и Брийе снова вернулись в Сент-Антуанское предместье, пройдя по боковым улицам, еще не занятым войсками. Они кричали: «Да здравствует республика!» Они обращались к людям, стоявшим у дверей. «Вы что же, хотите империю?» — кричал Шельшер. Они даже запели Марсельезу. На их пути люди снимали шляпы и кричали: «Да здравствуют наши депутаты!» Этим дело и ограничилось.
Им хотелось пить, они начали уже уставать. На улице Рельи какой-то человек вышел из дома с бутылкой в руках и предложил им утолить жажду.
По дороге к ним присоединился Сартен. На улице Шаронны они зашли в помещение ассоциации краснодеревщиков, где обычно заседал постоянный комитет ассоциации. Там никого не оказалось. Но ничто не могло сломить их мужества.
Когда они подходили к площади Бастилии, Дюлак сказал Шельшеру:
— Я прошу разрешения отлучиться часа на два, и вот почему: я здесь в Париже один с семилетней дочкой. Уже неделя, как она больна скарлатиной, и вчера, когда начался переворот, она была при смерти. У меня никого нет на свете, кроме этого ребенка. Я оставил ее сегодня утром, чтобы встретиться с вами, и она спросила меня: «Папа, куда ты идешь?» Раз меня не убили, я пойду посмотрю, жива ли она.
Два часа спустя ребенок еще был жив. Когда Жюль Фавр, Карно, Мишель де Бурж и я собрались в доме № 15 по улице Ришелье на заседание постоянного комитета, пришел Дюлак и сказал нам: «Я в вашем распоряжении».
IV Рабочие союзы требуют от нас боевого приказа
То, что произошло на Сент-Антуанской баррикаде, с таким героизмом построенной депутатами и с таким равнодушием покинутой населением, должно было разрушить последние иллюзии — мои иллюзии. Гибель Бодена не взволновала предместья, и это говорило о многом. Это было последнее, очевидное, абсолютное подтверждение того факта, с которым я не мог примириться, — бездействия народа, плачевного бездействия, если он понимал то, что происходило, предательства по отношению к самому себе, если он этого не понимал, рокового безразличия во всех случаях, бедствия, ответственность за которое падала, повторяю, не на народ, а на тех, кто в июне 1848 года, обещав ему амнистию, потом отказал ему в ней, на тех, кто смутил великую душу парижского народа, не сдержав данного ему слова. То, что посеяло Учредительное собрание, пожинало теперь Законодательное. Мы, не повинные в этой ошибке, испытывали на себе ее последствия.
Искра, вспыхнувшая в толпе перед нашими глазами (Мишель де Бурж заметил ее с балкона кафе Бонвале, я — на бульваре Тампль), эта искра, казалось, потухла. Сначала Мень, потом Брийе, за ним Брюкнер, затем Шарамоль, Мадье де Монжо, Бастид и Дюлак подробно рассказали нам о том, что произошло на Сент-Антуанской баррикаде, почему собравшиеся там депутаты выступили раньше назначенного часа, о том, как погиб Боден. Я сообщил обо всем, что видел, а Кассаль и Александр Рей дополнили мой рассказ новыми подробностями, — и положение стало для нас совершенно ясным.
Комитет не мог дольше колебаться; я сам отказался от своих прежних надежд на грандиозную манифестацию, на мощный отпор перевороту, на нечто вроде правильного сражения, которое должны были дать защитники республики бандитам Елисейского дворца. Предместья не примкнули к нам; у нас был рычаг — право, но не было массы, которую мы могли бы поднять им, не было народа. Оставалось только одно средство, которое два крупнейших оратора, Мишель де Бурж и Жюль Фавр, руководствуясь своим тонким политическим чутьем, рекомендовали с самого начала: борьба медленная, продолжительная, борьба, которая избегает решительных сражений, перебрасывается из одного района в другой, не дает Парижу передышки, заставляя каждого думать: «Еще не все кончено». Такая борьба дала бы время организовать сопротивление в провинции, вынуждала бы армию постоянно быть в боевой готовности, — и в конце концов могла бы поднять парижский народ, неспособный подолгу безропотно нюхать порох. Повсюду строить баррикады, защищать их недолго, сразу же восстанавливать, скрываться и одновременно множиться — такова была стратегия, подсказанная обстановкой. Комитет принял ее и разослал во все стороны соответствующие приказы. В это время мы заседали на улице Ришелье в доме № 15, у нашего коллеги Греви, арестованного накануне в X округе и отправленного в Мазас. Его брат предложил нам заседать у него в доме. Депутаты, наши естественные помощники, со всех сторон стекались к нам за инструкциями и, получив их, рассеивались по Парижу, чтобы организовать сопротивление во всех районах. Они были руками этого сопротивления, комитет был его душой. Некоторые из бывших членов Учредительного собрания, люди испытанные, Гарнье-Пажес, Мари, Мартен (от Страсбурга), Сенар (бывший председатель Учредительного собрания), Бастид, Лесак, Ландрен уже накануне присоединились к депутатам. Поэтому в некоторых районах можно было организовать постоянные комитеты, связанные с нами, центральным комитетом, и состоящие из депутатов или преданных республике граждан. Мы выбрали паролем имя Боден.
К полудню в центре Парижа началось волнение.
На стенах появился наш призыв к оружию; раньше всего он был расклеен на Биржевой площади и на улице Монмартр. Перед плакатами теснились люди, читали их и вступали в схватки с полицейскими агентами, которые старались сорвать воззвания. На других литографированных плакатах были двумя столбцами напечатаны с одной стороны декрет об отрешении президента от должности, изданный правой в мэрии X округа, и объявление вне закона утвержденное левой. Прохожим раздавали отпечатанный на серой бумаге приговор Верховного суда, объявлявший Луи Бонапарта виновным в государственной измене и подписанный председателем Гардуэном и судьями Делапальмом, Моро (от Сены), Коши и Батайлем. В последнем имени была допущена ошибка; фамилия этого судьи — Патайль.
Тогда еще все, в том числе и мы сами, верили в подлинность этого приговора, который, как мы видели, не был настоящим приговором.
В то же время в народных кварталах на всех углах расклеивали две прокламации. Первая гласила:
К НАРОДУ
Ст. 3*.[11]
Охрана конституции вверяется патриотизму французских граждан.
Луи-Наполеон объявляется вне закона.
Осадное положение отменяется.
Всеобщее избирательное право восстанавливается.
Да здравствует республика!
К оружию!
От имени собрания монтаньяров делегат Виктор Гюго.
Вторая прокламация гласила:
ЖИТЕЛИ ПАРИЖА!
Национальные гвардейцы и народ из департаментов идут на Париж, чтобы помочь вам схватить изменника Луи-Наполеона Бонапарта.
От имени депутатов народа
Председатель Виктор Гюго.
Секретарь Шельшер.
Один из историографов переворота сообщает, что эта прокламация, напечатанная на небольших листках бумаги, была распространена в тысячах экземпляров.
Со своей стороны преступники, засевшие в правительственных зданиях, отвечали угрозами; повсюду появлялись большие белые, то есть официальные, плакаты. На одном из них значилось:
Мы, префект полиции,
предписываем:
Статья 1. Всякие сборища строго воспрещаются. Их немедленно будут разгонять силой.
Статья 2. Всякие призывающие к восстанию возгласы, всякое публичное чтение вслух, всякое расклеивание политических воззваний, исходящих не от установленных законом властей, равным образом воспрещаются.
Статья 3. Выполнение настоящего предписания возлагается на полицию.
Дано в префектуре полиции, 3 декабря 1851 года.
Префект полиции де Мопа.
Читал и утвердил
Министр внутренних дел де Морни.
Другой плакат гласил:
Военный министр
На основании закона об осадном положении
Постановляет:
Всякий, кто будет захвачен за постройкой или защитой баррикады или с оружием в руках, подлежит расстрелу.
Дивизионный генерал, военный министр, де Сент-Арно.
Мы воспроизводим эти объявления точно, вплоть до знаков препинания. На плакате за подписью Сент-Арно слова «подлежит расстрелу» были напечатаны крупным шрифтом.
На бульвары высыпала взволнованная толпа. Возбуждение в центре города росло и захватывало три округа — шестой, седьмой и двенадцатый. Зашумел студенческий квартал. На площади Пантеона студенты, юристы и медики, восторженно приветствовали де Флотта. Мадье де Монжо, пылкий, красноречивый, без устали ходил по Бельвилю, поднимая народ. Тем временем войска все прибывали, занимая главные стратегические пункты Парижа.
В час пополудни адвокат рабочих ассоциаций, бывший член Учредительного собрания Леблон, в квартире которого комитет заседал этим утром, привел к нам какого-то молодого человека. На заседании присутствовали Карно, Жюль Фавр, Мишель де Бурж и я. Этот молодой человек с умным взглядом говорил спокойно и серьезно; звали его Кинг. Его послал к нам в качестве делегата комитет рабочих ассоциаций. Рабочие ассоциации, сказал он, отдают себя в распоряжение избранного левой комитета легального сопротивления. Они могут послать в бой пять или шесть тысяч отважных людей. Порох изготовят сами, ружья найдутся. Рабочие ассоциации просили дать боевой приказ за нашей подписью. Жюль Фавр взял перо и написал:
«Нижеподписавшиеся депутаты дают гражданину Кингу и его друзьям полномочие защищать вместе с ними, с оружием в руках, всеобщее избирательное право, республику, законы».
Он поставил дату, и мы подписались все четверо.
— Этого достаточно, — сказал делегат, — вы скоро о нас услышите.
Два часа спустя нам сообщили, что бой начался. Сражались на улице Омер.
V Труп Бодена
Как я уже сказал, мы почти потеряли надежду на Сент-Антуанское предместье, но люди, совершившие переворот, еще не перестали тревожиться. После утренних попыток сопротивления и баррикадных боев за предместьем был установлен строжайший надзор. Кто бы ни входил туда, всех разглядывали, за всеми следили и при малейшем подозрении арестовывали. Но иногда полицейские агенты попадали впросак. Около двух часов по предместью проходил человек небольшого роста. Вид у него был серьезный и задумчивый. Ему загородили дорогу полицейский и агент в штатском.
— Кто вы такой?
— Вы сами видите — прохожий.
— Куда вы идете?
— Вот сюда, совсем близко, к Бартоломе, мастеру с сахарного завода.
Его обыскивают. Он сам раскрывает свой бумажник; агенты выворачивают карманы его жилета и расстегивают рубашку на груди; наконец полицейский сердито говорит:
— Мне все-таки кажется, что вы уже побывали здесь сегодня утром; ступайте прочь отсюда.
Это был депутат Жендрие. Если бы они не ограничились жилетными карманами, а обыскали и пальто, они нашли бы там его перевязь; Жендрие был бы расстрелян.
Не попасть в руки полиции, оставаться на свободе и бороться — таков был лозунг членов левой; вот почему мы носили свои перевязи при себе, но прятали их.
Жендрие целый день ничего не ел; он решил зайти домой и свернул к новым кварталам у Гаврской железной дороги, где он жил. По пустынной улице Кале, тянувшейся между улицами Бланш и Клиши, проезжал фиакр. Жендрие услышал, как кто-то окликнул его. Обернувшись, он увидел в фиакре двух женщин, родственниц Бодена, и незнакомого ему мужчину. Одна из родственниц Бодена, госпожа Л…, сказала ему: «Боден ранен! — и прибавила: — Его отнесли в Сент-Антуанскую больницу. Мы едем за ним. Поедемте с нами». Жендрие сел в фиакр.
Незнакомец, находившийся там, был рассыльным полицейского комиссара с улицы Сент-Маргерит-Сент-Антуан. Комиссар послал его на квартиру Бодена, в дом № 88 по улице Клиши, известить семью убитого. Застав там одних женщин, он сказал им только, что депутат Боден ранен. Он предложил сопровождать их и сел вместе с ними в фиакр. При нем произнесли фамилию Жендрие. Это было неосторожно. Его спросили, как он думает поступить; он сказал, что не выдаст депутата; условились при полицейском комиссаре обращаться к Жендрие как к родственнику и называть его Боденом.
Бедные женщины не теряли надежды. Может быть, рана и опасная, но Боден человек молодой и крепкий. «Его спасут», — говорили они. Жендрие молчал. В конторе полицейского комиссара завеса разорвалась.
— Как он себя чувствует? — спросила г-жа Л…
— Да ведь он умер, — ответил комиссар.
— Как! Умер?
— Да, убит наповал.
Это была тяжелая минута. Обе женщины в отчаянии разрыдались.
— О негодяй Бонапарт! — воскликнула г-жа Л… — Он убил Бодена, ну так я убью его. Я буду Шарлоттой Корде этого Марата.
Жендрие потребовал выдачи тела Бодена. Полицейский комиссар согласился отдать его семье, заручившись обещанием, что его сейчас же и без шума похоронят и не будут показывать народу. «Вы понимаете, — добавил он, — вид окровавленного тела убитого депутата может возмутить Париж». Переворот убивал людей, но не хотел, чтобы тела убитых служили оружием против него.
С этим условием комиссар дал в помощь Жендрие двух людей и пропуск, чтобы он мог поехать за телом Бодена в больницу, куда его отнесли.
Тем временем пришел брат Бодена, студент-медик, молодой человек лет двадцати четырех. Впоследствии этого молодого человека арестовали и посадили в тюрьму; его преступление заключалось в том, что он был братом Бодена. Итак, приехали в больницу. Проверив пропуск, директор провел Жендрие и молодого Бодена в подвал. Там стояли три койки, покрытые белыми. простынями, под которыми обрисовывались очертания трех человеческих тел. Боден лежал на средней койке. Направо от него лежал молодой солдат, убитый за минуту до него и упавший возле Шельшера, а налево — старуха, настигнутая шальной пулей на улице Кот; агенты переворота подобрали ее только через некоторое время; трудно сразу обнаружить все свои трофеи.
На трупах не было одежды, они были покрыты только саваном. С Бодена не сняли лишь рубашку и фланелевую фуфайку. При нем нашли семь франков, часы с золотой цепочкой, медаль депутата и золотую вставочку для карандаша, которой он пользовался на улице Попенкур после того, как отдал мне другой карандаш, поныне хранящийся у меня. Обнажив голову, Жендрие и молодой Боден подошли к средней койке. Откинули саван, и их глазам предстало лицо убитого Бодена. Он лежал как живой, казалось, будто он спит. Черты лица были спокойны, только на щеках начала пятнами проступать синева.
Составили протокол. Так полагается. Мало убивать людей, нужно еще составлять протоколы. Молодому Бодену пришлось расписаться в том, что по распоряжению полицейского комиссара ему «выдали» труп его брата. Пока он подписывал протокол, Жендрие во дворе больницы старался если не утешить, то хоть успокоить убитых горем женщин.
Вдруг какой-то человек, который, войдя во двор, несколько минут внимательно разглядывал Жендрие, неожиданно обратился к нему:
— Что вы здесь делаете?
— А вам-то что? — ответил Жендрие.
— Вы приехали за телом Бодена?
— Да.
— Это ваш фиакр?
— Да.
— Садитесь сейчас же и задерните шторы.
— Что это значит?
— Вы депутат Жендрие. Я вас знаю. Сегодня утром вы были на баррикаде. Если кто-нибудь, кроме меня, вас увидит, вы погибли.
Жендрие последовал его совету и сел в фиакр. Уже стоя на подножке, он спросил этого человека:
— Вы из полиции?
Человек не ответил. Через минуту он подошел к дверце фиакра, за которой скрылся Жендрие, и тихо сказал:
— Да, я ем ее хлеб, но не занимаюсь ее ремеслом.
Двое чернорабочих, посланных полицейским комиссаром, подняли тело Бодена с деревянной койки и отнесли к фиакру. Его поместили в глубине кареты, закрыв ему лицо и с головы до ног закутав в саван. Оказавшийся тут же рабочий одолжил свой плащ, который набросили на труп, чтобы не привлекать внимания прохожих. Госпожа Л… села возле мертвого тела, Жендрие напротив, молодой Боден рядом с Жендрие. Следом за ними ехал другой фиакр, где сидела вторая родственница Бодена и студент-медик по фамилии Дютеш.
Тронулись в путь. По дороге голова трупа от тряски качалась из стороны в сторону; кровь снова потекла из раны и образовала большие пятна на белой простыне. Жендрие протянул руку и, упершись в грудь мертвеца, не давал ему свалиться вперед; госпожа Л… поддерживала его сбоку.
Кучеру велели ехать шагом; переезд продолжался больше часа.
Когда подъехали к дому № 88 по улице Клиши и стали выносить тело из фиакра, у дверей собрались любопытные. Сбежались соседи. Брат Бодена с помощью Жендрие и Дютеша отнесли тело в пятый этаж, в квартиру убитого. Это был новый дом, и он жил там только несколько месяцев.
Они отнесли Бодена в его комнату, прибранную, имевшую такой же вид, как утром 2 декабря, когда он ушел из дому. Постель была не смята, так как он не ложился в предыдущую ночь. На столе лежала книга, раскрытая на той странице, где он прервал чтение. Они развернули саван, и Жендрие ножницами разрезал рубашку и фланелевую фуфайку. Тело вымыли. Пуля вошла в край правой надглазной дуги и вышла со стороны затылка. Рана над глазом не кровоточила, там образовалась опухоль; из отверстия в затылке вытекли потоки крови. На мертвеца надели белое белье, постелили чистую постель, подложили под голову подушку, оставив лицо открытым. В соседней комнате рыдали женщины.
Жендрие однажды уже оказал подобную услугу бывшему члену Учредительного собрания, Жаму Демонтри. В 1850 году Жам Демонтри умер изгнанником в Кельне. Жендрие поехал в Кельн, пошел на кладбище и добился разрешения вырыть тело Жама Демонтри. Он распорядился извлечь сердце Демонтри, набальзамировал его и, положив в серебряный сосуд, привез в Париж. Гора поручила ему вместе с Шоле и Жуаньо отвезти это сердце в Дижон, на родину Демонтри, и устроить ему торжественные похороны. Эти похороны были запрещены приказом Луи Бонапарта, в то время президента республики. Погребение смелых и преданных людей не нравилось Луи Бонапарту, ему нравилась их смерть.
Когда Бодена положили на постель, в комнату вошли женщины, и вся семья стала плакать, сидя вокруг тела убитого. Жендрие призывали другие обязанности, он вышел вместе с Дютешем. У подъезда собралась толпа.
Какой-то человек в блузе, со шляпой на голове, поднявшись на тумбу, ораторствовал, превознося переворот, восстановление всеобщего голосования, отмену закона 31 мая, разгон «двадцатипятифранковых»: «Луи Бонапарт правильно поступил» и т. д. Остановившись на пороге, Жендрие возвысил голос:
— Граждане! Там, наверху, лежит Боден, депутат народа; его убили, когда он защищал народ! Боден ваш депутат! Слышите? Вы перед его домом. Там, наверху, он истекает кровью на своей постели, а этот человек смеет прославлять его убийцу! Граждане, хотите, я скажу вам, как зовут этого человека? Его имя — Полиция. Стыд и позор изменникам и трусам! Честь праху того, кто погиб за вас!
И, растолкав толпу, Жендрие схватил этого человека за шиворот и, ударом руки сбросив с него шапку, крикнул: «Шапку долой!»
VI Декреты депутатов, оставшихся, на свободе
Текст приговора, вынесенного, как мы думали, Верховным судом, принес нам бывший член Учредительного собрания Мартен (от Страсбурга), адвокат при кассационном суде. Тогда же мы узнали о том, что происходило на улице Омер. Сражение началось, нужно было поддерживать и вдохновлять бойцов, нужно было без устали продолжать вместе с вооруженным сопротивлением сопротивление законное. Депутаты, собравшиеся накануне в мэрии X округа, издали декрет об отрешении Луи Бонапарта от должности, но этот декрет, исходивший от Собрания, почти сплошь состоявшего из непопулярных членов большинства, не мог оказать действия на массы; нужно было, чтобы левая пересмотрела его, выпустила от своего имени, придала ему более энергичный и революционный характер, а также использовала приговор Верховного суда, считавшийся действительным, поддержала этот приговор и обеспечила приведение его в исполнение.
В нашем призыве к оружию мы объявили Луи Бонапарта вне закона. Декрет об отрешении президента от должности, принятый и подписанный нами, явился полезным дополнением к объявлению вне закона, довершая революционный акт актом юридическим.
Комитет сопротивления созвал депутатов-республиканцев.
В квартире Греви, где мы заседали, было слишком тесно, поэтому мы условились собраться в доме № 10 на улице Мулен, хотя и были предупреждены, что полиция уже побывала там. Но у нас не было выбора; во время революции соблюдать осторожность невозможно, и скоро убеждаешься в том, что это бесполезно. Рисковать, рисковать каждую минуту — таков закон великих деяний, иногда определяющих великие события. Постоянно изобретать всё новые средства, способы, приемы, возможности, не размышлять о мелочах, но бить сразу в цель, не зондировать почву, не укрываться от опасности, но идти ей навстречу, чтобы добиться успеха, сразу ставить на карту все: час, место, благоприятный случай, друзей, семью, свободу, состояние, жизнь — в этом заключается революционная борьба.
К трем часам около шестидесяти депутатов собрались на улице Мулен, в доме № 10, в большой гостиной, смежной с маленьким кабинетом, где заседал Комитет сопротивления.
Был хмурый декабрьский день; казалось, что уже наступил вечер. Издатель Этцель, — которого можно было бы также назвать поэтом Этцелем, — человек благородного ума и большого мужества; будучи главным секретарем министерства иностранных дел при Бастиде, он, как известно, проявил редкие политические способности. Он предоставил себя в наше распоряжение, так же как пришедший к нам утром смелый и преданный родине Энгре. Этцель знал, что больше всего мы нуждаемся в типографии; мы были немы, говорил только Луи Бонапарт; Этцель пошел к одному владельцу типографии, и тот сказал ему: «Примените силу, приставьте мне к груди пистолет, и я напечатаю все, что вы захотите». Оставалось только собрать нескольких преданных друзей, силой захватить типографию, забаррикадироваться в ней и в случае необходимости выдержать осаду, покуда будут печататься наши прокламации и декреты; это и предложил нам Этцель. Следует рассказать, как он прибыл на место нашей встречи. Подходя к подъезду, в мглистом свете унылого декабрьского дня он увидел неподвижно стоявшего поодаль человека, который словно кого-то подстерегал. Он подошел к этому человеку и узнал бывшего полицейского комиссара Собрания, Иона.
— Что вы здесь делаете? — резко спросил Этцель. — Уж не пришли ли вы нас арестовать? В таком случае вот что у меня для вас приготовлено. — И он вытащил из кармана пару пистолетов.
Ион ответил улыбкой:
— Я действительно караулю, но не во вред, а на пользу вам, — я охраняю вас.
Зная о собрании на улице Ландрен и боясь, что нас арестуют, Ион добровольно взял на себя обязанности нашего дозорного.
Этцель уже сообщил свой план депутату Лабрусу, который должен был сопровождать его и в этом опасном деле оказать ему моральную поддержку от имени Собрания. Первая их встреча, назначенная в кафе Кардиналь, сорвалась, поэтому Лабрус оставил хозяину кафе для Этцеля записку следующего содержания: «Г-жа Элизабет ждет г-на Этцеля на улице Мулен, в доме № 10». По этой записке Этцель и явился.
Мы приняли предложение Этцеля, и было решено, что с наступлением темноты депутат Версиньи, исполнявший обязанности секретаря комитета, снесет ему наши прокламации, декреты, известия, которые мы получим, и все, что мы найдем нужным опубликовать. Условились, что Этцель будет ждать Версиньи на тротуаре в конце улицы Ришелье, около кафе Кардиналь.
Тем временем Жюль Фавр, Мишель де Бурж и я окончательно отредактировали декрет, объединявший отрешение президента от должности, постановленное правой, и принятое нами объявление президента вне закона. Мы вернулись в гостиную, чтобы прочитать этот декрет депутатам и собрать их подписи.
В эту минуту дверь отворилась, и вошел Эмиль де Жирарден. Со вчерашнего дня мы его еще не видели.
Если рассеять туман, окутывающий каждого, кто участвует в борьбе партий, туман, на расстоянии искажающий и затемняющий облик человека, Эмиль де Жирарден предстанет перед нами как выдающийся мыслитель, как писатель энергичный, искусный, сильный, логичный, точно выражающий свои мысли, журналист, в котором, как во всех крупных журналистах, чувствуется государственный человек. Эмилю де Жирардену мы обязаны памятным шагом вперед — дешевой газетой. У Эмиля де Жирардена есть великий дар — упрямство мысли. Эмиль де Жирарден — страж общественных интересов, для него газета — дозорный пост; он выжидает, смотрит, подстерегает, ведет разведку, наблюдает, дает сигнал при малейшей тревоге и открывает огонь своим пером; он готов вести борьбу во всех видах: сегодня он часовой, завтра генерал. Как все глубокие умы, он понимает, видит, определяет, он, так сказать, осязает великое и чудесное единство этих трех слов — революция, прогресс, свобода: он хочет революции, но прежде всего путем прогресса, он хочет прогресса, но единственно посредством свободы. Можно и, на наш взгляд, иногда нужно спорить с ним о том, каким путем идти, как поступать, какую занять позицию, но нельзя ни отрицать его храбрость, которую он проявил в самых различных обстоятельствах, ни отвергать его цели — улучшение морального и материального состояния всех граждан. Эмиль де Жирарден больше демократ, чем республиканец, больше социалист, чем демократ; в тот день, когда эти три идеи: демократия, республика, социализм, иными словами принцип, форма и применение, уравновесятся в его уме, все его колебания исчезнут. У него уже есть сила, будет и постоянство.
В течение этого заседания, как мы увидим, я не всегда соглашался с Эмилем де Жирарденом. Тем более я должен здесь отметить, как высоко я ценю этот светлый и мужественный ум. Что бы о нем ни говорили, Эмиль де Жирарден один из тех людей, которые делают честь современной прессе; он прекраснейшим образом сочетает в себе искусство борца и невозмутимость мыслителя.
Я подошел к нему и спросил:
— Осталось ли у вас хоть несколько рабочих в «Прессе»?
Он ответил:
— Наши станки опечатаны и охраняются подвижной жандармерией, но у меня есть пять или шесть преданных рабочих; можно изготовить несколько плакатов литографским способом.
— Ну так напечатайте, — продолжал я, — наши декреты и прокламации.
— Я напечатаю, — ответил он, — всё, кроме призыва к оружию.
Он добавил, обращаясь ко мне:
— Я знаю вашу прокламацию. Это боевой клич, этого я не могу напечатать.
Раздались негодующие возгласы. Тогда он объявил нам, что со своей стороны тоже составляет прокламации, но в совершенно ином духе. По его мнению, с Луи Бонапартом не следует бороться оружием, а нужно создать вокруг него пустоту. Из вооруженной борьбы он выйдет победителем, пустота окажется для него гибельной. Эмиль де Жирарден заклинал нас помочь ему изолировать «клятвопреступника Второго декабря».
— Окружим его пустотой! — воскликнул Эмиль де Жирарден. — Объявим всеобщую забастовку! Пусть купец перестанет продавать, потребитель — покупать, рабочий — работать, мясник — бить скот, булочник — выпекать хлеб; пусть бастуют все, вплоть до Национальной типографии; пусть Луи Бонапарт не найдет ни одного наборщика, чтобы набрать «Монитер», ни одного тискальщика, чтобы его оттиснуть, ни одного расклейщика, чтобы наклеить газету на стену! Изолируем этого человека! Пусть он будет одинок, пусть вокруг него царит пустота! Пусть нация отступится от него. Всякая власть, от которой отступается нация, падает, словно дерево, подрубленное у корня. Луи Бонапарт, покинутый всеми в своем преступлении, обратится в ничто. Чтобы низвергнуть его, достаточно прекратить вокруг него всякую деятельность. Напротив, если вы начнете стрельбу, — вы только укрепите его власть. Армия пьяна, народ ошеломлен и не хочет ни во что вмешиваться, буржуазия боится президента, народа, вас, боится всех! Победа невозможна. Вы храбро идете напролом, вы рискуете головой, это прекрасно; вы увлекаете за собой две или три тысячи бесстрашных людей, уже льется их кровь, смешавшись с вашей. Это героизм, согласен. Но это не политика. Что до меня, я не напечатаю призыва к оружию, и я отказываюсь участвовать в сражении. Организуем всеобщую забастовку!
То была высокомерная и гордая позиция; но я чувствовал, что план этот, к сожалению, неосуществим. Жирарден обычно видит обе стороны проблемы — теоретическую и практическую. Здесь, казалось мне, практическая сторона не выдерживала критики.
Слово взял Мишель де Бурж. Со свойственной ему строгой логикой и быстротою мысли Мишель де Бурж подчеркнул то, что было для нас самым неотложным: он говорил о преступлении Луи Бонапарта, о необходимости восстать против этого преступления. Это была скорее беседа, чем прения; но Мишель де Бурж, а затем Жюль Фавр, выступавший после него, были в высшей степени красноречивы. Жюль Фавр, способный оценить мощный ум Жирардена, охотно согласился бы с его идеей, если бы она была осуществима; мысль о всеобщей забастовке, о создании пустоты вокруг этого человека казалась ему грандиозной, но неприменимой на практике. Нация не может так внезапно остановиться. Даже пораженная в самое сердце, она продолжает жить. Повседневная деятельность людей, эта физическая основа общественной жизни, продолжается даже тогда, когда прекращается политическая деятельность. Что бы ни говорил Эмиль де Жирарден, всегда найдется мясник, который будет бить скот, булочник, который будет печь хлеб, — есть-то все-таки нужно! Заставить всех трудящихся сидеть сложа руки — химера, говорил Жюль Фавр, несбыточная мечта! Народ может сражаться три, четыре дня, неделю; общество не может ждать до бесконечности. Разумеется, положение сейчас очень тяжелое, разумеется, оно трагично, льется кровь, но кто создал это положение? Луи Бонапарт. А мы, мы должны принять его таким, какое оно есть, и только.
Эмиль де Жирарден, целиком захваченный своей идеей, отстаивал ее твердо и логично. Некоторые, слушая его, могли поколебаться. У него не было недостатка в доводах, его мощный, неистощимый ум находил их с легкостью. Я же видел только свой долг, горящий передо мной, как факел.
Я перебил его, воскликнув:
— Теперь уже поздно рассуждать о том, что нужно делать. То, к чему обязывал нас долг, уже сделано. Переворот бросил перчатку, левая подняла ее, вот и все. Второе декабря — подлый, дерзкий, неслыханный вызов демократии, цивилизации, свободе, народу, Франции. Повторяю, мы подняли эту перчатку; мы — закон, но закон, воплощенный в живых людях, которые в случае надобности могут вооружиться и пойти в бой. Ружье в наших руках — это протест. Не знаю, победим ли мы, но мы должны протестовать. Прежде всего протестовать в парламенте; если парламент закрыт, протестовать на улицах; если оцепят улицу, протестовать в изгнании; если мы умрем в изгнании, протестовать в могиле. Вот наша роль, наша задача, наша миссия. Мандат депутата растяжим; народ вручает его, события его расширяют.
Пока мы совещались, пришел наш коллега, Наполеон Бонапарт, сын бывшего короля Вестфальского. Он молча слушал, затем взял слово. Энергично, решительно, с искренним и благородным негодованием он осудил преступление своего двоюродного брата, но заявил, что, по его мнению, достаточно письменного протеста, протеста депутатов, протеста Государственного совета, протеста Верховного суда, протеста прессы; такой протест, говорил он, будет единодушным и вразумит Францию, — никакая другая форма сопротивления не сможет объединить весь народ. Он напомнил о том, что всегда считал конституцию неудачной, он боролся против нее в Учредительном собрании с первой же минуты, не станет защищать ее и в последний день и, конечно, не прольет за нее ни капли крови, но если конституция мертва, то республика жива, и нужно спасать не конституцию, уже превратившуюся в труп, а самую сущность, республику!
Посыпались бурные возражения. Бансель, молодой, пылкий, красноречивый, запальчивый, преданный своим убеждениям, вскричал, что сейчас нужно говорить не о недостатках конституции, а о гнусности совершенного преступления, о вопиющей измене, о нарушении клятвы; он сказал, что можно было голосовать против конституции в Учредительном собрании и все-таки защищать ее теперь, перед лицом узурпатора, что это вполне логично и что многие из нас поступают именно так. Он привел в пример меня. «Доказательством, — оказал он, — может служить Виктор Гюго». Он закончил следующими словами:
— Предположим, что вы присутствовали при постройке корабля, вы находили недостатки в его конструкции, давали советы, которые не были приняты во внимание. И все же вам пришлось вступить на борт этого судна, вместе с вами взошли ваши дети и братья, ваша мать тоже отправилась с вами. Является пират с топором в одной руке и факелом в другой, чтобы сделать пробоину и поджечь корабль. Экипаж хочет защищаться, хватается за оружие. Неужели вы окажете экипажу: «Я считаю, что этот корабль плохо построен, и не буду препятствовать его разрушению»?
— В подобном случае, — добавил Эдгар Кине, — тот, кто не на стороне корабля, на стороне пирата.
Со всех сторон закричали:
— Декрет! Читайте декрет!
Я стоял, прислонившись к камину. Наполеон Бонапарт подошел и сказал мне на ухо:
— Вы начинаете сражение, которое заранее проиграно.
Я ответил ему:
— Я не забочусь об успехе, я исполняю свой долг.
Он возразил:
— Вы политический деятель и, следовательно, должны думать об успехе. Повторяю вам, пока вы не зашли слишком далеко: исход этого сражения предрешен.
Я продолжал:
— Если мы вступим в борьбу, сражение будет проиграно: вы утверждаете это, я тоже так думаю; но если мы не станем бороться, погибнет честь. Лучше проиграть сражение, чем потерять честь.
Он помолчал, потом взял меня за руку.
— Пусть так, — сказал он, — но послушайте. Вы лично подвергаетесь большой опасности. Из всех членов Собрания президент особенно ненавидит именно вас. Вы с высоты трибуны назвали его Наполеоном Малым; поймите, такие вещи не забываются. Кроме того, призыв к оружию продиктован вами, это всем известно. Если вас арестуют, вы погибли. Вас расстреляют на месте или, в лучшем случае, отправят в ссылку. Есть у вас безопасное убежище на эту ночь?
Об этом я еще не подумал.
— И в самом деле, нет, — ответил я.
Он продолжал:
— Ну так приходите ко мне. Пожалуй, в Париже есть только одно место, где вы будете в безопасности, — это мой дом. Там вас не станут искать. Приходите днем, ночью, когда вам будет угодно; я буду ждать вас и сам вам открою. Я живу на Алжирской улице, дом номер пять.
Я поблагодарил; это было благородное и сердечное предложение, оно меня тронуло. Я не воспользовался им, но не забыл о нем.
Снова раздались крики: «Читайте же декрет. Садитесь, садитесь!» Перед камином стоял круглый стол; принесли лампу, перья, чернильницу и бумагу; члены комитета поместились за этим столом; депутаты расселись вокруг них на диванах и креслах и на всех стульях, какие только можно было найти в соседних комнатах. Некоторые искали глазами Наполеона Бонапарта. Его уже не было.
Один из депутатов предложил, чтобы мы прежде всего провозгласили себя Национальным собранием и немедленно избрали председателя и бюро. Я возразил, что нам незачем провозглашать себя Собранием: мы и так являемся Собранием и юридически и фактически, и Собранием в полном составе — ведь наши товарищи отсутствуют только в результате насилия; Национальное собрание, даже изувеченное переворотом, должно сохранить свою целостность; нужно оставить того же председателя и то же бюро, какие были до переворота, избрать же других значит сыграть на руку Луи Бонапарту и как бы признать роспуск Собрания; нам не следует делать ничего подобного; наши декреты должны быть опубликованы не за подписью председателя, кто бы им ни был, а за подписью всех членов левой, оставшихся на свободе; только при этом условии декреты станут для народа законом и произведут должное действие. Решили не избирать председателя. Ноэль Парфе предложил начинать наши декреты и акты не с обычной формулы: «Национальное собрание постановляет», а с формулы: «Народные депутаты, оставшиеся на свободе, постановляют», и т. д. — таким образом мы сохраним весь авторитет, связанный со званием народных депутатов, и будем действовать независимо от наших арестованных товарищей. Эта формула была хороша также и тем, что она отделяла нас от правой. Народ знал, что из всех депутатов на свободе остались только члены левой. Предложение Ноэля Парфе было принято.
Я прочел декрет об отрешении от должности. Вот его текст:
ДЕКЛАРАЦИЯ
Народные депутаты, оставшиеся на свободе, на основании статьи 68-й конституции, гласящей:
«Ст. 68. Всякий акт, посредством которого президент республики распускает Собрание, отсрочивает его заседания или препятствует осуществлению его полномочий, является государственным преступлением. На этом основании президент считается отрешенным от должности, граждане обязаны отказывать ему в повиновении; исполнительная власть по праву переходит к Национальному собранию; члены Верховного суда обязаны собраться немедленно под страхом обвинения в государственном преступлении; они обязаны созвать присяжных в назначенное ими место и приступить к суду над президентом и его сообщниками»,
Постановляют:
Статья первая. Луи Бонапарт отрешается от должности президента республики.
Статья 2. Все граждане и лица, занимающие общественные должности, обязаны отказывать ему в повиновении под страхом быть признанными его сообщниками.
Статья 3. Приговор Верховного суда от 2 декабря, объявляющий Луи Бонапарта виновным в государственной измене, будет обнародован и приведен в исполнение. В виду этого гражданским и военным властям предписывается, под страхом обвинения в государственном преступлении, оказывать содействие приведению в исполнение вышеуказанного приговора.
Дано в непрерывном заседании, 3 декабря 1851 года.
Когда декрет был прочитан и принят единогласно, мы подписали его, и депутаты столпились вокруг стола, чтобы присоединить свои подписи к нашим. Сен заметил, что процедура эта займет слишком много времени, что к тому же нас присутствует не более шестидесяти, так как многие из членов левой разосланы по восставшим районам. Он спросил, не найдет ли возможным комитет, имеющий все полномочия от левой, поставить под декретом подписи всех без исключения депутатов-республиканцев, оставшихся на свободе, как имеющихся налицо, так и отсутствующих. Мы ответили, что действительно декрет, подписанный всеми, более соответствует своей цели. К слову сказать, я первый высказал эту мысль. У Банселя в кармане как раз был старый номер «Монитера», где был напечатан перечень депутатов по партиям. Оттуда вырезали список членов левой, зачеркнули имена тех, кто был арестован, и присоединили этот список к декрету.[12]
В этом списке мне бросилось в глаза имя Эмиля де Жирардена. Он все еще был здесь.
— Вы подписываете декрет? — спросил я его.
— Без колебаний.
— В таком случае вы согласны его напечатать?
— Хоть сейчас.
Он продолжал:
— Я вам уже говорил, что у меня нет больше станков; я могу печатать только литографским способом; для этого нужно время, но сегодня в восемь часов у вас будет пятьсот экземпляров.
— Но вы, — продолжал я, — все-таки отказываетесь печатать призыв к оружию?
— Все-таки отказываюсь.
С декрета сняли две копии, и Эмиль де Жирарден унес их с собой. Прения возобновились. Каждую минуту прибывали депутаты и приносили различные известия. Амьен восстал. Реймс и Руан в волнении и идут на Париж. Генерал Канробер сопротивляется перевороту, генерал Кастелан колеблется. Посол Соединенных Штатов требует визу на выезд. Мы не очень верили этим слухам, и дальнейшие события доказали, что мы были правы.
Тем временем Жюль Фавр составил следующий декрет, который был им предложен и немедленно принят Собранием.
ДЕКРЕТ
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СВОБОДА — РАВЕНСТВО — БРАТСТВО
Нижеподписавшиеся народные депутаты, оставшиеся на свободе, присутствующие на непрерывном заседании Национального собрания;
Ввиду ареста большинства их коллег и ввиду крайней неотложности;
Принимая во внимание, что для совершения своего преступления Луи Бонапарт не только применил против жизни и собственности граждан Парижа самые грозные средства истребления, но и попрал ногами законы, уничтожая права личности, которыми обладают все цивилизованные нации;
Принимая во внимание, что эти преступные безумства еще более усиливают решительное осуждение со стороны всех честных людей и приближают час народного мщения, но считая необходимым провозгласить право,
Постановляют:
Статья первая. Осадное положение снимается во всех департаментах, где оно было объявлено, и возобновляется действие обычных законов.
Статья 2. Всем военным начальникам под страхом обвинения в государственном преступлении вменяется в обязанность немедленно сложить с себя те чрезвычайные полномочия, которые были им предоставлены.
Статья 3. Государственным чиновникам и полиции предписывается под страхом обвинения в государственном преступлении привести в исполнение настоящий декрет.
Дано в непрерывном заседании, 3 декабря 1851 года.
Вошли Мадье де Монжо и де Флотт. Они пришли с улицы, они побывали везде, где уже началась борьба, они видели собственными глазами, как часть населения колебалась, читая слова: «Закон от 31 мая отменяется, всеобщее голосование восстанавливается». Было очевидно, что плакаты Луи Бонапарта сильно смущают народ. Нужно было противопоставить натиску натиск и во что бы то ни стало открыть народу глаза; я продиктовал следующую прокламацию:
ПРОКЛАМАЦИЯ
Народ! Тебя обманывают.
Луи Бонапарт заявляет, что он восстанавливает твои права и возвращает тебе всеобщее голосование.
Луи Бонапарт лжет.
Прочти его плакат: он предоставляет тебе, — какое гнусное издевательство! — право передать ему, ему одному, учредительную власть, иными словами высшую власть, принадлежащую только тебе. Он предоставляет тебе право назначить его диктатором на десять лет. Иными словами, он предоставляет тебе право отречься от верховной власти и возложить на его голову корону, право, которого даже ты, народ, не имеешь, потому что одно поколение не может располагать верховной властью другого поколения.
Да, он предоставляет тебе, верховному властителю, право избрать себе владыку, и этот владыка — он.
Лицемерие и предательство!
Народ, мы срываем маску с лицемера, твое дело — покарать изменника!
Комитет сопротивления:
Жюль Фавр, де Флотт, Карно, Мадье де Монжо, Матье (от Дромы), Мишель де Бурж, Виктор Гюго.
Боден пал смертью славных. Нужно было известить народ о его гибели и почтить его память. По предложению Мишеля де Буржа был принят следующий декрет:
ДЕКРЕТ
Народные депутаты, оставшиеся на свободе, принимая во внимание, что депутат Боден погиб на баррикаде Сент-Антуанского предместья в борьбе за республику и законы и что он заслужил благодарность отечества,
Постановляют:
Депутат Боден будет погребен в Пантеоне со всеми подобающими почестями.
Дано в непрерывном заседании, 3 декабря 1851 года.
Почтив память погибших и приняв все меры, необходимые для продолжения борьбы, нужно было, по моему мнению, немедленно и по-диктаторски улучшить материальное положение народа. Я предложил отменить городские ввозные пошлины и налог на напитки. Мне возразили следующее: «Не нужно заискивать перед народом! После победы будет видно. А теперь он должен сражаться! Если он не будет сражаться, не восстанет, не поймет, что мы, депутаты, в этот час рискуем головой за него, за его права, если он покинет нас в самый трудный момент лицом к лицу с переворотом, значит, он недостоин свободы». На это Бансель возразил, что отменить городские ввозные пошлины и налог на напитки отнюдь не значит заискивать перед народом, что это помощь беднякам, важное экономическое мероприятие, искупающее прежнее невнимание к нуждам народа, удовлетворение его настоятельных требовании, которые правая всегда упорно отклоняла, а левая, приняв власть в свои руки, должна немедленно выполнить. — Оба эти мероприятия, объединенные в один декрет, были приняты с оговоркой, что декрет будет опубликован только после победы. Вот он:
ДЕКРЕТ
Народные депутаты, оставшиеся на свободе, постановляют:
Городские ввозные пошлины отменяются на всей территории республики.
Дано в непрерывном заседании, 3 декабря 1851 года.
Захватив с собой прокламации и декреты, Версиньи пошел разыскивать Этцеля. Лабрус со своей стороны тоже отправился к нему. Условились встретиться в восемь часов вечера у бывшего члена временного правительства Мари, на улице Нев-де-Пти-Шан.
Когда члены комитета и депутаты уже расходились, мне сказали, что кто-то хочет говорить со мной; я вошел в маленькую комнатку, смежную с гостиной, и увидел там человека с умным и симпатичным лицом, одетого в блузу. В руках у него была свернутая в трубку бумага.
— Гражданин Виктор Гюго, — оказал он, — у вас нет типографии. Но без нее можно обойтись, и вот каким способом.
Он развернул на камине сверток, который держал в руках. Это была тетрадь какой-то синей бумаги, очень тонкой и, как мне показалось, слегка промасленной. Листы синей бумаги чередовались с листами белой. Он вынул из кармана что-то вроде шила с тупым концом и оказал:
— Тут можно использовать все, что попадется под руку, — гвоздь, спичку. — И он начертил шилом на первом листе тетради слово «Республика». Затем, перевернув страницы, он показал мне: — Смотрите.
Слово «Республика» отпечаталось на пятнадцати или двадцати белых листках, вложенных в тетрадь.
Он прибавил:
— Этой бумагой обычно пользуются на фабриках, чтобы переводить чертежи. Я подумал, что в такое время, как сейчас, она может пригодиться. У меня дома около сотни таких листов, и я могу снять сто копий с чего угодно, например с прокламации, и потрачу на это столько же времени, сколько нужно, чтобы снять пять или шесть копий. Напишите мне что-нибудь, что вы сочтете полезным в настоящий момент, и завтра утром это будет расклеено по Парижу в пятистах экземплярах.
При мне не было ни одного из декретов, которые мы только что составили; копии унес Версиньи. Я взял листок бумаги и на уголке камина написал следующую прокламацию:
К АРМИИ
Солдаты!
Человек, имя которого вам известно, нарушил конституцию. Он изменил присяге, которую дал народу, преступил закон, топчет право, заливает Париж кровью, душит Францию, предает республику!
Солдаты, этот человек вовлекает вас в свое преступление.
Есть две святыни: знамя, представляющее воинскую честь, и закон, представляющий право народа. Солдаты, поднять знамя против закона — тягчайшее из преступлений! Не следуйте за безумцем, ведущим вас по ложному пути. Французские солдаты должны быть не участниками подобного преступления, а мстителями за него.
Этот человек говорит, что имя его — Бонапарт. Он лжет, ибо имя Бонапарт означает славу. Этот человек говорит, что имя его Наполеон. Он лжет, потому что имя Наполеон означает гений. Он же безвестен и ничтожен. Выдайте закону этого негодяя. Солдаты, это Лженаполеон. Настоящий Наполеон заставил бы вас повторить победу при Маренго; он же заставляет вас повторить бойню на улице Транснонен!
Не забывайте истинного призвания французской армии: защищать родину, распространять революцию, освобождать народы, поддерживать нации, избавить от гнета весь континент, повсюду разбивать цепи, повсюду защищать право — вот ваша миссия среди европейских армий. Вы достойны великого поля битвы.
Солдаты! Французская армия — авангард человечества.
Придите в себя, одумайтесь, опомнитесь, поднимитесь! Вспомните о ваших арестованных генералах, которых схватили за шиворот тюремщики и с кандалами на руках бросили в камеры для воров. Бандит, сидящий в Елисейском дворце, принимает французскую армию за шайку наемщиков империи времен упадка; он надеется, что если ей заплатить, если ее напоить, то она будет повиноваться! Он заставляет вас делать подлое дело; в девятнадцатом веке, в самом Париже, он заставляет вас душить свободу, прогресс, цивилизацию. Вас, детей Франции, он заставляет разрушать все то, что Франция так доблестно и с таким трудом построила за три века просвещения и шестьдесят лет революции! Солдаты, если вы великая армия, уважайте великую нацию.
Мы, граждане, мы, депутаты народа и ваши депутаты, мы, ваши друзья, ваши братья, мы, представители закона и права, идем вам навстречу с распростертыми объятиями, а вы безрассудно поражаете нас вашим оружием! Знайте, мы в отчаянии не от того, что льется наша кровь, но от того, что гибнет ваша честь!
Солдаты! Еще один шаг по пути преступления, еще один день с Луи Бонапартом, — и вы навсегда осуждены мировой совестью. Люди, командующие вами, — вне закона. Это не генералы, а преступники. Их ждет балахон каторжника, он уже и сейчас у них на плечах. Солдаты, еще не поздно, остановитесь! Вернитесь к родине! Вернитесь к республике! Знаете ли вы, что окажет о вас история, если вы будете упорствовать? Она скажет: «Они растоптали копытами коней, они раздавили колесами пушек все законы своей страны; они, французские солдаты, обесчестили годовщину Аустерлица, и по их вине, из-за их преступления имя Наполеона теперь покрывает Францию позором столь же великим, сколь велика была слава, которою это имя озаряло ее прежде!
Французские солдаты! Перестаньте помогать преступлению!
Мои товарищи по комитету уже ушли, я не мог посоветоваться с ними, времени терять было нельзя, я подписал:
За депутатов народа, оставшихся на свободе, депутат, член Комитета сопротивления
Виктор Гюго.
Человек в блузе взял прокламацию, сказал: «Завтра утром вы ее увидите на стенах», — и ушел. Он сдержал слово. На следующий день я заметил ее на улице Рамбюто, на углу улицы Лом-Арме и в Шапель-Сен-Дени. Те, кто не знал, каким способом она оттиснута, могли подумать, что она написана от руки синими чернилами.
Мне хотелось пойти домой. Когда я пришел на улицу Тур-д'Овернь, дверь моего дома оказалась приотворенной. Я вошел. Я пересек двор и поднялся по лестнице, никого не встретив.
Моя жена и дочь сидели в гостиной у камина вместе с госпожой Мерис. Я тихо вошел. Они беседовали вполголоса. Разговор шел о Пьере Дюпоне, авторе народных песен, который приходил ко мне просить оружия. У Исидора, бывшего солдата, сохранились пистолеты; он одолжил их Пьеру Дюпону на случай боя.
Вдруг женщины повернули голову и увидели меня, моя дочь вскрикнула. «Ах, уходи поскорей, — воскликнула жена, бросаясь мне на шею, — ты погиб, если задержишься хоть на минуту. Тебя арестуют здесь!» Госпожа Мерис добавила: «Вас ищут. Полиция была здесь четверть часа назад». Я не мог их успокоить. Мне передали пачку писем; в каждом мне предлагали приют на ночь, некоторые из них были подписаны незнакомыми именами. Через несколько минут, видя, что они всё больше тревожатся, я решил уйти. Жена сказала мне: «То, что ты делаешь, ты делаешь во имя справедливости. Иди, продолжай». Я обнял жену и дочь; с тех пор до настоящей минуты, когда я пишу эти строки, прошло пять месяцев. Я уехал в изгнание, они остались в Париже из-за моего сына Виктора, сидевшего в тюрьме; больше я их не видел.
Вышел я так же, как вошел; внизу, у привратника, было лишь двое или трое маленьких детей; они сидели вокруг лампы и смеялись, рассматривая книжку с картинками.
VII Архиепископ
В этот мрачный и трагический день одному человеку из народа пришла в голову мысль.
Это был рабочий, принадлежавший к честному и немногочисленному меньшинству демократов-католиков. Его экзальтация, одновременно революционная и мистическая, вызывала некоторые подозрения в народе, даже среди его товарищей по работе и друзей. Такой набожный, что социалисты могли назвать его иезуитом, такой республиканец, что реакционеры могли назвать его красным, — он был исключением в мастерских предместья. Но для того чтобы увлечь массы и повести их за собой в критический момент, нужны личности, исключительные по своей гениальности, а не по своим убеждениям. Революционер не может быть чудаком. Тот, кто хочет играть какую-нибудь роль в дни, когда обновляется общество, в дни социальной борьбы, должен целиком слиться с могучей однородной средой, именуемой партией. Великий поток идей увлекает за собою великий людской поток, и настоящий революционный вождь — тот, кто лучше всех умеет толкать людей в направлении, в котором движутся идеи.
Евангелие совместимо с революцией, католицизм противоречит ей. Это объясняется тем, что папство противоречит евангелию. Можно прекрасно понять республиканца-христианина, но нельзя понять демократа-католика. Это смешение двух противоположных начал. Это ум, в котором отрицание преграждает дорогу утверждению. Это нечто нейтральное.
Но во время революции нейтральное не имеет никакой силы.
Все же, начиная с первых часов сопротивления перевороту, рабочий католик-демократ, о благородной попытке которого мы здесь рассказываем, так решительно встал на сторону справедливости и истины, что в мгновение ока подозрения сменились доверием, и народ стал приветствовать его. Он выказал такую храбрость при постройке баррикады на улице Омер, что его единогласно признали ее вождем. Во время штурма он защищал ее так же бесстрашно, как и строил. Это было печальное и славное поле боя; большинство его товарищей было убито, и сам он спасся только чудом.
Однако ему удалось вернуться домой, и он в отчаянии подумал: «Все погибло».
Для него было ясно, что широкие слои народа не поднимутся. Победить переворот революцией отныне казалось невозможным; оставалось только одно — бороться с ним законным путем. То, от чего ждали успеха вначале, становилось последней надеждой в конце, а он считал конец неизбежным и близким. По его мнению, раз народ не восставал, нужно было поднять буржуазию. Если бы на улицу вышел хоть один вооруженный легион, гибель Елисейского дворца была бы неизбежна. Для этого нужно было найти какое-нибудь новое средство проложить путь к сердцу средних классов, воодушевить буржуазию зрелищем, которое могло бы поразить ее своим величием, но не отпугнуть.
И тогда этому рабочему пришла мысль:
Написать архиепископу Парижскому.
Рабочий взял перо и в своей бедной мансарде написал архиепископу Парижскому вдохновенное и полное глубокого смысла письмо, в котором он, человек из народа и верующий, говорил своему архиепископу следующее (мы передаем общий смысл этого письма):
«Настал час испытания, в междоусобной войне схватились армия и народ, льется кровь. Когда льется кровь, долг епископа — выйти на улицу. Господин Сибур будет достойным преемником господина Аффра. Это великий пример, но сейчас положение еще более трагично.
Пусть архиепископ Парижский в сопровождении всего духовенства, предшествуемый крестом первосвященника, в митре, выйдет на улицу во главе торжественной процессии. Пусть он призовет к себе Национальное собрание и Верховный суд, законодателей в перевязях и судей в красных мантиях, пусть призовет граждан, пусть призовет солдат и идет прямо к Елисейскому дворцу. Пусть он поднимет там карающую руку — именем правосудия на того, кто нарушает законы, и именем Христа на того, кто проливает кровь. Одним движением руки он сокрушит переворот.
И ему поставят памятник рядом с памятником господина Аффра, и народ будет говорить, что междоусобная война в Париже дважды была прекращена двумя архиепископами.
Церковь свята, но родина священна. В случае необходимости церковь должна прийти на помощь родине».
Окончив письмо, он поставил под ним свою подпись рабочего. Но тут возникло затруднение — как доставить это письмо?
Отнести самому?
Пропустят ли его, бедного рабочего в блузе, к архиепископу?
К тому же, чтобы добраться до архиепископского дворца, нужно идти как раз через восставшие кварталы, где, может быть, еще продолжается сопротивление, проходить по улицам, занятым войсками, его могут остановить и обыскать, руки у него пахнут порохом. Если его расстреляют, письмо не дойдет по назначению!
Как быть?
Он уж совсем было отчаялся, как вдруг вспомнил Арно (от Арьежа).
Этот депутат был ему по сердцу. Арно был благородный человек. Он также принадлежал к партии демократов-католиков. В Собрании он высоко и почти что один держал это знамя, стремившееся объединить демократию с церковью, знамя, за которым шли столь немногие. Молодой, красивый, красноречивый, восторженный, мягкий и решительный, Арно соединял в себе талант трибуна с верой рыцаря. Искренний по природе, он, не желая порывать с Римом, страстно любил свободу. Им руководили два принципа, но он не был двуличным. Все же демократ в нем брал верх. Однажды он сказал мне: «Я подам руку Виктору Гюго, но не подам ее Монталамберу».
Рабочий знал его. Он часто писал ему и иногда встречался с ним.
Арно жил в квартале, где почти не было войск.
Рабочий тотчас отправился туда.
Арно участвовал в борьбе вместе со всеми нами. Как и большинство представителей левой, он с утра 2 декабря не появлялся у себя дома. Однако на второй день он вспомнил о своей молодой жене, о грудном шестимесячном ребенке, которого он так давно не брал на руки; уходя из дому, он не знал, суждено ли им еще увидеться; он подумал о своем домашнем очаге, и, как в иные минуты бывает со всеми, его с непреодолимой силой потянуло домой. Он не мог удержаться; арест, Мазас, одиночная камера, понтон, взвод, расстреливающий пленника, — все было забыто, мысль об опасности исчезла, он вернулся домой.
Как раз в этот момент к нему пришел рабочий.
Арно принял его, прочел письмо и одобрил.
Арно лично знал архиепископа.
В представлении либерала-католика Арно Сибур, священник-республиканец, которого назначил архиепископом генерал Кавеньяк, был идеальным главой церкви.
В глазах архиепископа Арно представлял в Собрании тот подлинный католицизм, который Монталамбер извращал. Депутат-демократ и архиепископ-республиканец довольно часто совещались, причем посредником между ними служил аббат Маре, умный священник, друг народа и прогресса, главный викарий Парижа, впоследствии ставший епископом in partibus [13] Сурата. За несколько дней до описываемых событий Арно видел архиепископа, выслушал его жалобы по поводу посягательств клерикальной партии на епископскую власть и даже намеревался в ближайшее время запросить по этому поводу объяснения в министерстве и вынести этот вопрос на трибуну.
Арно присоединил к письму рабочего рекомендательное письмо за своею подписью и вложил оба письма в один конверт.
Но здесь снова возник вопрос: как доставить послание?
По причинам еще более веским, чем те, которые останавливали рабочего, Арно не мог сам отнести это письмо.
А медлить было невозможно!
Жена Арно увидела его замешательство и сказала не задумываясь:
— Дайте мне письмо!
Г-жа Арно, красивая и совсем молодая женщина, вышла замуж только два года тому назад. Она была дочерью бывшего члена Учредительного собрания республиканца Гишара: достойная дочь такого отца и достойная жена такого мужа!
В Париже шли бои; ей предстояло встретиться лицом к лицу со всеми опасностями, подстерегавшими ее на улицах, идти под пулями, рисковать жизнью.
Арно колебался.
— Что ты хочешь делать? — спросил он жену.
— Я отнесу это письмо.
— Сама?
— Сама.
— Но ведь это опасно.
Она подняла на него глаза и сказала:
— Разве я говорила тебе это два дня назад, когда ты уходил из дома?
Он поцеловал ее со слезами на глазах и сказал:
— Иди.
Но полиция была подозрительной, на улицах многих женщин обыскивали; у г-жи Арно могли найти это письмо. Как спрятать его?
— Я возьму с собой малютку, — сказала г-жа Арно.
Она развернула пеленки девочки, спрятала в них письмо и снова запеленала ее.
Когда это было сделано, отец поцеловал ребенка в лобик, а мать, смеясь, воскликнула:
— Ах ты, маленькая революционерка! Ей только шесть месяцев, а она уже участвует в заговоре.
Г-жа Арно не без труда попала к архиепископу. Фиакру, который вез ее туда, пришлось сделать большой крюк. Она все-таки добралась. Она оказала, что ей нужно видеть архиепископа. Что же бояться женщины с ребенком на руках? И ее пропустили.
Но она заблудилась во дворах и на лестницах. Растерявшись, она разыскивала дорогу и вдруг встретила аббата Маре, с которым была знакома. Она обратилась к нему и рассказала, по какому делу пришла. Аббат Маре прочел письмо рабочего и воспламенился.
— Это может спасти все дело, — сказал он.
Он добавил:
— Пойдемте со мной, сударыня. Я вас провожу.
Архиепископ Парижский находился в комнате, смежной с кабинетом. Аббат Маре провел г-жу Арно в кабинет, предупредил архиепископа, и минуту спустя тот вышел к ней. Кроме аббата Маре, с ним был еще аббат Дегери, священник церкви св. Магдалины.
Г-жа Арно передала Сибуру оба письма, от своего мужа и от рабочего. Архиепископ прочел их и задумался.
— Какой ответ передать мужу? — спросила г-жа Арно.
— Сударыня, — ответил архиепископ, — уже слишком поздно. Нужно было сделать это прежде, чем началась борьба. Теперь это значило бы вызвать кровопролитие еще большее, чем то, которое уже произошло.
Аббат Дегери хранил молчание. Аббат Маре почтительно убеждал своего епископа сделать великодушную попытку, которую предлагал рабочий. Он произнес несколько красноречивых слов. Он настаивал на том, что появление архиепископа может вызвать манифестацию Национальной гвардии, а манифестация Национальной гвардии может заставить Елисейский дворец отступить.
— Нет, — сказал архиепископ, — вы надеетесь на невозможное. Елисейский дворец теперь не отступит. Вы думаете, что я мог бы своим вмешательством остановить кровопролитие? Отнюдь нет! Из-за меня полились бы новые потоки крови. Национальная гвардия уже потеряла свой престиж. Если на улицах появятся легионы, Елисейский дворец раздавит их полками. И потом, что такое архиепископ для человека, совершившего государственный переворот? Где присяга? Где клятва? Где уважение к праву? Тот, кто сделал три шага по пути преступления, не повернет назад. Нет! Нет! Не надейтесь! Этот человек сделает все. Он поразил закон в руке депутата; он поразит бога в моей руке.
И, печально взглянув на г-жу Арно, он отпустил ее.
Исполним долг историка. Шесть недель спустя в Соборе Парижской богоматери кто-то служил благодарственный молебен в честь декабрьского предательства, тем самым сделав бога соучастником преступления.
То был архиепископ Сибур.
VIII Форт Мон-Валерьен
Из двухсот тридцати депутатов, находившихся под арестом в казармах на набережной Орсе, пятьдесят три были отправлены в форт Мон-Валерьен. Их погрузили в четыре арестантских фургона. Для нескольких человек там нехватило места, их втолкнули в омнибус. Бенуа д'Ази, де Фаллу, Пискатори, Ватимениль, а также Эжен Сю и Эскирос были заперты в эти камеры на колесах. Почтенному Гюставу де Бомону, горячему стороннику одиночного заключения, пришлось сесть в арестантский фургон. Как мы уже говорили, законодателю полезно бывает испробовать на самом себе изданный им закон.
Комендант форта Мон-Валерьен встретил арестованных депутатов под сводами ворот.
Сначала он хотел было занести их в тюремные списки. Генерал Удино, под начальством которого он когда-то служил, резко обратился к нему:
— Вы меня знаете?
— Да, генерал.
— Этого с вас довольно. Не спрашивайте нас ни о чем.
— Напротив, — сказал Тамизье, — спрашивайте о чем угодно и приветствуйте нас. Мы больше чем армия, мы — Франция.
Комендант понял. С этой минуты он снимал шляпу перед генералами и склонял голову перед депутатами.
Их отвели в казарму форта и заперли там всех вместе. Туда прибавили коек, солдат из этой казармы перевели в другое место. Здесь депутаты провели первую ночь. Койки стояли вплотную одна к другой. Простыни были грязные.
На следующее утро кто-то передал случайно подслушанный разговор о том, что будто бы из пятидесяти трех депутатов выделят группу республиканцев и поместят их отдельно. Через некоторое время этот слух подтвердился. Г-же де Люин удалось пробраться к своему мужу и передать кое-какие сведения. Уверяли, между прочим, что новый хранитель печати Луи Бонапарта, человек, подписывавшийся: «Эжен Руэр, министр юстиции», сказал: «Освободите членов правой, а членов левой посадите в тюрьму. Если чернь поднимется, они ответят за все. Головы красных будут нам залогом покорности предместий».
Вряд ли Руэр произнес эти слова, звучащие дерзко. В то время Руэр еще не набрался смелости. Назначенный министром 2 декабря, он выжидал, он проявлял какую-то стыдливость, он даже не решался переселиться на Вандомскую площадь. Правильно ли поступали вершители переворота? В некоторых душах сомнение в успехе превращается в угрызения совести. Нарушить все законы, изменить клятве, задушить право, предательски убить родину — прилично ли это? Покуда факт еще не совершился, они колеблются; как только дело удалось, они спешат присоединиться. Где победа, там уже нет злодеяния; удача отлично отмоет от грязи и сделает приемлемым то неизвестное, что называется преступлением. Первое время Руэр держался скромно. Потом он стал одним из самых беззастенчивых советников Луи Бонапарта. Это вполне понятно. Его позднейшее усердие объясняется его трусостью вначале.
В действительности эти угрожающие слова были произнесены не Руэром, а Персиньи.
Де Люин передал своим товарищам о готовившемся отборе и предупредил, что их будут вызывать по фамилиям, дабы отделить белых овец от красных козлищ. Поднялся ропот, казалось, единодушный. Послышались благородные возгласы протеста, делавшие честь представителям правой.
— Нет! Нет! Не будем называть никого! Не допустим отбора! — воскликнул Гюстав де Бомон.
Де Ватимениль добавил:
— Мы вошли сюда все вместе, все вместе мы должны отсюда и выйти.
Однако через несколько минут Антони Туре предупредили, что в секретном порядке составляется список всех арестованных и депутатов-роялистов просят расписываться в нем. Говорили, — очевидно, без оснований, — что это не очень благородное решение было предложено достопочтенным де Фаллу.
Антони Туре, стоя в казарме среди группы взволнованных депутатов, обратился к ним.
— Господа, — воскликнул он с жаром, — составляется список фамилий. Это недостойно. Вчера в мэрии Десятого округа вы нам говорили: «Теперь нет больше ни левой, ни правой, Собрание едино». Вы думали, что победит народ, и прятались за нами, республиканцами. Сегодня вы думаете, что победит переворот, вы снова становитесь роялистами и хотите выдать нас, демократов! Прекрасно, поступайте как знаете!
Поднялся крик.
— Нет, нет, теперь нет больше ни правой, ни левой! Собрание едино! Одна участь всем!
Начатый список отыскали и сожгли.
— По решению Палаты, — сказал, улыбаясь, Ватимениль.
Один из депутатов-легитимистов добавил:
— Скажем лучше — не палаты, а казармы.
Через несколько минут явился комиссар форта; в вежливых выражениях, но повелительным тоном он предложил народным депутатам назвать свои фамилии, чтобы каждого можно было отправить в назначенное ему место
В ответ раздались возмущенные крики.
— Никто! Никто не назовет своей фамилии, — сказал генерал Удино.
Гюстав де Бомон прибавил:
— У всех нас одно имя: депутаты народа.
Комиссар поклонился и ушел.
Через два часа он вернулся, на этот раз его сопровождал старший пристав Собрания, спесивого вида толстяк, с красным лицом и седыми волосами, некто Дюпонсо, — прежде в торжественные дни он красовался у подножия трибуны в расшитом серебром воротнике, с цепью на животе и со шпагой, болтавшейся между ног.
Комиссар оказал Дюпонсо:
— Исполняйте свой долг.
Под словом «долг» комиссар подразумевал — и Дюпонсо не мог не понимать этого — предательство пристава по отношению к законодателям. Дюпонсо должен был стать чем-то вроде лакея, предающего своих хозяев.
Это происходило следующим образом.
Нагло глядя в лицо депутатам, Дюпонсо называл их одного за другим по фамилии, а полицейский немедленно заносил их в список.
Пока он производил этот осмотр, над ним нещадно издевались.
— Господин Дюпонсо, — сказал ему Ватимениль, — я считал вас глупцом, но думал, что вы порядочный человек.
С самыми резкими словами к нему обратился Антони Туре. Он в упор посмотрел на него и оказал:
— Вы были бы достойны называться Дюпеном.
Пристав и в самом деле стоил председателя, так же как председатель стоил пристава.
Когда сосчитали все стадо и произвели отбор, оказалось тринадцать козлищ, из них десять депутатов левой: Эжен Сю, Эскирос, Антони Туре, Паскаль Дюпра, Шане, Фейоль, Полен Дюррье, Бенуа, Тамизье, Тейяр-Латерис, и три члена правой, со вчерашнего дня вдруг ставшие красными в глазах переворота: Удино, Пискатори и Тюрьо де Ларозьер.
Их заперли по отдельным камерам, а сорок остальных выпустили небольшими группами.
IX Первые признаки грозы в народе
Вечер предвещал наступление грозных событий.
На бульварах группами собирался народ. В сумерки эти группы стали расти и превратились в целые сборища, которые вскоре смешались и слились в сплошную массу. Огромная толпа с каждой минутой увеличивалась и находилась в беспрерывном движении, так как с ближних улиц все прибывал народ; мятущаяся, буйная, она волновалась с трагическим гулом. Этот гул сгущался в одно слово, в одно имя, — оно вырывалось из всех уст сразу и выражало общую тревогу: «Сулук!» На длинном пути от церкви св. Магдалины до Бастилии почти повсюду мостовую занимали войска, пехота и кавалерия; войск не было только на площадях у Порт-Сен-Дени и у Порт-Сен-Мартен, — может быть, их туда не послали умышленно? По обеим сторонам этой неподвижной и темной массы, ощерившейся пушками, саблями и штыками, по тротуарам струился поток разгневанных людей. На бульварах народ негодовал. У Бастилии — полное затишье.
У Порт-Сен-Мартен в толпе, стеснившейся и встревоженной, слышался тихий говор. Рабочие, собравшись в кружки, перешептывались. Здесь уже действовало общество Десятого декабря. Какие-то люди в белых блузах, — своего рода форма, которую полиция надела в эти дни, — говорили: «Не будем вмешиваться! Пусть двадцатипятифранковые устраиваются, как умеют! Они нас бросили в июне сорок восьмого года, пусть теперь выпутываются сами! Это нас не касается!» Другие блузы, синие, отвечали им: «Мы знаем, что делать. Это еще только начало. Посмотрим, что будет дальше».
Рассказывали, что на улице Омер снова строят баррикады, что там уже убито много народа, что стреляют без предупреждения, что солдаты пьяны, что во многих местах этого квартала устроены походные лазареты, уже переполненные убитыми и ранеными. Все это говорили серьезно, не повышая голоса и не жестикулируя, доверительным тоном. Время от времени толпа умолкала и прислушивалась; доносились звуки отдаленной перестрелки.
Люди говорили: «Вот уже начинают рвать полотно».
Наш постоянный комитет заседал у Мари, на улице Круа-де-Пти-Шан. К нам отовсюду прибывали новые сторонники. Многие из наших друзей, которые не могли разыскать нас накануне, теперь присоединились к нам, среди них Эмманюэль Араго, храбрый сын прославленного отца, Фарконне и Руссель (от Ионны) и несколько известных в Париже людей, в том числе молодой и уже знаменитый адвокат, защищавший газету «Авенман дю Пепль», — Демаре.
За большим столом у окна кабинета два превосходных оратора, Жюль Фавр и Александр Рей составляли воззвание к Национальной гвардии. В гостиной Сен, сидя в кресле и положив ноги на решетку камина, чтобы просушить У ярко пылавшего огня промокшие сапоги, рассуждал, улыбаясь так же смело и спокойно, как, бывало, на трибуне. «Дела идут плохо для нас, — говорил он, — но хорошо для республики. Военное положение объявлено, его законы будут применять свирепо, в особенности против нас. Нас подстерегают, выслеживают, нас травят, и вряд ли нам удастся уйти. Сегодня, завтра, может быть через десять минут произойдет небольшое избиение депутатов. Нас поймают здесь или в другом месте и тут же расстреляют или заколют штыками. Наши трупы будут везти по улицам, и надо надеяться, что это, наконец, заставит народ подняться и свергнуть Бонапарта. Мы погибли, но Бонапарту пришел конец».
В восемь часов, как обещал Эмиль де Жирарден, мы получили из типографии «Прессы» пятьсот экземпляров декрета об отрешении президента от должности и объявлении его вне закона; декрет этот утверждал приговор Верховного суда и был скреплен всеми нашими подписями. Это был плакат шириной в две ладони, отпечатанный на бумаге для гранок. Пятьсот еще влажных экземпляров этого декрета принес нам Ноэль Парфе, спрятав их между жилетом и рубашкой. Тридцать депутатов поделили их между собой и по нашим указаниям отправились на бульвары раздавать декрет народу.
Этот декрет произвел необычайное впечатление на толпу. Некоторые кафе еще не закрылись, люди вырывали друг у друга листки, теснились у освещенных вывесок, толпились под фонарями; многие поднимались на тумбы или столы и громко читали декрет. «Правильно! Браво!» — восклицал народ. «Подписи! Подписи!»— кричали в толпе. Читали и подписи; при каждом популярном имени раздавались рукоплескания. Шарамоль, веселый и негодующий, переходил от группы к группе и раздавал листки декрета; его высокий рост, громкая и смелая речь, сверток оттисков, которыми он размахивал над головой, — все это привлекало людей, и отовсюду к нему протягивались руки. «Кричите: «Долой Сулука!» — и вы получите листок», — говорил он. Присутствие солдат его не смущало. Какой-то сержант пехоты, увидев Шарамоля, тоже протянул руку, чтобы взять один из листков, которые тот раздавал.
— Сержант, — сказал ему Шарамоль, — кричите: «Долой Сулука!»
Сержант мгновение медлил, потом ответил: «Нет!»
— Ну тогда, — продолжал Шарамоль, — кричите: «Да здравствует Сулук!»
Тут сержант не стал раздумывать, он взмахнул саблей и среди взрывов смеха и рукоплесканий решительно крикнул: «Да здравствует Сулук!»
Чтение декрета сообщило негодованию толпы какую-то мрачную решимость. Со всех сторон начали срывать плакаты, расклеенные правительством переворота. Какой-то молодой человек, стоя в дверях кафе «Варьете», крикнул офицерам: «Вы пьяны!» На бульваре Бон-Нувель рабочие грозили солдатам кулаками, говоря: «Стреляйте же, подлецы, в безоружных людей! Будь у нас ружья, вы подняли бы приклады кверху!»
У кафе «Кардиналь» кавалерия начала разгонять народ.
На бульваре Сен-Мартен и на бульваре Тампль войск не было, поэтому толпа была там гуще, чем в других местах. Все лавки здесь были закрыты, только уличные фонари бросали тусклый свет; у неосвещенных окон смутно виднелись лица людей, вглядывавшихся в темноту. Мрак порождает безмолвие; эта огромная толпа, как мы уже оказали, молчала; слышался только неясный ропот.
Вдруг в конце улицы Сен-Мартен блеснул свет, послышался шум, началось какое-то движение. Головы повернулись, толпа заволновалась, словно море в штормовую погоду, все бросились в ту сторону и сгрудились у перил высоких тротуаров, обрамляющих мостовую перед театрами Порт-Сен-Мартен и Амбигю. Видна только движущаяся толпа, свет все ближе и ближе. Доносится пение. Узнаем этот грозный припев: «К оружию, граждане! Стройтесь в батальоны!» Это несут зажженные факелы, это пылает «Марсельеза», факел революции и войны.
Толпа расступалась перед людьми с факелами в руках, певшими «Марсельезу». Наконец шествие повернуло на бульвар Сен-Мартен. Тогда все увидели, что означала эта мрачная процессия. Она состояла из двух отдельных групп; впереди несли на плечах доску, на которой лежал старик с белой бородой, застывший, с раскрытым ртом, с остановившимися глазами; лоб его был пробит пулей. Труп покачивался на плечах несших его людей, голова мертвеца то опускалась, то поднималась, и что-то угрожающее и трагическое было в этом движении. Один из тех, кто нес тело старика, бледный, раненный в грудь, прижимал рукой свою рану, опирался на ноги старика и, казалось, сам готов был упасть. Вторая группа несла другие носилки, на которых лежал молодой человек с посиневшим лицом и закрытыми глазами: из-под окровавленной рубашки, распахнутой на груди, виднелись его раны. Обе группы, несшие носилки, пели. Они пели «Марсельезу» и при каждом припеве останавливались, поднимали факелы и кричали: «К оружию!» Несколько молодых людей размахивали обнаженными саблями. Факелы бросали кровавые отсветы на мертвенно-бледные лица трупов и на зеленоватые лица толпы. Народ содрогнулся. Казалось, снова возникло грозное видение Февраля.
Это мрачное шествие двигалось по улице Омер. Около восьми часов вечера человек тридцать рабочих, собравшихся в квартале Центрального рынка, те же, которые на следующий день построили баррикаду на улице Герен-Буассо, пробрались на улицу Омер через улицы Пти-Льон и Нев-Бур-Лаббе и площадь Сен-Мартен. Они пришли сражаться, но здесь все уже было кончено. Пехота, разобрав баррикады, ушла. На углу, на мостовой, остались два трупа — семидесятилетний старик и молодой человек лет двадцати пяти; лица были открыты, под телами образовались лужи крови, головы лежали на тротуаре, возле которого они упали. Оба были в пальто и, по-видимому, принадлежали к буржуазии.
Возле старика лежала его шляпа, у него было почтенное, спокойное лицо, белая борода, седые волосы. Пуля пробила ему череп.
У молодого грудь была растерзана крупной дробью. Это были отец с сыном. Сын, увидев, что отец убит, сказал: «Я тоже хочу умереть». Они лежали совсем близко друг от друга.
Напротив ограды Художественного училища строился дом. Там взяли две доски, положили на них оба трупа, толпа подняла их на плечи, и при свете принесенных откуда-то факелов тронулись в путь. На улице Сен-Дени какой-то человек в белой блузе загородил дорогу шествию. «Куда вы идете? — спросил он, — из-за вас мы все пострадаем! Вы играете на руку двадцатипятифранковым!» — «Долой полицию! Долой белые блузы!» — закричала толпа. Человек скрылся.
В пути процессия становилась все многочисленнее, толпа расступалась перед ней, все хором пели «Марсельезу», но, кроме нескольких сабель, никакого оружия не было. На бульваре шествие произвело огромное впечатление. Женщины ломали руки от жалости. Рабочие восклицали: «Подумать только, что у нас нет оружия!»
Пройдя некоторое расстояние по бульварам, процессия, за которой теперь следовала огромная толпа растроганных и негодующих людей, снова свернула на улицы. Так дошли до улицы Гравилье. Здесь из узкого переулка внезапно появился полицейский разъезд; двадцать всадников с саблями наголо ринулись на людей, несших носилки, и сбросили трупы в грязь. Подоспевший тут же беглым шагом батальон стрелков штыками решил исход боя. Сто два гражданина были арестованы и отведены в префектуру. В схватке обоим трупам досталось несколько сабельных ударов — они, можно сказать, были убиты дважды. Бригадир Ревиаль, командовавший полицейским разъездом, за этот воинский подвиг был награжден орденом Почетного Легиона.
Когда мы пришли к Мари, нас предупредили, что его дом собираются окружить. Мы решили уйти с улицы Круа-де-Пти-Шан.
В Елисейском дворце струхнули. Бывшего майора Флери, одного из адъютантов президента, вызвали в кабинет, где весь день находился Бонапарт. Тот в течение нескольких минут беседовал с Флери с глазу на глаз, после чего адъютант вышел из кабинета, сел на лошадь и галопом помчался по направлению к Мазасу.
Затем приспешники переворота собрались на совещание в кабинете Бонапарта. Их дела явно шли плохо; представлялось вероятным, что битва в конце концов примет угрожающие размеры; до сих пор они сами хотели ее, а теперь, кажется, потеряли уверенность и стали побаиваться. Они старались вызвать столкновение и в то же время опасались его. Стойкость сопротивления была для них таким же тревожным признаком, как и трусость их сторонников. Ни один из новых министров, назначенных в это утро, еще не водворился в своем министерстве — робость, знаменательная со стороны людей, всегда так жадно бросавшихся на добычу. Руэр, в частности, запропастился неизвестно куда. Это предвещало грозу. Не говоря о Луи Бонапарте, ответственность за переворот по-прежнему ложилась только на три имени: Морни, Сент-Арно и Мопа. Сент-Арно ручался за Маньяна; Морни с усмешкой говорил вполголоса: «А ручается ли Маньян за Сент-Арно?» Эти люди приняли все меры, они вызвали новые полки, приказ гарнизонам двинуться к Парижу был разослан в один конец до Шербурга, а в другой до Мобежа. Преступники, в глубине души сильно встревоженные, старались обмануть друг друга, но держались невозмутимо; все говорили о верной победе, но каждый втихомолку готовился бежать, втайне, никому не доверяясь, чтобы не вызвать подозрения у своих сообщников и, в случае провала, оставить нескольких человек в жертву народной ярости. Для этих жалких последователей Макьявелли первое условие удачного побега состоит в том, чтобы покинуть друзей; удирая, они бросают своих сообщников на произвол судьбы.
X Зачем Флери отправился в Мазас
В ту же ночь около четырех часов все улицы, ведущие к вокзалу Северной железной дороги, бесшумно заняли два батальона — Венсенских стрелков и подвижной жандармерии. На перроне стояли несколько полицейских отрядов. Начальник вокзала получил приказ приготовить специальный поезд и держать паровоз под парами. Несколько кочегаров и механиков были оставлены на ночное дежурство. Все эти распоряжения были сделаны без всяких объяснений и сохранялись в строжайшей тайне. Около шести часов войска перестроились, забегали полицейские, и через несколько минут по улице Нор крупной рысью прибыл эскадрон улан. В середине, между двумя рядами всадников, показались два арестантских фургона, запряженные почтовыми лошадьми; за каждым фургоном следовала небольшая открытая коляска, в которой сидел только один человек. Во главе улан скакал адъютант Флери.
Кортеж въехал во двор, затем в вокзал, и сплошные и решетчатые ворота закрылись за ним.
Двое людей, сидевших в колясках, явились к полицейскому комиссару вокзала; адъютант Флери переговорил с ним наедине. Этот таинственный кортеж возбудил любопытство служащих железной дороги; дежурные расспрашивали полицейских, но те ничего не знали. Они могли только сказать, что арестантские фургоны восьмиместные, что в каждом фургоне по четыре арестованных, по одному в камере, и что четыре остальных камеры заняты четырьмя полицейскими, рассаженными с таким расчетом, чтобы устранить всякую возможность связи между пленниками.
После довольно продолжительных переговоров между адъютантом из Елисейского дворца и людьми префекта Мопа оба тюремных фургона поставили на платформы, по-прежнему поместив за каждым из них открытую коляску, своего рода караульную будку на колесах, где полицейские заменяли часовых. Паровоз стоял под парами, платформы прицепили к тендеру, и поезд отошел. Было еще совершенно темно.
Поезд долго двигался в полной тишине. Был мороз; во втором из двух тюремных фургонов полицейские, сидевшие в неудобном положении и продрогшие до костей, вышли из своих клеток и, чтобы согреться и размять ноги, стали прогуливаться в узком проходе, оставленном между камерами по всей длине фургона. Рассвело; четверо полицейских дышали свежим воздухом и смотрели на поля через окошечки, проделанные в стене под потолком по обе стороны прохода. Вдруг в одной из запертых клеток чей-то звучный голос воскликнул:
— Ну и холод же! Нельзя ли опять закурить сигару?
Сейчас же из другой клетки раздался другой голос:
— А, это вы? Здравствуйте, Ламорисьер!
— Здравствуйте, Кавеньяк, — ответил первый голос. Генералы Кавеньяк и Ламорисьер узнали друг друга.
Из третьей камеры донесся третий голос:
— А, вы здесь, господа! Здравствуйте! Счастливого пути!
Это говорил генерал Шангарнье.
— Господа генералы, — подхватил четвертый голос, — я тоже с вами.
Три генерала узнали голос База. Во всех четырех камерах одновременно раздался взрыв смеха.
И в самом деле, этот арестантский фургон увозил из Парижа квестора База и генералов Ламорисьера, Кавеньяка и Шангарнье. В другом фургоне, который был погружен на платформу первым, сидели полковник Шаррас, генералы Бедо и Лефло и граф Роже (от Севера).
В полночь восемь арестованных депутатов спали каждый в своей камере в Мазасе, как вдруг к ним в двери постучали, и чей-то голос крикнул: «Одевайтесь, сейчас за вами придут». — «Нас, может быть, хотят расстрелять?» — спросил через дверь Шаррас. Ответа не последовало.
Нужно заметить, что в ту минуту у каждого из них мелькнула эта мысль. И действительно, судя по тому, что рассказывают теперь друг о друге рассорившиеся сообщники преступления, было решено расстрелять арестованных, в случае если бы мы предприняли нападение на Мазас с целью освободить их, и у Сент-Арно уже был в кармане соответствующий приказ, подписанный «Луи Бонапарт».
Заключенные встали. В прошлую ночь с ними поступили совершенно так же; они не спали до утра, а в шесть часов тюремщики сказали им: «Можете ложиться». Время шло, наконец они подумали, что повторится то же, что и в прошлую ночь, и когда на тюремных часах пробило пять, некоторые из них уже хотели было лечь в постель, как вдруг двери их камер отворились. Всех восьмерых одного за другим повели в круглый зал канцелярии, затем посадили в арестантский фургон, причем за все это время они ни разу не встретились и не видели друг друга. Когда они проходили через канцелярию, какой-то человек в черном, сидевший за столом с пером в руке, нагло останавливал их и спрашивал фамилии. «Я столь же мало расположен называть вам свою фамилию, как и спрашивать у вас вашу», — ответил генерал Ламорисьер и прошел мимо.
Адъютант Флери стоял в канцелярии, пряча свой мундир под накинутым поверх него плащом. Ему было поручено, по его собственному выражению, «погрузить» их и доложить о «погрузке» в Елисейском дворце. Адъютант Флери прошел всю свою военную службу в Африке в дивизии генерала Ламорисьера, и не кто иной, как генерал Ламорисьер, будучи военным министром, в 1848 году произвел его в командиры эскадрона. Проходя через канцелярию, генерал Ламорисьер пристально посмотрел на него.
Садясь в арестантские фургоны, генералы курили. У них отобрали сигары. Генерал Ламорисьер не отдал своей. Какой-то голос снаружи повторил три раза: «Не давайте же ему курить». Полицейский, стоявший у двери его камеры, некоторое время колебался, но в конце концов сказал генералу: «Бросьте сигару».
Вот чем было вызвано восклицание, по которому генерал Кавеньяк узнал генерала Ламорисьера. Когда всех рассадили по камерам, фургоны тронулись в путь.
Узники не знали, ни с кем они едут, ни куда их везут. Каждый следил в своей камере за поворотами и старался угадать направление; одни думали, что их везут к Северной дороге, другие предполагали, что едут в Гавр. Они слышали цоканье копыт конвоя, рысью следовавшего за ними по мостовой.
На железной дороге неудобства путешествия в камерах оказались еще сильнее. Генералу Ламорисьеру, взявшему с собой кое-какие вещи и плащ, было еще теснее, чем другим. Он не мог пошевелиться, он закоченел; наконец он громко оказал те несколько слов, благодаря которым все четверо узнали друг друга.
Услышав имена арестованных, конвойные, до тех пор обращавшиеся с ними грубо, стали вести себя вежливее. «А ну-ка, — сказал генерал Шангарнье, — откройте наши клетки, и дайте и нам погулять по проходу, как гуляете вы». — «Генерал, — ответил один из полицейских, — это запрещено. За фургоном в коляске едет полицейский комиссар, и ему видно все, что здесь происходит». Однако через несколько минут конвойные, сославшись на то, что стало холодно, опустили матовое стекло в конце прохода со стороны комиссара; «заблокировав полицию», как выразился один из них, они выпустили арестованных из камер.
Четверо депутатов рады были снова увидеться и пожать друг другу руки. Во время этой неожиданной встречи каждый из трех генералов проявил особенности своего темперамента. Ламорисьер, гневный и остроумный, со всем своим воинственным пылом поносил «этого Бонапарта», Кавеньяк был спокоен и холоден, Шангарнье молча смотрел в окошко на мелькавшие поля. Время от времени полицейские осмеливались вставить в разговор несколько слов. Один из них рассказал арестованным, что бывший префект Карлье провел ночь с 1 на 2 декабря в полицейской префектуре. «Я сам, — сказал он, — ушел из префектуры в полночь, но до этого часа я его там видел и могу утверждать, что в полночь он еще был там».
Они проехали Крейль, потом Нуайон. В Нуайоне им принесли завтрак: какую-то закуску и по стакану вина, но выйти не разрешили. Полицейские комиссары с ними не разговаривали. Затем их снова заперли, и они почувствовали, что фургон снимают с платформ и ставят на колеса. Привели почтовых лошадей, фургоны двинулись, на этот раз шагом. Теперь их конвоировала рота пешей подвижной жандармерии.
К моменту отъезда из Нуайона они уже около десяти часов не выходили из запертых фургонов. Когда пехота остановилась на отдых, они попросили, чтобы их на минуту выпустили. «Мы разрешаем, — сказал один из полицейских комиссаров, — но только на минуту, и если вы дадите честное слово, что не будете пытаться бежать». — «Мы не даем честного слова», — возразили арестованные. «Господа, — настаивал комиссар, — дайте мне его только на одну минуту, пока вы выпьете по стакану воды». — «Нет, — сказал генерал Ламорисьер, — пока мы сделаем обратное». И он добавил: «За здоровье Луи Бонапарта». Им разрешили выйти, но опять-таки по очереди, и они могли немного подышать свежим воздухом в открытом поле, на краю дороги.
Затем фургоны, окруженные конвоем, снова тронулись в путь.
С наступлением сумерек они увидели в окошко фургона высокие стены, из-за которых виднелась большая круглая башня. Через минуту фургоны въехали под низкие сводчатые ворота, затем остановились посреди длинного тесного двора, окруженного толстыми стенами. Здесь возвышались два здания; одно из них было похоже на казармы, другое, с решетками на всех окнах, имело вид тюрьмы. Дверцы фургонов открылись. У подножки стоял офицер в погонах капитана. Первым вышел генерал Шангарнье.
— Где мы? — спросил он.
Офицер ответил:
— Вы в Гаме.
Офицер был комендантом крепости. На эту должность его назначил генерал Кавеньяк.
Переезд от Нуайона до Гама занял три с половиной часа. Они провели в пути тринадцать часов, причем в течение десяти часов не выходили из передвижной тюрьмы.
Их повели в крепость, каждого в назначенную ему отдельную камеру. Но Ламорисьера по ошибке провели в камеру Кавеньяка, и генералы могли еще раз пожать друг другу руку. Генерал Ламорисьер захотел написать своей жене; полицейские комиссары согласились передать только записку следующего содержания: «Я здоров».
Главный корпус Гамской тюрьмы представляет собой двухэтажное здание. В первом этаже, пересеченном низким и темным сводчатым проходом, ведущим с главного двора на задний, помещаются три камеры, разделенные коридором; во втором этаже пять камер. В одной из трех камер первого этажа, почти непригодных для жилья, поселили База. Две другие нижние камеры отвели генералам Ламорисьеру и Шангарнье. Остальных пятерых узников поместили в пяти камерах второго этажа.
В ту пору, когда в Гаме отбывали наказание министры Карла X, камеру, отведенную генералу Ламорисьеру, занимал бывший морской министр д'Оссез. То была низкая, сырая комната, давно уже не обитаемая, некогда служившая часовней; она примыкала к мрачному сводчатому проходу, ведущему из одного двора в другой; пол состоял из полусгнивших толстых заплесневелых досок, в которых увязали ноги; серые позеленевшие обои клочьями свисали со стен, сверху донизу покрытых пятнами сырости. Два забитых решеткой окна, которые всегда приходилось держать открытыми из-за дымившего камина, выходили во двор. В глубине камеры стояла кровать, между окнами — стол и два соломенных стула. По стенам сочились капли воды. Генерал Ламорисьер в этой камере нажил себе ревматизм; д'Оссез вышел из нее весь скрюченный.
Восемь узников были водворены в свои камеры, и двери за ними заперлись; они услышали лязг задвигаемых снаружи засовов; им сказали: «Вы в одиночном заключении».
Генерал Кавеньяк сидел во втором этаже, в бывшей камере Луи Бонапарта, лучшей во всей крепости. Первое, что бросилось в глаза генералу, была надпись на стене, указывавшая день, когда Луи Бонапарт попал в эту крепость, и день, когда он из нее выбрался — всем известно, каким способом; он переоделся каменщиком и вышел с доской на плече. То, что генерала Кавеньяка поместили в эту камеру, было, вероятно, знаком внимания со стороны Луи Бонапарта: заняв в 1848 году место генерала Кавеньяка у власти, он захотел, чтобы в 1851 году генерал Кавеньяк занял его место в тюрьме.
— Танцующие меняются местами! — сказал, улыбаясь, де Морни.
Пленников охранял 48-й линейный полк, стоявший гарнизоном в Гаме. Старые крепости равнодушны. Они повинуются тем, кто совершает перевороты, пока не настанет день, когда эти люди сами к ним попадут. Какое дело крепостям до слов: справедливость, истина, совесть? Ведь есть страны, где слова эти и в людях вызывают не больше волнения, чем в камнях. Крепости — холодные и мрачные слуги справедливости — так же как и несправедливости. Они принимают тех, кого им дают. Они никого не отвергают. Привели преступников? Хорошо. Привели невинных? Чудесно. Этот человек устроил ловушку? Под замок! Этот человек жертва ловушки? Давайте его сюда! В ту же камеру. В тюрьму всех побежденных!
Эти отвратительные крепости похожи на ветхое человеческое правосудие, у которого совести не больше, чем у них. Оно осудило Сократа и Христа, оно задерживает и освобождает, хватает и отпускает, оправдывает и осуждает, сажает в тюрьму и возвращает свободу, открывает и закрывает двери темницы по воле чьей-то руки, которая снаружи двигает засов.
XI Конец второго дня
Мы как раз вовремя вышли от Мари. Батальоны, которым было приказано выследить и поймать нас, приближались. Мы слышали во мраке мерные шаги солдат. На улицах было темно. Мы разошлись. Я не упоминаю о том человеке, который отказал нам в убежище.
Не прошло и десяти минут после нашего ухода, как дом Мари оцепили. Солдаты с ружьями и саблями ворвались туда и заняли дом сверху донизу. «Ищите повсюду, повсюду», — кричали начальники. Солдаты искали нас довольно рьяно. Не давая себе труда нагнуться, чтобы посмотреть, они штыками шарили под кроватями. Иногда они с такой силой вонзали штык в стену, что с трудом вытаскивали его. Но их усердие пропало зря — нас там не было.
Это усердие было предписано свыше. Бедные солдаты повиновались. Убивать депутатов — таков был приказ. Это происходило тогда, когда Морни послал Мопа следующую телеграмму: «Если вы захватите Виктора Гюго, делайте с ним что хотите». Смягченная манера выражаться. Впоследствии переворот в своем декрете об изгнании неугодных ему граждан назвал нас «эти субъекты», что заставило Шельшера произнести гордые слова: «Эти люди не умеют даже вежливо изгнать».
Доктор Верон, приводящий в своих «Мемуарах» телеграмму Морни к Мопа, добавляет: «Г-н де Мопа приказал разыскивать Виктора Гюго в квартире его зятя, Виктора Фуше, советника кассационного суда. Там его не нашли».
Один из моих старых знакомых, человек смелый и талантливый, Анри д'Э***, предложил мне приют в своей квартирке на улице Ришелье; эта квартира, поблизости от Французского театра, находилась во втором этаже дома, черная лестница которого, так же как у дома Греви, выходила на улицу Фонтен-Мольер. Я пришел туда, но не застал Анри д'Э***; его привратник поджидал меня и передал мне ключ.
В комнате, куда я вошел, горела свеча. На столе у камина стояла чернильница, лежала бумага. Было уже за полночь, я немного устал; но прежде чем лечь спать, предвидя, что если я переживу эти события, мне придется написать их историю, я решил немедленно запечатлеть некоторые особенности ситуации в Париже к концу этого дня, второго дня переворота. Я написал эту страницу, которую привожу здесь, потому что она верно отображает события; это нечто вроде фотографии происходившего.
«Луи Бонапарт придумал одну штуку, которую он называет совещательной комиссией; он поручает ей составить послесловие к преступлению.
Леон Фоше отказывается войти в эту комиссию, Монталамбер колеблется, Барош согласен.
Де Фаллу презирает Дюпена.
Первые выстрелы раздались около Архива. У Центрального рынка, на улице Рамбюто, на улице Бобур я слышал разрывы снарядов.
Адъютант Флери рискнул проехать по улице Монмартр; ему прострелили шляпу. Он тотчас пустил лошадь в галоп. В час пополудни армию заставили голосованием высказать свое отношение к перевороту. Все проголосовали за переворот. Студенты юридического и медицинского факультетов собрались в здании юридического факультета, чтобы выразить протест. Муниципальные гвардейцы разогнали их. Произведено много арестов. Сегодня вечером повсюду ходят патрули. Иногда патруль — это целый полк.
Для депутата д'Эспеля, ростом в шесть футов, не нашлось в Мазасе камеры, в которой он мог бы лечь; ему пришлось остаться у привратника, где с него не спускают глаз.
Г-жи Барро и де Токвиль не знают, где их мужья. Они мечутся между Мазасом и Мон-Валерьеном. Тюремщики немы. Баррикаду, на которой был убит Боден, атаковал 19-й полк легкой кавалерии. Баррикаду возле Оратории на улице Сент-Оноре взяли приступом пятьдесят солдат подвижной жандармерии. В общем, сопротивление развивается; в часовне Бреа бьют в набат. Вместо одной разрушенной баррикады появляются двадцать новых. Есть баррикада на улице Эколь, баррикада на улице Сент-Андре-дез-Ар, на улице Тампль, баррикада на перекрестке Фелиппо, которую защищали два десятка молодых людей, — все они убиты, а баррикаду восстанавливают; баррикада на улице Бретон, которую Куртижи сейчас обстреливает из пушек. Есть баррикада у Дома инвалидов, баррикада у заставы Мартир, баррикада у Шапель-Сен-Дени. Военные советы заседают непрерывно я приговаривают всех пленных к расстрелу. 30-й линейный полк расстрелял женщину. Все это только подливает масла в огонь.
Полковник 49-го линейного полка подал в отставку. Луи Бонапарт назначил на его место подполковника Негрие. Брен, полицейский офицер, состоящий при Собрании, был арестован одновременно с квесторами.
Говорят, что пятьдесят членов большинства подписали протест у Одилона Барро.
Сегодня вечером в Елисейском дворце нарастает тревога. Боятся пожара. Пожарные части усилены двумя батальонами саперов инженерных войск. Мопа приказал охранять газометры.
Вот какими военными когтями зажат Париж: на всех стратегических пунктах биваки. На мосту Пон-Неф и набережной Офлер — муниципальная гвардия; на площади Бастилии — двенадцать пушек, три гаубицы с зажженными фитилями; на углу улицы Фобур-Сен-Мартен шестиэтажные дома сверху донизу заняты войсками; возле Ратуши — бригада Марюлаза; у Пантеона — бригада Собуля; в Сент-Антуанском предместье — бригада Куртижи; в предместье Сен-Марсо — дивизия Рено. Во дворце Законодательного собрания — Венсенские стрелки и батальон 15-го полка легкой кавалерии; в Елисейских Полях — пехота и кавалерия; на авеню Мариньи — артиллерия. В помещении цирка целый полк, он всю ночь стоял там на биваке. Эскадрон муниципальной гвардии расположился биваком на площади Дофин. Бивак в Государственном совете, бивак во дворе Тюильри. Кроме того, в Париж вызваны гарнизоны Сен-Жермена и Курбевуа. — Убиты два полковника: Лубо, 75-го полка, и Кильо. Повсюду санитары с носилками. Повсюду походные лазареты: в магазине «Промышленный базар» (бульвар Пуассоньер); в зале Сен-Жан, в Ратуше; на улице Пти-Карро. — В этой мрачной битве участвуют девять бригад; у каждой из них по артиллерийской батарее; связь между бригадами поддерживает кавалерийский эскадрон; в борьбе участвуют сорок тысяч человек, с резервом в шестьдесят тысяч; на Париж брошены сто тысяч солдат. Такова армия преступления. Бригада Рейбеля, включающая 1-й и 2-й уланские полки, охраняет Елисейский дворец. Все министры ночуют в министерстве внутренних дел, поближе к Морни. Морни надзирает, Маньян командует войсками. Завтрашний день будет ужасен».
Написав эту страницу, я лег и заснул.
ТРЕТИЙ ДЕНЬ ИЗБИЕНИЕ
I Те, что спят, и тот, кто не дремлет
В эту ночь, с 3 на 4 декабря, когда все мы, уставшие до изнеможения, готовые к самому худшему, спали сном праведников, в Елисейском дворце не смыкали глаз. Там царила бессонница, порожденная бесчестными замыслами. Около двух часов пополуночи из кабинета Луи Бонапарта вышел первый после Морни приближенный Елисейского дворца — граф Роге, бывший пэр Франции и генерал-лейтенант. Его сопровождал Сент-Арно. Читатель помнит — Сент-Арно в то время был военным министром.
В маленькой гостиной, предназначенной для дежурных адъютантов, их ждали два полковника.
Генерал Сент-Арно в молодости был статистом театра Амбигю. Свою карьеру он начал с комических ролей в парижском предместье. Впоследствии он сыграл трагическую роль. Его приметы: высокого роста, сухощав, угловат, усы седые, волосы прямые, выражение лица подлое. Головорез, притом неотесанный. Он с апломбом говорил о «сувиренном» народе. Морни острил: «Он не может ни произнести это слово, ни понять его». Елисейский дворец, притязавший на изысканность, признавал Сент-Арно только наполовину. Его жестокость заставляла мириться с его вульгарностью. Он был храбр, необуздан и в то же время застенчив. Дерзость солдафона, дослужившегося до золотых галунов, сочеталась в нем с робостью человека, знавшего нищету. Однажды мы видели его на трибуне Палаты — мертвенно-бледного, что-то бормотавшего, наглого. У него было длинное костлявое лицо и хищная челюсть. На сцене он выступал под именем Флориваля. Фигляр, ставший разбойником. Он умер маршалом Франции. Страшный человек.
Два полковника, дожидавшиеся Сент-Арно в маленькой гостиной, были люди предприимчивые; оба они командовали теми отборными частями, которые в решающие дни увлекают за собой другие полки и ведут их, в зависимости от приказа, либо к славе, как при Аустерлице, либо к преступлению, как Восемнадцатого брюмера. Оба принадлежали к числу тех, кого Морни называл «цветом полковников-кутил, увязших в долгах». Мы не станем называть их здесь; один умер, другой еще жив; он-то узнает себя. Впрочем, их имена встречаются на первых страницах этой книги.
Один из них, человек лет тридцати восьми, был хитер, бесстрашен, неблагодарен: три качества, обеспечивающие успех. При Оресе герцог Омальский спас ему жизнь. Тогда этот человек был молодым капитаном. Раненный пулей навылет, он замертво свалился в кусты; кабилы уже ринулись, чтобы отрезать ему голову и ускакать с ней. Но тут подоспел герцог Омальский с двумя офицерами, солдатом и трубачом; он обратил кабилов в бегство и вызволил капитана из беды. Герцог привязался к нему, потому что спас его. Один оказался признательным, другой — нет. Признательным был избавитель. Герцог Омальский был благодарен молодому капитану за то, что тот доставил ему случай проявить свою доблесть. Герцог назначил его командиром эскадрона. В 1849 году он стал подполковником и командовал штурмовой колонной при взятии Рима; затем он вернулся в Африку, где Флери завербовал его одновременно с Сент-Арно. В июле 1851 года Луи Бонапарт произвел его в полковники и стал рассчитывать на него. В ноябре полковник Луи Бонапарта писал герцогу Омальскому: «От этого гнусного авантюриста нельзя ожидать ничего хорошего». В декабре он командовал полком убийц. Позднее, в Добрудже, лошадь, взбешенная дурным обращением, откусила ему щеку, и на его физиономии осталось место только для одной пощечины.
Второй уже начинал седеть, ему было сорок восемь лет; его тоже влекло к разгулу и убийствам. Как гражданин — омерзителен, как солдат — отважен. Он одним из первых ворвался в брешь при штурме Константины. Помесь храбрости и низости. Рыцарь, но рыцарь с большой дороги. В 1851 году Луи Бонапарт произвел его в полковники. Его долги уплачивались дважды, двумя герцогами: в первый раз — герцогом Орлеанским, во второй — герцогом Немурским.
Таковы были эти два полковника. Сент-Арно довольно долго разговаривал с ними вполголоса.
II В комитете
Рано утром мы собрались в квартире нашего коллеги Греви, заключенного в тюрьму. Нам предоставили его кабинет. Мишель де Бурж и я сели у камина; Жюль Фавр и Карно писали, первый — сидя за столом у окна, второй — стоя у конторки. Левая дала нам неограниченные полномочия.
Собираться на заседания становилось все труднее. От имени левой мы издали декрет, наспех составленный Жюлем Фавром, и тут же вручили его Энгре, чтобы он немедленно его напечатал. Этот декрет гласил:
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО
Нижеподписавшиеся депутаты, оставшиеся на свободе, собравшись, ввиду ареста большинства их коллег и ввиду неотложности, на непрерывное чрезвычайное заседание,
Принимая во внимание, что преступление Луи-Наполеона Бонапарта, насильственно упразднившего законные власти, восстанавливает непосредственное осуществление нацией ее верховной власти и что все, препятствующее в настоящее время осуществлению этой верховной власти, должно быть устранено,
Принимая во внимание, что все преследования, которые были начаты, я все приговоры, которые были вынесены на каком бы то ни было основании по политическим преступлениям или проступкам, аннулируются в силу неотъемлемого права народа,
Постановляют:
Статья первая. Прекращаются все дела, возбужденные по политическим преступлениям, и отменяются все приговоры, вынесенные по этим преступлениям, равно как и все вытекающие из них последствия, как уголовные, так и гражданские.
Статья вторая. Посему начальникам всех мест заключения предписывается немедленно освободить всех лиц, содержащихся там по обвинению в вышеозначенных преступлениях.
Статья третья. Равным образом всем чиновникам прокурорского надзора и полицейских управлений под страхом обвинения в должностном преступлении предписывается прекратить преследования по указанным делам.
Статья четвертая. Исполнение этого декрета вменяется в обязанность всем чинам судебного ведомства и полиции.
Издан в Париже, в непрерывном заседании, 4 декабря 1851 года.
Передавая мне этот декрет для подписи, Жюль Фавр оказал с улыбкой: «Освободим ваших сыновей и друзей». — «Да, — ответил я, — на баррикадах у нас прибавятся четыре борца!»
Спустя несколько часов депутат Дюпютц получил из наших рук копию этого декрета, с предписанием самолично доставить его в Консьержери, как только совершится задуманный нами захват полицейской префектуры и городской ратуши. К несчастью, этот захват не удался.
Пришел Ландрен. По характеру должности, которую он занимал в Париже в 1848 году, он хорошо знал личный состав как политической, так и городской полиции. Он предупредил нас, что поблизости от дома, где мы собрались, бродят какие-то темные личности. Ведь мы заседали на улице Ришелье, наискосок от Французского театра, в одном из самых людных мест Парижа, находившемся поэтому под усиленным наблюдением полиции. Депутаты, постоянно сносившиеся с комитетом, сновали взад и вперед, то входя в дом, то выходя из него. Это неминуемо должно было привлечь внимание и вызвать налет полиции. Уже и сейчас привратники и соседи проявляли подозрительное любопытство. Ландрен был уверен, что все мы подвергаемся величайшей опасности. «Вас захватят и расстреляют», — говорил он.
Ландрен умолял нас перебраться куда-нибудь в другое место. Брат Жюля Греви, к которому мы обратились за советом, сказал, что не может поручиться за своих слуг.
Что было делать? Нас выслеживали уже двое суток, и за это время мы исчерпали почти все имевшиеся у нас возможности; накануне в одном доме нас отказались приютить, а сейчас никто и не предлагал нам пристанища. За эти двое суток мы семнадцать раз меняли свое местопребывание, пересекая иногда Париж из конца в конец. Мы уже чувствовали некоторую усталость. Кроме того, как я ранее упоминал, дом, где мы находились, имел то неоценимое преимущество, что черная лестница выходила на улицу Фонтен-Мольер. Мы решили остаться, но сочли нужным принять некоторые предосторожности.
Депутаты левой, сплотившиеся вокруг нас, всеми способами выказывали свою преданность общему делу. Видный член Собрания, человек выдающегося ума и большого мужества, Дюран-Савуайя еще накануне вызвался стать нашим стражем, более того — приставом Собрания и привратником, и эти обязанности он выполнял до последнего дня. Он сам поставил на стол колокольчик и сказал нам: «Когда я вам понадоблюсь, позвоните, я тотчас приду». Во всех наших скитаниях он был с нами. Он оставался в прихожей, спокойный, невозмутимый, молчаливый. Внушительная, благородная осанка, наглухо застегнутый сюртук и широкополая шляпа придавали ему сходство с англиканским пастором. Он сам открывал входную дверь, присматривался к приходившим, удалял людей назойливых и бесполезных. Неизменно веселый, он то и дело повторял: «Все идет хорошо». Нам угрожала гибель, но с его лица не сходила улыбка. Оптимизм отчаяния.
Мы вызвали его. Ландрен высказал ему свои опасения. Мы поручили Дюран-Савуайя с этой минуты не позволять никому, даже депутатам, оставаться в квартире; попросили его записывать все доходящие до него новости и сообщения и допускать к нам только нужных людей — словом, принимать как можно меньше народа, чтобы прекратить бросавшееся в глаза хождение взад и вперед. Дюран-Савуайя кивнул головой и пошел назад в прихожую, на ходу сказав: «Будет сделано». Он почти всегда ограничивался этими двумя фразами. Нам он говорил: «Все идет хорошо»; себе самому: «Будет сделано». Будет сделано — так говорит долг.
Когда Ландрен и Дюран-Савуайя вышли, Мишель де Бурж взял слово.
— Искусство Луи Бонапарта, в этот раз, как и всегда, копировавшего своего дядю, — говорил Мишель де Бурж, — заключалось в том, что он обратился с воззванием к народу, предложил народу всеобщее голосование, плебисцит — словом, свергая правительство, в то же время сумел создать видимость установления правительства. В моменты великих потрясений, когда все колеблется и, кажется, вот-вот рухнет, народ испытывает потребность ухватиться за что-нибудь. Не находя другой точки опоры, он готов признать верховную власть Луи Бонапарта. Значит, мы должны предложить народу в качестве опоры его собственную верховную власть. Национальное собрание, — продолжал Мишель де Бурж, — в действительности уже мертво. Левая, этот пользующийся популярностью обрубок ненавистного народу Собрания, может возглавить борьбу в течение еще нескольких дней — и только. Ей необходимо самой почерпнуть новые силы в верховенстве народа. Следовательно, мы тоже должны призвать народ к всеобщему голосованию, против плебисцита выдвинуть плебисцит, поставить принца-узурпатора лицом к лицу с державным народом и немедленно созвать новое Собрание. В заключение Мишель де Бурж предложил издать соответствующий декрет.
Мишель де Бурж был прав. За победой Бонапарта вставало нечто ненавистное, но знакомое — империя; за победой левой — мрак неизвестности. Нужно было осветить наши намерения. Больше всего воображение страшится диктатуры неведомого. Как можно скорее созвать новое Собрание, немедленно отдать судьбы Франции в руки самой Франции — значило успокоить умы на время борьбы и подготовить последующее объединение, значило избрать подлинно разумную политику.
Во время речи Мишеля де Буржа, которого Жюль Фавр поддерживал одобрительными возгласами, в соседней комнате послышалось жужжанье, напоминавшее гул голосов. Жюль Фавр тревожно спрашивал: «Разве там есть кто-нибудь?» — «Не может быть, — отвечали ему, — ведь мы поручили Дюран-Савуайя следить за тем, чтобы никто не оставался в квартире». Прения продолжались, но гул все нарастал и, наконец, усилился настолько, что мы решили узнать, в чем дело. Карно приоткрыл дверь. Оказалось, что гостиная и прихожая, смежные с кабинетом, где мы совещались, переполнены депутатами, спокойно беседовавшими между собой.
Изумленные этой картиной, мы вызвали Дюран-Савуайя.
— Вы, видно, не поняли наших указаний? — спросил его Мишель де Бурж.
— Нет, понял, — ответил Дюран-Савуайя.
— За этим домом, вероятно, уже следят, — вмешался Карно. — Нас с минуты на минуту могут арестовать…
— И убить на месте, — добавил Жюль Фавр со своей обычной спокойной улыбкой.
— Именно поэтому я так распорядился, — ответил Дюран-Савуайя, и взгляд его был еще более спокоен, чем улыбка Жюля Фавра. — Дверь кабинета находится в темном углу и почти незаметна. Вот я и оставил здесь всех депутатов, пришедших за это время; я разместил их в гостиной и прихожей так, как они сами захотели. Народу скопилось много. Если явятся полиция и войска, я заявлю: «Мы все здесь». Нас уведут, а двери кабинета не заметят и вас не захватят. Мы расплатимся за вас. Если им нужно кого-нибудь убить, они удовольствуются нами.
И, не подозревая, что он говорит как герой, Дюран-Савуайя снова отправился в прихожую.
Мы вернулись к вопросу о декрете. Все мы единодушно признавали необходимость как можно скорее созвать новое Собрание. Но на какое число? Луи Бонапарт назначил свой плебисцит на 20 декабря — мы избрали 21-е. Затем встал вопрос — какое имя дать этому Собранию? Мишель де Бурж настоятельно предлагал назвать его Национальным Конвентом, Жюль Фавр — Учредительным собранием, а Карно — Верховным собранием, указывая, что это имя, не вызывающее никаких воспоминаний, дает широкий простор надеждам. Остановились на Верховном собрании.
Декрет, мотивировки которого я продиктовал Карно, принадлежит к числу тех, которые были отпечатаны и расклеены. Он гласил:
№ 5
ДЕКРЕТ
Преступление, совершенное Луи Бонапартом, налагает великие обязанности на оставшихся на свободе депутатов.
Грубая сила старается помешать им выполнить эти обязанности.
Гонимые, скитающиеся от пристанища к пристанищу, умерщвляемые на улицах, депутаты-республиканцы, несмотря на гнусную полицию, стоящую на стороне переворота, совещаются и действуют.
Покушение Луи Бонапарта, свергнувшее всякую законную власть, не сокрушило только одну власть, власть верховную, власть народа, всеобщее голосование.
Только державный народ может восстановить и объединить все ныне рассеянные силы общества.
Посему депутаты постановляют:
Статья первая. Народ приглашается избрать 21 декабря 1851 года Верховное собрание.
Статья вторая. Выборы будут произведены всеобщим голосованием, по правилам, установленным декретом временного правительства от 5 марта 1848 года.
Издан в Париже, в непрерывном заседании, 4 декабря 1851 года.
Едва я успел подписать декрет, как вошел Дюран-Савуайя и шепотом сказал мне, что какая-то женщина ожидает меня в прихожей. Я вышел. То была г-жа Шарассен. Ее муж исчез. Депутат Шарассен, экономист, агроном, ученый, был в то же время человек бесстрашный. Накануне мы видели его в самых опасных местах. Уж не арестован ли он? Г-жа Шарассен пришла спросить меня, не знаем ли мы, где ее муж? Я ничего не мог ей сообщить. Она уже ходила справляться в тюрьму Мазас. Какой-то полковник, состоявший одновременно и в армии и в полиции, принял ее и сказал: «Сударыня, я могу разрешить вам свидание с мужем только под одним условием». — «Каким?» — «Вы ни о чем не будете говорить с ним». — «Как же так — ни о чем?» — «Никаких новостей. Никакой политики». — «Извольте». — «Дайте мне честное слово». Она ответила: «Как вы хотите, чтобы я дала вам свое честное слово, когда я не могу заручиться вашим?» Впоследствии я встретился с Шарассеном в изгнании.
Только ушла г-жа Шарассен, как явился Теодор Бак. Он принес нам протест Государственного совета. Вот этот документ:
ПРОТЕСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
Нижеподписавшиеся, члены Государственного совета, избранные Учредительным и Законодательным собраниями, прибыв, несмотря на декрет 2 декабря, к обычному месту своих заседаний и найдя его оцепленным вооруженными силами, преградившими им доступ в помещение Совета, протестуют против распоряжения о роспуске Государственного совета и заявляют, что перестали исполнять свои обязанности лишь вследствие примененного к ним насилия.
Париж, 3 декабря 1851 года.
Подписали: Бетмон, Вивьен, Бюро де Пюзи, Стурм, Эд. Шартон, Кювье, де Реневиль, Орас Сей, Булатинье, Готье де Рюмильи, де Жувансель, Дюнуайе, Картере, де Френ, Бушне-Лефер, Риве, Буде, Корменен, Понс де Леро.
Расскажем, как разогнали Государственный совет.
Луи Бонапарт разогнал Национальное собрание с помощью армии, Верховный суд — с помощью полиции. Государственный совет он разогнал с помощью привратника.
Утром 2 декабря, в то самое время, когда представители правой шли от Дарю в мэрию X округа, члены Государственного совета направлялись к зданию Совета на набережной Орсе. Они входили туда поодиночке.
Набережная была запружена солдатами. Там, составив ружья в козлы, расположился биваком целый полк.
Вскоре членов Государственного совета набралось человек тридцать. Они начали совещаться. Был составлен проект протеста. В ту минуту, когда присутствующие собирались подписать его, вошел привратник. Весь бледный, он бормотал что-то невнятное. Он объявил, что, исполняя данные ему приказания, требует, чтобы они разошлись.
После этого некоторые из членов Совета заявили, что они хотя и негодуют, но не поставят своих подписей рядом с подписями республиканцев.
Своеобразный способ повиноваться привратнику!
Бетмон, один из председателей Государственного совета, предложил перейти в его квартиру. Он жил на улице Сен-Ромен. Члены Совета — республиканцы немедленно отправились туда и без прений подписали протест, приведенный выше.
Некоторые члены Государственного совета, жившие в отдаленных кварталах, не могли прийти в назначенное время. Самый младший из его членов, Эдуард Шартон, человек твердой воли и благородного ума, вызвался доставить протест отсутствовавшим коллегам.
Ему не удалось найти фиакр, и он отправился пешком, что было рискованно: его останавливали солдаты; его грозились обыскать, а это имело бы роковые последствия. Все же ему удалось побывать у нескольких членов Государственного совета. Кое-кто из них подписался. Понс де Леро сделал это решительно, Корменен — как-то судорожно, Буде — после некоторого колебания. Буде весь дрожал, его семья была в страхе, в открытое окно врывался грохот артиллерийских залпов. Шартон, спокойный и мужественный, сказал ему: «Ваши друзья Вивьен, Риве и Стурм подписали». Тогда Буде поставил свою подпись.
Несколько человек отказались; один сослался на свой преклонный возраст, другой на res angusta domi, [14] третий заявил, что его удерживает «страх сыграть на руку красным». — «Скажите просто: страх», — отрезал Шартон.
На следующий день, утром 3 декабря, Вивьен и Бетмон отнесли протест Буле де Ламерту, вице-президенту республики и председателю Государственного совета; он встретил их в халате и завопил: «Уходите! Погибайте, если хотите, только без меня!»
Утром 4 декабря де Корменен вычеркнул свою подпись. Этому поступку он дал невероятную мотивировку, стоящую того, чтобы привести ее в точности. Он заявил: «Слово бывший член Государственного совета произведет дурное впечатление на обложке книги. Я боюсь повредить моему издателю».
Еще один характерный штрих. Утром 2 декабря Беик, придя в Государственный совет, приоткрыл дверь залы, где депутаты составляли протест. У двери стоял Готье де Рюмильи, один из самых уважаемых членов Совета. Беик спросил у него:
— Чем тут занимаются? Это преступление! Что мы делаем?
— Составляем протест, — ответил Готье де Рюмильи. Услыхав это, Беик тотчас захлопнул дверь и исчез.
Он снова появился впоследствии, во времена Империи, в должности министра.
III За кулисами Елисейского дворца
Утром доктор Иван случайно встретил доктора Конно. Они разговорились. Иван принадлежал к левым, Конно — к партии Елисейского дворца. Иван узнал от Конно некоторые подробности того, что происходило ночью во дворце, и сообщил их нам.
Вот одна из этик подробностей.
Было решено немедленно обнародовать беспощадный декрет, требовавший от всех безусловного подчинения государственному перевороту. Сент-Арно, в качестве военного министра обязанный подписать этот декрет, сам его составил. Дойдя до последнего параграфа, гласившего:
«Всякий, кто будет застигнут за сооружением баррикады, или за расклейкой воззваний бывших депутатов, или за чтением этих воззваний, подлежит…»
Здесь Сент-Арно остановился; Морни пожал плечами, выхватил у него из рук перо и приписал: расстрелу.
Были приняты еще некоторые решения, но какие — никто не знал.
К этим сведениям прибавились и многие другие.
Национальный гвардеец Буале, родом из Доля, в ночь с 3 на 4 декабря стоял на часах у Елисейского дворца. Окна кабинета Луи Бонапарта, в нижнем этаже дворца, всю ночь были освещены. В зале рядом с кабинетом заседал военный совет. Из караульной будки Буале различал за стеклами темные силуэты людей, оживленно жестикулировавших; то были Маньян, Сент-Арно, Персиньи, Флери — призраки злодеяния.
Во дворец были также вызваны генерал Корт, командовавший кирасирами, и Карреле, командир дивизии, усерднее других поработавшей на следующий день, 4 декабря. С полуночи до трех часов утра генералы и полковники «непрерывно входили и уходили». Появлялись даже простые капитаны. Около четырех часов утра приехало несколько карет «с женщинами». Злодеянию все время сопутствовала оргия. Будуар дворца был под стать лупанару казармы.
Во дворе уланы держали под уздцы лошадей генералов, которые участвовали в совещании.
Две женщины, приезжавшие во дворец той ночью, в известной мере принадлежат истории. На втором ее плане появляются и такие силуэты. Эти женщины оказали влияние на злосчастных генералов. Обе они были представительницами высшего света. С одной из них, маркизой де***, произошла престранная история: она влюбилась в своего мужа после того, как изменила ему. Она убедилась, что ее любовник не стоит мужа; такие вещи случаются. Маркиза была дочерью самого сумасбродного из маршалов Франции и очаровательной графини ***, той самой, которой Шатобриан, после ночи любви, посвятил четверостишие; сейчас его можно опубликовать, так как те, к кому оно относится, умерли:
В лучах предутренних вновь горизонт сверкает, Беседа нежная все тише, день — светлей, Но на устах зари улыбка золотая Сравнится ли с твоей?[15]Улыбка дочери была столь же очаровательна, как улыбка матери, и еще более гибельна.
Вторая была г-жа К., русская, — веселая, статная, белокурая, белотелая, причастная к темным дипломатическим интригам; она хранила у себя и охотно показывала ларец, полный любовных писем графа Моле; шпионка по призванию, совершенно обаятельная и очень страшная.
Предосторожности, принятые на всякий случай, были заметны даже снаружи. Еще накануне из окон соседних домов можно было видеть во дворе Елисейского дворца две заложенные дорожные кареты, с форейторами в седлах, готовые в любую минуту тронуться в путь. В дворцовых конюшнях на улице Монтень также стояли наготове заложенные кареты и множество лошадей, оседланных и взнузданных.
Луи Бонапарт совсем не ложился. Ночью он отдавал секретные приказания; вот почему утром его бледное лицо выражало какое-то ужасающее спокойствие.
Невозмутимость преступника — тревожный признак!
Утром он даже усмехался. К нему в кабинет пришел Морни. Луи Бонапарта слегка лихорадило; он велел вызвать доктора Конно, который поэтому присутствовал при их беседе. Люди, которых считают надежными, все же имеют уши.
Морни принес донесения полиции. В ночь на 3 декабря двенадцать рабочих Национальной типографии отказались печатать декреты и прокламации. Их немедленно арестовали. Полковника Форестье тоже арестовали и увезли в форт Бисетр. Туда же были отправлены Кроче-Спинелли, Женилье, талантливый, мужественный писатель Ипполит Мажен, а также директор учебного заведения Гудунеш и некий Полино. Последнее имя привлекло внимание Луи Бонапарта. Он спросил: «Кто такой этот Полино?» Морни ответил: «Офицер в отставке, состоял на службе шаха персидского, — и прибавил: — Помесь Дон-Кихота и Санчо-Пансы».
Морни доложил, что всех арестованных поместили в каземат № 6. Тут Луи Бонапарт задал вопрос: «Что представляют собой эти казематы?» Морни ответил: «Подземелья, без воздуха и света, длиной в двадцать четыре метра, шириной в восемь, вышиной в пять, со стен течет, пол сырой». Луи Бонапарт спросил: «Дали им соломы на подстилку?» — «Пока нет, там видно будет, — ответил Морни и прибавил: — В Бисетре те, кого сошлют; те, кого расстреляют, — в Иври».
Луи Бонапарт осведомился, какие предосторожности приняты. Морни дал ему обстоятельный отчет. На всех колокольнях стоит стража; все типографские станки опечатаны; все барабаны Национальной гвардии под замком; значит, нечего опасаться, что в какой-нибудь типографии напечатают воззвание, в какой-нибудь мэрии дадут сигнал сбора, с какой-нибудь колокольни ударят в набат. Луи Бонапарт поинтересовался, полностью ли укомплектованы батареи; на каждой должно было быть четыре пушки и две гаубицы. Он особо подчеркнул, что следует брать только восьмидюймовые пушки и двенадцатидюймовые гаубицы.
— Правильно, — ответил Морни, посвященный в тайну, — всем им немало придется поработать.
Затем Морни заговорил о Мазасе; он сказал, что во дворе тюрьмы сосредоточено шестьсот человек республиканской гвардии — всё отборные люди, которые, если на них нападут, будут драться до последней крайности; что солдаты встречали арестованных депутатов дружным смехом, подходили к Тьеру вплотную и заглядывали ему прямо в лицо; что офицеры отстраняли солдат, но «осторожно и как бы почтительно»; что трое заключенных — Греппо, Надо и член социалистического комитета Арсен Менье — содержатся «в строжайшей изоляции». «Менье, — прибавил Морни, — сидит в тридцать второй камере шестого отделения, а рядом с ним, в тридцатой камере, помещен депутат правой, который все время стонет и плачет». Это смешило Арсена Менье, Луи Бонапарт тоже рассмеялся.
Другой характерный эпизод. Морни рассказал Луи Бонапарту, что фиакр, в котором везли квестора База, въезжая во двор тюрьмы Мазас, задел за ворота: фонарь фиакра упал и разбился. Огорченный кучер стал громко жаловаться. «Кто мне заплатит за убытки?» — спрашивал он. На это один из полицейских, сидевших в фиакре вместе с арестованным квестором, ответил:
— Будьте спокойны. Поговорите с бригадиром. В таких оказиях, как вот эта, за поломки платит правительство.
Тут Бонапарт опять усмехнулся и пробурчал: «Верно!»
И еще один рассказ Морни очень позабавил Луи Бонапарта — о том, как неистовствовал Кавеньяк, очутившись в одиночной камере тюрьмы Мазас. В двери каждой камеры имеется отверстие, так называемый «глазок», через которое надзиратели незаметно для заключенных следят за ними. Они следили и за Кавеньяком. Сначала он, скрестив руки на груди, шагал взад и вперед по камере. Устав ходить в тесноте, он сел на табурет. Тюремный табурет представляет собой узенькую дощечку, укрепленную на трех ножках, сходящихся под дощечкой на самой ее середине и образующих там выпуклость. Поэтому сидеть на таких табуретах очень неудобно. Вскоре Кавеньяк вскочил и яростным пинком швырнул табурет в противоположный конец камеры. Рассвирепев, неистово ругаясь, он ударом кулака расколол в щепы столик в пятнадцать дюймов длины и двенадцать дюймов ширины, который вместе с табуретом составлял всю меблировку камеры. Рассказ об этой расправе кулаком и пинком очень позабавил Луи Бонапарта.
— А Мопа все еще боится, — заметил Морни. Бонапарт снова усмехнулся.
Закончив доклад, Морни удалился. Луи Бонапарт прошел в соседнюю комнату; там его ждала женщина. По-видимому, она пришла просить за кого-то. Доктор Конно услышал следующие выразительные слова: «Сударыня, я не мешаю вам любить, кого вы хотите; не мешайте мне ненавидеть, кого я хочу».
IV Приближенные
Мериме родился подлецом. Его нельзя за это винить.
Де Морни — другое дело. Он стоял выше; в нем было нечто от разбойника.
Де Морни был храбр. Разбойничество обязывает.
Мериме без всяких на то оснований утверждал, что он был посвящен в тайну готовившегося переворота. В сущности хвастать тут было нечем.
На самом деле он ровно ничего не знал. Луи Бонапарт не расточал своего доверия понапрасну.
Добавим, что, несмотря на кое-какие данные, свидетельствующие о противном, Мериме до 2 декабря вряд ли непосредственно общался с Луи Бонапартом. Это пришло позднее. Вначале Мериме был вхож только к Морни.
Морни и Мериме оба принадлежали к интимному кружку Елисейского дворца, но по-разному. Можно верить Морни, нельзя верить Мериме. Морни поверялись важные тайны, Мериме — пустячные секреты. Его призванием было устройство литературных развлечений.
В Елисейском дворце приближенные делились на две группы: доверенных лиц и придворных угодников.
Первым из доверенных лиц был Морни; первым или, пожалуй, последним из угодников — Мериме.
Вот как произошло «возвышение» Мериме.
Преступления могут нравиться только в первую минуту. Они быстро теряют блеск. Этот вид успеха недолговечен. Нужно поскорее прибавить к нему еще что-нибудь.
Елисейскому дворцу нужно было украсить себя литературой. Какой-нибудь академик — предмет отнюдь не лишний для притона. Мериме был готов к услугам. Самой судьбой ему было предназначено подписываться: «Шут императрицы». Г-жа Монтихо представила его Луи Бонапарту, который одобрил ее выбор и дополнил свой двор этим раболепствующим талантливым писателем.
Этот двор представлял собой редкостное зрелище: выставка подлостей; коллекция пресмыкающихся; питомник ядовитых растений.
Кроме доверенных лиц, выполнявших определенные обязанности, и придворных угодников, служивших украшением, были еще вспомогательные войска.
В некоторых случаях требовались подкрепления. Иногда на помощь приходили женщины, «летучий эскадрон».
Иногда — мужчины: Сент-Арно, Эспинас, Сен-Жорж, Мопа.
Иногда — ни мужчины, ни женщины: маркиз де К***.
Интимный кружок Елисейского дворца был весьма примечателен.
Скажем о нем несколько слов.
Среди этих людей был воспитатель Луи Бонапарта Вьейяр, атеист католического толка, отлично игравший на бильярде.
Вьейяр был превосходный рассказчик. Он с усмешкой повествовал о том, как королева Гортензия, любившая Париж и обычно подолгу гостившая там, в конце 1807 года написала королю Людовику, что томится разлукой с ним, не может больше жить без него и возвращается в Гаагу. «Она беременна», — решил король. Он вызвал своего министра ван Маанена и, показав ему письмо королевы, сказал: «Она едет сюда. Прекрасно. Наши спальни расположены рядом. К приезду королевы дверь между ними будет замурована».
Людовик Бонапарт принимал свой королевский сан всерьез; он заявил: «Королевская мантия не будет одеялом для потаскухи». Министр ван Маанен не на шутку испугался и донес обо всем императору. Тот разгневался — не на Гортензию, а на Людовика. Тем не менее Людовик держался стойко. Дверь не замуровали, но король замуровал себя. Когда королева пришла к нему, он повернулся к ней спиной. Это не помешало появлению на свет Наполеона III.
Его рождение было ознаменовано положенным числом пушечных выстрелов.
Такова была занимательная история, которую летом 1840 года, в Сен-Лё-Таверни, в усадьбе Ла-Террас, г-н Вьейяр, бонапартист, полный иронии, приверженец-скептик, рассказал в присутствии нескольких лиц, в том числе Фердинанда Б., маркиза де Л., с которым автор этой книги был дружен с детства.
Кроме Вьейяра, в интимном кружке был еще и Водре, которого Луи Бонапарт произвел в генералы одновременно с Эспинасом. На всякий случай. Полковник, устраивающий заговоры, вполне достоин стать генералом, расставляющим засады.
Был Фьялен — капрал, произведенный в герцоги.
Был Флери, которому предстояла великая честь — сопровождать царя, сидя бочком, «на одной половинке».
Был Лакрос, либерал, ставший клерикалом, один из тех консерваторов, которые из любви к порядку готовы его набальзамировать, а государственный строй — превратить в мумию. Впоследствии он стал сенатором.
Был Лараби, друг Лакроса, тоже лакей и тоже сенатор.
Был каноник Кокро, священник фрегата «Бельпуль». Известен ответ, который он дал некоей принцессе, спросившей его: «Что такое Елисейский дворец?» Очевидно, принцессе можно сказать то, что немыслимо сказать обыкновенной женщине.
Был Ипполит Фортуль, из породы лазающих, — человек, стоявший отнюдь не выше какого-нибудь Гюстава Планша или Филарета Шаля, борзописец, попавший в морские министры, что дало Беранже повод сказать: «Этот Фортуль облазил все мачты, даже призовые».
Были два уроженца Оверни. Они ненавидели друг друга. Один из них прозвал другого «скорбным лудильщиком».
Был Сент-Бев, человек просвещенный и ограниченный, снедаемый завистью, которая простительна безобразию. Такой же великий критик, как Кузен — великий философ.
Был Тролон; Дюпен служил у него прокурором, а он состоял председателем суда у Дюпена. Дюпен, Тролон — двойной профиль маски, наложенной на лик закона.
Был Аббатуччи; его совесть была как проходной двор. Теперь его именем названа улица.
Был аббат М., впоследствии епископ Нансийский, елейной улыбкой скреплявший клятвы Луи Бонапарта.
Были завсегдатаи знаменитой ложи Оперного театра, Мон… и Сет…, поставившие на службу правителя, ни перед чем не останавливавшегося, все сокровенные качества людей легкомысленных.
Был Ромье; позади красного призрака — облик пьяницы.
Был Малитурн, неплохой друг, похабный и искренний.
Был Кюш ***; эта фамилия приводила в смущение дворцовых лакеев, объявлявших имена входивших в салон гостей.
Был Сюэн, хороший советчик в дурных делах.
Был доктор Верон; на щеке у него красовалось то, что остальные завсегдатаи Елисейского дворца таили в сердце.
Был Мокар, некогда первый любезник голландского двора. В молодости он проворковал много романсов. По возрасту, да и по другим данным, он мог быть отцом Луи Бонапарта. Он был адвокатом и в одно время с Ромье, около 1829 года, слыл человеком способным. Позднее он напечатал что-то, уж не помню что, но весьма выспренное, формата in quarto, и прислал мне этот труд. Это он в мае 1847 года вместе с Эдгаром Неем привез мне петицию короля Жерома, в которой Жером просил Палату пэров разрешить изгнанной из Франции семье Бонапарт вернуться; я поддержал эту петицию. Хороший поступок, и вместе с тем — ошибка, которую я готов был бы повторить и сейчас.
Был Бийо, смахивавший на оратора, с легкостью несший вздор и с важностью делавший промахи; за ним установилась репутация выдающегося государственного деятеля. Государственному деятелю нужно лишь одно — быть выдающейся посредственностью.
Был Лавалет, дополнявший собой Морни и Валевского…
Был Баччокки…
Были еще и другие.
Вдохновляемый своим интимным кружком, Луи Бонапарт, этот голландский Макьявелли, став президентом, носился повсюду, появлялся то в Палате, то в Гаме, Туре, Дижоне и повсюду с сонным видом гнусавил свои полные предательства речи.
При всем своем ничтожестве Елисейский дворец как-никак занимает некоторое место в истории нашего века. Этот дворец породил и катастрофы и смехотворные нелепости.
Его нельзя обойти молчанием.
Елисейский дворец был темным, зловещим уголком Парижа. Этот притон населяли люди мелкие, но страшные. Они были там в своей компании — карлики среди карликов. Они знали одно только правило: наслаждаться. Они жили за счет смерти общества. Они дышали позором и питались тем, что убивает других. Там умело, намеренно, настойчиво, искусно подготовлялось унижение Франции. Там подвизались продавшиеся, насытившиеся до отвала, готовые на все государственные люди, читайте — люди, проституировавшие себя. Там, как мы уже упоминали, занимались даже литературой. Вьейяр был классиком тридцатых годов, Морни поощрял Шуфлери, Луи Бонапарт считался кандидатом в Академию. Странное место! Салон Рамбулье сливался там с притоном Банкаль. Елисейский дворец был лабораторией, конторой, исповедальней, альковом, логовом будущего царствования. Елисейский дворец хотел управлять всем, даже нравами, в особенности нравами. Он заставит женщин румянить грудь, а мужчин — краснеть от стыда. Он задавал тон в туалетах и в музыке. Он изобрел кринолин и оперетту. В Елисейском дворце некоторая доля безобразия считалась высшим изяществом. Там беспощадно высмеивали и то, что облагораживает лицо, и то, что возвышает душу. В Елисейском дворце поносили os homini sublime dedit. [16] Там двадцать лет подряд было в моде все низкое, включая и низкий лоб.
При всей своей гордости история вынуждена помнить, что Елисейский дворец существовал. Гротескное не исключает трагического. В этом дворце есть зал, видевший второе отречение, отречение после Ватерлоо. В Елисейском дворце кончил Наполеон I и начал Наполеон III. В Елисейский дворец к обоим Наполеонам являлся Дюпен, в 1815 году — чтобы свалить Наполеона Великого, в 1851 году — чтобы пасть ниц перед Наполеоном Малым. В этот последний период Елисейский дворец был совершенно страшен. Там не осталось ни одного честного человека. При дворе Тиберия все же был Тразея; около Луи Бонапарта — никого. Кто искал там совесть — находил Бароша; кто искал религию — находил Монталамбера.
V Нерешительный союзник
В это утро, приобретшее в истории ужасную славу, утро 4 декабря, все окружающие наблюдали за повелителем. Луи Бонапарт уединился. Но уединиться — значит уже разоблачить себя. Уединяются, чтобы размышлять, а для людей такого склада размышлять — значит злоумышлять. Какой же замысел у Луи Бонапарта? Что у него на уме? Этот вопрос задавали себе все, кроме двух лиц: Морни — советника, и Сент-Арно — исполнителя.
Луи Бонапарт не без основания притязал на то, что знает людей. Он гордился этим и до известной степени был прав. У других есть проницательность; у него был нюх. Это звериное свойство, но оно не обманывает.
Разумеется, он не ошибся в Мопа. Чтобы взломать закон, ему нужна была отмычка; он взял Мопа. Никакой воровской инструмент не сослужил бы лучшей службы, чем Мопа при взломе конституции.
Луи Бонапарт не ошибся и в Кантен-Бошаре. Он почуял в этом важном на вид человеке все качества, нужные, чтобы во мгновение ока сделаться негодяем. И действительно, Кантен-Бошар, в мэрии X округа проголосовавший и подписавший декрет об отрешении президента от должности, стал одним из трех докладчиков смешанных комиссий, и на его долю, в ужасающем итоге, занесенном на страницы истории, приходится тысяча шестьсот тридцать четыре жертвы.
И все-таки Луи Бонапарт иногда ошибался: в частности, он ошибся относительно Поже. Поже остался порядочным человеком, хотя Луи Бонапарт рассчитывал на него. Луи Бонапарт побаивался рабочих Национальной типографии, и не без основания. Ведь двенадцать из них, как мы уже говорили, отказались повиноваться. На всякий случай он даже решил оборудовать на Люксембургской улице нечто вроде отделения Национальной типографии с печатной машиной, ручным станком и штатом из восьми человек. Поже проведал об этих тайных приготовлениях, заподозрил неладное и, не дожидаясь переворота, подал официальное заявление об отставке. Тогда Луи Бонапарт обратился к Сен-Жоржу. Тот оказался лучшим лакеем.
Луи Бонапарт ошибся и в N., хотя и не так грубо. 2 декабря N., помощь которого Морни считал необходимой, доставил Луи Бонапарту немало хлопот. N. исполнилось сорок четыре года; он любил женщин, хотел выдвинуться и поэтому был не слишком разборчив в средствах. Он вступил на военное поприще в Африке, в 47-м линейном полку, которым командовал полковник Комб. При Константине N. вел себя очень храбро; при Заатче он выручил Эрбийона и успешно закончил осаду, неумело начатую Эрбийоном. Приземистый, коренастый, сутулый, отважный, N. превосходно умел командовать бригадой. Свою карьеру он сделал в четыре приема: сначала его отличил Бюжо, затем Ламорисьер, позднее — Кавеньяк и, наконец, — Шангарнье. В Париже в 1851 году он снова встретился с Ламорисьером, который обошелся с ним очень холодно, и с Шангарнье — тот принял его лучше. После Сатори N. возмущался. Он кричал: «Нужно покончить с Луи Бонапартом. Он развращает армию: эти пьяные солдаты внушают мне омерзение; я хочу вернуться в Африку». В октябре положение Шангарнье пошатнулось, и возмущение N. улеглось. Он начал бывать в Елисейском дворце, но не связывал себя окончательно. Он дал слово генералу Бедо, и тот рассчитывал на него. 2 декабря на рассвете кто-то разбудил N. То был Эдгар Ней. N. мог бы стать опорой для переворота. Но согласится ли он? Эдгар Ней объяснил ему, что происходит, и расстался с ним только после того, как N. во главе первого конного полка выступил из казармы на улице Верт. N. построил свой полк на площади Мадлен. В ту минуту, когда он занимал площадь, по ней проходил Ларошжаклен, которого захватчики выгнали из Палаты. Ларошжаклен, тогда еще не ставший бонапартистом, негодовал. Увидев N., своего бывшего товарища по военной школе в 1830 году, с которым был на «ты», Ларошжаклен подошел к нему и сказал: «Какое гнусное дело! А ты что решил?» — «Я выжидаю», — ответил N. Ларошжаклен тотчас оставил его. N. спешился, пошел к своему родственнику, члену Государственного совета Р., жившему на улице Сюрен, и спросил у него совета. Р., честный человек, без малейшего колебания ответил: «Я иду в Государственный совет исполнить свой долг. Совершается преступление». N. покачал головой и сказал: «Посмотрим, что будет дальше».
Эти две фразы: «Я выжидаю» и «Посмотрим, что будет дальше», сильно встревожили Луи Бонапарта. Тогда Морни сказал: «Пора ввести в бой летучий эскадрон».
VI Дени Дюссу
Гастон Дюссу принадлежал к числу самых мужественных членов левой. Он был депутатом департамента Верхней Вьенны. Первое время Дюссу, по примеру Теофиля Готье, являлся на заседания Собрания в красном жилете, и в 1851 году роялисты так же страшились красного жилета Дюссу, как в 1831 году классики — красного жилета Готье. Монсиньор Паризи, епископ Лангрский, который отнюдь не испугался бы красной шляпы, смертельно боялся красного жилета Дюссу. У правых была еще и другая причина опасаться этого человека: по слухам, он провел три года в Бель-Иле, как политический заключенный по так называемому Лиможскому делу. Следовательно, говорили они, всеобщее избирательное право прямо оттуда привело его в Законодательное собрание. Попасть из тюрьмы в Палату — событие, конечно, не столь уж удивительное в наше переменчивое время и нередко завершающееся — чем же? — возвращением из Палаты в тюрьму. Но правая ошибалась: по Лиможскому делу был осужден не Гастон Дюссу, а его брат Дени.
Словом, Гастон Дюссу «внушал страх». Он был умен, отважен и кроток.
Осенью 1851 года я ежедневно ходил обедать в Консьержери, где в ту пору содержались мои сыновья и два моих закадычных друга. Своими душевными качествами и выдающимся умом эти люди — Вакри, Мерис, Шарль, Франсуа-Виктор — привлекали себе подобных, и при тусклом свете, просачивавшемся сквозь окна со щитами и железными решетками, в нашем семейном кругу за маленьким столиком можно было видеть красноречивых ораторов, в их числе Кремье, и даровитых, обаятельных писателей, таких, как Пейра.
Однажды Мишель де Бурж привел к нам Гастона Дюссу.
Гастон Дюссу жил в Сен-Жерменском предместье, неподалеку от Собрания.
2 декабря мы не увидели его на наших совещаниях. Он заболел и слег. Он писал мне: «Суставной ревматизм приковал меня к постели».
У Гастона был младший брат, Дени, — мы только что упомянули о нем. Утром 4 декабря Дени пришел к Гастону.
Гастон Дюссу знал о совершившемся перевороте и возмущался своим вынужденным бездействием. Он негодующе воскликнул:
— Я обесчещен! Строятся баррикады, а моей трехцветной перевязи там не будет!
— Будет! — ответил ему брат. — Непременно.
— Как так?
— Дай ее мне.
— Возьми.
Дени взял перевязь Гастона и ушел.
Мы еще встретимся с Дени Дюссу.
VII Известия и встречи
Тем же утром Ламорисьер нашел способ передать мне через г-жу де Курбон[17] следующие сведения.
«Крепость Гам. Фамилия коменданта — Бодо. Его назначил на этот пост в 1848 году Кавеньяк; назначение утвердил Шаррас. Сейчас оба они — его узники. Комиссара, посланного Морни в деревню Гам для наблюдения за заключенными и за тюремщиком, зовут Дюфор де Пуйяк».[18]
Получив эту записку, я подумал, что комендант Бодо, «тюремщик», способствовал столь быстрой ее передаче.
Признак нетвердости центральной власти!
Тем же путем Ламорисьер сообщил мне некоторые подробности о своем аресте и об аресте своих товарищей-генералов.
Эти подробности дополняют те, которые я уже привел.
Всех генералов арестовали одновременно на их квартирах, при обстоятельствах, почти что одинаковых. Везде — оцепленные дома, вторжение при помощи хитрости или насилия, обманутые, а иногда и связанные привратники, переодетые люди, люди с веревками, люди с топорами, внезапное пробуждение, насильственный увоз среди ночи. Как я уже сказал, все это сильно напоминало налет шайки разбойников.
Генерал Ламорисьер, по его собственному признанию, «спит как убитый». Сколько ни шумели у двери его спальни — он не просыпался. Его преданный лакей, старый солдат, говорил нарочито громко, даже кричал, чтобы разбудить генерала. Более того, он вступил в рукопашную с полицейскими. Один из них саблей ранил его в колено.[19]
Генерала разбудили, схватили и увезли.
Проезжая по набережной Малаке, Ламорисьер увидел войска, шедшие в походном снаряжении. Он быстро наклонился к окошку кареты. Решив, что генерал хочет обратиться к войскам с речью, сопровождавший его полицейский комиссар, схватив его за плечо, заявил: «Если вы скажете хоть слово, я пущу в ход вот эту штуку», — и свободной рукой показал генералу какой-то предмет. В темноте генерал разглядел кляп.
Всех арестованных генералов отвезли в тюрьму Мазас. Там их заперли и о них забыли. В восемь часов вечера генералу Шангарнье еще не дали поесть.
Момент ареста был пренеприятен для полицейских комиссаров. Им пришлось большими глотками испить чашу позора. Бедо и Ламорисьер, так же как Шаррас, Кавеньяк, Лефло и Шангарнье, не пощадили их. Генерал Кавеньяк решил взять с собой немного денег. Прежде чем положить их в карман, он повернулся к полицейскому комиссару Колену, арестовавшему его, и спросил:
— А уцелеют эти деньги, если будут при мне?
Комиссар возмутился:
— Помилуйте, генерал, неужели вы в этом сомневаетесь?
— Почем я знаю, что вы не мошенники? — возразит Кавеньяк.
В то же время, почти в ту же минуту, Шаррас говорил полицейскому комиссару Куртейлю:
— Почем я знаю, что вы не бандиты?
Спустя несколько дней все эти жалкие люди получили орден Почетного Легиона. Ордена, которыми Наполеон Первый после Аустерлица украшал орлов Великой армии, Бонапарт Последний после Второго декабря раздавал полицейским.
Все эти сведения я передал комитету. Туда поминутно поступали новые сообщения. Некоторые из них касались печати. Начиная с утра 2 декабря, с ней обращались грубейшим образом, по-солдатски. Мужественный владелец типографии, Серьер, пришел рассказать нам, что произошло с газетой «Пресс». В типографии Серьера печатались газеты «Пресс» и «Авенман дю Пепль» — так теперь называлась закрытая по решению суда газета «Эвенман». 2 декабря в семь часов утра в типографию ворвались двадцать восемь солдат республиканской гвардии под командой лейтенанта Папа (позднее получившего за это орден). Этот человек вручил Серьеру распоряжение за подписью «Нюс», запрещавшее ему печатать что бы то ни было. Лейтенанта Папа сопровождал полицейский комиссар. Комиссар объявил Серьеру, что, «согласно декрету Президента Республики», газета «Авенман дю Пепль» закрывается. К типографским станкам приставили стражу. Рабочие сопротивлялись; один из накладчиков сказал солдатам: «Мы будем печатать, не считаясь с вами». Затем явились еще сорок человек муниципальной гвардии с двумя сержантами и четырьмя бригадирами и отряд линейных войск с барабанщиками во главе, под командой капитана. Но тут подоспел Жирарден. Он был возмущен и стал протестовать так решительно, что один из сержантов сказал ему: «Я хотел бы иметь такого полковника, как вы». Отвага Жирардена передалась рабочим, и, проявив ловкость и смелость, они ухитрились почти что на глазах у жандармов отпечатать воззвания Жирардена на ручном станке, а наши — литографским способом. Рабочие тут же складывали листки в пачки и еще влажными уносили их под своими фуфайками.
К счастью, насильники были пьяны. Жандармы поили солдат, а рабочие, пользуясь этим разгулом, делали свое дело. Муниципальные гвардейцы смеялись, ругались, «отпускали остроты, распивали шампанское и кофе» и говорили: «Мы заменяем депутатов; двадцать пять франков в день теперь платят нам».
Таким же образом войска заняли все парижские типографии. Переворот на все наложил руку. Он жестоко обошелся даже с теми газетами, которые его поддерживали. В конторе газеты «Монитер Паризьен» полицейские объявили, что будут стрелять в каждого, кто хотя бы приоткроет дверь. К Деламару, редактору «Патри», нагрянули сорок человек муниципальной гвардии. Он дрожал от страха, что они разрушат его станки, и сказал одному из них: «Ведь я на вашей стороне!» Тот рявкнул: «А мне какое дело?»
В ночь с 3-го на 4-е, около трех часов утра, войска ушли из всех типографий. Капитан сказал Серверу; «Нам приказано сосредоточиться в казармах».
Серьер сообщил нам об этом и прибавил: «Что-то готовится».
Накануне я советовался с Жоржем Бискарра, человеком храбрым и честным, о том, как нам следует вести борьбу; я еще буду иметь случай говорить о Бискарра в дальнейшем. Я назначил ему свидание в доме № 19 по улице Ришелье. Поэтому утром 4 декабря мне пришлось несколько раз ходить из дома № 15, где мы совещались, в дом № 19, где я ночевал, и обратно.
Так вот, простившись с этим честным, смелым человеком, я шел по улице и вдруг увидел полную его противоположность: ко мне подошел Мериме.
— А! — воскликнул он. — Я вас ищу.
Я ответил:
— Надеюсь, вы меня не найдете.
Он протянул мне руку, я повернулся к нему спиной.
Я больше не встречался с ним. Кажется, он умер.
Тот же Мериме однажды в 1847 году заговорил со мной о Морни. Между нами произошел следующий диалог.
Мериме сказал:
— У господина де Морни — большая будущность. Бы знаете его?
Я ответил:
— Вот как, у него большая будущность? Да, я знаю господина де Морни. Он умен, много бывает в свете, ворочает крупными делами, он учредил акционерные общества Вьей-Монтань, цинковых рудников, Льежских угольных копей. Я имею честь знать его. Это мошенник.
Между Мериме и мною была маленькая разница: я презирал Морни, Мериме его уважал.
Морни отвечал Мериме тем же; это было вполне справедливо.
Я выждал, пока Мериме свернул за угол. Как только он исчез из виду, я возвратился в дом № 15.
Были получены сведения о Канробере. 2 декабря вечером он навестил г-жу Лефло, эту благородную женщину, пылавшую негодованием. На следующий день 3 декабря, должен был состояться бал у Сент-Арно, в военном министерстве. Генерал Лефло и его жена были приглашены на этот бал и условились встретиться там с Канробером. Но не об этом празднестве говорила с генералом г-жа Лефло.
— Генерал, — сказала она ему, — все ваши товарищи арестованы; и вы хотите быть пособником в этом деле!
— Я хочу одного: подать в отставку, — ответил Канробер и прибавил: — Вы можете сообщить об этом Лефло. — Весь бледный, он в волнении ходил по комнате.
— В отставку, генерал?
— Да, сударыня.
— Вы твердо решили это?
— Да, сударыня, если только не будет мятежа…
— Генерал Канробер, — воскликнула г-жа Лефло, — это «если» сказало мне, как вы поступите!
А между тем Канробер в то время, конечно, еще не принял твердого решения. Основной чертой его характера была нерешительность. Недаром Пелисье, человек сварливый и раздражительный, говаривал: «Вот и доверяйте именам людей. Меня зовут Амабль, Рандона — Цезарь, а Канробера — Сертен!»[20]
VIII Положение вещей
Хотя по указанным мною причинам комитет решил не давать сражения в каком-нибудь одном месте и в определенный час, а наоборот — решил вести борьбу повсюду и как можно дольше, однако каждый из нас, так же как и злоумышленники Елисейского дворца, инстинктом чувствовал, что этот день будет решающим.
Приближался момент, когда переворот неминуемо должен был со всех сторон двинуть на нас свои войска; нам предстояло выдержать натиск целой армии. Неужели народ, великий революционный народ парижских предместий, отступится от своих депутатов? Отступится от самого себя? Или же, пробудившись и прозрев, он, наконец, восстанет? Вопрос этот становился все более жгучим и непрестанно тревожил нас.
Со стороны Национальной гвардии — никаких явных признаков возмущения. Красноречивую прокламацию, написанную на заседании у Мари Жюлем Фавром и Александром Реем и обращенную к Национальной гвардии от нашего имени, не удалось напечатать. План Этцеля не был осуществлен. Версиньи и Лабрус не могли встретиться с ним, так как в назначенном месте, на углу бульвара и улицы Ришелье, прохожих все время разгоняла кавалерия. Мужественный поступок полковника Грессье, пытавшегося поднять 6-й легион, более робкая попытка подполковника Овина, командовавшего 5-м легионом, ни к чему не привели. Однако в Париже нарастало негодование. Это показал минувший вечер.
Рано утром к нам явился Энгре; он нес под плащом большую пачку экземпляров декрета об отрешении президента от должности, напечатанного вторично. По дороге к нам Энгре раз десять подвергался опасности быть арестованным и расстрелянным; мы распорядились немедленно раздать и расклеить экземпляры. Расклейщики действовали смело; во многих местах наши плакаты красовались рядом с теми, в которых виновники переворота угрожали смертной казнью всякому, кто будет расклеивать изданные депутатами декреты. Энгре сообщил, что наши прокламации и декреты усердно переписываются и ходят по рукам в тысячах экземпляров. Было крайне важно все время печатать их. Накануне вечером Буле, типограф, бывший издатель нескольких газет демократического направления, через третьих лиц предложил мне свои услуги. В июне 1848 года я взял под свою защиту его типографию, опустошенную национальными гвардейцами. Теперь я написал ему письмо, которое депутат Монтегю взялся доставить по назначению. Я вложил туда наши протоколы и декреты. Но Буле сообщил, что не может выполнить этого поручения: в полночь его типографию заняла полиция.
Благодаря нашим стараниям и помощи некоторых патриотически настроенных студентов-химиков и фармацевтов, в нескольких местах стали делать порох. На одной только улице Жакоб за минувшую ночь изготовили сто килограммов. Так как порох делали по преимуществу на левом берегу Сены, а бои шли в правобережных кварталах, то приходилось переправлять его через мосты. С этой задачей справлялись как могли. Часов в девять нам дали знать, что полиция, очевидно кем-то осведомленная, установила строгое наблюдение и что прохожих обыскивают, особенно на мосту Пон-Неф.
Постепенно вырисовывался стратегический план врага. Десять мостов центральной части города охранялись войсками.
На улицах хватали людей, наружность которых почему-либо казалось подозрительной. У моста Понт-о-Шанж полицейский говорил гак громко, что прохожие могли расслышать: «Мы забираем всех небритых и всех, кто по виду не спал ночь».
Как бы там ни было, у нас имелось немного пороху; благодаря тому, что в нескольких кварталах народ обезоружил Национальную гвардию, у нас набралось около восьмисот ружей; наши воззвания и наши декреты расклеивались; наш голос доносился до народа; зарождалось некоторое доверие.
— Волна поднимается! Волна поднимается! — говорил Эдгар Кине, забежавший проведать меня.
Нас известили, что высшие учебные заведения выступят в течение дня и предоставят нам убежище в своих стенах.
— Завтра мы будем издавать наши декреты в Пантеоне, — радостно восклицал Жюль Фавр.
Число признаков, суливших успех, все увеличивалось. Заволновалась улица Сент-Андре-дез-Ар, старинный очаг восстаний. Рабочая ассоциация, называвшаяся «Труженики печати», начала подавать признаки жизни. Сплотившись вокруг одного из своих товарищей, Нетре, несколько мужественных рабочих наспех оборудовали подобие маленькой типографии в мансарде дома № 13 по улице Жардине, в двух шагах от казармы подвижной жандармерии. Ночью они составили и напечатали «Воззвание к труженикам», призывавшее народ к оружию. Их было пятеро, все люди смелые и опытные в своем деле; они раздобыли бумагу; шрифт у них был новехонький; одни смачивали бумагу, другие тем временем набирали. Около двух часов пополуночи они начали печатать. Чтобы соседи не услышали шума, рабочие нашли способ заглушать тяжелые удары красочного валика и перемежавшуюся с ними стукотню декеля. За несколько часов они отпечатали полторы тысячи экземпляров, и на рассвете воззвание было расклеено на всех перекрестках. Один из этих бесстрашных тружеников, их глава, А. Демулен, из могучей породы людей просвещенных и всегда готовых к борьбе, накануне впал в уныние; теперь он надеялся.
Накануне он писал:
«Где депутаты? Они не могут поддерживать связь между собою. Нельзя пройти ни по набережным, ни по бульварам. Созвать народное собрание — немыслимо. Народом никто не руководит. Де Флотт здесь, Виктор Гюго там, Шельшер где-то в другом месте призывают к борьбе и непрестанно рискуют жизнью; но за ними не чувствуется никакой организованной силы, а кроме того смущает попытка, предпринятая роялистами в X округе; боятся, как бы в конце концов они не вынырнули снова на поверхность».
Теперь этот человек, такой разумный и такой храбрый, воспрянул духом. Он писал:
«Несомненно, Луи-Наполеон трусит; донесения полиции тревожат его. Сопротивление депутатов-республиканцев принесло свои плоды. Париж вооружается. Некоторые войсковые части, по-видимому, готовы примкнуть к нам. Подвижная жандармерия, и та ненадежна: сегодня утром целый батальон отказался выступить. В распоряжениях — бестолковщина. Две батареи долго обстреливали одна другую, не замечая своей ошибки. Можно думать, что государственный переворот сорвется».
Итак, появились благоприятные признаки.
Может быть, Мопа плохо справлялся со своим делом? Уже не решили ли призвать кого-нибудь половчее? Об этом, казалось, говорил следующий факт: накануне вечером, между пятью и семью часами, перед кафе на площади Сен-Мишель расхаживал человек высокого роста; к нему подошли два полицейских комиссара, производивших аресты 2 декабря, и долго говорили с ним. Этот человек был не кто иной, как Карлье. Не его ли прочат на место Мопа?
Депутат Лабрус, сидевший в кафе, видел, как эти трое совещались. За каждым комиссаром следовал по пятам агент, из тех, кого называют комиссарскими ищейками.
В то же время в комитет поступали странные предупреждения; так, нам сообщили, что получена записка следующего содержания:
3 декабря
Дорогой Бокаж,
Сегодня в шесть часов обещано вознаграждение в 25 000 франков тому, кто задержит или убьет Гюго.
Вы знаете, где он. Пусть он ни в коем случае не выходит на улицу.
Ваш Ал. Дюма.
На обороте: Г-ну Бокажу, улица Кассет, д. 18. [21]
Нужно было думать о всяких мелочах. Так, в каждом квартале, где шли бои, был свой пароль; это могло иметь опасные последствия. Накануне мы избрали паролем фамилию «Боден». По нашему примеру на других баррикадах взяли паролем фамилии известных депутатов. На улице Рамбюто пароль был: «Эжен Сю и Мишель де Бурж». На улице Бобур — «Виктор Гюго». У часовни Сен-Дени — «Эскирос и де Флотт». Мы сочли нужным покончить с этой путаницей и запретили брать паролем собственные имена, потому что такой пароль легко угадать. Новый, общий для всех пароль был: «Что поделывает Жозеф?»
Нам непрерывно доставляли всевозможные сведения: сообщали, что повсюду строятся баррикады, что на центральных улицах начинается перестрелка. Мишель де Бурж воскликнул: «Постройте каре из четырех баррикад, мы будем совещаться посредине».
Мы получили сведения о Мон-Валерьене; там прибавилось еще двое заключенных; только что туда отвезли Ригаля и Беля. Оба были членами левой. Ригаль представлял округ Гайяк, Бель — округ Лавор. Ригаль был болен, его подняли с постели. В тюрьме он валялся на жалкой подстилке, у него не было сил одеться. Его коллега Бель ухаживал за ним.
Около девяти часов к нам пришел предложить свои услуги некий Журдан, в 1848 году бывший капитаном 8-го легиона Национальной гвардии, человек храбрый, один из тех, что утром 24 февраля отважно завладели городской ратушей. Мы поручили ему повторить этот смелый налет и занять не только ратушу, но и полицейскую префектуру. Журдан знал, как взяться за дело. Он сказал нам, что людей у него немного, но что в течение дня они, по его указаниям, исподволь займут несколько стратегически важных домов на набережной Жевр, набережной Лепеллетье и улице Сите; если с расширением боев на центральных улицах, говорил он, генералам Бонапарта придется стянуть войска туда, оголив ратушу и префектуру, он, Журдан, немедленно атакует оба эти пункта.
Скажем тут же: капитан Журдан сделал все, что он нам обещал; к несчастью, как мы узнали вечером, он, судя по всему, поторопился. Как он и предвидел, наступил момент, когда на площади Ратуши почти не осталось войск: генералу Эрбийону пришлось увести оттуда свою кавалерию, чтобы бросить ее в тыл баррикад в центре города. Республиканцы тотчас начали действовать. Из окон домов по набережной Лепеллетье грянули ружейные выстрелы; но левое крыло кавалерийской колонны еще шло по Аркольскому мосту; стрелковая цепь, расставленная начальником батальона, неким Ларошетом, еще стояла перед ратушей, 44-й полк вернулся, и попытка захватить ратушу не удалась.
Явился Бастид в сопровождении Шоффура и Лессака.
— Я принес добрые вести, — оказал он, — все идет хорошо.
Его честное, серьезное, холодное лицо светилось сознанием исполненного гражданского долга. Он пришел с баррикад и спешил вернуться туда. Его плащ в двух местах был прострелен. Я отвел его в сторону и спросил:
— Вы возвращаетесь туда?
— Да.
— Возьмите меня с собой!
— Нет, — ответил он. — Вы нужны здесь. Сегодня вы — генерал, а я — солдат.
Я тщетно настаивал. Он оставался непреклонен и повторял:
— Комитет — наш центр, он не должен распыляться. Ваш долг — оставаться здесь. Впрочем, — прибавил он, — будьте спокойны, здесь вам грозят еще большие опасности, чем нам на баррикадах. Если вас захватят, вы будете расстреляны.
— Но ведь, — возразил я, — может наступить момент, когда нашим долгом будет принять участие в сражении.
— Несомненно.
Я продолжал:
— Вам, стоящим на баррикадах, легче определить, когда этот момент настанет. Дайте мне слово, что вы сделаете для меня то, о чем попросили бы меня, будь вы на моем месте; дайте мне слово, что вы придете за мной, когда настанет время.
— Даю, — ответил Бастид и крепко сжал обе мои руки.
И все же, как я ни доверял слову этого мужественного и великодушного человека, через несколько минут после его ухода я не выдержал и, воспользовавшись двухчасовым перерывом, в течение которого мог располагать собой, отправился посмотреть своими глазами, что происходит и как организовано сопротивление.
На площади Пале-Рояль я нанял фиакр. Я объяснил кучеру, кто я такой, и сказал ему, что хочу посетить баррикады и ободрить их защитников, что временами мне придется идти пешком и что я доверяюсь ему. Я назвал свое имя.
Первый встречный почти всегда оказывается порядочным человеком. Славный кучер ответил мне:
— Я знаю, где баррикады; я доставлю вас, куда требуется. Буду ждать вас, где потребуется. Свезу вас туда и обратно. И если у вас нет денег — не платите, я горжусь тем, что я делаю.
Я пустился в путь.
IX У Порт-Сен-Мартен
Утром произошли важные события.
— Пламя разгорается, — сказал Бастид.
Трудность не в том, чтобы раздуть огонь, а в том, чтобы его зажечь.
Было очевидно, что Париж начинает раздражаться. Париж сердится не по указке. Нужно, чтобы ему так вздумалось. У вулкана тоже есть нервы. Гнев нарастал медленно, но он нарастал. На горизонте уже полыхало зарево извержения.
И для Елисейского дворца и для нас приближался критический момент. Еще накануне обе враждующие стороны начали прощупывать друг друга. Переворот и республика должны были, наконец, вступить в схватку. Напрасно комитет пытался оттянуть сражение. Какая-то неодолимая сила увлекала последних защитников свободы и побуждала их действовать. С минуты на минуту должна была завязаться решающая битва.
В Париже, когда настает грозный час, когда возникает необходимость мгновенно сделать смелый шаг вперед или отомстить за попранное право, восстание быстро охватывает весь город. Но всегда кто-то должен начать. Огромную историческую задачу Парижа выполняют две революционные силы — буржуазия и народ. У каждого из этих борцов — свое поле битвы. Площадь у Порт-Сен-Мартен, когда восстает буржуазия; площадь Бастилии, когда восстает народ. Взор политического деятеля всегда должен быть устремлен на эти две точки. Эти площади прославились в великой истории нашего времени; кажется, там всегда тлеет пепел революции.
Пусть только пронесется вихрь — и этот горячий пепел разлетится во все стороны, осыпая город искрами.
На этот раз по причинам, которые мы изложили, грозное Сент-Антуанское предместье спало, и, как уже известно читателю, ничто не могло его разбудить. Целый артиллерийский парк с зажженными фитилями расположился вокруг Июльской колонны, исполинского глухонемого стража Бастилии. Этот столп, воздвигнутый в память революции, этот молчаливый свидетель великих деяний прошлого, казалось, все позабыл. Грустно сказать — камни мостовой, видевшей Четырнадцатое июля, не вздыбились под колесами пушек, громыхавших по ним Второго декабря. Итак, схватка началась не у Бастилии, а у Порт-Сен-Мартен.
С восьми часов утра улицы Сен-Дени и Сен-Мартен были в волнении. Двумя встречными потоками двигались по ним негодующие прохожие. Они срывали плакаты Бонапарта и наклеивали наши воззвания. На всех перекрестках люди, собираясь кучками, горячо обсуждали изданный оставшимися на свободе депутатами-республиканцами декрет, которым узурпатор был объявлен вне закона. Экземпляры этого декрета рвали друг у друга из рук. Взобравшись на тумбы, прохожие читали вслух имена ста двадцати депутатов, подписавших декрет, и каждое известное или знаменитое имя приветствовалось рукоплесканиями, еще более бурными, чем накануне.
Толпа росла с каждой минутой, ярость — тоже. Улица Сен-Дени имела тот странный вид, какой улицы принимают, когда все двери и окна закрыты, а обитатели высыпали наружу. Взгляните на дома — они мертвы; взгляните на улицу — она бушует.
Вдруг из бокового переулка вышли человек пятьдесят. Эти смельчаки пошли по улице, крича: «К оружию! Да здравствуют депутаты левой! Да здравствует конституция!» Началось разоружение национальных гвардейцев. Оно прошло легче, чем накануне. За какой-нибудь час было добыто полтораста ружей.
Тем временем улица покрывалась баррикадами.
X На баррикадах
Кучер высадил меня из фиакра у церкви св. Евстахия и сказал:
— Вот вы и в осином гнезде. — Он прибавил: — Я буду ждать вас на улице Лаврийер, у площади Виктуар. Не спешите.
Я переходил от баррикады к баррикаде.
На первой же из них я встретил де Флотта. Он вызвался быть моим вожатым. Я не знаю человека более решительного, чем де Флотт. Я согласился, и мы с ним посетили все те места, где мое присутствие могло принести пользу.
Дорогой он дал мне отчет в мерах, принятых им для напечатания наших прокламаций. На типографию Буле нельзя было рассчитывать; поэтому он обратился в литографию, помещавшуюся в доме № 30 по улице Бержер, и там двое смельчаков, рискуя жизнью, отпечатали наши декреты в пятистах экземплярах. Эти храбрые рабочие звались — один Рюбенс, другой Ашиль Пуэнсело.
Я делал заметки на ходу, пользуясь сохранившимся у меня карандашом Бодена. Я отмечал факты и события как придется: я воспроизвожу здесь эту страницу. Такие выхваченные прямо из жизни наброски пригодятся истории. В них переворот встает перед нами, еще залитый кровью.
«Утро 4 декабря. В борьбе как будто наступил перерыв. Возобновится ли она? Я посетил следующие баррикады: возле церкви св. Евстахия, возле Устричного рынка, на улице Моконсейль, на улице Тиктонн, на улице Мандар (у Роше-де-Канкаль); затем баррикаду, прикрывающую улицу Кадран и улицу Монторгейль, четыре баррикады, замыкающие улицу Пти-Карро; еще незаконченную баррикаду между улицей Де-Порт и улицей Сен-Совер; она заградит улицу Сен-Дени; далее — самую высокую из баррикад, перегораживающую улицу Сен-Дени там, где на нее выходит улица Герен-Буассо; баррикаду на улице Гренета; вторую баррикаду посредине улицы Гренета, в то же время замыкающую улицу Бур-Лаббе: в центре этой баррикады — опрокинутая повозка, на которой везли муку. Надежное сооружение! Еще две баррикады на улице Сен-Дени; одна преграждает доступ к улице Пти-Лион-Сен-Совер, другая — к переулку Гран-Юрлер. Здесь на перекрестке забаррикадированы все четыре угла. Эта баррикада сегодня утром уже подверглась атаке. Одному из ее защитников — Массонне, гребенщику, проживающему на улице Сен-Дени в доме № 154, пуля пробила пальто; Дюпапе, по прозвищу «бородач», последним оставался на гребне этой баррикады; люди слышали, как он крикнул офицерам, командовавшим атакой: «Вы предатели!» Полагают, что он расстрелян. Странно, что войска ушли, не разрушив эту баррикаду. Строится баррикада на улице Ренар. Несколько национальных гвардейцев в мундирах смотрят, как ее сооружают, но сами не принимают в этом участия. Один из них сказал мне: «Мы не против вас: право на вашей стороне». Они прибавили, что на улице Рамбюто двенадцать или пятнадцать баррикад. «Сегодня на рассвете, — сказал мне один из них, — на улице Бурбон-Вильнев стреляли из пушек, и здорово стреляли!» Отправляюсь на крохотный пороховой завод, который Легевель наспех оборудовал в какой-то аптеке, напротив улицы Герен-Буассо.
Баррикады строят мирно, стараясь никого не раздражать. Восставшие делают все, что могут, только бы не обозлить тех, кто живет по соседству. Моросит дождь, и защитники баррикады, заграждающей улицу Бур-Лаббе, стоят по щиколотку в грязи. Там настоящая клоака. Они не решаются попросить охапку соломы и спят среди луж или на камнях мостовой.
Я видел там больного юношу, вставшего с постели, хотя его била лихорадка; он сказал мне. «Я буду драться, пока меня не убьют!» (Так и случилось.)
На улице Бурбон-Вильнев защитники баррикады даже не просили «буржуа» дать им хоть один тюфяк; а ведь баррикаду обстреливали из пушек, и тюфяки очень пригодились бы против ядер.
Солдаты плохо строят баррикады, потому что они строят их прочно; баррикада должна быть шаткой; крепко слаженная, она никуда не годится. Булыжники должны едва держаться — «тогда, — сказал мне какой-то уличный мальчишка, — они мигом валятся на солдат и калечат им лапы». Увечье — союзник баррикады.
Жанти Сар возглавляет целую группу баррикад. Он представил мне своего помощника, Шарпантье, человека лет тридцати шести, ученого, занимающегося также литературой. Шарпантье производит опыты, чтобы при обжиге фарфора заменить уголь и дрова газом. Он попросил у меня разрешения «в ближайшие дни» прочитать мне сочиненную им трагедию. «Мы сами сейчас играем трагедию», — ответил я ему.
Жанти Сар сделал Шарпантье выговор: огнестрельных припасов не хватает. У Жанти Сара дома, на улице Сент-Оноре, хранилось около фунта крупной дроби и двадцать штук патронов. Он послал за ними Шарпантье. Тот пошел, взял дробь и патроны, но на обратном пути роздал их защитникам других баррикад. «Они кидались на них, как голодные на пищу», — объяснил он.
Шарпантье в жизни своей еще не прикасался к огнестрельному оружию. Жанти Сар учит его заряжать ружье.
Защитники баррикады закусывают у кабатчика на ближайшем углу, там же и греются. На улице очень холодно. Кабатчик объявил: «Кто голоден, пусть приходит поесть». — «А кто же заплатит?» — спросил его кто-то из защитников баррикады. «Смерть», — ответил кабатчик. Действительно, спустя несколько часов он погиб, ему было нанесено семнадцать штыковых ран.
Следуя все тому же принципу — причинять как можно меньше ущерба, — восставшие не разрушили газопровод. Они ограничились тем, что отобрали у сторожей газопровода их ключи, а у фонарщиков — шесты, которыми те отвертывают газовые рожки. Таким образом, восставшие теперь могут по своему усмотрению зажигать и тушить газ.
Эта группа баррикад сильна и бесспорно сыграет свою роль.
Минуту-другую я надеялся, что атака начнется еще при мне. Звуки горна раздались совсем близко, но вскоре замерли в отдалении. Жанти Сар только что сказал мне: «Дело начнется вечером».
Жанти Сар намерен погасить все газовые фонари на улице Пти-Карро и на всех соседних с ней улицах, оставив зажженным только один рожок на улице Кадран. Он расставил часовых повсюду, до угла улицы Сен-Дени. Она с одной стороны открыта, не защищена баррикадами; но войскам все же трудно будет проникнуть туда, так как ближайшие переулки настолько узки, что пробираться по ним можно только гуськом. Следовательно, это незащищенное место едва ли представляет опасность. Вот преимущество узеньких уличек; войско «может действовать, только если оно составляет плотную массу». Солдат не любит сражаться в одиночку; на войне сознание, что плечом к плечу с тобой товарищи, удваивает мужество.
У Жанти Сара есть дядюшка, старый реакционер, с которым он перестал встречаться; дядюшка живет совсем близко, на улице Пти-Карро, дом № 1. «Ну и нагоним же мы на него страху через часок-другой!» — сказал мне, смеясь, Жанти Сар.
Сегодня утром Жанти Сар осмотрел баррикаду на улице Монторгейль. Там он нашел только одного человека — пьяного, который, приставив дуло своего ружья к груди Жанти Сара, крикнул: «Прохода нет!» Жанти Сар тотчас разоружил его.
Иду дальше, на улицу Пажвен. Там, на углу площади Виктуар, я вижу отлично построенную баррикаду. Ближайшую к ней баррикаду, по улице Жан-Жак Руссо, сегодня утром захватил воинский отряд и не взял пленных: солдаты перебили всех ее защитников. Вся улица, до самой площади Виктуар, усеяна трупами. Баррикада Пажвен устояла. На ней пятьдесят человек, хорошо вооруженных. Я взбираюсь туда. «Все хорошо?» — «Да». — «Мужайтесь!» Я пожимаю руки этим храбрецам. Мне подробно рассказывают о том, что произошло. Эти люди видели, как муниципальный гвардеец ударом приклада размозжил голову умирающему. Какая-то красивая девушка, убедившись, что ей никак не попасть домой, кинулась к баррикаде. Она провела там больше часа, «вся дрожа от ужаса». Когда опасность миновала, командир баррикады отправил ее домой «с самым старшим из своих людей».
Я уже собирался уйти с баррикады Пажвен, когда привели пленного, «сыщика», — говорили вокруг. Он ожидал, что его расстреляют. Я добился того, что его отпустили».
На баррикаде улицы Пажвен я встретил Банселя. Мы обменялись рукопожатием. Он спросил меня:
— Мы победим?
— Да, — ответил я.
Мы уже почти не сомневались в этом.
Де Флотт и он решили меня проводить; они боялись, что батальон, охранявший Государственный банк, арестует меня.
Погода стояла туманная и холодная, было почти совсем темно. Эта тьма укрывала нас и помогала нам. Туман был нашим союзником.
Когда мы подошли к улице Лаврийер, с нами поравнялись несколько офицеров на конях. Впереди ехал человек военной выправки, но в штатском. На нем был плащ с капюшоном.
Слегка подтолкнув меня локтем, де Флотт вполголоса сказал мне:
— Вы знаете Фьялена?
— Нет, — ответил я.
— Вы когда-нибудь видели его?
— Нет.
— Хотите его видеть?
— Нет.
— Взгляните на него.
Я взглянул.
Действительно, перед нами был этот человек. Группу всадников возглавлял Фьялен. Он ехал из банка. Уж не сделал ли он там снова насильственный заем? Люди, стоявшие у дверей домов, смотрели на него с любопытством, но без злобы. Все в нем дышало наглостью. Время от времени он оборачивался, чтобы бросить несколько слов кому-нибудь из офицеров, следовавших за ним. Всадники скакали по грязи, среди тумана. У Фьялена был нахальный вид человека, гарцующего во главе шайки преступников. Он надменно оглядывал прохожих. Его конь был на редкость хорош и, казалось, гордился своим седоком — бедное животное! Фьялен улыбался. В руке он держал хлыст, которым по справедливости следовало исполосовать его собственную физиономию. Он проехал мимо. Я видел его только один раз.
Де Флотт и Бансель расстались со мной лишь после того, как я сел в фиакр. Славный мой кучер ждал меня на улице Лаврийер. Он доставил меня обратно к дому № 15 по улице Ришелье.
XI Баррикада на улице Меле
Первая баррикада на улице Сен-Мартен была построена в том месте, где кончается улица Меле. Опрокинув большую повозку, ее положили поперек мостовой, а затем стали выворачивать булыжники. Выломали даже несколько плит из тротуаров. Эта баррикада, головное укрепление всей восставшей улицы, могла лишь ненадолго задержать нападавших. Булыжники были нагромождены не выше человеческого роста, а более чем на трети своего протяжения баррикада едва доходила защитникам до колен. «Какая ни есть, а уж на то, чтобы на ней убили, она годится», — говорил подросток, без устали подкатывавший к баррикаде булыжники. За ней выстроились человек сто. Около девяти часов по передвижениям войсковых частей стало заметно, что готовится атака. Головной отряд колонны, принадлежавшей к бригаде Марюлаза, занял угол улицы со стороны бульвара. У Порт-Сен-Мартен поставили пушку так, что она могла простреливать всю улицу. Некоторое время обе стороны наблюдали друг за другом, храня угрюмое молчание, которое предшествует схватке; войска глядели на баррикаду, ощетинившуюся ружьями, баррикада — на зияющее жерло пушки. Вскоре раздалась команда: «В атаку!» Загремели орудийные выстрелы. Первое ядро пролетело над баррикадой и шагах в двадцати от нее попало в женщину, проходившую по улице. Ей разворотило живот и грудь. Она упала. Огонь участился, но не причинял баррикаде большого вреда. Ядра перелетали через нее, так как пушка стояла слишком близко.
Защитники баррикады, еще не потерявшие ни одного человека, приветствовали каждое ядро криками: «Да здравствует республика!», но сами не стреляли. Патронов было мало, их приходилось беречь. Вдруг из-за угла сомкнутой колонной вышел 49-й полк.
С баррикады грянул залп.
Улицу заволокло дымом; когда он рассеялся, оказалось, что на мостовой лежит человек десять раненых и убитых и солдаты отходят в беспорядке, пробираясь вдоль домов. Командир баррикады крикнул:
— Они отступают! Прекратите огонь! Нельзя тратить зря ни одной пули!
Некоторое время улица оставалась безлюдной. Пушка снова начала стрелять. Каждые две минуты в сторону баррикады летело ядро, но ни одно не попадало в цель. Один из ее защитников, имевший при себе охотничье ружье, подошел к командиру и сказал ему:
— Подстрелим пушку! Перебьем канониров!
— Зачем? — с улыбкой ответил командир. — Они ведь не наносят нам вреда, не будем и мы вредить им.
Между тем из-за громады домов, которые служили прикрытием для войск, сосредоточенных у Порт-Сен-Мартен, явственно доносились звуки горна; было ясно, что готовится вторая атака; следовало ожидать, что она будет яростной, упорной, ожесточенной.
Столь же ясно было, что, как только возьмут эту баррикаду, все другие укрепления на улице Сен-Мартен будут сметены. Остальные баррикады были еще слабее первой, людей на них было еще меньше. Буржуа отдала ружья и разошлись по домам. Они предоставили восставшим свою улицу — и только.
Следовательно, нужно было как можно дольше держаться на головной баррикаде. Но как действовать, как устоять против натиска? На каждого защитника оставалось самое большее по два заряда.
И вдруг этот скудный запас пополнился.
Один молодой человек, — я могу его назвать, так как он умер,[22] — Пьер Тиссье, рабочий и вместе с тем поэт, утром помогал строить баррикаду; когда началась перестрелка, он ушел, объяснив свой поступок тем, что ему не дали ружья. «Струсил», — говорили люди на баррикаде.
Пьер Тиссье не струсил, в этом убедились несколько позднее.
Итак, он ушел с баррикады.
У Пьера Тиссье был с собой складной каталонский нож; на всякий случай он раскрыл его и с ножом в руке пошел куда глаза глядят.
Выйдя из улицы Сен-Совер, он на углу пустынного переулка, во всех домах которого окна были закрыты, увидел часового; вероятно, его выслал в передовой караул какой-нибудь отряд, расположившийся поблизости.
Солдат стоял, взяв ружье наизготовку.
Услышав шаги Пьера Тиссье, он крикнул:
— Кто идет?
— Смерть, — ответил Пьер Тиссье.
Солдат выстрелил и промахнулся; Пьер Тиссье бросился на него и ударил ножом.
Солдат рухнул наземь, изо рта у него хлынула кровь.
— Не думал я, что отвечу так кстати, — прошептал Пьер Тиссье и, все еще говоря сам с собой, прибавил: — В походный лазарет!
Он взвалил солдата себе на спину, подобрал ружье, упавшее на мостовую, и вернулся к баррикаде.
— Я принес раненого, — сказал он.
— Убитого, — закричали кругом.
Действительно, солдат только что испустил дух.
— Негодяй Бонапарт! — воскликнул Тиссье. — Бедный солдатик! Но как-никак я получил ружье.
Защитники баррикады опорожнили ранец и сумку убитого солдата. Там оказалось полтораста патронов. Были и две золотые монеты по десять франков — жалованье за два дня, считая со 2 декабря. Деньги бросили на мостовую, никто не хотел их взять.
Защитники баррикады поделили между собой патроны под дружные крики: «Да здравствует республика!»
Тем временем нападающие подвезли гаубицу и поставили ее рядом с пушкой.
Не успели поделить патроны, как снова появилась пехота и со штыками наперевес ринулась на баррикаду. Как и предвидели, этот второй приступ был сильным и упорным. Дважды пехота возобновляла атаку, дважды отступала, оставляя на улице множество трупов. В промежутке между двумя атаками ядро пробило баррикаду и разметало часть ее, а пушка непрерывно стреляла картечью.
Положение было отчаянное; патроны кончились. Многие бросали ружья и уходили. Путь к спасению лежал через улицу Сен-Совер, а чтобы попасть туда, надо было пробраться вдоль низкой части баррикады, то есть идти почти без прикрытия. Картечь и пули сыпались градом. Здесь были убиты трое или четверо борцов. Одному из них пуля попала в глаз, как Бодену. Наконец командир баррикады увидел, что возле него остались только Пьер Тиссье и четырнадцатилетний мальчик, тот самый, который подкатил столько камней. С минуты на минуту надо было ждать третьего приступа; солдаты уже двинулись вперед, держась поближе к домам.
— Уйдем, — сказал командир баррикады.
— Я остаюсь, — отозвался Пьер Тиссье.
— Я тоже, — отозвался мальчик и прибавил: — У меня нет ни отца, ни матери — так не все ли мне равно?
Командир выпустил последний заряд и, как до него все другие, пошел вдоль низкой части баррикады. Пулей с него сбило шляпу. Он нагнулся и поднял ее. Солдаты были уже шагах в двадцати пяти. Он крикнул оставшимся:
— Идем!
— Нет, — сказал Пьер Тиссье.
— Нет, — сказал мальчик.
Спустя несколько минут солдаты уже взбирались на полуразрушенную баррикаду.
Пьера Тиссье и мальчика закололи штыками.
На этой баррикаде осталось около двадцати ружей.
XII Баррикада возле мэрии V округа
Двор мэрии V округа был полон национальных гвардейцев в мундирах. Их собиралось все больше. Бывший барабанщик подвижной гвардии взял в подвале рядом с караульней барабан и принялся бить сбор на соседних улицах. Около девяти часов в мэрию вошли четырнадцать — пятнадцать молодых людей, большинство — в белых блузах. Они кричали: «Да здравствует республика!» У них были ружья. Национальная гвардия встретила их возгласом: «Долой Луи Бонапарта!» Во дворе национальные гвардейцы братались с блузниками. Вдруг в толпе началось движение: пришли депутаты Дутр и Пеллетье.
— Что нужно делать? — кричала толпа.
— Баррикады, — ответил Пеллетье.
Тотчас начали разбирать мостовую.
Со стороны предместья мимо дверей мэрии проезжал воз, груженный мешками с мукой. Тотчас выпрягли лошадей — возчик увел их — и, не повалив подводу, поставили ее поперек широкого шоссе, идущего из предместья. Еще через минуту баррикада была достроена: показался другой воз, поменьше. Его тоже забрали и прислонили к колесам первого, как перед камином ставят экран.
Бочки и булыжники довершили это сооружение. Благодаря возу с мукой баррикада получилась высокая, доходившая до второго этажа домов. Она пересекала шоссе предместья на самом углу переулка Сен-Жан. Между баррикадой и этим углом оставили узкий проход.
— Одной баррикады мало, — заявил Дутр. — Нужно загородить мэрию двумя укреплениями, чтобы можно было одновременно оборонять ее с обеих сторон.
Появилась и вторая баррикада, обращенная к предместью. Низкая, шаткая, она была построена из одних только досок и булыжников. Между обеими баррикадами было расстояние примерно в сто шагов. На этом пространстве сосредоточилось около трехсот человек. Из них не более ста имели ружья, причем у большинства было только по одному патрону.
Перестрелка началась часов в десять. Появились две роты пехотинцев; они дали несколько залпов. То была ложная атака. В ответ на нее защитники баррикады открыли огонь, что было ошибкой с их стороны; они напрасно истратили свои огнестрельные припасы. Пехота отошла, и тогда началась настоящая атака: со стороны бульвара выступили Венсенские стрелки.
Сначала они, применяя тактику африканских кампаний, ползком пробирались вдоль домов, а затем пустились бежать и ринулись на баррикаду.
У ее защитников вышли все патроны. На пощаду нельзя было надеяться.
Те, у кого не осталось ни пороху, ни пуль, побросали ружья. Некоторые хотели было укрепиться в мэрии, но там об обороне и думать не приходилось: открытое со всех сторон здание, над которым господствовали холмы; защитники баррикады перелезли через ограду двора мэрии и рассеялись по окрестным домам. Кое-кому удалось бежать через узкий проход между баррикадой и переулком Сен-Жан; большинство же восставших взобралось с тылу на противоположную баррикаду, и те из них, у кого еще было по одному патрону, с ее гребня дали последний залп по нападавшим. Затем они стали ждать смерти. Их перебили всех до одного.
В числе тех, кому удалось проскользнуть в переулок Сен-Жан, где, впрочем, они еще раз подверглись обстрелу, был Кост, редактор газет «Эвенман» и «Авенман дю Пепль».
Кост в свое время был капитаном подвижной гвардии.
Дойдя до того места, где переулок круто сворачивает, и очутившись таким образом вне обстрела, Кост увидел перед собой бывшего барабанщика подвижной гвардии, тоже кинувшегося в переулок Сен-Жан. Пользуясь тем, что в переулке не было ни души, барабанщик хотел было отделаться от своего барабана.
— Оставь его при себе! — крикнул ему Kост.
— Зачем?
— Чтобы бить сбор!
— Где?
— В квартале Батиньоль.
— Ладно, — ответил барабанщик.
Едва уйдя от смерти, эти люди были готовы тотчас снова встретиться с ней.
Но как пройти по всему Парижу с громоздким барабаном? Любой патруль, попадись они ему на глаза, расстрелял бы их на месте. Видя их затруднение, привратник соседнего дома дал им кусок грубого холста. Они обернули барабан и по пустынным улицам, тянущимся вдоль кольца старых укреплений, пробрались в квартал Батиньоль.
XIII Баррикада на улице Тевено
Демонстрация на улице Эшель — дело Жоржа Бискарра.
Я познакомился с Жоржем Бискарра в июне 1848 года. Он был участником этого злосчастного восстания. Я тогда имел случай оказать ему некоторую услугу. Его арестовали и уже поставили на колени, чтобы расстрелять; я пришел как раз вовремя и спас его и еще нескольких: М. Д., Д. Б. и мужественного архитектора Роллана, который впоследствии, в изгнании, талантливо реставрировал здание суда в Брюсселе.
Это произошло 24 июня 1848 года в подвале дома № 93 по бульвару Бомарше. Тогда этот дом еще только строился.
Жорж Бискарра очень привязался ко мне. Оказалось, что он племянник моего друга детства Феликса Бискарра, умершего в 1828 году. Время от времени Жорж Бискарра заходил ко мне и при случае советовался со мной или сообщал мне различные сведения.
Стремясь предохранить его от нездоровых увлечений, я преподал ему следующее правило поведения, которое он и усвоил: «Поднимать восстание можно только во имя долга и во имя права».
В чем заключалась демонстрация на улице Эшель? Расскажем об этом происшествии.
2 декабря Бонапарт сделал попытку показаться на улице. Он рискнул взглянуть на Париж. Париж не любит, чтобы глаза некоторых людей смотрели на него. Это кажется ему оскорбительным, а оскорбление возмущает его сильнее, чем раны. Париж терпит, когда его душат, но не выносит, чтобы душитель с ним заигрывал. Луи Бонапарту пришлось испытать это на себе.
В девять часов утра, в то самое время, когда гарнизон Курбевуа вступил в Париж и плакаты, извещавшие о перевороте, еще не успели высохнуть на стенах домов, Луи Бонапарт выехал верхом из Елисейского дворца, пересек площадь Согласия, сад Тюильри, обнесенную оградой площадь Карусели и оттуда проехал на улицу Эшель. Сразу же собралась толпа. Луи Бонапарта, одетого в генеральский мундир, сопровождали его дядя, бывший король Жером, и Флао, ехавший позади. Жером был в парадной маршальской форме, в шляпе с белым плюмажем; лошадь Луи Бонапарта шла на голову впереди лошади Жерома. Луи Бонапарт был мрачен, Жером серьезен, Флао сиял. Шляпа Флао была надета набекрень. За ними следовал сильный эскорт улан; кортеж замыкал Эдгар Ней. Бонапарт рассчитывал доехать до городской ратуши. Жорж Бискарра находился в толпе. Улицу Эшель собирались покрыть макадамом, мостовая была разворочена. Бискарра взобрался на груду камней и изо всех сил крикнул: «Долой диктатора! Долой преторианцев!» Солдаты смотрели на него тупо, толпа — с удивлением. Бискарра (он сам рассказал мне это) почувствовал, что его возглас звучит слишком книжно и потому непонятен; он закричал: «Долой Бонапарта! Долой улан!»
По толпе словно пробежала электрическая искра. «Долой Бонапарта! Долой улан!» — закричал народ, и вся улица заволновалась, забушевала. «Долой Бонапарта!» Зловещий гул нарастал, словно перед началом казни.
Бонапарт резко повернул направо и въехал во двор Лувра.
Жорж Бискарра ощутил потребность дополнить свой протест баррикадой.
Он сказал книгопродавцу Бенуа Муйлю, приоткрывшему дверь своей лавки: «Кричать хорошо, но еще лучше действовать». Он зашел к себе домой, на улицу Вер-Буа, надел блузу, нахлобучил фуражку и углубился в темные улицы. К вечеру он успел сговориться с четырьмя ассоциациями: газовщиков, литейщиков, шляпников и ткачей, выделывающих шали.
Так он провел 2 декабря. День 3 декабря прошел в беготне, «почти что напрасной», — так Бискарра сказал Версиньи. Он прибавил: «Все же я кое-чего добился: всюду срывают плакаты, объявляющие о перевороте; уже дошло до того, что полиция с целью помешать этому стала расклеивать их в общественных уборных; там они вполне на своем месте».
В четверг 4 декабря рано утром Жорж Бискарра отправился в ресторан Ледубля, где обычно завтракали четверо депутатов: Брив, Бертелон, Антуан Бар и Вигье, по прозвищу дядюшка Вигье. Он застал там всех четверых. Вигье рассказывал остальным о том, что мы сделали накануне, и выражал то же мнение, что я: нужно ускорить развязку, сбросить преступление в пропасть, отверзтую им самим. В это время вошел Бискарра. Они его не знали и стали оглядывать с недоверием. «Кто вы такой?» — спросил один из них. Не успел Бискарра ответить, как вошедший вслед за ним доктор Пти развернул какую-то бумагу и спросил:
— Кто из вас знает почерк Виктора Гюго?
— Я, — заявил Бискарра. Он пробежал бумагу глазами; то было мое воззвание к армии.
— Воззвание нужно напечатать! — воскликнул Пти.
— Я беру это на себя, — сказал Бискарра.
Антуан Бар спросил его:
— Вы знакомы с Виктором Гюго?
— Он спас мне жизнь, — ответил Бискарра.
Депутаты пожали ему руку.
Пришел Гильго, потом Версиньи. Версиньи был знаком с Бискарра; они встречались у меня. Версиньи предупредил остальных:
— Будьте осторожны, на улице у входа стоит какой-то человек.
— Это ткач, — объяснил Бискарра, — он наш единомышленник и пришел со мной.
— Но на нем блуза, — настаивал Версиньи, — под блузой у него какой-то платок, а в платке, видимо, что-то спрятано.
— Леденцы, — сказал Бискарра.
То были патроны.
Версиньи и Бискарра пошли в типографию, где печаталась газета «Сьекль». Там были тридцать рабочих, которые все, как один, рискуя быть расстрелянными, вызвались напечатать мое воззвание. Бискарра оставил им текст и сказал Версиньи: «А теперь мне нужна баррикада».
Ткач шел за ними. Версиньи и Бискарра направились в квартал Сен-Дени. Приближаясь к воротам Сен-Дени, они услышали глухой шум. «Сен-Дени сердится. Дело идет на лад», — сказал, смеясь, Бискарра своему спутнику. По пути Бискарра завербовал еще сорок человек, готовых сражаться, в том числе Мулена, возглавлявшего ассоциацию кожевников. Шапюи, старший сержант Национальной гвардии, принес им четыре ружья и десять сабель.
— Не знаете ли вы, где еще можно достать оружие? — спросил его Бискарра.
— Знаю. В банях Сен-Совер.
Действительно, там они раздобыли сорок ружей. Нашлись и сабли и патронташи. Хорошо одетые «господа» принесли жестянки с порохом и пулями. Женщины бодро, радостно делали патроны. В просторном дворе дома, смежного с улицей Азар-Сен-Совер, помещалась слесарная мастерская. Там восставшие взяли молотки и железные прутья. Когда нашлось оружие, нашлись и люди. Число их сразу перевалило за сто. Тотчас принялись разбирать мостовую. Было около половины одиннадцатого утра. «Скорей, скорей! — кричал Жорж Бискарра. — Вот она, баррикада, предмет моей мечты!» Это происходило на улице Тевено. Преграду воздвигли высокую, грозную. Будем кратки. В одиннадцать часов Жорж Бискарра кончил строить свою баррикаду — в двенадцать его убили на ней.
XIV Оссиан и Сципион
Производились массовые аресты.
Около полудня в кафе на улице Лепеллетье явился полицейский комиссар, некто Будро, в сопровождении агента Делаода.
Делаод был писателем, выдававшим себя за социалиста; после того, как его изобличили в предательстве, ему пришлось перейти из тайной полиции в общую. Я его знал. Отмечу следующую подробность: в 1832 году он, будучи классным наставником в школе, где учились мои сыновья, тогда еще подростки, писал в мою честь хвалебные стихи и в то же время шпионил за мной. В кафе на улице Лепеллетье собирались журналисты республиканского направления. Делаод всех их знал в лицо. Отряд республиканской гвардии занял все выходы, и началась проверка посетителей кафе. Делаод шел впереди, комиссар следовал за ним, два муниципальных гвардейца замыкали шествие. Время от времени Делаод оборачивался и говорил: «Возьмите вот этого». Так были арестованы около двадцати писателей, в том числе Энет де Кеслер.[23]
Накануне Кеслер сражался на баррикаде улицы Сент-Антуан. Кеслер сказал Делаоду: «Вы низкий человек». — «А вы неблагодарный, — ответил Делаод. — Я спасаю вам жизнь». — Странные слова, ибо трудно поверить, чтобы Делаод был посвящен в тайну того, что должно было произойти в роковой день 4 декабря.
В комитет отовсюду поступали добрые вести. Тестелен, представитель города Лилля — не только ученый, но и храбрец. Утром 3 декабря он вскоре после меня посетил Сент-Антуанскую баррикаду, где только что убили Бодена. Там все уже было кончено. Тестелена сопровождал Шарль Гамбон, не уступавший ему в храбрости.[24]
Оба депутата долго ходили по шумным, мрачным улицам, пытаясь поднять парижан. Но мало кто последовал за ними; их не понимали. Они думали найти людей, готовых восстать, а увидели лишь толпы зевак. Все же Тестелен по возвращении сообщил нам следующее: на одной из улиц Сент-Антуанского предместья он и Гамбон заметили скопление народа и поспешили туда. Люди читали наклеенный на стене плакат. То был призыв к оружию, подписанный «Виктор Гюго». «Есть у вас карандаш?» — спросил Тестелен у Гамбона. Тот ответил: «Да». Тестелен взял у него карандаш, подошел к плакату и написал под моим именем свое. Затем он вернул карандаш Гамбону, и тот тоже подписался. Толпа закричала: «Браво! Вот надежные люди!»
— Кричите: «Да здравствует республика!» — сказал им Тестелен. Все дружно последовали его призыву. — А женщины, — так Гамбон закончил свой рассказ, — рукоплескали, стоя у открытых окон.
— Когда женские ручки аплодируют, это добрый знак, — заметил Мишель де Бурж.
Мы уже говорили и неустанно будем повторять: Комитет сопротивления стремился к тому, чтобы крови проливалось как можно меньше. Строить баррикады, отдавать их, снова воздвигать баррикады в других местах, избегать решительных столкновений с армией и этим изматывать ее, применять в Париже тактику войны в пустыне, постоянно отступать, никогда не сдаваться, сделать время своим союзником, выгадывать день за днем; с одной стороны — дать народу время понять, что произошло, и подняться, с другой — победить переворот усталостью армии: вот план, который мы обсудили и приняли.
Итак, мы отдали приказ не слишком рьяно защищать баррикады. Мы на все лады повторяли их защитникам:
— Проливайте как можно меньше крови; щадите жизнь солдат и берегите свою.
Но когда борьба началась, иногда невозможно было в ходе ожесточенных схваток умерить пыл борцов. Некоторые баррикады, особенно на улице Рамбюто, на улице Монторгейль и на улице Нев-Сент-Эсташ, оказывали упорное сопротивление.
На этих баррикадах были отважные командиры.
Назовем здесь к сведению истории кое-кого из этих доблестных людей. Силуэты борцов, промелькнувшие и исчезнувшие в пороховом дыму. Архитектор Раду, Делюк, Маларме, Феликс Бони, отставной капитан республиканской гвардии Люно; веселый, сердечный, храбрый Камилл Берю, сотрудник газеты «Авенман», и юный Эжен Мильело; сосланный в Кайенну, он был там приговорен к двумстам ударам плетью и испустил дух после двадцать третьего удара, на глазах у своего отца и брата, сосланных туда же.
Баррикада на улице Омер принадлежала к числу тех, которыми войска овладели лишь ценой больших усилий. Ее построили наспех, но довольно умело. Защищали ее человек пятнадцать, все люди мужественные. Двое из них были убиты.
Баррикаду взял штыковой атакой батальон 16-го линейного полка. Солдаты ринулись на баррикаду беглым шагом, но их встретили сильным огнем; несколько человек были ранены.
Первым упал офицер, молодой человек лет двадцати пяти, лейтенант первой роты. Его звали Оссиан Дюма; две пули словно одним ударом раздробили ему ноги.
В ту пору в армии служили два брата, носившие фамилию Дюма; их звали Оссиан и Сципион. Старшим был Сципион. Они состояли в довольно близком родстве с депутатом Мадье де Монжо.
Братья происходили из почтенной и бедной семьи. Старший окончил Политехническую школу, младший — Сен-Сирскую военную школу. Следуя прекрасному и таинственному закону восхождения, созданному французской революцией, закону, можно оказать, приставившему лестницу к обществу, до того времени строго замкнутому и неприступному, семья Сципиона Дюма обрекла себя на жесточайшие лишения, чтобы дать ему возможность развить свой ум и проложить себе путь. С трогательным героизмом, столь частым в бедных семьях нашего времени, родители Сципиона Дюма буквально отказывали себе в куске хлеба, чтобы дать сыну образование. Так он дошел до Политехнической школы, где вскоре выделился своими способностями.
По окончании курса его произвели в артиллерийские офицеры и назначили в Мец. Теперь пришел его черед поддержать брата, который вслед за ним взбирался по социальной лестнице. Сципион протянул ему руку помощи. Урезывая себя во всем, он содержал брата на свои скромный оклад лейтенанта артиллерии, и благодаря ему Оссиан тоже стал офицером. Сципион продолжал служить в Меце, тогда как Оссиан, зачисленный в пехоту, отправился в Африку. Там он впервые участвовал в боях. Оба они, и Сципион и Оссиан, были республиканцы. В октябре 1851 года 16-й линейный полк, в котором служил Оссиан, перевели из Африки в Париж. Этот полк был одним из тех, на которые указал своей злодейской рукой Луи Бонапарт, рассчитывавший на них для переворота.
Наступило 2 декабря.
Как и все почти его товарищи, Оссиан Дюма повиновался приказу о сборе, но вид у него был мрачный. День 3 декабря прошел в беспрерывных передвижениях. 4 декабря схватка началась. 16-й линейный полк, входивший в состав бригады Эрбийона, получил приказ взять приступом баррикады на улицах Бобур, Транснонен и Омер.
Это была опасная местность, вся пересеченная баррикадами.
Высшее военное начальство решило начать атаку с улицы Омер и первым послать в бой батальон, в котором служил Оссиан Дюма.
В ту минуту, когда батальон, зарядив ружья, готовился выступить на улицу Омер, Оссиан подошел к своему капитану, славному старому рубаке, очень к нему благоволившему, и заявил старику, что ни шагу не ступит дальше, что акт, совершенный 2 декабря, преступен, что Луи Бонапарт — изменник, что военные обязаны хранить верность присяге, нарушенной Бонапартом, и что он, Оссиан Дюма, не предоставит свою саблю для убийства республики.
В ожидании сигнала к атаке батальон остановился. Два офицера — старый капитан и молодой лейтенант — беседовали вполголоса.
— Что же вы намерены делать? — спросил капитан.
— Сломать свою шпагу.
— Вас отправят в Венсен.
— Мне все равно.
— Вас, без сомнения, разжалуют.
— Вероятно.
— Возможно, расстреляют.
— Я готов к этому.
— Но теперь уже поздно. Надо было подать в отставку вчера.
— Никогда не поздно воздержаться от преступления.
Читатель видит, — капитан был одним из тех бравых, поседевших на службе вояк, для которых дисциплина олицетворяет закон, а знамя — родину. Железные руки — и дубовая голова. Они перестали быть гражданами, перестали быть людьми. Честь они представляют себе не иначе, как с генеральскими эполетами. Не говорите им о гражданском долге, о повиновении законам, о конституции. Что они смыслят в этом? Что для них конституция, что наисвященнейшие законы по сравнению с тремя словами, которые капрал шепчет на ухо часовому? Возьмите весы, положите на одну чашку евангелие, на другую воинский приказ и взвесьте. Перетянет капрал; бог весит немного.
Богу было отведено место в приказе, отданном в Варфоломеевскую ночь: «Убивайте всех; бог распознает своих».
Вот на что идут священники и что они зачастую прославляют.
Варфоломеевская ночь получила благословение папы и была увековечена католической медалью, выбитой по его распоряжению.[25]
Оссиан Дюма оставался непреклонным. Тогда капитан решил пустить в ход крайнее средство.
— Вы губите себя, — сказал он лейтенанту.
— Я спасаю свою честь.
— Нет, именно ее вы приносите в жертву.
— Тем, что я ухожу?
— Уйти — значит дезертировать.
Эти слова как будто поразили Оссиана Дюма. Капитан продолжал:
— Сейчас начнется бой. Через несколько минут мы атакуем баррикаду. Одни из ваших товарищей будут тяжело ранены, другие — убиты. Вы молодой человек, вы еще мало бывали в боях…
— Ну что ж, — с горячностью перебил старика Оссиан Дюма, — зато я не буду сражаться против республики; никто не сможет сказать, что я предатель.
— Но скажут, что вы трус.
Оссиан не ответил.
Спустя минуту раздалась команда: «В атаку!» Батальон ринулся вперед, с баррикады грянул залп.
Первым упал Оссиан Дюма.
Слово «трус» было невыносимо для него; он остался на своем посту, в первом ряду атакующих.
Его перенесли в походный лазарет, а оттуда — в госпиталь. Доскажем тут же этот потрясающий эпизод.
Оссиану Дюма раздробило обе ноги. Врачи решили произвести ампутацию.
Генерал Сент-Арно наградил его орденом.
Как известно, Луи Бонапарт спешно заставил преторианцев, своих сообщников, вынести ему оправдательный приговор. Кончив убивать, сабля проголосовала.
Еще не рассеялся пороховой дым, как армия направилась на голосование.
Парижский гарнизон голосовал: «Да»; он хотел оправдаться перед самим собой.
Другие войска отнеслись к плебисциту иначе; воинская честь вознегодовала в них и пробудила гражданскую доблесть. Несмотря на сильнейшее давление сверху, несмотря на то, что в каждом полку военных заставляли опускать бюллетени в кивера полковников, — во многих местах Франции и Алжира армия голосовала: «Нет».
Подавляющее большинство воспитанников Политехнической школы голосовали: «Нет». Почти везде артиллерия, колыбель которой — Политехническая школа, голосовала так же, как эта школа: «Нет».
Читатель помнит — Сципион Дюма служил в Меце.
По какой-то случайности артиллерия, всюду высказывавшаяся против переворота, в Меце проявляла нерешительность и как будто даже склонялась на сторону Бонапарта. Видя эти колебания, Сципион Дюма подал благой пример. При всех он громко сказал: «Нет», и вписал это слово в свой бюллетень. Затем он подал в отставку. В ту минуту, когда военный министр в Париже получил прошение об отставке, посланное Сципионом Дюма, — Сципион Дюма в Меце получил уведомление о том, что приказом военного министра он отчислен от должности. После того, как Сципион Дюма подал свой голос, у правительства и у офицера в один и тот же миг явилась одна и та же мысль; правительство подумало, что этот офицер опасен и дольше держать его на службе нельзя, а офицер — что это правительство бесчестно и дольше служить ему нельзя. Прошение Дюма и приказ об отчислении скрестились в пути.
Под словом «отчисление» следует понимать увольнение со службы. Так по нынешним военным законам отделываются от неугодных офицеров. Увольнение означает: ни службы, ни жалованья; нищета.
Одновременно с приказом об отчислении Сципион Дюма получил известие о штурме на улице Омер и о том, что при этом штурме его брату раздробило обе ноги. Бурная смена событий не оставляла Оссиану досуга для писем. Что касается Сципиона, он за эту неделю написал брату только коротенькое письмо, в котором, сообщив о своем голосовании и о том, что подал в отставку, призывал брата последовать его примеру.
— Брат ранен! Брат в Валь-де-Грас!
Сципион тотчас поехал в Париж и прямо отправился в госпиталь. Ему указали койку Оссиана: несчастному юноше накануне ампутировали обе ноги.
В ту минуту, когда, подавленный, Сципион приблизился к его постели, Оссиан держал в руке орден, присланный ему генералом Сент-Арно. Повернувшись к адъютанту, доставившему орден, Оссиан сказал:
— Я не приму этот орден. На моей груди его обагрит кровь республики.
Увидев брата, раненый протянул ему орден и воскликнул:
— Возьми его: ты голосовал: «Нет», и ты сломал свою шпагу. Орден заслужил ты, а не я!
XV Вопрос должен решиться
Был час пополудни.
Бонапарт снова помрачнел.
Такие лица проясняются ненадолго.
Он вернулся к себе в кабинет, сел перед камином, поставив ноги на решетку, и застыл в неподвижности. Теперь к нему не допускали никого, кроме Роге.
О чем думал Бонапарт?
Змеи извиваются самым неожиданным образом.
Все, что он сделал в этот позорный день, я подробно рассказал в другой книге, озаглавленной «Наполеон Малый».
Время от времени Роге входил в кабинет и докладывал Бонапарту о событиях. Тот, занятый своими мыслями, слушал молча: мрамор, под которым клокотала лава.
В Елисейском дворце он получал те же вести, что мы на улице Ришелье: дурные для него, хорошие для нас.
В одном из только что голосовавших батальонов сто семьдесят человек вписали в бюллетень слово «нет». Впоследствии этот батальон расформировали и распределили по воинским частям африканской армии.
В Елисейском дворце рассчитывали на 14-й пехотный полк, который в феврале стрелял в народ. Полковник 14-го полка не захотел повторить то, что он сделал тогда, и сломал свою шпагу.
Наконец наш призыв услышали. Читатели видят — Париж восстал по-настоящему. Казалось, падение Бонапарта близко. Два депутата, Фавье и Кретен, встретились на улице Рояль; указав на дворец Собрания, Кретен сказал Фавье: «Завтра мы будем там».
Подробность, заслуживающая внимания: в тюрьме Мазас творилось нечто странное. Порядки там стали менее суровыми. Внутри тюрьмы сказывалось то, что происходило вне ее стен. Те самые надзиратели, которые накануне были крайне грубы с арестованными депутатами, шедшими на прогулку в тюремный двор, теперь кланялись им чуть не до земли.
В четверг 4 декабря утром начальник тюрьмы обошел всех заключенных депутатов и каждому из них говорил: «Я тут ни при чем». Он принес им книги и писчую бумагу; до этого дня им отказывали и в том и в другом. Депутат Валантен содержался в одиночной камере; утром 4 декабря надзиратель вдруг стал с ним очень любезен и; предложил ему свои услуги, чтобы сноситься с внешним миром. Передавать вести должна была жена надзирателя, служившая раньше, по его словам, в доме генерала Лефло. Многозначительные признаки! Когда тюремщик улыбается, значит, дверь камеры приоткрылась.
Прибавим, что в то же время (одно другому не противоречит) гарнизон Мазаса усилили. Туда прибыли еще тысяча двести солдат. Они являлись отрядами по сто человек, притом с промежутками, «маленькими порциями», как выразился один очевидец. В тот же день, несколько позже, в Мазас привели еще четыреста солдат. Им роздали сто литров водки, по литру на шестнадцать человек. Заключенные слышали, как вокруг тюрьмы громыхали артиллерийские упряжки.
Брожение охватывало самые, казалось бы, мирные кварталы. Но особенно грозен был центр Парижа. Этот центр представляет собой клубок извилистых улиц, словно созданный для тех боев, которыми сопровождаются восстания. Нужно постоянно помнить о том знаменательном факте, что именно здесь возникли Лига, Фронда, Революция, 14 июля, 10 августа, 1792 год, 1830 год, 1848 год. Эти храбрые древние улицы проснулись. К одиннадцати часам утра между собором Богоматери и Порт-Сен-Мартен насчитывалось семьдесят семь баррикад. Три из них — на улице Мобюэ, на улице Бертен-Пуаре, на улице Герен-Буассо — были вышиною с трехэтажный дом; баррикада у Порт-Сен-Дени имела вид почти столь же грозный и неприступный, как укрепление, преграждавшее в июне 1848 года доступ в Сент-Антуанское предместье. Горсть депутатов разлетелась по этим знаменитым, легко воспламеняющимся перекресткам, словно брошенные с размаху крупные искры. Заронили огонь — и пожар занялся. Древний квартал Центрального рынка, этот город в городе, вопил: «Долой Бонапарта!» Полицию встречали улюлюканьем, войска — свистом. Некоторые полки, видимо, опешили. Им кричали: «Приклады вверх!» Женщины, толпившиеся у окон, сочувственными возгласами поощряли строителей баррикад. Был порох; были ружья. Мы уже не были одиноки. Мы видели, как позади нас, во мгле, народ поднимает свою мощную голову.
Казалось, счастье перешло на нашу сторону. Сомнения, вызванные неясностью обстановки, исчезли, и мы, я подчеркиваю это, были почти спокойны за исход борьбы.
Была минута, когда под влиянием добрых вестей наша уверенность так возросла, что все мы, поставившие свою жизнь на карту в этой решающей схватке, — все мы, видя, что час победы приближается, в порыве бурной радости вскочили со своих мест и обнялись. Особенно негодовал против Бонапарта Мишель де Бурж, в свое время принимавший его слова за чистую монету и даже говоривший: «Вот такой человек нам нужен!» Из нас четверых он возмущался больше всех; теперь его лицо озарилось мрачным торжеством. Стукнув кулаком по столу, он вскричал:
— Ах, негодяй! Завтра… — тут он снова стукнул кулаком, — завтра его голова падет на Гревской площади, перед ратушей…
Я взглянул на него и сказал:
— Нет, его голова не падет.
— Как так?
— Я не хочу этого.
— Почему?
— Потому что, — ответил я, — оставить Луи Бонапарту жизнь после такого преступления значит отменить смертную казнь.
Мишель де Бурж был человек великодушный; он на минуту задумался — и пожал мне руку.
Преступление всегда дает повод действовать; выбор действий — за нами, и надо обратить его на пользу прогресса, а не жестокости.
Мишель де Бурж понял это. К слову сказать, этот эпизод показывает, как твердо мы надеялись.
Как будто все складывалось в нашу пользу; в действительности было не так. Сент-Арно получил приказания. Читатель увидит, в чем они состояли.
Происходили странные вещи.
Около полудня на площади Мадлен находился некий генерал верхом на коне; он обводил глазами свои войска, явно колебавшиеся, и сам, казалось, не знал, как быть. Подъехала карета; из нее вышла женщина и, подойдя к генералу, заговорила с ним вполголоса. Толпа видела ее. Депутат Реймон, живший на площади Мадлен в доме № 4, разглядел ее из своего окна. То была г-жа K. Генерал выслушал ее, наклонившись к луке седла, затем с подавленным видом, словно побежденный, махнул рукой. Г-жа К. снова села в карету. Говорили, что генерал без памяти влюблен в эту женщину. Смотря по тому, чем в ней пленялись, она могла вдохновить человека на героический подвиг или толкнуть его на преступление. В ее красоте было что-то таинственное. На белоснежном ангельском лице горели глаза злого духа.
Победили глаза.
Генерал уже не колебался. Он мрачно ринулся в преступную авантюру.
С полудня до двух часов дня в огромном городе, истомленном неизвестностью, царило тревожное ожидание. Все было спокойно — и все внушало ужас. Полки и батареи покидали предместья и бесшумно сосредоточивались вокруг бульваров. В рядах войск — ни единого возгласа. Солдаты шли «с добродушным видом» — говорит очевидец. На набережной Феронри, где с самого утра 2 декабря стояло несколько батальонов, теперь остался один-единственный караул муниципальной гвардии. Все — и народ и армия — стекалось к центру города. Молчание армии в конце концов передалось народу.
Противники следили друг за другом.
Солдаты получили трехдневный рацион и по шесть пачек патронов. Впоследствии стало известно, что в это время каждой бригаде отпускалось в день водки на десять тысяч франков.
Около часу дня Маньян отправился в ратушу; он приказал запрячь в его присутствии орудия резервного артиллерийского полка и ушел, только когда все батареи были приведены в боевую готовность.
Странные приготовления продолжались. Около полудня рабочие, присланные муниципалитетом, и больничные служители явились в дом № 2 на улице Фобур-Монмартр и устроили там нечто вроде большого походного лазарета; помещение загромоздили носилками.
— К чему все это? — спрашивала толпа.
Доктор Девиль, когда-то лечивший раненого Эспинаса, встретил его на бульваре и спросил: «До чего же вы дойдете?»
Эспинас дал ответ, достойный войти в историю. Он сказал: «До конца».
«До конца» — эти слова можно заменить другими: «До грязи».[26]
К двум часам дня пять бригад де Котта, Бургона, Канробера, Дюлака и Рейбеля, пять артиллерийских батарей, в общей сложности шестнадцать тысяч четыреста человек[27] пехоты и кавалерии, улан, кирасир, гренадеров, канониров выстроились эшелонами между улицей Мира и предместьем Пуассоньер. Все терялись в догадках о причинах этого сосредоточения войск. На всех перекрестках чернели наведенные пушки; на одном только бульваре Пуассоньер было выставлено одиннадцать орудий. Пехотинцы стояли с ружьями наготове, кавалеристы — с саблями наголо. Что все это означало? Зрелище было любопытное, на него стоило поглядеть, и с тротуаров, с порогов всех лавок, из всех этажей домов смотрела толпа, изумленная, насмешливая, доверчивая.
Но постепенно доверие стало ослабевать; насмешку вытеснило изумление, изумление сменилось замешательством. Те, что пережили эти необычайные минуты, никогда их не забудут. Было очевидно — за всем этим что-то кроется. Но что именно? Ответ таился во мраке. Вообразите себе Париж в темном подземелье. Людей давил низкий свод. Они были словно замурованы в нежданном и неведомом. Они чувствовали, что где-то действует некая таинственная воля. Но ведь в конце концов, говорили они себе, мы сильны; мы — республика, мы — Париж, мы — Франция; что же может нам угрожать? Ничто. И они кричали: «Долой Бонапарта!» Войска по-прежнему молчали, но сабли не вкладывались в ножны, и зажженные фитили пушек дымились на углах улиц. С каждой минутой туча становилась чернее, непроницаемее, безмолвнее. Эта густая мгла была трагична. В ней чуялось приближение катастрофы и присутствие злодея, в ней змеилось предательство; и никто не может оказать, где остановится страшный замысел, когда он скользит по наклонной плоскости событий.
Что мог породить этот мрак?
XVI Избиение
Вдруг распахнулось окно.
Окно в ад.
Если бы Данте, склонясь во мгле над Парижем, устремил туда взор, он увидел бы восьмой круг своей поэмы: покрытый мертвыми телами бульвар Монмартр.
Париж, ставший добычей Бонапарта! Чудовищное зрелище!
Жалкие вооруженные люди, собранные на этом бульваре, чувствовали, что в них вселился злой дух. Они перестали быть самими собой и превратились в демонов.
Французских солдат не стало; были какие-то призраки, при зловещем свете творившие страшное дело.
Не стало знамени, не стало закона, не стало человечности, не стало родины, не стало Франции; началось избиение.
Дивизия Шиндерганнеса, бригады Мандрена, Картуша, Пулайе, Трестальона и Тропмана вынырнули из мрака, поливая людей картечью, зверски их умерщвляя.
Нет, мы не виним французскую армию в том, что было содеяно во время этого позорного затмения чести.
История знает кровавые бойни — отвратительные, это бесспорно, но имевшие свои основания. Варфоломеевская ночь и драгоннады были вызваны религиозным фанатизмом, Сицилийская вечерня и сентябрьские убийства — опасностью, угрожавшей отечеству; истребляли врагов, уничтожали насильников-чужестранцев. Эти преступления как-никак можно объяснить. Но резня на бульваре Монмартр — преступление, содеянное по неизвестной причине.
Однако эта причина существует. Она ужасна.
Назовем ее.
У государства два устоя: закон и народ. Некий человек убил закон. Он сознает, что возмездие близко. Чтобы спасти себя, ему остается только одно — убить народ. Он убивает народ.
2 декабря он идет на риск. 4-го — бьет наверняка.
Нарастающему гневу он противопоставляет устрашение.
Эвменида Правосудие, окаменев от ужаса, останавливается перед фурией Истреблением. На Эриннию натравливают Медузу.
Обратить в бегство Немезиду — какое омерзительное торжество! Луи Бонапарту досталась эта слава, ставшая вершиной его позора.
Расскажем, как это произошло.
Расскажем то, чего еще не видела история: убийство целого народа одним человеком!
Внезапно, по условному знаку, — кто-то где-то выстрелил из ружья, — на толпу ринулась картечь; картечь в своем роде тоже толпа: это несметное множество смертей. Картечь не знает, ни куда она несется, ни что она творит; она убивает и мчится дальше.
Вместе с тем у нее есть подобие души; она разит с умыслом, она выполняет чью-то волю. Неописуемая минута! Словно сноп молний обрушился на народ. Это так просто! Точно, как математическая выкладка. Картечь опрокинула толпу. Зачем вы сюда пришли? Умрите! Быть прохожим — преступление. Почему вы на улице? Почему становитесь правительству поперек дороги? Правительство — шайка головорезов. Оно объявило свое решение — значит, это решение нужно выполнить. Нужно во что бы то ни стало закончить начатое. Раз уж занялись спасением общества, нужно истребить народ.
Ведь существует же общественная необходимость! Ведь она требует, чтобы Бевиль получал восемьдесят семь тысяч франков в год, а Флери — девяносто пять тысяч. Требует, чтобы епископу нансийскому Манжо, духовнику президента, выкладывали по триста сорок два франка в день. Чтобы Бассано и Камбасересу платили каждому по триста восемьдесят три франка в день, а Вайяну — четыреста шестьдесят восемь, а Сент-Арно — восемьсот двадцать два франка. Ведь должен же Луи Бонапарт получать семьдесят шесть тысяч семьсот двенадцать франков в день. Меньшим окладом императору никак не обойтись!
Во мгновение ока бойня на бульваре охватила пространство в четверть мили. Залпы одиннадцати орудий разрушили особняк Саландруз. Ядра изрешетили двадцать восемь домов. Бани Жуванс разбило снарядами; вдобавок, они были затоплены. Кафе Тортони превратилось в груду обломков. Весь обширный квартал огласился страшными воплями толпы, искавшей спасения в бегстве. Повсюду — внезапная смерть. Человек идет, ничего не опасаясь, — и падает, как подкошенный. Откуда пришла гибель? Свыше — говорят епископы, служа благодарственные молебны. Снизу — говорит истина.
Из той бездны, что ниже каторги, ниже ада.
Замысел Калигулы, осуществленный Папавуаном.
Ксавье Дюррье вышел на бульвар. Вот его подлинные слова: «Я сделал шестьдесят шагов; я видел шестьдесят трупов». Он повернул назад. Быть на улице — преступление; сидеть дома — тоже преступление. Злодеи врываются в дома и убивают людей. На гнусном жаргоне участников бойни это называется пришибить. Солдаты орут: «Пришибай всех!»
Книгопродавец Адд стоит на пороге своей лавки, на бульваре Пуассоньер № 17. Его убивают. В ту же минуту довольно далеко от бульвара Пуассоньер, — ведь бойня происходит на обширной территории, — владелец дома № 5 на улице Ланкри, Тирьон де Монтобан, стоит у своего подъезда; его убивают. По улице Тиктонн идет семилетний мальчик, его фамилия Бурсье; мальчика убивают. На улице Тампль № 196 мадмуазель Сулак открывает окно; ее убивают. В доме № 97 по той же улице две портнихи, г-жи Видаль и Рабуассон, сидят за шитьем в своих квартирах; их убивают. Краснодеревщик Бельваль находится у себя дома, на улице Люн № 10; его убивают. Купец Дебак, улица Сантье № 45, находится у себя дома; владелец цветочного магазина де Куверсель, улица Сен-Дени № 257, — у себя дома; ювелир Лабит, бульвар Сен-Мартен № 55, — у себя дома; парфюмер Монпела, улица Сен-Мартен № 181, — у себя дома; Монпела, Лабита, Куверселя и Дебака убивают. На улице Сен-Мартен в доме № 240 изрубили саблями в ее квартире мадмуазель Сеген, бедную вышивальщицу; так как ей нечем было платить врачу, ее отправили в больницу Божон, где она и умерла 1 января 1852 года, в тот самый день, когда Сибур служил торжественный молебен в соборе Парижской богоматери. Другую бедную швею, Франсуазу Ноэль, проживавшую на улице Фобур-Монмартр № 20, застрелили из ружья; она умерла в больнице Шарите. Экономку Ледо, проживавшую в Каирском проезде № 7, ранило картечью перед архиепископским дворцом; она умерла в морге. Мадмуазель Грессье, проживавшую в предместье Сен-Мартен № 209, тяжело ранило картечью на бульваре Монмартр; таких же случайных прохожих — госпожу Гилар, проживавшую на улице Фобур-Сен-Дени № 17, и госпожу Гарнье, проживавшую на бульваре Бон-Нувель № 6, — эта участь постигла на бульваре Сен-Дени. Они упали, пытались подняться, тотчас стали мишенями для солдат, хохотавших при виде их страданий, снова упали — и уже не поднялись. Не было недостатка и в воинских подвигах. Полковник Рошфор — в генералы его произвели, по-видимому, за это дело — во главе уланского полка лихо атаковал на улице Мира нянек с детьми и обратил их в бегство.
Таков был этот не поддающийся описанию поход. Все, что возглавляли его, были во власти темных сил; каждого из них подстрекало его преступное прошлое. За Эрбийоном стояла Заатча, за Сент-Арно — Кабилия, за Рено — аферы в деревнях Сент-Андре и Сент-Ипполит, за Эспинасом — Рим и штурм 30 июля, за Маньяном — его долги.
Нужно ли продолжать? Трудно решиться на это. Семидесятилетний доктор Пике был убит в своей гостиной, пуля попала ему в живот; художнику Жоливару всадили пулю в лоб, когда он, стоя перед мольбертом, писал картину; комки мозга прилипли к холсту. Англичанин, капитан Уильям Джесс, едва успел уклониться от пули, она пробила потолок над его головой. В книжной лавке, рядом с магазином под вывеской «Пророк», солдаты зарубили саблями владельца, его жену и дочерей. Другого книгопродавца, Лефийеля, расстреляли в его лавке на бульваре Пуассоньер; на улице Лепеллетье аптекаря Буайе, сидевшего за своим прилавком, уланы закололи пиками. Убивая направо и налево, какой-то капитан взял приступом кафе Гран-Балькон. В магазине Брандюса убили рассыльного. Силясь перекрыть вой картечи, Рей-бель кричал Саксу: «У меня тоже играет музыка». Кафе Леблон разгромили. Дом Билькока был настолько расшатан обстрелом, что на другой день пришлось укрепить его подпорками.
Перед домом Жувена лежала груда трупов, среди них старик с зонтиком в руке и молодой человек с лорнеткой. Кастильская гостиница, ресторан Мезон-Доре, магазин Птит-Жанет, Кафе де Пари, Английское кафе три часа подряд были мишенями для канонады. Дом Ракно рухнул под обстрелом. Пушечные ядра разнесли магазин «Монмартрский базар».
Спастись было невозможно: ружья и пистолеты стреляли в упор.
Близился новый год. В наспех сколоченных ларях торговали всем тем, что дарят детям на праздники. В проезде Сомон тринадцатилетний мальчик, спасаясь от ружейных залпов, спрятался в одном из этих ларей, под грудой игрушек; его вытащили оттуда и зарубили насмерть. Солдаты, смеясь, втыкали сабли в его раны. «Вопли несчастного мальчика разносились по всему проезду», — сказала мне одна женщина. Перед этим же ларем убили четырех мужчин. Офицер несколько раз подряд повторял им: «Это вас отучит шляться по улицам». Пятого, некоего Майере, убийцы сочли мертвым, но в нем еще теплилась жизнь. На другой день его доставили в больницу Шарите, где он и умер. Ему было нанесено одиннадцать ран.
Стреляли даже в подвалы — через отдушины. Некто Мулен, рабочий-кожевник, спрятавшийся в таком подвале, видел в отдушину, как прохожий, раненный пулей в бедро, сел, хрипя от боли, на мостовую и прислонился к стене лавки. Услыхав стон, солдаты тотчас подбежали и штыками прикончили несчастного.
Одна бригада убивала прохожих на участке между церковью св. Магдалины и Оперой, другая — между Оперой и театром Жимназ, третья — между бульваром Бон-Нувель и Порт-Сен-Дени. После того как 75-й линейный полк взял приступом построенную там баррикаду, бои у Порт-Сен-Дени прекратились; началось поголовное избиение. С бульвара резня лучами (страшное, но верное выражение!) расходилась по всем окрестным улицам. Спрут, вытянувший щупальцы. Бежать? Зачем? Прятаться? К чему? Смерть гналась за вами, и она была проворнее вас. На улице Пажвен солдат спрашивает прохожего: «Что вы тут делаете?» — «Иду домой». Солдат убивает прохожего. На улице Маре четырех юношей убивают во дворе дома, где они живут. Полковник Эспинас кричал: «После штыка — пушка!» Полковник Рошфор орал: «Режьте, колите, рубите! — и прибавлял: — Так и пороху меньше идет и шума меньше». Перед магазином Барбедьен какой-то офицер показывал товарищам свое нарезное ружье и хвастал: «Из него я с изумительной точностью попадаю между глаз». Затем он целился в первого встречного и действительно попадал без промаха. Избиение было чудовищное. В то время как войска, подчиненные Карреле, неистовствовали на бульваре, бригада Бургона опустошала улицу Тампль, бригада Марюлаза — улицу Рамбюто, дивизия Рено отличалась на левом берегу Сены. Рено был тот самый генерал, который под Маскарой подарил свои пистолеты Шаррасу. В 1848 году он сказал Шаррасу: «Нужно распространить революцию по всей Европе», на что Шаррас ответил: «К чему торопиться?» В июле 1851 года Луи Бонапарт назначил Рено дивизионным генералом. На улице Урс военщина особенно зверствовала. 4 декабря вечером Морни сказал Луи Бонапарту: «15-й полк легкой кавалерии заслужил хороший балл — он очистил улицу Урс!»
На углу улицы Сантье офицер батальона спаги орал, размахивая саблей: «Не так! Не так! Вы ни черта не понимаете! Стреляйте в женщин!» Какая-то женщина пыталась убежать; она была беременна, споткнулась, упала, удар прикладом вызвал у нее роды. Другая, обезумевшая от страха, хотела свернуть за угол, на руках у нее был младенец. Два солдата взяли ее на прицел. Один крикнул: «Снимем женщину!» — и убил женщину. Она упала, младенец скатился на мостовую. Другой солдат крикнул: «Снимем ребенка!» — и убил ребенка.
Человек весьма известный в научном мире, доктор Жермен Се, свидетельствует, что в шесть часов пополудни под одним только навесом во дворе дома, где помещаются бани Жуванс, лежало около восьмидесяти раненых, почти сплошь (по меньшей мере семьдесят из них) «старики, женщины и дети». Доктор Се оказал им первую помощь.
На улице Мандар, говорит очевидец, трупы лежали до самой улицы Нев-Сент-Эсташ, «словно зерна четок». Перед домом Одье — двадцать шесть трупов, перед особняком Монморанси — тридцать, перед театром Варьете — пятьдесят два, в том числе одиннадцать женщин. Три обнаженных трупа на улице Гранж-Бательер. Дом № 19 на улице Фобур-Монмартр был полон мертвых и раненых.
По улице Пуассоньер бежала женщина, объятая ужасом, растрепанная, с блуждающим взглядом. Воздевая руки к небу, она вопила: «Убивают! Убивают! Убивают! Убивают! Убивают!»
Солдаты держали между собой пари: «Ну-ка! Бьюсь об заклад, что я сниму вон этого!» Так был убит граф Понинский, возвращавшийся к себе домой на улицу Мира № 52.
Я решил доподлинно узнать, что происходит. Есть преступления, которые нужно видеть собственными глазами прежде чем говорить о них с уверенностью. Я пошел туда, где убивали.
В таком мучительном состоянии, под наплывом чувств, перестаешь думать, а если думаешь, то словно в бреду. Жаждешь только одного — конца, каков бы он ни был. Смерть окружающих приводит в такое отчаяние, что хочется умереть самому, только бы это принесло хоть какую-нибудь пользу! Вспоминаешь о смертях, вызвавших некогда ярость и восстания. Испытываешь одно желание: стать трупом, полезным для общего дела.
Я шел, охваченный гнетущими мыслями. Я спешил к бульварам. Там полыхал огонь, там грохотал гром.
Со мной поравнялся Жюль Симон, в эти страшные дни отважно ставивший на карту ценную для родины жизнь. Он остановил меня и спросил:
— Куда вы идете? Ведь вас убьют! Неужели вы этого хотите?
— Именно этого, — ответил я.
Мы обменялись рукопожатием. Я продолжал путь.
Я вышел на бульвар; описать его невозможно. Я видел это злодеяние, эту бойню, эту трагедию. Видел смертоносный ливень, хлеставший вслепую, видел, как вокруг меня, настигнутые пулями, падали обезумевшие от ужаса люди. Вот почему под этой книгой я подписываюсь: «Свидетель».
Судьба преследует свои цели. Таинственными путями охраняет она будущего летописца; она дозволяет ему присутствовать при избиениях и резне, но выводит его оттуда невредимым, дабы он мог рассказать о них.
Когда я под градом картечи переходил бульвар, мне, среди этого неописуемого грохота, повстречался Ксавье Дюррье.
— А, вот вы где! — воскликнул он. — Я только что мельком видел госпожу Д. Она вас разыскивает.
Г-жа Д. [28] и г-жа де Лар…, [29] две великодушные, смелые женщины, обещали моей жене, прикованной болезнью к постели, узнать, где я и что со мной.
Г-жа Д. отважно ринулась в самую гущу резни. С ней произошло следующее: на углу какой-то улицы она остановилась перед грудой трупов и имела мужество выразить возмущение; услыхав ее негодующий возглас, какой-то кавалерист бросился на нее с пистолетом в руке, и не окажись поблизости дверь, которую быстро приоткрыли изнутри и захлопнули за г-жой Д., — она неминуемо погибла бы.
Все знают, что общее число жертв страшной резни осталось неизвестным. Бонапарт утаил его. Так поступают те, что устраивают избиения. Они не дают истории подсчитать убитых. Эти цифры мелькают во мгле и быстро исчезают. Один из двух полковников, упоминавшихся на первых страницах этой книги, утверждал, что его полк перебил «по меньшей мере две тысячи пятьсот человек». По этому расчету на каждого солдата приходилось бы больше чем по одному убитому. Полагаем, этот ретивый полковник хватил через край. Иногда преступник из хвастовства сгущает краски.
Писатель Лире, которого схватили, чтобы расстрелять, и который спасся чудом, заявляет, что видел «свыше восьмисот трупов».
Около четырех часов пополудни дорожные кареты, стоявшие во дворе Елисейского дворца, были распряжены.
Это уничтожение, которое очевидец-англичанин, капитан Уильям Джесс, назвал «расстрелом потехи ради», длилось с двух часов до пяти. В течение этих трех страшных часов Луи Бонапарт выполнил свой замысел и закончил свое дело. До этого момента жалкая мещанская совесть была к нему довольно снисходительна. Ну что ж — Луи Бонапарт ведет крупную игру, на то он принц; ему удалось мошенничество государственного масштаба, грандиозная плутня; скептики и дельцы говорили: «Ловко он провел этих дураков».[30]
Но вдруг у Луи Бонапарта возникли кой-какие опасения, и ему пришлось сорвать маску со своей «политики»: «Передайте Сент-Арно, чтобы он исполнил мои приказания». Сент-Арно повиновался, переворот сделал то, что должен был сделать, следуя внутренним своим законам, и с этой страшной минуты кровь полилась рекой, обагряя преступление Луи Бонапарта.
Трупы оставили на мостовой; бледные лица убитых выражали недоумение и ужас, карманы были вывернуты. Солдат, превратившийся в убийцу, обречен следовать по этому мрачному пути. Утром он убивает, вечером грабит.
Настала ночь; в Елисейском дворце царили радость и ликование. Эти люди торжествовали. Конно простодушно рассказал некоторые сценки. Приближенные были вне себя от счастья. Фьялен обратился к Бонапарту на «ты». «Оставьте эту привычку», — шепнул ему Вьейяр. Действительно, кровавая бойня сделала Бонапарта императором. Теперь он стал «его величество». Пили, курили, как пили и курили, в это же время солдаты на бульварах; убивали: весь день, потом пьянствовали всю ночь. В Елисейском дворце восторгались тем, как все хорошо удалось. Вино смешалось с кровью. Все наперебой поздравляли и восхваляли принца. Какая блестящая мысль его осенила! Как молодецки он ее осуществил! Это получше, чем бежать через Дьепп, как д'Оссез, или через Мамброль, как Гернон-Ранвиль! Или быть арестованным в лакейской ливрее за чисткой башмачков г-жи де Сен-Фаржо, как бедняга Полиньяк! «Гизо оказался ничуть не ловчее Полиньяка!» — восклицал Персиньи. Флери сказал, обращаясь к Морни: «Вот уж вашим доктринерам никогда бы не устроить переворота». — «Верно, куда им! — согласился Морни, — а ведь все умные люди — Луи-Филипп, Гизо, Тьер…» Луи Бонапарт, вынув изо рта папиросу, прервал его: «Если умные люди таковы — я предпочитаю быть дураком…»
Кровожадным — добавляет история.[31]
XVII Встреча с рабочими ассоциациями
Что делал наш комитет в эти трагические часы? Что происходило с ним? Об этом необходимо рассказать.
Вернемся на несколько часов назад.
Когда началось неслыханное избиение, комитет еще заседал на улице Ришелье. Обойдя несколько восставших кварталов, которые я считал нужным посетить, я вернулся в комитет и стал рассказывать моим коллегам обо всем виденном. Мадье де Монжо, тоже побывавший на баррикадах, дополнял мой рассказ теми фактами, которые видел он. Уже некоторое время наши голоса заглушались близкими орудийными залпами. Вдруг вошел Версиньи; он сказал нам, что на бульварах творится нечто ужасное; еще нельзя разобрать, что именно происходит, но непрерывно палят из пушек и митральез, и мостовая сплошь усеяна трупами; судя по всему, говорил он, это поголовное избиение, своего рода Варфоломеевская ночь, учиненная переворотом: в соседних домах уже происходят обыски, там убивают всех поголовно. Изверги ходят из дома в дом и могут в любую минуту нагрянуть к нам. Версиньи убеждал нас немедленно покинуть дом Греви. Комитет восстания, конечно, был бы драгоценной находкой для штыков. Мы решили последовать совету Версиньи. Дюпон Уайт, благородный, талантливый человек, предложил нам укрыться у него, в доме № 11 по улице Монтабор. Мы вышли из дома Греви по черному ходу на улицу Фонтен-Мольер; шли не торопясь, по двое: Мадье де Монжо с Версиньи, Мишель де Бурж — с Карно. Я шел под руку с Жюлем Фавром; вид у него был бодрый и смелый, как всегда; он повязал себе рот фуляром, сказав: «Я согласен, чтобы меня расстреляли, но не желаю схватить насморк».
Пройдя улицу Мулен, мы вышли с ним к заднему фасаду церкви св. Роха; прилегающую к нему улицу наводнили люди, бросившиеся туда с бульваров; они не шли, а бежали. Мужчины громко переговаривались, женщины кричали. Слышался грохот пушек и пронзительный визг картечи. Лавки закрывались. Де Фаллу под руку с Альбером де Рессегье торопливо пробирались вдоль стен церкви св. Роха к улице Сент-Оноре.
Улица Сент-Оноре вся была в волнении. Люди сновали взад и вперед, останавливались, задавали встречным вопросы, бежали дальше. Стоя у приоткрытых дверей своих лавок, торговцы пытались расспрашивать прохожих, но ответом был только возглас: «О боже!» Жители впопыхах, без шапок, выбегали из домов и смешивались с толпой. Моросил мелкий дождик. Нигде ни одного фиакра. На углу улиц Сен-Pox и Сент-Оноре мы услышали, как позади нас кто-то сказал: «Виктор Гюго убит!» — «Нет еще», — отозвался, по-прежнему улыбаясь, Жюль Фавр, и сжал мою руку. То же самое слыхали накануне Эскирос и Мадье де Монжо, и этот слух, столь приятный для реакционеров, дошел до обоих моих сыновей, заключенных в Консьержери.
Поток прохожих, оттесненных от бульваров и улицы Ришелье, хлынул к улице Мира. Мы узнали среди них нескольких депутатов правой, арестованных накануне и уже выпущенных на свободу. Бюффе, бывший министр Бонапарта, в сопровождении нескольких других членов Собрания шел в направлении Пале-Рояля. В ту минуту, когда Бюффе поравнялся с нами, он с омерзением произносил имя Луи Бонапарта.
Бюффе — лицо влиятельное. Это один из трех политических мудрецов правой; два других — Фульд и Моле.
На улице Монтабор, в двух шагах от улицы Сент-Оноре — тихо и спокойно. Ни одного прохожего, ни одной открытой двери, никто не выглядывает из окон.
В квартире на четвертом этаже, куда нас ввели, царила такая же тишина. Окна выходили во внутренний двор. Перед камином стояло пять-шесть кресел с красной обивкой, на стопе лежало несколько книг; кажется, это были труды по административному праву и политической экономии. Депутаты, толпой, с шумом явившиеся вслед за нами, беспорядочно разбросали по всем углам этой мирной гостиной свои зонтики и плащи, с которых стекала вода. Никто не знал толком, что происходит; каждый высказывал свои догадки.
Не успел комитет разместиться в смежном с гостиной кабинете, как нам сообщили о приходе нашего бывшего коллеги Леблона. Он привел с собой делегата рабочих ассоциаций Кинга. Делегат сообщил, что его послали к нам комитеты рабочих ассоциаций, заседающие непрерывно. Следуя инструкциям, полученным от Комитета восстания, рабочие ассоциации делали все от них зависевшее, чтобы избегать решительных столкновений и таким образом продлить борьбу. Большинство ассоциаций еще не выступило. Между тем положение определялось. Все утро происходили ожесточенные схватки. Члены Общества прав человека вышли на улицу; бывший член Учредительного собрания Беле собрал в Каирском проезде шестьсот или даже семьсот рабочих из квартала Маре и сосредоточил их в окрестностях банка. Можно было предполагать, что вечером будут построены новые баррикады; сопротивление быстро развивалось; решающая схватка, которую комитет хотел отсрочить, казалось, вот-вот начнется. События с неудержимой силой неслись вперед. Что делать — примкнуть к движению или остановиться? Попытаться ли решить исход борьбы одним ударом, который неминуемо будет последним и скажется роковым либо для империи, либо для республики? Рабочие ассоциации просили у нас указаний; они все еще держали в резерве три-четыре тысячи борцов и могли, в зависимости от решения комитета, либо и дальше удерживать их от выступления, либо тотчас послать в бой. Ассоциации считали, что вполне могут положиться на своих членов; они поручили Кингу передать нам, что поступят так, как мы им укажем, но в то же время не скрывали от нас, что рабочие рвутся в бой и что дать им остыть было бы рискованно.
Большинство членов комитета все еще стояли за некоторое замедление действий, надеясь таким образом затянуть борьбу. Их доводы трудно было опровергнуть. Было совершенно очевидно: если только удастся продлить до следующей недели положение вещей, созданное в Париже переворотом, Луи Бонапарт погиб. Париж не допустит, чтобы в течение целой недели его попирала армия. Однако у меня возникли следующие соображения: рабочие ассоциации предлагали нам три, если не четыре тысячи борцов — мощную подмогу; рабочий мало смыслит в стратегии, он подчиняется первому порыву чувств; проволочки приводят его в уныние; его пыл не угасает, но охладевает; сегодня — энтузиастов три тысячи; наберется ли их завтра пятьсот? Кроме того, на бульваре, видимо, произошло нечто весьма важное — что именно, мы еще не знали. Какие последствия повлечет за собой то, что случилось, — мы не могли угадать; во всяком случае это еще неведомое нам, но грозное событие неминуемо должно было изменить положение вещей, а следовательно, повлиять и на наш план действий. Я взял слово и изложил эти мысли. Я сказал, что нужно принять предложение ассоциаций и немедленно двинуть их в бой; я прибавил, что революционная война зачастую требует быстрых изменений тактики; в открытом поле, лицом к лицу с неприятелем, полководец действует так, как он хочет. Ему ясно все, что его окружает. Он точно знает наличный состав своей армии, число солдат, число полков; знает, сколько у него людей, лошадей, пушек, знает свою силу и силу неприятеля, сам выбирает время и место сражения; у него перед глазами карта, он видит, что делает. Он уверен в своем резерве, он бережет его, он введет его в бой, когда сочтет это нужным; резерв всегда у него под рукой.
— Но мы, — восклицал я, — находимся в совершенно ином положении. Нас окружает неизвестное и неуловимое. Мы бредем наудачу посреди всевозможных случайностей. Кто против нас? Это более или менее ясно. Но кто с нами? Этого мы не знаем. Сколько у нас солдат? Сколько ружей? Сколько патронов? Неизвестно; сплошной мрак. Быть может, с нами весь народ, быть может — никто. Оставить резерв? А кто нам поручится за него? Сегодня это целая армия, завтра — горсть праха. Мы явственно видим только свой долг; все остальное окутано мглой. Мы можем предполагать все, что угодно, но мы не знаем ничего. Мы сражаемся вслепую! Так нанесем же все удары, какие мы в силах нанести, пойдем прямо вперед, ринемся навстречу опасности! Будем верить в успех, ибо мы воплощаем собой правосудие, воплощаем собой закон, и посреди этого мрака бог будет с нами! Решимся на это прекрасное трудное дело — борьбу за право, разоруженное и все же сражающееся!
Опрошенные комитетом член Учредительного собрания Леблон и делегат Кинг присоединились к моему мнению. Комитет постановил от имени нас всех предложить ассоциациям немедленно выступить и бросить в бой все свои силы. «Но мы ничего не оставляем; про запас на завтрашний день, — возразил один из членов комитета. — Кто будет нашим союзником завтра?» — «Победа», — ответил Жюль Фавр.
Карно и Мишель де Бурж заявили, что будет полезно, если члены ассоциаций, состоящие в Национальной гвардии, наденут свои мундиры. Это предложение было принято.
Делегат ассоциаций Кинг встал со своего места.
— Граждане депутаты, — сказал он, — ваши приказания немедленно будут переданы; наши друзья готовы, через несколько часов они будут в сборе. Итак, сегодня ночью — все в бой, на баррикады!
Я спросил его:
— Считаете ли вы полезным для дела, чтобы этой ночью среди вас был депутат, член комитета, опоясанный трехцветной перевязью?
— Конечно, — ответил он.
— Так вот — я здесь! Располагайте мною! — сказал я
— Мы все пойдем! — подхватил Жюль Фавр.
Достаточно, заявил делегат, если один из нас будет на месте в тот момент, когда ассоциации выступят, затем будут оповещены остальные члены комитета, они присоединятся к первому. Мы условились, что как только ассоциации назначат места предварительных встреч и сборные пункты, Кинг пошлет кого-нибудь известить меня и провести туда, где соберутся члены ассоциаций.
— Меньше чем через час я смогу вам кое-что сообщить, — сказал он, прощаясь со мной.
Не успели делегаты уйти, как явился Матье (от Дромы). Весь бледный, он остановился на пороге и крикнул нам:
— Вы уже не в Париже, у вас уже нет республики. Вы в Неаполе, при короле Бомбе.
Он пришел с бульвара.
Позднее я снова встретился с Матье. Я сказал ему;
— Он хуже короля Бомбы; он — Сатана.
XVIII Непреложность нравственных законов
Избиение на бульваре Монмартр придает декабрьскому перевороту некоторую оригинальность. Без этой кровавой бойни Второе декабря было бы всего лишь повторением Восемнадцатого брюмера. Резня спасла Луи Бонапарта от плагиата.
До этого он был только подражателем. Булонская треуголка, серый походный сюртук, прирученный орел — все это казалось карикатурным. Люди говорили: «Что за нелепая пародия!» Он вызывал смех; внезапно он вызвал трепет.
Гнусность — вот выход из положения для тех, кто смешон.
Он довел гнусность до предела.
Он завидовал размаху великих преступлений и решил совершить нечто, равное наихудшим из них. Это стремление к чудовищному дает ему право на особое место в зверинце тиранов. Жульничество, силящееся стать вровень со злодейством, маленький Нерон, надувающийся до размеров огромного Ласенера, — таков этот феномен. Искусство для искусства, убийство ради убийства.
Луи Бонапарт создал новый жанр.
Так Луи Бонапарт вступил в область неожиданного. Он вполне проявил себя.
Бывают умы, подобные бездне. Очевидно, Бонапарт давно уже носил в себе эту мысль — убить, чтобы властвовать. Однажды зародившись, страшный замысел завладевает преступником; с этого начинается его злодеяние. Преступление долго живет в нем, расплывчатое, туманное, едва осознанное; души чернеют постепенно. Такие чудовищные дела не могут быть импровизацией; они возникают не вдруг, не сразу; смутные, едва намеченные, они долго развиваются и зреют; круг идей, в котором они всходят, поддерживает в них жизнь; они всегда наготове для подходящего случая, и от них веет ужасом. Мы подчеркиваем — мысль учинить резню, чтобы взойти на престол, с давних пор угнездилась в уме Луи Бонапарта. Его душа допустила ее. Эта мысль копошилась там, как личинка в аквариуме, сливаясь с темными желаниями, сомнениями, хитросплетениями, с неясным образом какого-то небывалого кесарского социализма, мелькавшим там порою, словно гидра в просвете хаоса. Луи Бонапарт и сам вряд ли знал, что эта уродливая мысль живет в нем. Когда возникла надобность в ней, он нашел ее во всеоружии, готовую служить ему. Она созрела в темных недрах его мозга. Пучина таит в себе чудовища.
До страшного дня 4 декабря Луи Бонапарт, возможно, сам еще не знал себя по-настоящему. Те, кто изучал эту любопытную личность, метившую в императоры, не усматривали в ней признаков дикой, бесцельной кровожадности. Луи Бонапарт казался каким-то двойственным существом, сочетавшим ловкость шулера с мечтой об империи; человеком, который, даже став венценосцем, остался бы плутом, который совершил бы отцеубийство так, что люди воскликнули бы: «Какое жульничество!» Полагали, что он ни в чем не сумеет достичь вершины, хотя бы даже вершины позора, а застрянет посередине, повыше мелких мошенников, пониже крупных злодеев. Его считали способным на все, что делают в игорных домах и воровских притонах, только навыворот: в воровском притоне он был бы шулером, а в игорном доме — убийцей.
Резня на бульваре внезапно обнажила перед всеми эту душу; ее увидели такой, какая она была на самом деле. Смешные прозвища — Горлопан, Баденге — исчезли; увидели бандита, увидели подлинного Контрафатто, скрывавшегося под личиной Бонапарта.
Все содрогнулись. Так вот что таил в себе этот человек!
Пытались найти для него оправдание. Эти попытки были обречены на неуспех. Восхвалять Луи Бонапарта нетрудно, ведь восхваляли же Дюпена; но обелить его — дело весьма мудреное. Как быть с 4 декабря, как справиться с этим затруднением? Оправдывать — сложнее, чем воспевать. Труднее действовать губкой, нежели кадилом; панегиристы переворота усердствовали понапрасну. Как это ни печально, сама г-жа Санд эта возвышенная душа, пыталась реабилитировать Луи Бонапарта; но, как бы ни старались, эту цифру — число убитых — смыть нельзя.
Нет! Нет! Здесь ничего нельзя смягчить! Злосчастный Бонапарт! Кровь нацежена, придется ее выпить!
Событие 4 декабря — самый жестокий удар, когда-либо нанесенный — скажем прямо, не одному народу, нет: всему человечеству — озверелым разбойником, с ножом в руке ринувшимся на цивилизацию. Удар был ужасен и сразил Париж. Сразить Париж — значит сразить совесть, разум, свободу человечества. Это значит, что все, достигнутое людьми за многие века, повержено в прах, что светильник правосудия, истины и жизни опрокинут и погашен. Все это совершил Луи Бонапарт в тот день, когда он учинил резню.
Успех негодяя был полным. Второе декабря было проиграно. Четвертое декабря стало спасением для Второго декабря. Герострат, спасающий Иуду. Париж понял, что ужасы еще не исчерпаны и что в поработителе живет убийца. Вот что происходит, когда мошенник крадет порфиру кесаря. Этот человек был ничтожен, что и говорить; но он был страшен. Париж покорился страху, отказался от борьбы, лег наземь и прикинулся мертвым. Удушливым смрадом веет от этих событий. Это преступление не имеет себе равных. Тот, кто по прошествии многих веков, будь он даже Эсхил или Тацит, приподнимет над ним крышку — ощутит зловоние. Париж покорился, Париж отрекся от власти, Париж сдался; в самой неслыханности преступления была его сила; Париж почти что перестал быть Парижем; на другое утро во мраке было слышно, как усмиренный титан стучал зубами от ужаса.
Повторим еще раз — нравственные законы непреложны; даже после 4 декабря Луи Бонапарт остался Наполеоном Малым. Совершив огромное преступление, он от этого не перестал быть карликом. Размеры преступления не прибавляют роста преступнику. Пусть убитых несметное множество — убийца остается все столь же ничтожным.
Как бы там ни было, пигмей одолел колосса; унизительное признание, но от него не уйти.
Вот какой позор становится уделом истории, уже много раз бесчестившей себя.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДА
I Ночные события. Улица Тиктонн
Едва Матье произнес слова: «Вы при короле Бомбе», как вошел Шарль Гамбон. В изнеможении опустившись на стул, он прошептал: «Какой ужас!» Следом за ним явился Бансель. Он сказал: «Мы прямо оттуда». Тамбову удалось укрыться в какой-то подворотне. Перед одним только магазином Барбедьена он насчитал тридцать семь трупов. Но что же все это означало? Какую цель преследовало чудовищное повальное истребление? Этого никто не понимал. В резне таилась загадка.
Мы находились в пещере сфинкса.
Явился Лабрус. Нужно было уходить, так как полиция готовилась оцепить дом Дюпона Уайта. С каждой минутой на обычно пустынной улице Монтабор появлялось все больше подозрительных личностей. Какие-то люди внимательно наблюдали за домом № 11. Некоторые из них, по-видимому, сговаривались между собою — это были члены бывшего «Клуба клубов», поддерживавшего благодаря стараниям реакции связь с полицией. Нужно было разойтись как можно скорее. Лабрус сказал нам: «Я только что видел Лонжепье, он бродит поблизости».
Мы расстались. Ушли поодиночке, в разные стороны. Мы не знали, где встретимся снова, да и встретимся ли вообще. Что ожидает, что постигнет всех нас? Этого никто не мог сказать. Все вокруг дышало ужасом.
Я поспешил на бульвары. Я хотел своими глазами увидеть, что происходит.
Я уже рассказал читателю об этих событиях.
Ко мне присоединились Бансель и Версиньи.
Когда, увлеченный людским потоком, в ужасе хлынувшим с бульваров, я снова почти машинально направился к центру города, чей-то голос торопливо шепнул мне на ухо: «Я должен кое-что вам показать». Я узнал этот голос. Со мной говорил Э. П.
Э. П. — драматург, талантливый человек, которого я при Луи-Филиппе избавил от военной службы. Я не встречал его уже лет пять, а теперь столкнулся с ним в этом водовороте. Он говорил со мной так, будто мы виделись вчера. Это — следствие общего смятения. Людям уже не до светских приличий. Разговаривают друг с другом без церемоний, словно во время повального бегства.
Я тотчас отозвался:
— А, это вы? Что вам угодно?
Э. П. ответил:
— Я живу совсем близко, — и прибавил: — Идемте!
Он увлек меня в темную улицу. Где-то стреляли. В конце улицы чернели обломки баррикады.
Я уже упоминал, что со мной были Версиньи и Бансель. Обратясь к ним, Э. П. сказал:
— Пойдемте с нами, господа.
— Что это за улица? — спросил я.
— Улица Тиктонн. Идемте.
Я рассказал этот трагический эпизод в другом месте.[32]
Э. П. остановился перед высоким мрачным домом;
Он открыл незапертую входную дверь, потом другую, и мы вошли в просторную низкую комнату, где горела лампа и было очень тихо.
По-видимому, эта комната прилегала к лавке. В глубине белели две кровати, большая и маленькая, стоявшие рядом; над маленькой висел портрет женщины, а над портретом — веточка освященного букса.
Лампа стояла на камине, в котором едва тлел огонь. Подле лампы на стуле сидела старуха. Подавшись вперед, сгорбившись, как будто ее сломали пополам, она держала на руках что-то, скрытое тенью. Я подошел ближе; на руках у нее был мертвый ребенок.
Несчастная тихо всхлипывала.
Э. П., по-видимому знавший эту семью, слегка коснулся ее плеча и сказал:
— Дайте взглянуть.
Старуха подняла голову, и я увидел на коленях у нее хорошенького мальчика, бледного, полураздетого. На лбу у него алели две раны.
Старуха посмотрела на меня невидящими глазами; говоря сама с собой, она пробормотала:
— Подумать только — сегодня утром он говорил мне «бабушка»!
Э. П. тронул ручку ребенка; она бессильно повисла.
— Семь лет, — сказал мне Э. П.
На полу стоял таз с водой, ребенку обмыли личико; из отверстий на лбу двумя тоненькими струйками сочилась кровь.
В глубине комнаты, возле шкафа, сквозь полуоткрытые дверцы которого виднелось белье, стояла женщина лет сорока, бедно, но опрятно одетая, с красивым строгим лицом.
— Это соседка, — шепнул мне Э. П.
Он объяснил, что в доме живет врач и что врач, осмотрев ребенка, сказал: «Ничего нельзя сделать». Ребенка ранило двумя пулями в голову, когда он перебегал улицу, «чтобы где-нибудь укрыться». Его принесли домой, к бабушке, у которой «он один на свете».
Портрет, висевший над кроваткой, изображал его покойную мать.
Глаза ребенка были полуоткрыты. Они смотрели таинственным взглядом мертвецов, переставших видеть реальный мир и созерцающих бесконечность. Время от времени старуха сквозь всхлипывания восклицала:
— И господь допускает такое! Мыслимое ли это дело! Ах, разбойники!
Вдруг она крикнула:
— Так вот оно какое, правительство!
— Да, — ответил я.
Тем временем мы раздели ребенка. В кармане у него был волчок. Головка никла то на одно, то на другое плечо. Я поддержал ее и поцеловал мальчика в лоб. Версиньи и Бансель сняли с него чулки. Бабушка встрепенулась.
— Не сделайте ему больно, — попросила она и, обхватив старческими руками окоченевшие белые ножонки, пыталась отогреть их.
Когда мы обнажили жалкое маленькое тельце, пришлось подумать о саване. Из шкафа вынули простыню.
Тут бабушка заплакала навзрыд. Она кричала: «Верните мне его!» Она выпрямилась и вдруг, обведя нас взглядом, стала говорить грозные слова, путая в своей бессвязной речи Бонапарта, и бога, и внука, и школу, куда он ходил, и свою умершую дочь и горько упрекая нас. Обезумевшая, вся бледная, с блуждающими глазами, она больше, чем мертвое дитя, походила на призрак.
Потом она опять закрыла лицо руками, низко склонилась над ребенком и зарыдала горше прежнего.
Женщина со строгим лицом подошла ко мне и, не проронив ни слова, платком вытерла мне рот. На губах у меня была кровь.
Увы — что можно было сделать? Мы вышли подавленные.
II Ночные события. Квартал Центрального рынка
Я направился на улицу Ришелье, № 19, в свое убежище.
Я хотел было постучаться, но раздумал; у двери стоял человек, очевидно поджидавший кого-то. Я подошел к нему вплотную и спросил:
— Мне кажется, вы кого-то ждете?
— Да.
— Кого именно?
— Вас.
Понизив голос, он прибавил:
— Мне нужно поговорить с вами.
Я пристально взглянул на незнакомца; свет газового фонаря падал на его лицо, и он не пытался укрыться в тени.
То был молодой белокурый человек с бородкой, одетый в синюю блузу. У него было кроткое лицо мыслителя и сильные руки рабочего.
— Кто вы? — спросил я его.
Он вполголоса ответил:
— Я из ассоциации литейщиков. Я хорошо знаю вас, гражданин Виктор Гюго.
Тут я спросил:
— Кто вас направил ко мне?
Он все так же тихо ответил:
— Гражданин Кинг.
— Хорошо, — сказал я.
Неизвестный назвал себя. Он пережил события ночи с 4 на 5 декабря и впоследствии благополучно избежал доносов; отсюда понятно, что я не раскрою здесь его имени и буду в дальнейшем называть его по его профессии, литейщиком.[33]
Он объяснил, что положение отнюдь не безнадежно, что он и его друзья намерены продолжать сопротивление, что места, где должны встретиться представители ассоциаций, еще не определены окончательно, но что этот вопрос решится сегодня же вечером; мое присутствие, прибавил он, очень желательно, и если я согласен прийти к девяти часам под арку Кольбера, он или кто-нибудь другой из членов ассоциаций встретит меня и проводит, куда нужно. Мы условились, что во избежание ошибки посланец, подойдя ко мне, произнесет наш пароль: «Что поделывает Жозеф?»
Возможно, ему показалось, что во мне шевельнулось сомнение или что я ему не доверяю. Прервав свою речь, он сказал:
— В самом деле, вы не обязаны верить мне на слово. Обо всем не подумаешь, мне следовало взять записку к вам. В такие дни не доверяешь никому.
— Напротив, — возразил я, — доверяешь всем. Я буду в девять часов под аркой Кольбера.
Мы расстались.
Я вошел в свое убежище. Усталый, голодный, я бросился в кресло, съел кусок хлеба и шоколад Шарамоля и заснул тяжелым сном, полным мрачных видений. Мне мерещился мертвый ребенок с двумя ярко-красными ранами на лбу, обратившимися в две пасти; одна говорила: «Морни», другая — «Сент-Арно». Но историю пишут не для того, чтобы рассказывать сны. Я проснулся, будто от внезапного толчка. Неужели сейчас больше девяти? Я забыл завести свои часы, они остановились. Я торопливо вышел из дому. Улица была безлюдна, все лавки заперты. На площади Лувуа я услыхал бой часов (вероятно, Библиотеки). Напряженно прислушиваясь, я насчитал девять ударов. Я ускорил шаг, мигом дошел до арки Кольбера и стал вглядываться в темноту. Под аркой — никого.
Я сообразил, что стоять здесь с видом человека, поджидающего кого-то, невозможно; вблизи арки Кольбера полицейский участок, патрули проходили поминутно. Я пошел дальше по улице. Там никого не оказалось. Я дошел до улицы Вивьен. На углу какой-то человек, стоя перед плакатом, старался разорвать или отодрать его. Я подошел к нему; он, по-видимому, принял меня за полицейского и опрометью бросился бежать. Я повернул назад к арке Кольбера. Когда я дошел до того места улицы Вивьен, где обычно вывешивают театральные афиши, со мной поравнялся какой-то рабочий и скороговоркой тихо спросил меня: «Что поделывает Жозеф?»
Я узнал литейщика.
— Идемте, — сказал он мне.
Мы пустились в путь, ни слова не говоря друг другу, притворяясь, будто мы незнакомы; он шагал впереди, я следовал на некотором расстоянии.
Сначала мы пошли по двум адресам, привести которые здесь значило бы обречь людей на изгнание. В обоих домах — полное неведение, никаких указаний. Никто не являлся туда от имени ассоциаций.
— Пойдемте по третьему адресу, — сказал литейщик.
Он объяснил мне, что ассоциации наметили для встречи три дома; таким образом, если бы полиция открыла первое и даже второе условленное место, они все же могли быть уверены, что совещание состоится. Мы тоже всегда старались соблюдать эту предосторожность, когда дело шло о заседаниях членов левой и комитета.
Мы находились в квартале Центрального рынка. Там весь день шли бои. На улицах не осталось ни одного фонаря. Время от времени мы останавливались и прислушивались, чтобы не наткнуться на патруль. Перешагнув через дощатую загородку, почти совершенно разрушенную — доски, по-видимому, были взяты для постройки баррикад, — мы пошли по обширному участку, покрытому развалинами домов, недавно снесенных в самом конце улиц Монмартр и Монторгейль. На полуразрушенных старинных фронтонах, сиротливо черневших там и сям, играли красноватые блики — должно быть, отсветы бивачных огней полков, расположенных у рынка и вблизи церкви св. Евстахия; эти блики освещали нам путь. Но все же литейщик едва не провалился в глубокую яму, оказавшуюся подвалом снесенного дома.
Выбравшись из развалин, среди которых там и сям попадались деревья, остатки исчезнувших садов, мы попали в узкие, кривые, совершенно темные переулки, где, казалось, невозможно было найти дорогу. Но литейщик шагал уверенно, словно среди бела дня; у него был вид человека, идущего прямо к цели. Один только раз он на ходу обернулся ко мне и сказал:
— Весь квартал покрыт баррикадами. И если, как я твердо надеюсь, наши друзья явятся сюда, — я вам ручаюсь, здесь мы долго продержимся.
Вдруг он остановился со словами:
— А вот и баррикада.
Действительно, перед нами, шагах в семи-восьми, чернела баррикада, сложенная из булыжников; она была не выше человеческого роста; во мраке ее можно было принять за полуразвалившуюся стену. С одного края был оставлен узкий проход. Мы пробрались сквозь него. За баррикадой не было ни души.
— Здесь сегодня уже шел бой, — шепнул мне литейщик и, помолчав, прибавил: — Теперь совсем близко…
На развороченной мостовой образовались выбоины, которые нужно было обходить. Мы перескакивали через них, иногда прыгали с камня на камень. Как бы тьма ни была густа, в ней всегда мерцает какой-то тусклый свет; осторожно пробираясь вперед, мы различили на земле, подле тротуара, нечто, похожее на распростертое тело.
— Черт возьми! — пробормотал мой спутник. — Мы чуть не наступили на кого-то.
Вынув из кармана восковую спичку, он потер ее о свой рукав; вспыхнул огонек. Свет упал на иссиня-бледное лицо, остекленелые глаза смотрели на нас. То был труп старика; литейщик быстро осветил его, обведя спичкой с головы до ног. Мертвец лежал, широко раскинув руки, словно распятый. Седые, на кончиках окровавленные волосы прилипли к грязи мостовой; тело лежало в луже крови; большое темное пятно на фуфайке указывало место, где пуля пробила грудь; одна подтяжка отстегнулась; на ногах были грубые шнурованные башмаки.
Литейщик приподнял руку убитого и сказал: «У него сломана ключица». От этого движения голова качнулась и раскрытый рот обратился в нашу сторону. Казалось, мертвец вот-вот заговорит с нами. Я смотрел на это видение, я даже стал прислушиваться… вдруг оно исчезло.
Мертвеца снова поглотил мрак; спичка потухла.
Мы молча продолжали путь. Шагов через двадцать литейщик, словно говоря сам с собой, молвил вполголоса: «Кто бы это мог быть?»
Мы шли и шли. От подвалов до крыш, от нижних этажей до мансард — нигде ни проблеска света. Казалось, мы блуждали в огромной могиле.
Вдруг из мрака нас окликнул сильный, смелый, звонкий голос:
— Кто идет?
— А! Вот они где! — воскликнул литейщик и начал свистать на какой-то особый лад.
— Сюда! — крикнул тот же голос.
Перед нами снова оказалась баррикада, отстоявшая от первой шагов на сто; она была немного выше и, насколько я мог различить, сложена из бочек, наполненных булыжниками. На гребне баррикады, между бочками, торчали колеса какой-то повозки; местами виднелись доски и балки. Сбоку был оставлен проход, еще более узкий, чем в первой баррикаде.
— Граждане, — спросил литейщик, углубляясь в проход, — сколько вас здесь?
Голос, окликнувший нас, ответил:
— Двое.
— И больше никого?
— Никого.
Действительно, их было двое; и вдвоем, во мраке, на этой пустынной улице, за грудой камней, они ожидали натиска целого полка.
Оба в блузах; оба рабочие; несколько патронов в кармане, ружье на плече.
— Значит, — с оттенком нетерпения в голосе продолжал литейщик, — наши друзья еще не пришли?
— Ну что ж, — сказал я, — подождем их.
Литейщик заговорил вполголоса с одним из защитников баррикады; по всей вероятности, он назвал ему мое имя; тот подошел, поздоровался и сказал:
— Гражданин депутат, скоро здесь будет жарко.
— Пока что, — ответил я смеясь, — здесь холодно.
Действительно, было холодно. Мостовая позади баррикады сплошь была разобрана, и улица превратилась в клоаку; вода доходила до щиколоток.
— Я вам говорю: будет жарко, — настаивал рабочий, — и вы хорошо сделаете, если уйдете подальше.
Литейщик положил руку ему на плечо и заявил:
— Товарищ, мы должны остаться здесь; встреча назначена совсем близко отсюда, в походном лазарете.
— Все равно, — упорствовал его собеседник; он был очень маленького роста и стоял на камне. — Гражданин депутат хорошо сделает, если уйдет подальше.
— Разве я не могу быть там, где вы? — возразил я.
Улица тонула во мраке, не видно было даже неба; с внутренней стороны баррикады, налево от прохода, чернел высокий дощатый забор, сквозь щели которого кое-где мерцал слабый свет. Позади забора врезался в темную высь шести- или семиэтажный дом; весь нижний этаж его ремонтировался и сплошь был загорожен этим забором. Полоска света, пробиваясь между досками, падала на противоположную стену и освещала выцветшую, изодранную афишу, на которой значилось: «Аньер. Гонки на воде. Большой бал».
— Найдется у вас еще ружье? — спросил литейщик того из рабочих, который был повыше ростом.
— Будь у нас три ружья, нас было бы трое, — ответил рабочий.
Низкорослый прибавил:
— Неужели вы думаете, что у нас нет желающих драться? Музыканты нашлись бы, да кларнетов не хватает.
Рядом с дощатым забором была узкая низенькая дверь, больше напоминавшая вход в жалкую лавчонку, чем в настоящий магазин. Окна лавки, куда вела эта дверь, были наглухо закрыты ставнями. Дверь тоже казалась запертой. Литейщик подошел и легонько толкнул ее. Она поддалась.
— Войдем, — сказал он мне.
Я вошел первый, он последовал за мной и тотчас плотно закрыл дверь. Мы находились в просторной комнате с низким потолком. Там было темно. Только из приотворенной двери, находившейся в глубине комнаты, слева от нас, тянулась полоска света. В полумраке мы смутно различали прилавок и печь, выкрашенную черной и белок краской.
Откуда-то, очевидно из соседней комнаты, где мерцал свет, доносилось сдавленное, глухое, прерывистое хрипенье. Литейщик быстро направился к приотворенной двери. Я последовал за ним, и мы вошли в какое-то убогое обширное помещение, где тускло горела сальная свеча. Теперь мы находились по ту сторону дощатого забора; только этот забор отделял нас от баррикады.
Убогое помещение находилось в том нижнем этаже, который ремонтировался. В правильных промежутках стояли железные столбы, выкрашенные в красный цвет и вделанные в каменные подножия кубической формы; они подпирали балки потолка. Спереди, против самой середины дощатого забора, огромный сруб поддерживал главную поперечную балку второго этажа, иначе говоря — нес на себе тяжесть всего дома. В углу лежали инструменты каменщиков, груда отбитой штукатурки и большая стремянка. Там и сям — стулья с соломенными сиденьями. Вместо пола — сырая земля. Рядом со столом, на котором стояли аптечные склянки и сальная свеча, старуха и девочка лет восьми щипали корпию. Старуха сидела на стуле, девочка — просто на корточках; перед ними стояла большая корзина, доверху набитая тряпьем. В глубине помещения царил полумрак; там, поодаль от стола, была навалена солома, на ней лежали три тюфяка. Хрипенье доносилось оттуда.
— Это и есть наш лазарет, — сказал мне литейщик.
Старуха повернула голову и, заметив нас, вздрогнула; но, увидев блузу литейщика, она успокоилась, встала и подошла к нам.
Литейщик шепнул ей несколько слов на ухо. Она ответила:
— Я никого не видела. — Помолчав, она сказала: — Но меня беспокоит, что муж еще не вернулся. Весь вечер не переставая стреляли из ружей.
На двух тюфяках, поодаль от стола, лежали двое раненых. Третий тюфяк был свободен и ожидал.
Раненому, лежавшему ближе ко мне, картечная пуля попала в живот. Это он хрипел. Старуха подошла к нему со свечой в руке и шепотом сказала нам:
— Если б только вы видели, какая у него рана! Мы напихали ему туда вот сколько корпии, — она указала на свой кулак.
Она продолжала:
— Ему самое большее двадцать пять лет. К утру он умрет.
Второй раненый был еще моложе: юнец лет восемнадцати.
— На нем был хороший черный сюртук, — сказала старуха, — наверно, студент.
У второго раненого вся нижняя часть лица была обвязана окровавленными тряпками. Старуха рассказала нам, что пуля попала ему в рот и раздробила челюсть. Он был в жару и смотрел на нас лихорадочно блестевшими глазами. Время от времени он протягивал правую руку к тазу с водой, в котором лежала губка и, прикладывая губку к лицу, сам смачивал повязку.
Мне показалось, что он смотрит на меня с каким-то особым вниманием. Я подошел к нему, наклонился и протянул ему руку; он крепко сжал ее.
Я спросил его:
— Разве вы меня знаете?
Он ответил да немым пожатием, растрогавшим меня до глубины души.
Обращаясь ко мне, литейщик сказал:
— Подождите здесь минутку, я сейчас вернусь. Посмотрю, нельзя ли где-нибудь раздобыть ружье.
Помолчав немного, он спросил:
— А вам ружье понадобится?
Я ответил:
— Нет. Я останусь здесь без ружья. Я только наполовину участвую в гражданской войне. Я готов умереть в борьбе, но убивать не хочу.
Я спросил, как ему кажется, придут ли его друзья. Он сказал, что не понимает, в чем тут дело, что людям из ассоциаций давно уже пора прийти, что эту баррикаду должны были защищать не два человека, а двадцать, да и самих баррикад на этой улице должны были построить не две, а десять, — наверно, что-нибудь случилось, — и добавил:
— Впрочем, я пойду на разведку; обещайте, что вы дождетесь меня здесь.
— Обещаю, — ответил я, — если потребуется, я прожду всю ночь.
Он ушел.
Старуха снова уселась рядом с девочкой, по-видимому лишь смутно понимавшей, что происходило вокруг, и время от времени устремлявшей на меня большие ясные глаза. Обе были одеты очень бедно; мне показалось, что девочка без чулок. Старуха с тоской в голосе повторяла «Мой муж все не идет! Мой муж, бедняга, все еще по идет! Только бы с ним не случилось чего-нибудь! О господи, господи!» — и горько плакала, не переставая проворно щипать корпию. Я с мучительной тревогой думал о старике. Труп которого мы видели на мостовой, в нескольких шагах отсюда…
На столе лежала газета. Я взял ее и развернул. Я прочел: «П…» остальная часть названия была оторвана. На первой странице широко отпечаталась чья-то окровавленная рука. Вероятно, какой-то раненый, войдя, оперся на стол в том месте, где лежала газета. Мой взгляд упал на строки:
«Г-н Виктор Гюго опубликовал призыв к грабежу и убийству».
В таких выражениях газета Елисейского дворца характеризовала прокламацию, продиктованную мной Бодену и приведенную в первом томе этого повествования.
Я бросил газету на стол. В эту минуту вошел один из защитников баррикады — тот, что был маленького роста.
— Дайте воды, — сказал он.
Возле аптечных склянок стояли графин и стакан. Рабочий пил с жадностью. Он держал в руке ломоть хлеба и кусок колбасы и ел стоя.
Внезапно раздались несколько ружейных выстрелов, быстро следовавших один за другим. Стреляли где-то неподалеку. В глубокой ночной тишине эти звуки напоминали стук дров, сбрасываемых с повозки на мостовую.
С улицы второй защитник баррикады спокойным, твердим голосом крикнул: «Начинается».
— Успею я доесть хлеб? — спросил низкорослый.
— Успеешь, — донеслось снаружи.
Тогда низенький обратился ко мне:
— Гражданин депутат, это стреляют войска. Они атакуют баррикады совсем близко отсюда. Право, вам бы лучше уйти.
— Но вы ведь остаетесь, — возразил я.
— Мы вооружены, — настаивал он, — а у вас нет никакого оружия. Вы ничем не можете нам помочь, вас только убьют без всякой пользы для кого бы то ни было. Будь у вас ружье — другое дело, но ружья у вас нет. Вы должны уйти.
Я ответил:
— Мне нельзя уйти. Я жду одного человека.
Он пытался было продолжать, чтобы переубедить меня.
Я крепко пожал ему руку и сказал:
— Предоставьте мне действовать по моему усмотрению.
Рабочий понял, что остаться — мой долг, и перестал меня уговаривать.
Наступило молчание. Рабочий доедал хлеб. Слышалось только хрипение умирающего. Вдруг раздался какой-то сильный глухой удар. Старуха привскочила на стуле и пробормотала:
— Это пушки!
— Нет, — ответил рабочий, — где-то захлопнули ворота. — Помолчав, он сказал: — А хлеб я все-таки успел доесть! — хлопнул ладонью о ладонь, чтобы стряхнуть крошки, и вышел.
Тем временем ружейные залпы не умолкали; казалось, они приближаются. В лавке послышались шаги; это вернулся литейщик. Весь бледный, он остановился на пороге и сказал мне:
— Вот и я. Пришел за вами. Нужно разойтись по домам, да поскорее.
Я встал со стула, на котором сидел.
— Что это значит? Неужели они не придут?
— Нет, — ответил литейщик, — никто не придет. Все кончено.
Он поспешно сообщил мне, что обегал весь квартал в поисках ружья и что все его старания были тщетны; он повидался с «двумя-тремя товарищами»; на ассоциации рассчитывать нечего, «они не выйдут на улицу»: события, разыгравшиеся днем, устрашили всех, самые храбрые — и те дрожат; бульвары завалены трупами, войска «убивали зверски»; через минуту-другую баррикаду начнут штурмовать; он прибавил, что, подходя к лазарету, слышал мерный гул шагов, направлявшихся к перекрестку, — это, конечно, шли солдаты; здесь, сказал он, нам нечего делать, нужно уйти как можно скорее; было «просто глупо» назначить встречу в этом доме, где нет второго выхода; может быть, уже сейчас трудно будет выбраться из этой улицы, времени у нас осталось в обрез.
Все это он рассказал второпях, задыхаясь, короткими фразами, поминутно прерывая их восклицаниями: «И подумать только, что у нас нет оружия! И подумать только, что у меня нет ружья!»
Не успел он договорить, как с баррикады послышался крик: «Берегись!», и почти тотчас грянул выстрел.
Ответом на него был сильный залп. Несколько пуль задели дощатый забор, отделявший лазарет от улицы, но они летели вкось, и ни одна не пробила досок. Мы услыхали, как на улицу со звоном посыпались разбитые стекла.
— Мы опоздали, — спокойно сказал литейщик. — Баррикаду атакуют.
Он придвинул себе стул и сел. Оба рабочих, по-видимому, стреляли превосходно. Нападающие дали по баррикаде два залпа, один за другим. Баррикада отвечала частым огнем. Затем стрельба прекратилась. Наступило затишье.
«Они пошли в штыки! Идут беглым шагом!» То был голос с баррикады. Второй голос ответил: «Пора! Уйдем скорее!» Грянул последний выстрел. Затем удар, который мы приняли за предостережение, потряс дощатый забор, укрывавший лазарет. На самом деле это один из рабочих, уходя, бросил свое ружье, и оно, падая, стукнулось о доски. Мы услышали быстрые шаги обоих защитников баррикады, вскоре замершие в отдалении.
Мгновение спустя со стороны баррикады донесся громкий говор и стук прикладов о мостовую.
— Кончено, — сказал литейщик и задул свечу.
Тишина, за минуту до этого царившая на улице, сменилась зловещим шумом. Солдаты прикладами стучали в двери домов. Каким-то чудом они проглядели дверь в лавку. Задень ее кто-нибудь из них хотя бы локтем — сразу обнаружилось бы, что она не заперта, и они ворвались бы к нам.
Кто-то, вероятно офицер, орал: «Сейчас же осветите окна!» Солдаты ругались. Мы слышали, как они говорили: «Где эти негодяи красные? Обыскивай дома!»
В лазарете было совершенно темно. Там не слышалось ни единого слова, ни единого вздоха. Даже умирающий, и тот, словно сознавая опасность, перестал хрипеть. Я чувствовал, как девочка в страхе прижалась к моим ногам.
Солдат стучал по бочонкам баррикады, приговаривая: «Славный костер разведем сегодня ночью!» Другой спрашивал: «Куда же они могли деться? Их было никак не меньше тридцати! Обыщем дома!»
Кто-то возразил: «Вздор! Что будешь делать в такую темень? Врываться в квартиры буржуа? С той стороны — пустыри! Туда они и удрали!»
«Все равно, — твердили другие. — Обыщем дома».
В эту минуту в дальнем конце улицы раздался ружейный выстрел. Этот выстрел спас нам жизнь.
По всей вероятности, стрелял, чтобы выручить нас, один из рабочих, защищавших баррикаду.
— Стреляют в той стороне! — закричали солдаты. — Красные там! — И, оставив баррикаду, они побежали по улице, в том направлении, откуда донесся выстрел.
Оба мы, литейщик и я, разом встали.
— Они ушли, — шепнул он мне едва слышно. — Идем скорее!
— Как же быть с этой несчастной женщиной? — спросил я. — Неужели мы бросим ее здесь одну?
— Эх! Обо мне не тревожьтесь! — воскликнула старуха. — Мне бояться нечего, я при лазарете; у меня раненые; я даже свечу зажгу опять, когда вы уйдете! А вот мой муж, бедняга, так и не вернулся!
Мы на цыпочках прошли через лавку. Литейщик бесшумно приоткрыл дверь и выглянул наружу. Некоторые жильцы соседних домов подчинились приказу и осветили окна. Четыре или пять свечей горели кое-где на подоконниках. Слабое, мигавшее от ветра пламя тускло освещало улицу.
— Ни души! — шепнул мне литейщик. — Но мешкать нельзя, они, наверно, скоро вернутся.
Старуха закрыла за нами дверь, и мы очутились на улице. Перебравшись через баррикаду, мы быстрым шагом двинулись дальше. Мы снова прошли мимо убитого старика. Он все еще лежал, распростертый на мостовой; в бледном колеблющемся свете, падавшем из окон, он казался спящим.
Подходя ко второй баррикаде, мы услыхали позади себя, в некотором отдалении, шаги возвращавшихся солдат.
Нам удалось благополучно добраться до развалин снесенных домов. Здесь мы были в безопасности. Откуда-то все еще доносилась ружейная пальба. Литейщик сказал:
— Дерутся неподалеку от улицы Клери.
Выбравшись из развалин, мы окольными путями, из переулка в переулок, рискуя наткнуться на патруль, миновали Центральный рынок и вышли па улицу Сент-Оноре.
На углу улицы Арбр-Сек мы расстались, потому что, сказал литейщик, вдвоем ходить опаснее, чем поодиночке. Я вернулся в свое убежище, на улицу Ришелье № 19.
Переходя улицу Бурдоне, мы увидели бивак на площади Сент-Эсташ. Войсковые части, посланные брать баррикады, еще не вернулись. Бивак охраняли всего несколько рот. Слышались взрывы смеха. Солдаты грелись у больших костров, пылавших в нескольких местах. В огне ближайшего от нас костра можно было различить колеса повозок, послуживших для постройки баррикад. От некоторых остались только раскаленные докрасна ободья.
III Ночные события. Улица Пти-Карро
Той же ночью, почти в то же время, в нескольких шагах от того места, где я находился, совершилось страшное злодеяние.
После разгрома баррикады, на которой погиб Пьер Тиссье, ее защитники, человек семьдесят — восемьдесят, отступили в полном порядке по улице Сен-Совер. Выйдя на улицу Монторгейль, они собрались на перекрестке, там, где улица Пти-Карро переходит в улицу Кадран. Здесь улица поднимается в гору. Поблизости, на углу улиц Пти-Карро и Клери, находилась покинутая баррикада, довольно высокая и хорошо сложенная. Утром там сражались. Солдаты взяли ее, но не разрушили. Почему? Как мы уже говорили, в тот день было много таких загадочных случаев.
Группа вооруженных людей, вышедших на улицу Монторгейль с улицы Сен-Дени, остановилась у этой баррикады. Они выжидали, удивляясь тому, что их не преследуют. Может быть, войска боялись углубляться в лабиринт этих узеньких, извилистых улиц и переулков, где за каждым углом могла скрываться засада? Или, возможно, войскам был дан какой-нибудь новый приказ? Предположений было множество. К тому же откуда-то, очевидно с бульваров, расположенных совсем близко, доносился оглушительный грохот ружейных залпов и громовые раскаты непрерывной канонады. Но патронов у них не было, им оставалось только прислушиваться к пальбе. Знай они, что творится на бульваре, их не удивило бы, что за ними не гонятся. Там началась бойня. Занявшись резней, генералы прекратили сражение.
Люди, толпой бежавшие с бульваров, тоже попадали на этот перекресток, но, завидев баррикаду, поспешно поворачивали назад. Однако некоторые из них присоединились к тем, кто стоял у баррикады, и, негодуя, стали призывать к отмщению. Один из беглецов, живший поблизости, отправился к себе домой и принес жестяной бочонок, наполненный патронами.
Этого количества было достаточно, чтобы драться в течение часа. Общими усилиями немедленно была построена баррикада на углу улицы Кадран. Таким образом с улицы Пти-Карро, прикрытой теперь двумя баррикадами — одной со стороны улицы Клери, другой со стороны улицы Кадран, — можно было обстреливать улицу Монторгейль на всем ее протяжении. Защитники этих двух баррикад находились между ними словно в крепости. Вторая баррикада была надежнее первой.
Почти все эти люди были в сюртуках. Многие выворачивали булыжники, не снимая перчаток.
Рабочих среди них встречалось немного, но эти немногие выделялись своей энергией и умственной зрелостью: то был, можно сказать, цвет народа. Жанти Сар примкнул к борцам и тотчас возглавил их.
Его сопровождал Шарпантье, человек слишком храбрый, чтобы отказаться от борьбы, но слишком мечтательный, чтобы командовать.
Тем временем на улице Монторгейль, там, где на нее выходит улица Моконсейль, возникли два укрепления, также замыкавшие пространство метров в сорок.
Еще три баррикады, но очень ненадежные, заграждали ту же улицу Монторгейль на отрезке между улицей Моконсейль и площадью Сент-Эсташ.
День клонился к вечеру. Стрельба на бульварах затихла. Можно было ожидать внезапного нападения. Поэтому восставшие выставили часовых на углу улицы Кадран и отправили небольшой разведочный отряд в сторону улицы Монмартр. Разведчики вскоре вернулись; из добытых ими сведений явствовало, что на площади Виктуар располагается биваком какой-то полк.
Положение горсточки храбрецов, которых возглавил Жанти Сар, как будто выгодное, в действительности было ненадежно. Они были слишком малочисленны, чтобы одновременно защищать баррикады и на улице Клери и на улице Монторгейль, и если бы высланный против них отряд обошел их с тыла, под прикрытием второго укрепления, он успел бы начать атаку, не будучи ими замечен. Во избежание этого борцы выставили заставу на улице Клери. Кроме того, защитники первой баррикады установили связь с баррикадами на улице Кадран и с обеими баррикадами на улице Моконсейль. Эти баррикады находились примерно в полутораста шагах от главных укреплений. Обе они были высотой в шесть с лишним футов, но охранялись только теми шестью рабочими, которые их построили.
Около половины пятого, с наступлением сумерек — в декабре темнеет рано, — Жанти Сар, взяв с собой четверых вооруженных людей, отправился на рекогносцировку; к тому же он задумал построить в каком-нибудь ближнем переулке передовую баррикаду. По дороге им попалась покинутая баррикада, сложенная из бочек. Но оказалось, что все эти бочки пустые, кроме одной, в которой лежало несколько булыжников; под таким прикрытием не удалось бы продержаться и двух минут. Когда, осмотрев это укрепление, они двинулись дальше, внезапно грянул залп: это стрелял взвод пехоты, стоявший совсем близко и едва приметный в полумгле. Жанти Сар со своим маленьким отрядом быстро повернул назад, но один из его спутников, сапожник из предместья Тампль, раненный пулей, упал. Они вернулись и забрали его с собой. Ему раздробило большой палец правой руки. «Какое счастье, — воскликнул Жанти Сар, — что они его не убили!» — «Нет, — отозвался бедняга, — они убили мой хлеб! — И прибавил: — Я не смогу больше работать: кто прокормит моих детей?»
Они возвратились на баррикаду, неся раненого. Один из борцов, студент-медик, сделал ему перевязку.
Повсюду пришлось расставить караулы из числа самых надежных людей, поэтому небольшой центральный отряд сильно уменьшился и ослабел. На баррикаде осталось не больше тридцати человек.
Здесь, как и в квартале Тампль, все уличные фонари были потушены, газовые трубы перерезаны, окна закрыты и темны; ни луны, ни звезд. Все тонуло во мраке.
Издалека доносились ружейные выстрелы. Войсковая часть, стоявшая у церкви св. Евстахия, регулярно, через каждые три минуты, выпускала в сторону баррикады Жанти Сара по одной пуле, словно заявляя: «Мы здесь». Защитники баррикады думали, что до рассвета атаки не будет. Вот какие разговоры они вели между собой.
— Как бы я хотел раздобыть охапку соломы, — вздыхал Шарпантье. — Мне кажется, мы здесь заночуем.
— Неужели ты сможешь заснуть? — усмехнулся Жанти Сар.
— Я-то? Разумеется, засну.
И действительно, спустя несколько минут он уже спал.
В этой темной, запутанной сети узких улиц и переулков, перегороженных баррикадами и блокируемых войсками, остались открытыми два кабачка, где больше щипали корпию, чем пили вино, так как начальники разрешили пить только слегка подкрашенную вином воду.
Один из кабачков находился как раз между двух баррикад улицы Пти-Карро. Время смены караула борцы определяли по стенным часам, висевшим в низком полуподвальном зале кабачка. В комнате, выходившей на двор, были заперты две подозрительные личности, затесавшиеся среди восставших. Одного из этих людей схватили в ту минуту, когда он говорил: «Я пришел драться за Генриха Пятого». Их держали под замком, у двери стоял часовой.
Соседняя комната служила походным лазаретом. Там, на тюфяке, брошенном на пол, лежал раненый сапожник.
На всякий случай устроили еще другой лазарет на улице Кадран; чтобы удобнее было переносить туда раненых, на углу баррикады оставили проход со стороны лазарета.
Около половины десятого вечера к баррикаде подошел какой-то человек.
Жанти Сар узнал его и тотчас окликнул:
— Здравствуй, Дени!
— Зови меня Гастоном, — сказал пришедший.
— Это почему?
— Потому.
— Разве ты и твой брат — одно лицо?
— Да, я — мой брат; на сегодня.
— Пусть так. Здравствуй, Гастон.
Они обменялись рукопожатием.
То был Дени Дюссу.
Весь в крови, он был бледен и спокоен; он уже дрался утром на одной из баррикад предместья Сен-Мартен; пуля пробила ему пальто на груди, скользнула по монетам, лежавшим в жилетном кармане, и содрала кожу. Дени Дюссу выпало редкое счастье — его лишь слегка задело пулей. На первый раз смерть только царапнула его когтями. Дени был в фуражке; шляпа осталась на той баррикаде, где он сражался; пальто из белильского сукна, продырявленное пулей, он заменил купленным у старьевщика плащом с капюшоном.
Как он добрался до баррикады Пти-Карро? Этого он и сам не мог бы сказать. Он шел куда глаза глядят, пробираясь из переулка в переулок. Судьба руководит своими избранниками и во мраке указывает им верный путь к цели.
В ту минуту, когда Дени вступил на баррикаду, ему оттуда крикнули: «Кто идет?» Он ответил: «Республика!»
Все видели, как Жанти Сар пожал ему руку; люди спрашивали Жанти Сара:
— Кто это?
Жанти Сар сказал:
— Человек стоящий, — и прибавил: — Нас только что было шестьдесят борцов; теперь нас сто.
Все столпились вокруг вновь пришедшего. Жанти Сар предложил ему взять на себя командование баррикадой.
— Нет, — сказал Дюссу. — Тактика баррикадного боя совсем особая, я ее не знаю. Я был бы плохим командиром, но я хороший солдат. Дайте мне ружье.
Усевшись на булыжниках, стали беседовать о том, что было сделано за день. Дени говорил о схватках в предместье Сен-Мартен, Жанти Сар рассказал ему о борьбе на улице Сен-Дени.
Тем временем генералы подготовляли последний приступ — то, что маркиз де Клермон-Тоннер в 1822 году называл ударом в челюсть, а князь де Ламбеск в 1789 году — ударом под ложечку.
Во всем Париже только один этот уголок еще оказывал сопротивление; эта кучка баррикад, эта сеть узеньких улиц, укрепленная, словно редут, являлись последним оплотом народа и законности. Генералы медленно, шаг за шагом, окружали его со всех сторон. Они сосредоточивали силы. А защитники баррикад в этот страшный час ничего не знали о том, что происходило вокруг. Они только время от времени прерывали беседу и прислушивались. Справа, слева, спереди, сзади, отовсюду сквозь ночную тишь все яснее, все отчетливее доносился грозный, раскатистый, мощный гул. То шли мерной поступью батальоны, по сигналам горнистов занимавшие все окрестные улицы. Помолчав, люди на баррикаде продолжали свою достойную храбрецов беседу, но спустя минуту снова прерывали ее и прислушивались к этому зловещему напеву — песне приближавшейся к ним смерти.
Некоторые из них по-прежнему думали, что войска до утра не пойдут в атаку. Когда театром войны являются улицы, ночью дерутся редко. В ночном сражении, более чем в каком-либо другом, исход — «дело случая». Немногие генералы отваживаются на ночные атаки. Но наиболее опытные участники баррикадных боев по различным верным признакам заключали, что штурм начнется очень скоро.
Действительно, вечером, в половине одиннадцатого, а не в восемь часов, как утверждает генерал Маньян в позорном документе, который он именует своим донесением, — со стороны Центрального рынка послышался шум, в значении которого нельзя было ошибиться. Это двинулись войска. Полковник де Лурмель решил действовать. 51-й линейный полк, стоявший у церкви св. Евстахия, вступил на улицу Монторгейль. В авангарде шел второй батальон. Перейдя в атаку, гренадеры и стрелки быстро взяли три маленькие баррикады, не прикрытые более мощными укреплениями улицы Моконсейль. Затем войска овладели слабо защищенными баррикадами смежных улиц. Тогда и была захвачена баррикада, возле которой я находился в этот час.
На баррикаде Пти-Карро было слышно, как во мраке с прерывистым, странным, зловещим шумом все ближе и ближе придвигался ночной бой. Сначала громкие крики, потом ружейные залпы, затем — полная тишина, и все начиналось сызнова. Вспышки выстрелов на миг освещали фасады домов, казалось, охваченные смятением.
Роковая минута приближалась.
Часовые возвратились на баррикаду. Люди, стоявшие в карауле на улицах Клери и Кадран, тоже вернулись. Сделали перекличку. Все, кто утром был на баррикаде, оказались налицо.
Мы уже упоминали, что всего там было человек шестьдесят, а не сто, как утверждает в своем донесении Маньян.
Они находились в конце улицы; поэтому им трудно было составить себе ясное представление о том, что происходило. Защитники баррикады Пти-Карро не знали, сколько укреплений сооружено на улице Монторгейль, между их баррикадой и площадью Сент-Эсташ, откуда пришли войска. Им было ясно только одно — что ближайшей к ним точкой сопротивления является двойная баррикада на углу улицы Моконсейль и что, когда там все будет кончено, придет их час.
Дени Дюссу стоял на внутреннем откосе и, перегнувшись через баррикаду, обозревал местность. При слабом свете, падавшем из приотворенной двери кабачка, можно было различить его движения.
Вдруг он сделал знак рукой. Начался штурм редута Моконсейль.
Действительно, простояв некоторое время в нерешительности перед этой двойной стеной, крепко сложенной из булыжников, довольно высокой и, казалось им, хорошо защищенной, солдаты двинулись вперед, обстреливая ее из ружей.
Они не ошиблись — эту баррикаду хорошо защищали. Как мы уже говорили, на ней было всего шесть человек — те шестеро рабочих, которые ее построили. Из шести только у одного было три заряда, остальные могли выстрелить всего по два раза. Эти шесть человек слышали, как подходил батальон, как громыхала следовавшая за ним батарея, и не двинулись с места. Каждый из них молча ждал на своем боевом посту, выставив дуло ружья между двумя булыжниками. Когда батальон подошел на расстояние выстрела, все шестеро дали залп; батальон ответил тем же.
— Отлично, отлично! Пусть солдатики позлятся! — сказал, усмехаясь, тот, у кого было три заряда.
Позади редута Моконсейль защитники Пти-Карро сгрудились вокруг Дени Дюссу и Жанти Сара; облокотись на гребень своей баррикады, вытянув шеи, они с напряженным вниманием следили за ходом борьбы, словно гладиаторы, ожидающие своей очереди.
Почти четверть часа сопротивлялись шестеро защитников редута Моконсейль натиску целого батальона. Они стреляли поодиночке, чтобы, как выразился один из них, «продлить удовольствие». Удовольствие отдать жизнь во имя долга; уста этого рабочего произнесли великие слова. Защитники редута Моконсейль отступили в соседние улицы только после того, как расстреляли все свои патроны. Последний, тот, у кого было три заряда, ушел с баррикады в ту минуту, когда солдаты карабкались на ее гребень.
На баррикаде Пти-Карро никто не говорил ни слова; затаив дыхание, наблюдали борцы неравный бой и пожимали друг другу руки.
Вдруг шум прекратился; отгремел последний выстрел. Минуту спустя защитники Пти-Карро увидели, как во всех окнах, выходивших на баррикаду Моконсейль, зажглись свечи; в их тусклом свете поблескивали штыки и бляхи киверов. Баррикада была взята.
Как полагается в таких случаях, командир батальона приказал жителям соседних домов немедленно осветить все окна.
Редут Моконсейль пал.
Видя, что их час настал, шестьдесят защитников баррикады Пти-Карро поднялись на свою груду булыжников и все, как один, огласили ночную тишь громовым криком: «Да здравствует республика!»
Никто не откликнулся.
Они только услышали, как батальон заряжал ружья.
Близость боя вызвала у защитников баррикады прилив бодрости. Все они изнемогали от усталости, все были на ногах со вчерашнего дня, таскали булыжники или сражались; большинство из них не пили и не спали уже около суток.
Шарпантье сказал Жанти Сару:
— Нас всех перебьют.
— Уж это наверно! — отозвался Жанти Сар.
Жанти Сар велел плотно закрыть дверь кабачка; таким образом их баррикада, тонувшая во мраке, приобрела некоторое преимущество перед баррикадой Моконсейль, занятой солдатами и освещенной.
Тем временем солдаты 51-го полка обходили улицы, уносили раненых в походные лазареты, размещались на двойной баррикаде Моконсейль. Так прошло около получаса.
Теперь, чтобы полностью уяснить себе все дальнейшее, нужно вообразить в ночной мгле, на этой пустынной улице, один против другого, два редута, разделенные промежутком в шестьдесят или восемьдесят метров, так что противники, как в «Илиаде», могли переговариваться.
С одной стороны — армия, с другой — народ; и над всем этим — мрак.
Затишье, всегда предшествующее решающей схватке, подходило к концу. Обе стороны сделали все приготовления. Слышно было, как солдаты строились на баррикаде и как командиры отдавали им распоряжения. Было ясно — сейчас завяжется бой.
— Начнем! — сказал Шарпантье и зарядил свой карабин.
Дени схватил его за руку и сказал:
— Подождите.
Затем произошло нечто эпическое.
Дени медленно взобрался по булыжникам на самый верх баррикады и встал там во весь рост, безоружный, с обнаженной головой. Повернувшись к солдатам, он крикнул:
— Граждане!
При этих словах люди на обеих баррикадах вздрогнули, словно пронизанные электрической искрой. Все звуки замерли, все голоса умолкли. В обоих лагерях наступила глубокая, благоговейная, торжественная тишина. При слабом свете, падавшем из нескольких освещенных окон, солдаты смутно различали над темной грудой камней силуэт человека, взывавшего к ним, словно призрак в ночи.
Дени продолжал:
— Граждане, состоящие в армии! Выслушайте меня!
Тишина стала еще более торжественной.
— Зачем вы пришли сюда? Зачем вы и мы — все мы — в этот час пришли сюда, на эту улицу, с ружьем или саблей в руке? Чтобы убивать друг друга! Убивать друг друга, граждане! Из-за чего? Из-за того, что нам не дают понять друг друга! Из-за того, что все мы повинуемся — вы вашей дисциплине, мы нашему долгу! Вы думаете, что выполняете данный вам приказ; мы знаем, что выполняем нашу обязанность. Да, мы защищаем всеобщее голосование, право республики, наше право, а наше право, солдаты, это ваше право! Армия — это народ, так же как народ — это армия. Все мы — одна нация, одна страна, наконец все мы — люди. Разве в моих жилах, — во мне, кто здесь говорит с вами, — течет русская кровь? Разве в вас, в тех, кто здесь слушает меня, течет прусская кровь? Нет! Почему же мы сражаемся? Когда человек стреляет в человека — это всегда ужасно. Но когда француз стреляет в англичанина, это еще можно понять. А вот когда француз стреляет в француза — о, это оскорбляет разум, оскорбляет Францию, оскорбляет нашу общую мать!
Его слушали с тревожным вниманием. В эту минуту с противоположной баррикады кто-то крикнул ему:
— Если так — ступайте по домам!
При этой грубой выходке среди соратников Дени пронесся гневный ропот, щелкнуло несколько затворов. Дени движением руки сдержал товарищей.
В этом движении было что-то необычайно властное.
«Кто этот человек?» — спрашивали себя защитники Пти-Карро. Вдруг они воскликнули:
— Это депутат.
Действительно, Дени быстро надел трехцветную перевязь своего брата Гастона.
То, что он задумал, должно было совершиться; настал час героического обмана. Дени воскликнул:
— Солдаты, знаете ли вы, кто сейчас говорит с вами? Не только гражданин, но и законодатель, Депутат, избранный всеобщим голосованием! Мое имя Дюссу, я — депутат. Именем Национального собрания, именем Собрания, олицетворяющего собой верховную власть, именем народа, именем закона — я требую, выслушайте меня! Солдаты, вы — сила! Так вот! Когда говорит закон, сила должна слушать.
Теперь никто не нарушал молчания.
Мы передаем эти слова с тою же точностью, с какой они запечатлелись в памяти тех, кто их слышал. Но невозможно воспроизвести все то, чем необходимо дополнить эти слова, чтобы по-настоящему понять их действие: воспроизвести благородную осанку того, кто их произносил, звучавшую в них душевную тревогу, проникновенный голос, глубокое чувство, волновавшее эту благородную грудь, величие этой минуты и этого страшного места.
Дени Дюссу продолжал. «Он говорил около двадцати минут», — сказал нам один из свидетелей. Другой свидетель сказал: «Он говорил громко, было слышно по всей улице».
Его речь была пламенна, убедительна, умна. Он говорил как обличитель Бонапарта и как друг солдат. Он взывал ко всем тем чувствам, которые еще могли их волновать; он воскрешал в их памяти подлинные войны, подлинные победы, национальную славу, честь знамени, древнюю воинскую доблесть. Он сказал им, что все это они убьют своими пулями. Он заклинал их, он приказывал им присоединиться к защитникам народа и закона; внезапно он вернулся к мысли, высказанной им в самом начале его речи; увлеченный братским чувством, переполнявшим его душу, он оборвал начатую фразу и воскликнул:
— Но к чему все эти слова? Нам нужно не это — нам нужно братское рукопожатие! Солдаты, вы здесь лицом к лицу с нами, в ста шагах от нас, на баррикаде, ваши сабли обнажены, ваши ружья наведены, вы целитесь в меня — и что же! Мы все, сколько нас здесь, — мы любим вас! Каждый из нас готов отдать свою жизнь за любого из вас. Вы — французские крестьяне, мы — парижские рабочие! Так что же нам нужно сделать? Просто-напросто — сойтись, поговорить, не убивать друг друга. Ну как? Попытаемся? Согласны? Что касается меня, то в страшной гражданской войне я готов умереть, но не стану убивать. Смотрите, я сейчас спущусь с этой баррикады и пойду к вам; я безоружен, я знаю только, что вы мои братья, и в этом — моя сила; я спокоен, и если кто-нибудь из вас направит на меня свой штык, я протяну ему руку.
Он замолчал.
С противоположной баррикады кто-то крикнул: «Выйди из рядов!» Все увидели, как Дюссу, медленно ступая с булыжника на булыжник, сошел с гребня баррикады и, высоко подняв голову, углубился в темную улицу.
Товарищи с невыразимой тревогой провожали его глазами. Все замерли, притаив дыхание.
Никто не пытался удержать Дени Дюссу. Все чувствовали — он идет туда, куда ему велит долг. Шарпантье вызвался сопровождать его. Он крикнул: «Пойти мне с тобой?» Дюссу отрицательно качнул головой.
Спокойный, величавый, шел он к баррикаде Моконсейль. Ночь была так темна, что борцы баррикады Пти-Карро почти тотчас потеряли его из виду. Несколько секунд еще можно было различить его мужественную, спокойную фигуру. Потом он исчез, слился со мглой. То было страшное мгновение. Вокруг — тьма и безмолвие. Во мраке слышны были только мерные, твердые, постепенно удалявшиеся шаги.
Спустя некоторый промежуток времени — долго ли он длился, никто не мог определить, так взволнованы были все свидетели этой необычайной сцены — на баррикаде, занятой солдатами, появился свет; вероятно, принесли или переставили фонарь. При этом свете товарищи Дюссу снова увидели его. Он уже был совсем близко от баррикады, в нескольких шагах от нее. Он шел, широко раскинув руки, как Христос.
Вдруг раздалась команда: «Огонь!» Тотчас последовал залп.
Солдаты расстреляли Дюссу в упор.
Он упал.
Потом он поднялся и крикнул: «Да здравствует республика!»
Снова его поразила пуля; он снова упал, еще раз поднялся и во весь голос прокричал: «Я умираю вместе с республикой».
Это были его последние слова.
Так умер Дени Дюссу.
Он не напрасно сказал брату: «Твоя перевязь будет на баррикадах». Дени хотел, чтобы она исполнила свой долг. В глубине своей благородной души он решил, что эта перевязь восторжествует либо силою закона, либо силою смерти.
В первом случае она спасла бы право; во втором — честь.
Испуская дух, он мог сказать себе: «Я сделал свое дело».
Из двух возможных побед, о которых он мечтал, мрачная победа, одержанная ценою жизни, не менее прекрасна.
Мятежник, засевший в Елисейском дворце, думал, что он убил депутата, и похвалялся этим. Единственная газета, издававшаяся в эти дни заправилами переворота и называвшаяся то «Патри», то «Юнивер», то «Монитер Паризьен», сообщила на другой день, 5 декабря, что «бывший депутат Дюссу (Гастон)» убит на баррикаде, возле улицы Нев-Сент-Эсташ, «с красным знаменем в руке».
IV Ночные события. Проезд Сомон
Когда защитники баррикады Пти-Карро увидели, что Дюссу пал смертью, столь славной для его соратников, столь позорной для его убийц, они остолбенели. Возможно ли это? Как поверить своим глазам? Неужели наши солдаты совершили такое злодеяние? Ужас леденил сердца.
Но оцепенение длилось недолго. «Да здравствует республика!» — крикнули в один голос все, кто был на баррикаде, и в ответ на вероломство тотчас открыли сильный огонь. Начался бой. На стороне переворота было неистовство, на стороне республики — мужество отчаяния. У солдат — свирепая, холодная решимость, жестокое пассивное повиновение, численный перевес, изобилие патронов, полновластные командиры; у народа — ни оружия, ни патронов, беспорядок, усталость, крайнее истощение, никакой дисциплины, вместо командира — негодование.
В то время как Дюссу говорил, пятнадцать гренадеров под начальством сержанта, некоего Питруа, сумели неслышно и незаметно, пробираясь в темноте вдоль стен, подкрасться довольно близко к баррикаде. Шагах в двадцати от нее эти пятнадцать человек, взяв ружья наперевес, быстро построились к атаке. Их встретили залпом; они отступили, оставив в сточной канаве нескольких убитых. Батальонный командир Жанен крикнул: «Пора кончать!» Тогда батальон, занимавший баррикаду Моконсейль, в полном составе, подняв штыки, вышел на неровный гребень этой баррикады и оттуда, не размыкая рядов, внезапным, но правильным и непреодолимым движением ринулся на улицу. Четыре роты, тесно сомкнувшиеся, будто слившиеся друг с другом, едва различимые, казались единым потоком, шумно низвергавшимся с высокой плотины.
Защитники баррикады Пти-Карро зорко следили за этим движением. Они прекратили огонь.
— Цельтесь, — крикнул Жанти Сар, — но не стреляйте! Ждите команды.
Все приложили ружья к плечу, просунули дула между булыжниками баррикады и стали ждать.
Сойдя с редута Моконсейль, батальон быстро построился в колонну; спустя минуту-другую раздался топот беглого шага. Батальон приближался.
— Шарпантье, — сказал Жанти Сар, — ты хорошо видишь. Они уже прошли полпути?
— Да, — ответил Шарпантье.
— Огонь! — скомандовал Жанти Сар.
С баррикады грянули выстрелы. Улицу затянуло дымом. Несколько солдат упали. Раздались вопли раненых. Батальон, осыпанный градом пуль, остановился и ответил залпом.
Семь или восемь человек, неосторожно выставившихся из-за гребня баррикады, построенной наспех и слишком низкой, были поражены пулями. Троих убило наповал. Один, раненный пулей в живот, упал между Жанти Саром и Шарпантье. Он выл от боли.
— Скорее в лазарет! — крикнул Жанти Сар.
— Куда?
— На улицу Кадран.
Жанти Сар и Шарпантье подняли раненого, один за ноги, другой — за плечи, и через проход, оставленный в баррикаде, унесли его на улицу Кадран.
Тем временем стрельба не прекращалась. На безлюдной улице — густой дым, свист пуль, скрещивавшихся на лету, отрывистые слова команды, жалобные стоны, вспышки выстрелов, пронизывавшие мрак.
Внезапно чей-то зычный голос скомандовал: «Вперед!» Батальон снова пошел на приступ.
И тут началось нечто ужасное: дрались врукопашную четыреста человек против пятидесяти; хватали друг друга за ворот, за горло, вцеплялись в губы, в волосы. На баррикаде не было ни одного патрона, но оставалось отчаяние. Один рабочий, проколотый штыком насквозь, вырвал штык из своего живота и вонзил его в солдата. Убивали впотьмах, не видя друг друга. То было избиение ощупью.
Баррикада не продержалась и двух минут. Как мы уже говорили, она в нескольких местах была очень низка. Солдаты не взобрались на нее, а вскочили. Тем изумительнее был героизм ее борцов. Один из спасшихся сказал автору этих строк:[34]
— Баррикада защищала нас очень плохо, но люди умирали на ней очень хорошо.
Пока все это происходило, Жанти Сар и Шарпантье отнесли раненого в лазарет на улице Кадран. Как только его перевязали, оба они поспешили назад, на баррикаду. Они уже подходили к ней, когда кто-то окликнул их по имени. Совсем близко слабый голос повторял: «Жанти Сар! Шарпантье!» Обернувшись на зов, они увидели одного из своих: он умирал, прислонясь к стене, ноги у него подкашивались. Он только что ушел с баррикады, но, пройдя несколько шагов, изнемог. Несчастный, смертельно раненный выстрелом в упор, крепко прижимал руку к груди. Он едва слышно сказал им:
— Баррикада взята! Спасайтесь!
— Нет, — воскликнул Жанти Сар. — Я должен разрядить ружье.
Жанти Сар вернулся на баррикаду, выстрелил в последний раз и ушел.
Нет ничего ужаснее баррикады, захваченной неприятелем.
Республиканцы, подавленные численностью атакующих, уже не сопротивлялись. Офицеры орали: «Пленных не брать!» Солдаты убивали тех, кто еще держался на ногах, и добивали тех, кто упал. Многие ждали смерти, высоко подняв голову. Умирающие поднимались и кричали: «Да здравствует республика!» Солдаты каблуками топтали лица мертвецов, чтобы их нельзя было узнать. На середине баррикады между другими трупами лежал почти что однофамилец Шарпантье — Карпантье, делегат комитета X округа: смертельно раненный двумя пулями в грудь, он упал навзничь на мостовую, головою в грязь. На одном из булыжников стояла зажженная сальная свеча, взятая солдатами у кабатчика.
Солдаты зверствовали. Казалось, они мстят. Но кому? Одному рабочему — его звали Патюрель — они нанесли три огнестрельные раны и десять штыковых, из них четыре в голову. Наконец его сочли мертвым и перестали увечить. Патюрель чувствовал, как его обыскивали. У него взяли бывшие при нем десять франков. Он прожил еще шесть дней и смог рассказать приведенные нами подробности. Заметим попутно, что Патюрель не значится ни в одном из опубликованных Бонапартом списков убитых.
Редут Пти-Карро защищали шестьдесят республиканцев. Сорок шесть из них были убиты. Эти люди пришли туда утром по своей доброй воле, гордые тем, что идут сражаться, готовые с радостью умереть за свободу. В полночь все было кончено. На другое утро ночные фургоны отвезли девять трупов на больничное кладбище и тридцать семь — на Монмартрское.
Жанти Сару, Шарпантье и еще третьему борцу, имя которого нам неизвестно, каким-то чудом удалось бежать. Крадясь вдоль стен, они добрались до проезда Сомон. Этот проезд на ночь запирается решеткой, не доходящей до верха сводчатого входа. Они перелезли через нее, рискуя пораниться об острия чугунных прутьев. Жанти Сар первым отважился на это; взобравшись наверх, он зацепился панталонами за острие и свалился головой вниз на мостовую, по ту сторону решетки. Он тотчас вскочил на ноги — падение лишь слегка оглушило его. Оба его товарища следовали за ним; держась за прутья, они благополучно спустились на землю, и все трое очутились внутри проезда. Фонарь, горевший в дальнем конце, бросал слабый свет. Вдруг они услышали шаги гнавшихся за ними солдат. Чтобы спастись, нужно было выйти на улицу Монмартр, а для этого перелезть через решетку на противоположном конце проезда. У всех троих руки были в ссадинах, колени в крови: усталость валила их с ног, они не в силах были снова карабкаться по чугунным прутьям.
Жанти Сар знал, где живет сторож проезда; он постучал в ставень и стал умолять сторожа выпустить их; тот наотрез отказался.
В эту минуту взвод, посланный на поиски беглецов, подошел к решетке, через которую они только что перелезли. Услышав шум внутри проезда, солдаты просунули дула ружей сквозь прутья. Жанти Сар вплотную прижался к стене за одной из приставных колонн, украшающих проезд; но она была так тонка, что прикрывала его только наполовину. Солдаты дали залп; весь проезд заволокло дымом. Когда дым рассеялся, Жанти Сар увидел, что Шарпантье лежит ничком на каменных плитах. Пуля попала ему в сердце. В нескольких шагах от него лежал третий борец, раненный насмерть.
Солдаты не перелезли через решетку, но приставили к ней часового. Жанти Сар слышал, как они уходили по улице Мандар. Он был уверен, что они вернутся.
Никакой возможности бежать. Одну за другой он осторожно пытался открыть входные двери соседних домов. Наконец какая-то дверь подалась. Это показалось ему сущим чудом. Кто же забыл запереть ее? Наверно, само провидение. Он притаился за ней и провел так больше часу, не шевелясь, едва дыша.
Вокруг все было тихо; тогда он решился выйти из своего убежища; часового уже не было. Взвод вернулся к своему батальону.
В проезде Сомон жил давнишний приятель Жанти Сара; этому человеку он в свое время оказал одну из тех услуг, которые не забываются. Жанти Сар разыскал дом, разбудил привратника и назвал ему фамилию своего друга; привратник впустил его, он поднялся по лестнице и постучался. Приятель Жанти Сара вышел на стук в одной сорочке, со свечой в руке и, узнав пришельца, воскликнул:
— Это ты! На что ты похож! Откуда ты взялся? Наверно, участвовал в каком-нибудь бунте? В какой-нибудь безумной затее? Ты что же — хочешь всех нас погубить? Хочешь, чтобы всех нас перебили? Чтобы всех перестреляли? Да что ж тебе от меня нужно?
— Чтобы ты меня почистил щеткой, — сказал Жанти Сар.
Приятель взял щетку, почистил его, и Жанти Сар ушел.
Спускаясь с лестницы, он крикнул своему другу:
— Благодарю!
Подобного рода гостеприимство нам впоследствии оказывали в Бельгии, в Швейцарии и даже в Англии.
На другое утро, когда подобрали трупы, при Шарпантье нашли записную книжку и карандаш, при Дюссу — письмо. Письмо к женщине. Стойкие сердца умеют любить.
Это письмо Дени Дюссу начал 1 декабря и не успел его закончить. Вот оно.
«Дорогая Мари.
Случалось ли вам испытать эту сладостную боль — тоску по тем, кто тоскует по вас? О себе скажу, что, с тех пор как я расстался с вами, я постоянно думаю о вас и постоянно грущу. Но в самой моей грусти есть нечто нежное, ласкающее душу, и хотя она томила меня, я все же был счастлив, потому что это глубокое страдание открыло мне всю силу моей любви к вам. Почему мы разлучены? Почему мне пришлось покинуть вас? А ведь мы были так счастливы! Когда я вспоминаю о чудесных вечерах, которые мы проводили вместе, отдаваясь нашему чувству, о веселой болтовне с вашими сестрами вдали от города, я испытываю горькое сожаление. Ведь правда, дорогая, наша любовь была очень сильна? У нас не было тайн, потому что мы не испытывали потребности что-либо скрывать друг от друга. Слова, слетавшие с наших уст, выражали мысли, подсказанные сердцем, и мы никогда не осмелились бы утаить хоть что-нибудь из них.
Господь отнял у нас все эти радости, и ничто не сможет утешить меня в этой утрате. Страдаете ли вы от нашей разлуки так же, как я?
Увы — как редко мы видимся с теми, кого любим! Обстоятельства удаляют нас от них, и наша мятущаяся душа, привлекаемая внешним миром, непрестанно терзается. Я томлюсь разлукой. Я мысленно переношусь туда, где вы находитесь, я слежу глазами за вашей работой или же слушаю ваши речи, сидя рядом с вами и стараясь угадать, что вы скажете; ваши сестры вышивают возле нас… Обманчивые грезы… мимолетные видения… Моя рука тянется к вашей руке; где вы, моя возлюбленная? Я живу, словно изгнанник, вдали от тех, кого я люблю и кем я любим. Мое сердце призывает их, оно исходит печалью. Нет, я не люблю больших, шумных городов, где никто тебя не знает и где ты никого не знаешь, где люди, оставаясь чужими друг другу, сталкиваются и проходят мимо, никогда не обмениваясь улыбкой. Зато я люблю наши тихие деревни, мир домашнего очага и голос друзей, ласкающий слух. До сих пор моя жизнь всегда была в противоречии с моими природными склонностями: горячая кровь, душа, не выносящая несправедливости, зрелище незаслуженных страданий — все это ввергло меня в борьбу, исхода которой я не могу предвидеть; эту борьбу я хочу до самого конца вести без страха и упрека, но она все больше изнуряет меня и сокращает мою жизнь.
Вам, возлюбленный друг, я доверяю скрытые горести моего сердца. Мне нечего стыдиться того, что сейчас написала моя рука, но сердце у меня болит и страдает, и тебе я могу в этом признаться. Мне тяжко… я хотел бы вычеркнуть эти строки, но к чему? Разве они могут вас оскорбить? Что в них обидного для моей возлюбленной? Разве я не знаю ваших чувств ко мне, не знаю, что вы меня любите? Нет, вы не обманывали меня, уста, которые я целовал, не были лживы; когда вы сидели у меня на коленях и прелесть ваших речей навевала мне сладкие грезы, — я верил вам. Я хотел бы ухватиться за полосу раскаленного железа; тоска гложет и пожирает меня. У меня страстное желание вернуться к прежней жизни. Может быть, это Париж так на меня действует? Мне всегда хочется быть не там, где я нахожусь. Здесь я живу в полном одиночестве. Я верю вам, Мари…»
Записная книжка Шарпантье содержала одну-единственную строчку — стих, который он вписал туда в темноте, у подножия баррикады, слушая, как говорил Дени Дюссу:
«Admonet et magna testatur voce per umbras». [35]
V Другие мрачные события
Иван снова встретился с Конно. Он подтвердил нам факты, указанные в записке, которую Александр Дюма послал Бокажу. Мы узнали также имена лиц, причастных к этому делу. 3 декабря у Аббатуччи в его квартире на улице Комартен № 31 в присутствии доктора Конно Пьетри предложил корсиканцу Якопо-Франческо Кришелли,[36] уроженцу Ведзано, состоявшему на секретной личной службе Луи Бонапарта, двадцать пять тысяч франков за то, чтобы тот «задержал или убил Виктора Гюго». Кришелли согласился, но сказал: «Этого достаточно, если я буду один. А если нас будет двое?»
— Тогда получите пятьдесят тысяч, — ответил Пьетри.
Этот разговор Иван передал мне, еще когда мы находились у Дюпона Уайта на улице Монтабор, и умолял меня быть осторожнее.
Упомянув об этом, продолжаю свой рассказ.
Последствия резни, учиненной 4 декабря, сказались в полной мере только на другой день, 5 декабря; силы, которую мы вдохнули в сопротивление, хватило еще на несколько часов, и вечером, в густо застроенном квартале между улицей Пти-Карро и улицей Тампль, бои продолжались; баррикады на улицах Пажвен, Нев-Сент-Эстащ, Монторгейль, Рамбюто, Бобур, Транснонен сражались доблестно; народ забаррикадировал частую сеть улиц и перекрестков, войска взяли ее в кольцо.
Штурм велся с остервенением, с неумолимой жестокостью. Баррикада на улице Монторгейль была одной из тех, которые держались дольше всего. Чтобы взять ее, потребовался целый батальон и артиллерийский обстрел. В последние минуты ее защищали только три человека — два приказчика и ресторатор с соседней улицы. Когда баррикаду взяли, тьма уже сгустилась, и всем троим удалось бежать. Но они были окружены со всех сторон. Деваться некуда. Ни одной открытой двери. Как Жанти Сар и Шарпантье пробрались в проезд Сомон, так эти трое перелезли через решетку проезда Вердо и бросились бежать в противоположный его конец. Но и там решетка была заперта, и, подобно Жанти Сару и Шарпантье, они уже не успели бы перелезть через нее. Вдобавок они слышали, как с обеих сторон к проезду мчались солдаты. В уголке у входа лежало несколько досок, которыми хозяин ближайшей лавчонки обычно заколачивал ее на ночь. Беглецы забились под эти доски.
Взяв баррикаду, солдаты сначала обыскали окрестные улицы, а затем вздумали осмотреть и проезд Вердо. Они в свою очередь с фонарями перелезли через решетку, обшарили все вокруг и, не найдя никого, уже собирались уйти, как вдруг кто-то из них заметил, что из-под доски торчит нога одного из трех беглецов.
Всех их тут же закололи штыками.
Они кричали:
— Убейте нас сразу! Расстреляйте нас, только не мучьте!
Владельцы соседних лавок слышали эти крики, но не смели открыть дверь или хотя бы окно; они боялись, сказал один из них на другой день, «как бы с ними не сделали того же».
Закончив свое гнусное дело, палачи ушли; жертвы остались лежать в луже крови; один из этих несчастных испустил дух только на другой день, в восемь часов утра.
Никто не осмелился просить за него, никто не осмелился помочь ему; он умер на каменных плитах проезда.
К одному из защитников баррикады на улице Бобур судьба была милостивее.
За ним гнались. Он бросился на первую попавшуюся лестницу, одним духом взбежал по ней и вылез на крышу, а оттуда выбрался в длинный коридор, оказавшийся коридором верхнего этажа каких-то меблированных комнат. В одной из дверей торчал ключ. Недолго думая, он открыл ее и оказался лицом к лицу с человеком, собиравшимся лечь спать. Это был постоялец, приехавший вечером и уставший с дороги. Беглец сказал ему: «Я погиб, спасите меня!» и в двух словах объяснил положение. Приезжий ответил: «Раздевайтесь и ложитесь в мою постель». Затем он зажег сигару и преспокойно начал курить. Не успел беглец улечься, как в дверь постучали. То были солдаты, обыскивавшие дом. В ответ на их расспросы приезжий указал на кровать и объяснил: «Нас здесь только двое. Мы только что приехали. Я хотел перед сном выкурить сигару, а мой брат уже спит». Слуга, опрошенный солдатами, подтвердил слова приезжего, солдаты ушли, и никто не был расстрелян.
Скажем прямо: победив, солдаты стали убивать меньше, чем накануне. Теперь, овладев баррикадой, они уже не истребляли всех поголовно. В тот день был дан приказ брать пленных. Казалось, будет проявлена некоторая человечность. В чем же выразилась эта человечность? Сейчас увидим.
В одиннадцать часов вечера все было кончено.
Хватали всех, кто оказался на оцепленных войсками улицах, безразлично, сражались ли эти люди или нет; заставили открыть все кабачки и кафе, обыскали множество домов и забрали всех мужчин, которые там находились; не трогали только женщин и детей. Два полка, построенные в каре, отвели разношерстную толпу пленных в Тюильри, где их заперли в подвале, под террасой, выходящей на пруд.
Когда пленных привели в этот подвал, их тревога несколько улеглась. Они вспомнили, что в июньские дни 1848 года там содержалось множество восставших и что впоследствии всех этих людей приговорили к ссылке. Узники решили, что их тоже сошлют или предадут военному суду, а до этого еще далеко.
Их мучила жажда. Многие сражались с самого утра, а ведь ничто так не сушит рот, как скусывание патронов. Они попросили пить. Им принесли три кувшина воды.
Тогда узники сразу почувствовали себя увереннее: среди них были участники июньских дней 1848 года, хорошо помнившие, как они сидели в этом подвале. Эти люди говорили: «В июне с нами обошлись не так человечно. Нас трое суток продержали без еды и без питья».
Некоторые из пленных улеглись на полу, завернувшись в свои пальто и плащи, и заснули. В час пополуночи за дверьми послышался сильный шум; в подвал вошли солдаты с зажженными факелами; спавшие вскочили в испуге; офицер, командовавший солдатами, грубо велел всем встать.
Пленных вывели толпой, так же как привели. По мере того, как они выходили, их расставляли по двое, как попало, и сержант громким голосом считал их. У них не справлялись ни об их имени, ни о занятии, ни о семейном положении; не спрашивали, кто они такие, где проживают; довольствовались общей цифрой. Для того, что задумали сделать, общей цифры было достаточно.
Всего насчитали триста тридцать семь человек. Покончив с подсчетом, всех их построили сомкнутой колонной, опять-таки по двое в ряд, и велели держаться под руку. Пленные не были связаны, но по обе стороны, справа и слева, колонну тремя шеренгами конвоировали солдаты с заряженными ружьями. В голове колонны шел батальон пехоты, другой батальон составлял арьергард. Пленные двинулись в путь, вплотную окруженные движущейся изгородью штыков.
В ту минуту, когда колонна тронулась, один из пленных, молоденький студент-юрист, двадцатилетний эльзасец, белокурый и бледный, спросил капитана, шагавшего с саблей наголо подле него:
— Куда мы идем?
Офицер ничего не ответил.
Выйдя из Тюильри, колонна свернула направо и по набережной дошла до моста Согласия; перейдя мост, снова свернули направо, миновали площадь Инвалидов и направились к безлюдной набережной Гро-Кайу.
Мы уже отметили, что пленных было триста тридцать семь человек и что их распределили попарно; поэтому последний из них шел один. То был отважный боец баррикады Пажвен, друг Леконта-младшего. Волею случая сержант, шедший рядом с этим пленным, оказался его земляком. Проходя мимо фонаря, они узнали друг друга и вполголоса поспешно перебросились несколькими фразами.
— Куда нас ведут? — спросил пленный.
— В Военную школу, — ответил сержант, едва слышно прибавил: — Эх ты, бедняга! — и тотчас отошел от пленного.
Оба они шли в самом конце колонны; между последним рядом солдат, конвоировавших ее с обеих сторон, и первым рядом взвода, шедшего в арьергарде, оставалось расстояние.
Когда колонна свернула на пустынный бульвар Гро-Кайу, о котором мы только что упомянули, сержант быстро подошел к своему земляку и торопливо шепнул ему:
— Сейчас темно, место глухое. Вон там налево — деревья. Беги!
— Но ведь мне вдогонку будут стрелять, — сказал пленный.
— Промахнутся!
— А если меня убьют?
— Это будет не хуже, чем то, что тебя ожидает.
Пленный все понял; он пожал сержанту руку и, пользуясь тем, что между конвоирами и взводом, замыкавшим колонну, был небольшой промежуток, — одним прыжком выскочил из рядов и исчез в темноте под деревьями.
— Один сбежал! — крикнул офицер, командовавший арьергардным взводом. — Стой! Огонь!
Колонна остановилась. Солдаты наудачу выстрелили в ту сторону, куда бросился пленный, и, как предвидел сержант, промахнулись. Через несколько минут беглец достиг улиц, прилегающих к государственной табачной фабрике, и углубился в их густую сеть. Его не стали преследовать. Нельзя было задерживаться. К тому же погоня за беглецом могла расстроить ряды конвоиров и пленных; пытаясь поймать одного, легко было упустить остальных триста тридцать шесть человек.
Колонна продолжала свой путь. Дойдя до Иенского моста, она повернула налево и вступила на Марсово Поле.
Там пленных расстреляли всех до одного.
Эти триста тридцать шесть трупов были в числе тех, которые отвезли на Монмартрское кладбище и похоронили там, не засыпав головы землей.
Таким образом, семьи погибших смогли их опознать. Только после расстрела палачи узнали, кого они убили.
Среди этих трехсот тридцати шести жертв было много защитников баррикад, сооруженных на улицах Пажвен и Рамбюто, на улице Нев-Сент-Эсташ и у Порт-Сен-Дени. Было также человек сто, которых арестовали без всякой причины, только потому, что они шли по этим улицам.
Скажем сейчас же: начиная с третьего числа, массовые расстрелы повторялись почти каждую ночь. Они производились то на Марсовом Поле, то в полицейской префектуре, а иногда в обоих этих местах одновременно.
Когда в тюрьмах не хватало места, Мопа говорил: «Расстреливайте!» Тех, кого приводили в префектуру, расстреливали либо на дворе, либо на Иерусалимской улице. Несчастных ставили к стене, на которой расклеивают театральные афиши. Это место выбрали потому, что оно рядом со сточной канавой. Кровь тотчас стекала туда, не оставляя сколько-нибудь заметных следов. В пятницу 5 декабря подле этой сточной канавы расстреляли сто пятьдесят человек.
Один свидетель[37] сказал мне: «На другое утро я проходил по Иерусалимской улице. Мне показали это место. Носком сапога я разворошил грязь между булыжниками мостовой. Под грязью была кровь».
В этих немногих словах заключена вся история переворота и будет заключена вся история Луи Бонапарта. Разворошите эту грязь, вы найдете под ней кровь.
Пусть история запомнит это.
Резня на бульваре имела омерзительное продолжение — тайные казни. После этих диких зверств переворот снова стал действовать под покровом мрака. От наглых убийств среди бела дня он перешел к ночным убийствам в маске.
Свидетельств более чем достаточно.
Эскирос, скрывавшийся в квартале Гро-Кайу, каждую ночь слышал ружейные залпы, доносившиеся с Марсова Поля.
На вторую ночь после того, как Шамболя отвезли в тюрьму Мазас, он с полуночи до пяти часов утра слышал какие мощные залпы, что ему казалось — тюрьму берут приступом.
Так же, как Монферрье, Демулен видел кровь между булыжниками мостовой на Иерусалимской улице.
Проходя по мосту Пон-Неф, подполковник бывшей республиканской гвардии Кайо видит, как полицейские, приложив ружья к плечу, целятся в прохожих. Он восклицает:
— Вы позорите мундир!
Его тут же хватают и обыскивают. Полицейский говорит ему: «Если мы найдем при вас хоть один патрон, мы вас расстреляем». При нем ничего нет. Его ведут в полицейскую префектуру и заключают в арестный дом при полиции. Начальник арестного дома говорит ему: «Полковник, я хорошо вас знаю. Не сетуйте на то, что вы очутились здесь, а радуйтесь этому. Вы находитесь под моей охраной. Видите ли, я здесь свой человек, я имею доступ повсюду, я многое вижу, многое слышу, я знаю, что делается, знаю, что говорится, я угадываю то, о чем молчат. Ночью я слышу известного рода шум, утром я вижу известного рода следы. Я не злой человек. Я вас оберегаю, я укрываю вас. Ваше счастье, что вы теперь на моем попечении. Не будь вы здесь, вы лежали бы под землей»
Судья в отставке, зять генерала Лефло, разговаривает на мосту Согласия, у подъезда Палаты, с офицерами. К нему подходят полицейские: «Вы подстрекаете армию к бунту!» Он возражает. Его сажают в фиакр и везут в полицейскую префектуру. Подъезжая к этому зданию, он видит, как три муниципальных гвардейца ведут по набережной молодого человека в блузе и фуражке, подталкивая его прикладами. Возле спуска к Сене один из них кричит: «Ступай туда!» Молодой человек повинуется. Два муниципальных гвардейца стреляют ему в спину. Он падает. Третий гвардеец добивает его выстрелом в ухо.
Убийства продолжались еще и 13 декабря. В этот день, на рассвете, прохожий, шедший по безлюдной улице Сент-Оноре, видел три тяжело нагруженных фургона, ехавших под охраной конной стражи. По кровавому следу, тянувшемуся за этими фургонами, можно было определить их путь. Они направлялись от Марсова Поля к Монмартрскому кладбищу. Они были битком набиты трупами.
VI Совещательная комиссия
Когда миновала всякая опасность, отбросили всякое стеснение. Люди осторожные и благоразумные могли теперь признать совершившийся переворот и позволили оповестить об этом всю страну.
Вот это оповещение.
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ИМЕНЕМ ФРАНЦУЗСКОГО НАРОДА
Президент республики,
желая впредь до преобразования Законодательного корпуса и Государственного совета окружить себя людьми, по справедливости пользующимися уважением и доверием страны,
образовал совещательную комиссию, в состав которой входят:
Аббатуччи, бывший советник кассационного суда (от Луаре).
Генерал Ашар (от Мозеля).
Андре, Эрнест (от Сены).
Андре (от Шаранты).
Д'Аргу, управляющий Государственного банка, бывший министр.
Генерал Арриги, из Падуи (от Корсики).
Генерал де Бар (от Сены).
Генерал Бараге д'Илье (от Ду).
Барбару, бывший главный прокурор (от островов Согласия).
Барош, бывший министр внутренних дел и иностранных дел, заместитель председателя комиссии (от Нижней Шаранты).
Барро, Фердинанд, бывший министр (от Сены).
Барт, бывший министр, главноуправляющий Счетной палатой.
Батайль (от Верхней Вьенны).
Баву, Эварист (от Сены-и-Марны).
Де Бомон (от Соммы).
Берар (от Ло-и-Гаронны).
Берже, префект Сены (от Пюи-де-Дома).
Бертран (от Ионны).
Бидо (от Шера).
Бигрель (от Кот-дю-Нора).
Бильо, адвокат.
Бино, бывший министр (от Мена-и-Луары).
Буэнвилье, бывший председатель корпорации адвокатов (от Сены).
Бонжан, заместитель прокурора при кассационном суде (от Дромы).
Булатинье.
Бурбуссон (от Воклюза).
Брегье (от Ламанша).
Де Камбасерес, Юбер.
Де Камбасерес (от Эны).
Карлье, бывший префект полиции.
Де Казабьянка, бывший министр (от Корсики).
Генерал де Кастеллан, военный комендант города Лиона.
Де Коленкур (от Кальвадоса).
Вице-адмирал Сесиль (от Нижней Сены).
Шадне (от Мааса).
Шарлемань (от Эндры).
Шассень-Гуайон (от Пюи-де-Дома).
Генерал де Шаслу-Лоба (от Нижней Шаранты).
Ше д'Эст-Анж, адвокат (от Марны).
Де Шазейль, мэр города Клермон-Феррана (от Пюи-де-Дома).
Коллас (от Жиронды).
Де Крузейль, бывший советник кассационного суда, бывший министр (от Нижних Пиренеев).
Кюрьяль (от Орны).
Де Кювервиль (от Кот-дю-Нора).
Дабо (от Верхней Гаронны).
Дарист (от Нижних Пиренеев).
Давьель, бывший министр.
Делакост, бывший генеральный комиссар департамента Роны.
Делажюс (от Нижней Шаранты).
Делаво (от Эндра).
Дельтейль (от Ло).
Данжуа (от Жиронды).
Дежобер (от Нижней Сены).
Демару (от Алье).
Друэн де Люис, бывший министр (от Сены-и-Марны).
Теодор Дюко, морской министр и министр колоний (от Сены).
Дюма, член Института, бывший министр (от Севера).
Шарль Дюпен, член Института (от Нижней Сены).
Генерал Дюррье (от Ланд).
Морис Дюваль, бывший префект.
Эшасерьо (от Нижней Шаранты).
Маршал Эгзельманс, великий канцлер капитула Почетного Легиона.
Фердинанд Фавр (от Нижней Луары).
Генерал де Флао, бывший посланник.
Фортуль, министр народного образования (от Нижних Альп).
Ашиль Фульд, министр финансов (от Сены).
Де Фурман (от Соммы).
Фукье д'Эруэль (от Эны).
Фреми (от Ионны).
Фюртадо (от Сены).
Гаск (от Верхней Гаронны).
Галоид (от Ламанша).
Де Гаспарен, бывший министр.
Эрнест де Жирарден (от Шаранты).
Огюстен Жиро (от Мена-и-Луары).
Шарль Жиро, член Института, член совета министерства народного образования, бывший министр.
Годель (от Эны).
Гуло де Сен-Жермен (от Ламанша).
Генерал де Граммон (от Луары).
Де Граммон (от Верхней Соны).
Де Грелан (от островов Согласия).
Генерал де Груши (от Жиронды).
Аллез Клапаред (от Нижнего Рейна).
Генерал д'Опуль, бывший министр (от Ода).
Эбер (от Эны).
Де Геккерен (от Верхнего Рейна).
Д'Эранбо (от Па-де-Кале).
Эрман.
Эртье (от Луары).
Генерал Юссон (от Обы).
Жанвье (от Тарна-и-Гаронны).
Лаказ (от Верхних Пиренеев).
Лакрос, бывший министр (от Финистера).
Ладусет (от Мозеля).
Фредерик де Лагранж (от Жера).
Генерал де Лагит, бывший министр.
Делангль, бывший главный прокурор.
Ланкетен, председатель муниципальной комиссии.
Де Ларибуасьер (от Иля-и-Вилены).
Генерал Лавестин.
Лебеф (от Сены-и-Марны).
Генерал Лебретон (от Эры-и-Луары).
Леконт (от Ионны).
Леконт (от Кот-дю-Нора).
Лефебр-Дюрюфле, министр торговли (от Эры).
Лелю (от Верхней Сены).
Лемаруа (от Ламанша).
Лемерсье (от Шаранты).
Лекьен (от Па-де-Кале).
Лестибудуа (от Севера).
Левавассер (от Нижней Сены).
Леверрье (от Ламанша).
Лезе де Марнезиа (от Луары-и-Шера).
Генерал Маньян, главнокомандующий Парижской армией.
Мань, министр общественных работ (от Дордони).
Эдмон Мень (от Дордони).
Маршан (от Севера).
Матье Боде, адвокат при кассационном суде.
Де Мопа, префект полиции.
Де Мерод (от Севера).
Менар, председатель кассационного суда.
Менадье, бывший префект (от Лозеры).
Де Монталамбер (от Ду).
Де Морни (от Пюи-де-Дома).
Де Мортемар (от Нижней Сены).
Де Муши (от Уазы).
Де Мутье (от Ду).
Люсьен Мюрат (от Ло).
Генерал д'Орнано (от Эндры-и-Луары).
Пепен Легалер (от Сены-и-Марны).
Жозеф Перье, член совета Французского банка.
Де Персиньи (от Севера).
Пишон, мэр города Арраса (от Па-де-Кале).
Порталис, первый председатель кассационного суда.
Понжерар, мэр города Рена (от Иля-и-Вилены).
Генерал де Преваль.
Де Рансе (от Алжира).
Генерал Рандон, бывший министр, генерал-губернатор Алжира.
Генерал Реньо де Сен-Жан-д'Анжели, бывший министр (от Нижней Шаранты).
Ренуар де Бюссьер (от Нижнего Рейна).
Ренуар (от Лозера).
Генерал Роже.
Руэр, хранитель печати, министр юстиции (от Пюи-де-Дома).
Де Руайе, бывший министр, главный прокурор парижского апелляционного суда.
Генерал де Сент-Арно, военный министр.
Де Сент-Арно, адвокат при парижском апелляционном суде.
Де Салис (от Мозеля).
Сапей (от Изеры).
Шнейдер, бывший министр.
Де Сегюр д'Агессо (от Верхних Пиренеев).
Сейду (от Севера).
Амедей Тейер.
Тьеллен (от Кот-дю-Нора).
Де Ториньи, бывший министр.
Тупо де Бево (от Верхней Марны).
Туранжен, бывший префект.
Тролон, председатель апелляционного суда.
Де Тюрго, министр иностранных дел.
Вайян, маршал Франции.
Ваис, бывший министр (от Севера).
Де Вандель (от Верхней Марны).
Генерал Васт-Вимё (от Нижней Шаранты).
Вошель, мэр Версаля.
Вьяр (от Мёрты).
Вьейяр (от Ламанша).
Вильфруа.
Витри, заместитель министра финансов.
Де Ваграм.
Президент Республики
Луи-Наполеон Бонапарт.
Министр внутренних дел
де Морни.
В этом списке снова встречается фамилия Бурбуссон.
Было бы жаль, если б это имя кануло в безвестность.
Одновременно с правительственным плакатом появился протест Дарю, гласивший:
«Я присоединяюсь ко всем решениям, принятым Национальным собранием в мэрии X округа, 2 декабря 1851 года, на заседании, участвовать в котором мне воспрепятствовали силой.
Дарю».
Некоторые из членов совещательной комиссии только что вышли из тюрьмы Мазас или из форта Мон-Валерьен. Их выпустили оттуда, продержав в одиночном заключении одни сутки.
Как видно, эти законодатели не питали злобы к человеку, заставившему их испытать действие закона на собственной шкуре.
Многие другие лица, вошедшие в эту коллекцию, были известны только своими долгами, о которых трубила молва. Среди них был человек, дважды обанкротившийся, но, прибавляли в виде смягчающего обстоятельства, не под своим именем; про другого, члена знаменитейшего литературного или ученого общества, говорили, что он торгует своим голосом; третий — красивый, изящный, любимец большого света, вылощенный, изысканно одетый весь расшитый золотом, был на содержании у женщины и нравственно утопал в грязи.
Эти люди без особых колебаний объявили себя сторонниками акта, спасавшего общество.
В числе тех, из кого составили эту мозаику, были люди, которых не волновали никакие политические страсти; они согласились войти в список только для того, чтобы сохранить свои должности и оклады. Во времена Империи, как и до нее, они придерживались нейтралитета и в течение девятнадцатилетнего царствования продолжали, не мудрствуя, выполнять свои военные, судебные или административные функции; их окружало то уважение, которым по праву пользуются безобидные глупцы.
Были там и заправские политические деятели ученой школы, начавшейся с Гизо и не закончившейся на Парье, глубокомысленные врачеватели общественного порядка, успокаивающие испуганного буржуа и сохраняющие то, что давно умерло:
«Ужель мой глаз погиб?» — спросил Панкрас в испуге. «О нет, мой друг, о кет! Он здесь, в моей руке».В этом псевдогосударственном совете было много лиц, служивших в полиции, — тогда эта служба была в почете: Карлье, Пьетри, Мопа и др.
Вскоре после 2 декабря полиция под названием «смешанных комиссий» подменила собою суд; она выносила приговоры, назначала суровые кары, в законном порядке нарушала все законы, и судебное ведомство не чинило самозванным судьям никаких препятствий. С довольным видом распряженных почтовых лошадей правосудие предоставило полиции действовать по ее усмотрению.
Некоторые из названных в списке членов комиссии отказались участвовать в ней. Так поступили Леон Фоше, Гулар, Мортемар, Фредерик Гранье, Маршан, Мальяр, Параве, Беньо. Газетам было запрещено публиковать эти отказы.
Граф Беньо заказал себе визитные карточки, на которых значилось: «Граф Беньо, не состоящий в совещательной комиссии».
Жозеф Перье ходил с карандашом в руке из улицы в улицу и вычеркивал свою фамилию на всех расклеенных там плакатах, приговаривая: «Я забираю свое имя всюду, где нахожу его».
Генерал Бараге д'Илье не отказался, а ведь он был храбрый солдат. В войне с Россией он лишился руки; позднее ему пожаловали звание маршала; он был достоин получить его не от Луи Бонапарта. Кто бы предположил, что ему суждено так кончить.
В последних числах ноября генерал Бараге д'Илье, сидя в глубоком кресле, грелся у большого камина Конференц-зала Национального собрания. Один из его сотоварищей, тот, кто пишет эти строки, сел по другую сторону камина. Они не вступили в разговор, так как один из них принадлежал к правой, другой — к левой. Но вошел Пискатори, немножко правый и немножко левый. Он спросил Бараге д'Илье:
— Ну как, генерал? Дошли до вас последние слухи?
— Какие?
— Говорят, президент не сегодня-завтра захлопнет эти двери у нас перед носом.
В ответ генерал Бараге д'Илье сказал — я слышал его слова:
— Если господин Бонапарт захлопнет перед нами двери Собрания, Франция распахнет их перед нами настежь.
Луи Бонапарту пришла было мысль назвать вновь образованную комиссию исполнительной.
— Нет, — возразил Морни, — это значило бы предположить в членах комиссии некоторое мужество: они согласятся быть попустителями, но не захотят быть гонителями.
Генерала Рюльера сместили за то, что он осуждал пассивное повиновение армии.
Для облегчения души сообщим тут же еще один мелкий штрих: спустя несколько дней после 4 декабря Эмманюэль Араго встретил на улице Фобур-Сент-Оноре Дюпена.
— А! — воскликнул Араго. — Вы, видно, идете в Елисейский дворец?
— Я никогда не хожу в б…… — ответил Дюпен.
Он все-таки пошел туда.
Дюпен, как известно, был назначен главным прокурором кассационного суда.
VII Другой список
Рядом со списком присоединившихся уместно привести список изгнанных. Это даст возможность одним взглядом охватить стан приверженцев переворота и стан его противников.
ДЕКРЕТ
Статья первая. В целях охраны общественной безопасности изгоняются из пределов Франции, Алжира и колоний следующие лица, бывшие депутаты Собрания:
Эдмон Валантен
Поль Ракушо
Агриколь Пердигье
Эжен Шола
Луи Латрад
Мишель Рено
Жозеф Бенуа (от Роны)
Жозеф Бюргар
Жан Кольфаврю
Жозеф Фор (от Роны)
Пьер-Шарль Гамбон
Шарль Лагранж
Мартен Надо
Бартелеми Террье
Виктор Гюго
Кассаль
Синьяр
Винье
Шаррассен
Бансет
Савуа
Жоли
Комбье
Буассе
Дюше
Эннери
Гильго
Окстюль
Мишо-Буте
Бон
Бертолон
Шельшер
Де Флотт
Жуаньо
Лабуле
Брюи
Эскирос
Мадье де Монжо
Ноэль Парфе
Эмиль Пеан
Пеллетье
Распайль
Теодор Бак
Бансель
Белен (от Дромы)
Бес
Бурза
Брив
Шавуа
Клеман Дюлак
Дюпон де Бюссак
Гастон Дюссу
Гитер
Лафон
Ламарк
Пьер Лефран
Жюль Леру
Франсиск Мень
Малардье
Матье (от Дромы)
Милот
Розелли-Молле
Шаррас
Сен-Ферреоль
Соммье
Тестелен (от Севера)
Статья вторая. Если, в нарушение настоящего декрета, кто-либо из лиц, поименованных в первой статье, возвратится в пределы государства, это лицо, в целях охраны общественной безопасности, может быть отправлено в ссылку.
Настоящий декрет дан в Тюильрийском дворце по представлению совета министров 9 января 1852 года
Луи Бонапарт.
Министр внутренних дел
Де Морни.
Кроме того, был опубликован список «удаленных», в котором значились Эдгар Кине, Виктор Шоффур, генерал Леде, Паскаль Дюпра, Версиньи, Антони Туре, Тьер, Жирарден и Ремюза. Список «изгнанных» пополнился именами четырех депутатов: Мате, Греппо, Марка Дюфреса и Ришарде. На долю депутата Мио выпали мучения в казематах Африки. Таким образом, не считая жертв резни, победа, одержанная переворотом, выразилась в следующих цифрах: восемьдесят восемь депутатов изгнаны, один убит.
В Брюсселе я обычно завтракал в кафе Миль-Колон: это было место встречи изгнанников. 10 января я пригласил Мишеля де Буржа позавтракать со мной; мы сидели вдвоем за столиком. Официант принес мне газету «Монитер Франсе»; я мельком заглянул в нее и воскликнул:
— А! Вот список изгнанных. — Пробежав его глазами, я сказал Мишелю: — Должен сообщить вам неприятную новость. — Он побледнел. — Вас нет в этом списке. — Он просиял.
Мишель де Бурж, столь мужественный перед лицом смерти, страшился изгнания.
VIII Давид д'Анже
Неимоверная грубость сочеталась со звериной жестокостью. Выдающийся скульптор Давид д'Анже был арестован у себя дома, на улице Ассас. Войдя, полицейский комиссар спросил его:
— У вас есть оружие?
— Да, — ответил Давид. — Есть. Я мог бы защитить себя… — Помолчав, он прибавил: — Если бы имел дело с цивилизованными людьми.
— Где это оружие? — не унимался комиссар. — Покажите его.
Давид указал на свою мастерскую, полную прекрасных произведений. Его посадили в фиакр и повезли в арестный дом при полицейской префектуре.
Помещение арестного дома рассчитано на сто двадцать заключенных, а их там было семьсот. Давид оказался двенадцатым в камере на двоих. Ни света, ни воздуха. Над головой — узенькая отдушина. В углу камеры — смердящее ведро, одно на всех, неплотно прикрытое деревянной крышкой. В полдень, рассказывал Давид, приносит похлебку — какую-то теплую вонючую бурду.
Заключенные стояли у стен, на тюфяках, брошенных сторожами на пол. Лежать в такой тесноте было невозможно. В конце концов они, однако, ухитрились, тесно прижавшись друг к другу, улечься и даже вытянуть ноги. Им швырнули несколько одеял. Некоторым из них удавалось заснуть. На рассвете гремели засовы, открывалась дверь, тюремный сторож кричал: «Вставайте!» Заключенные переходили в коридор; сторож убирал тюфяки, выплескивал на каменные плиты несколько ведер воды, кое-как подтерев пол, снова кидал тюфяки на мокрые плиты и кричал заключенным: «Ступайте назад!» после чего их снова запирали до следующего утра. Время от времени приводили сотню новых заключенных и уводили сотню старых (из числа тех, кто просидел два-три дня). Что с ними делали? Ночью узники из своих камер слышали ружейные залпы, а наутро прохожие (мы уже говорили об этом) видели во дворе полицейской префектуры лужи крови.
Тюремщики вызывали заключенных в алфавитном порядке.
Однажды вызвали Давида д'Анже. Он собрал свои пожитки и хотел было выйти; но тут появился начальник тюрьмы, видимо оберегавший его, и торопливо сказал: «Останьтесь, господин Давид, останьтесь!»
Однажды утром в камеру Давида вошел Бюшез, бывший председатель Учредительного собрания.
— А! Это хорошо, что вы навещаете арестованных, — сказал Давид.
— Я сам арестован, — ответил Бюшез.
Давиду д'Анже предложили уехать в Америку. Он отказался; тогда согласились на Бельгию. 19 декабря он приехал в Брюссель. Придя ко мне, он сказал: «Я остановился в гостинице «Великий монарх», на улице Старьевщиков, номер восемьдесят девять, — и прибавил, смеясь: — Великий монарх, король, старьевщики, роялисты, восемьдесят девятый год, революция. Случаю нельзя отказать в остроумии».
IX Наше последнее собрание
Третьего декабря все было за нас; пятого декабря все обратилось против нас. Словно отхлынуло необъятное море, грозное во время прилива, зловещее при отливе. Таинственные движения народных масс!
Кто же был так могуществен, что сказал этому океану: «Ты не двинешься дальше»? Увы, пигмей!
Эти отливы бездонной пучины непостижимы.
Пучина страшится. Чего?
Того, что глубже ее самой. Преступления.
Народ отступил. Он отступил 5 декабря, 6 декабря он исчез.
На горизонте — ни проблеска света, только мрак приближающейся ночи.
Эта ночь — империя.
5 декабря мы почувствовали себя столь же одинокими, как и 2-го.
Но мы оставались стойкими. О нашем душевном состоянии в ту пору можно сказать: отчаяние — но не малодушие.
Дурные вести притекали теперь так же непрерывно, как два дня назад — хорошие. Обри (от Севера) был заключен в Консьержери. Красноречивый, всем нам дорогой Кремье — в тюрьме Мазас. Изгнанник Луи Блан, спешивший к нам, чтобы помочь Франции могуществом своего имени и своего духа, доехал только до Турне. Катастрофа 4 декабря преградила ему путь, так же как и Ледрю-Роллену.
Что касается генерала Неймайера — он не «пошел на Париж», а приехал туда. Зачем? Чтобы изъявить покорность.
Мы лишились пристанища; за домом № 15 по улице Ришелье следили, о доме № 11 по улице Монтабор донесли полиции. Мы скитались по городу, встречались то здесь, то там; второпях, шепотом обменивались несколькими словами; мы никогда не могли с уверенностью сказать, где переночуем и будет ли у нас еда, и по меньшей мере за одну из этих голов, не знавших, где приклониться вечером, уже была назначена награда.
Вот какими фразами мы перебрасывались при наших мимолетных встречах:
— Где такой-то?
— Арестован.
— А такой-то?
— Убит.
— А такой-то?
— Исчез.
Все же мы собрались еще один раз, у депутата Реймона, на площади Мадлен. Явились почти все. Я мог пожать руку Эдгару Кине, Шоффуру, Клеману Дюлаку, Банселю, Версиньи, Эмилю Пеану; я был рад снова встретить энергичного и неподкупного Коппенса, приютившего нас на улице Бланш, и нашего храброго товарища Понса Станда, которого мы потеряли из виду в дыму сражения. Из окон комнаты, где мы заседали, открывался вид на площадь Мадлен и на бульвары, покрытые темной массой войск. Солдаты, выстроенные в боевом порядке, имели свирепый вид и, казалось, готовы были в любую минуту броситься в бой. Вошел Шарамоль.
Вынув из-под своего широкого плаща пару пистолетов, он положил их на стол и сказал:
— Все кончено. Сейчас осуществимо и разумно только одно: отчаянный шаг. Я предлагаю его. Вы готовы на это, Виктор Гюго?
— Да, — ответил я.
Я не знал, что он скажет, но был уверен, что он не предложит ничего недостойного.
— Здесь, — продолжал он, — нас собралось примерно пятьдесят депутатов, оставшихся в живых. Мы — все, что сохранилось от Национального собрания, от всеобщего голосования, от закона, от права. Где мы будем завтра? Неизвестно. Нас либо разгонят, либо убьют. Но этот нынешний час принадлежит нам; он пройдет — и нас поглотит мрак. Такой случай уже не повторится. Воспользуемся им!
Здесь он остановился, обвел всех своим твердым взглядом и продолжал:
— Воспользуемся этим случаем, тем, что мы живы и что мы — все вместе. Кучка людей, собравшихся здесь, олицетворяет собой всю республику. Так пусть же республика, воплощенная в нас, встанет перед армией! Заставим армию отступить перед республикой и силу — отступить перед правом! В эту решающую минуту должна дрогнуть одна из сторон — либо сила, либо право. Если не дрогнет право, дрогнет сила. Если мы не дрогнем, дрогнут солдаты. Вперед, против преступления! Перед лицом закона преступление отступит. Как бы дело ни обернулось, мы выполним наш долг. Если мы останемся в живых — мы будем избавителями; если умрем — героями. Я предлагаю следующее.
Наступила глубокая тишина.
— Надев наши перевязи, спустимся торжественно по двое в ряд на площадь Мадлен. Вы видите — возле главной паперти перед своим полком в боевой готовности стоит полковник. Мы подойдем к нему, и там, в присутствии солдат, я призову его выполнить свой долг и возвратить свой отряд республике. Если же он откажется…
Шарамоль взял по пистолету в каждую руку.
— Я застрелю его.
Я обратился к нему:
— Шарамоль, я буду рядом с вами.
— Я это знал, — ответил Шарамоль и прибавил: — Этот выстрел разбудит народ.
Раздались возгласы:
— А что, если он его не разбудит?
— Тогда — умрем!
— Я с вами, — сказал я Шарамолю.
Мы обменялись рукопожатием.
Но тут посыпались возражения.
Никто не боялся, но все размышляли. Не будет ли это безумством, и притом бесполезным? Не значит ли это без малейшего шанса на успех поставить последнюю карту республики? Какая это была бы удача для Бонапарта! Одним ударом раздавить всех еще уцелевших противников и борцов! Раз навсегда покончить со всеми! Да, мы побеждены, спору нет, но зачем же поражение довершать истреблением? Успех невозможен. Всю армию никак не застрелить из пистолета. Последовать совету Шарамоля значило бы своими руками вырыть себе могилу — и только. Это было бы доблестное самоубийство, но все же самоубийство. В некоторых случаях быть только героем — значит быть эгоистом. Подвиг совершен мгновенно, слава обретена, умерший входит в историю — это так просто. На плечи тех, кто остался в живых, ложится тяжкое бремя долгого протеста, упорная борьба в изгнании; им остается горькая, суровая жизнь побежденного, продолжающего бороться с победителем. В политике необходима известная доля терпения. Дожидаться часа возмездия иногда труднее, чем ускорить развязку. Есть два вида мужества: храбрость и стойкость; первая присуща солдату, вторая — гражданину. Покончить, как придется, даже проявив при этом доблесть, — недостаточно. Выйти из тяжелого положения, избрав смерть, нетрудно; требуется нечто другое, более сложное: вывести из тяжелого положения отечество. «Нет, — твердили Шарамолю и мне наши благородные противники, — избрать то «сегодня», которое вы нам предлагаете, значит погубить наше «завтра»; берегитесь, в самоубийстве есть некоторая доля дезертирства».
Слово «дезертирство» потрясло Шарамоля.
— Хорошо, — сказал он, — я отказываюсь от своего предложения.
Это были великие минуты, и позднее, в изгнании, Кине, беседуя со мной, вспоминал их с глубоким волнением.
Мы разошлись. Больше мы не собирались.
Я бродил по улицам. Где приютиться на ночь? Я полагал, что за домом № 19 по улице Ришелье следят совершенно так же, как за домом № 15. Но было холодно, и я все же решил пойти в свое убежище, чем бы мне это ни угрожало. Оказалось, что я поступил правильно. Я поужинал куском хлеба и отлично выспался. Проснувшись на рассвете, я вспомнил о своих обязанностях, подумал о том, что сегодня уйду и, вернее всего, никогда уже не вернусь в эту комнату; взяв оставшийся кусок хлеба, я раскрошил его и разбросал крошки на карнизе окна для птиц.
X Долг можно понимать по-разному
Был ли такой момент, когда левая могла предотвратить государственный переворот?
Мы этого не думаем.
Но вот факт, о котором мы не вправе умолчать.
16 ноября 1851 года я был у себя дома, на улице Тур-д'Овернь, № 37. Я работал в своем кабинете; около полуночи мой слуга, приоткрыв дверь, спросил:
— Сударь, вы можете принять такого-то?
Он назвал фамилию.
— Да, — ответил я.
Посетитель вошел.
Об этом достойном, просвещенном человеке я должен говорить чрезвычайно сдержанно; я ограничусь указанием, что он имел право называть Бонапартов «моя семья».
Известно, что в семействе Бонапартов существовали две ветви: императорская и частная. Первая жила традициями Наполеона, вторая — Люсьена; впрочем, это деление не притязает на точность.
Поздний гость сел по другую сторону камина.
Сначала он заговорил со мной о мемуарах своей матери, благородной, добродетельной женщины, принцессы ***. Некоторое время тому назад он доверил мне эту рукопись с просьбой сообщить ему, считаю ли я опубликование ее нужным и своевременным. Чтение этих мемуаров, представлявших большой интерес, было для меня особенно приятно, так как почерк принцессы был очень похож на почерк моей матери. Я вручил рукопись моему гостю; он в течение нескольких минут рассеянно перелистывал ее; затем, резким движением повернувшись ко мне, он сказал:
— Республика погибла.
Я ответил:
— Почти.
Он продолжал:
— Если только вы ее не спасете.
— Я?
— Вы.
— Каким образом?
— Выслушайте меня.
И тут он с характерной для его выдающегося ума ясностью, иногда затемняемой парадоксами, обрисовал мне то отчаянное и вместе с тем выигрышное положение, в котором мы находились.
Вот каково было это положение, которое я, кстати сказать, расценивал совершенно так же, как он.
Правая часть Собрания насчитывала около четырехсот членов, левая — около ста восьмидесяти. Четыреста человек, составлявших большинство, распределялись поровну между тремя партиями: легитимистов, орлеанистов и бонапартистов, и почти все были клерикалами. Сто восемьдесят человек меньшинства все до единого были республиканцами. Правая опасалась левой и приняла против меньшинства меру предосторожности, заключавшуюся в том, что из шестнадцати наиболее влиятельных членов правой был образован наблюдательный комитет. На обязанности этого комитета лежало объединение действий трех партий, входивших в состав правой, а главное — наблюдение за левой. Левая сначала только иронизировала по этому поводу и, заимствовав у меня слово, с которым тогда, впрочем ошибочно, связывали понятие дряхлости, прозвала шестнадцать членов комитета «бургграфами». Затем ирония сменилась подозрениями, и левая в конце концов также создала, чтобы руководить левой и наблюдать за правой, комитет из шестнадцати членов, которых правая тотчас прозвала «красными бургграфами». Невинные репрессалии! В результате правая наблюдала за левой, левая наблюдала за правой, а за Бонапартом не наблюдал никто. Два стада, настолько боявшиеся друг друга, что позабыли о волке. А между тем в своем логове, Елисейском дворце, Бонапарт не дремал. Он сумел использовать время, которое большинство и меньшинство Собрания тратило попусту на взаимную слежку. Как люди задолго до гибели чуют, что на них несется лавина, так во мраке чувствовалось приближение катастрофы. Врага выслеживали, но смотрели не в ту сторону, откуда грозила опасность. Уметь безошибочно направить свои подозрения — в этом секрет большой политики. Собрание 1851 года не обладало этой зоркостью взгляда. Перспективы были неясны, каждый представлял себе будущее по-своему, какая-то политическая близорукость затемняла взор и правой и левой; все чего-то боялись, но не того, чего следовало; мы подозревали какую-то тайну, перед нами была западня, но мы искали ее там, где ее не было, и не замечали ее там, где она находилась. Вот почему оба стада, большинство и меньшинство, в смятении стояли друг против друга, и покуда вожаки с одной стороны, руководители с другой, сосредоточенные, настороженные, тревожно спрашивали себя: одни — что означает рычание левой, другие — что означает блеянье правой, — над теми и другими уже нависла угроза: в любую минуту переворот мог вонзить свои острые когти им в горло.
— Вы — один из шестнадцати? — спросил поздний посетитель.
— Да, — ответил я улыбаясь. — Я — «красный бургграф».
— Как я — красный принц.
В ответ на мою улыбку он тоже улыбнулся. Затем он спросил.
— Вы имеете полномочия?
— Да. Такие же, как и другие члены комитета.
Я добавил:
— Не большие, чем другие. У левой нет главарей.
Он продолжал:
— Ион, полицейский комиссар Собрания, — республиканец?
— Да.
— Он подчинится приказу, подписанному вами?
— Возможно.
— А я говорю — несомненно.
При этих словах мой собеседник пристально взглянул на меня.
— Так вот, сегодня же ночью прикажите арестовать президента.
Тут я в свою очередь взглянул на него.
— Что вы хотите этим сказать?
— Именно то, что говорю.
Должен отметить — его речь звучала четко, твердо, убежденно; у меня навсегда осталось от нее впечатление полной искренности.
— Арестовать президента! — воскликнул я.
Тогда он стал объяснять мне, что это необычайное предприятие весьма несложно; он доказывал, что армия колеблется, что в армии влияние генералов, сражавшихся в Африке, уравновешивает влияние президента, что Национальная гвардия — за Собрание, притом за его левую часть, что полковник Форестье ручается за 8-й легион, полковник Грессье — за 6-й, а полковник Овин — за 5-й; что стоит только Комитету левой приказать, и вся Национальная гвардия возьмется за оружие; одной моей подписи, уверял он, будет достаточно, но если я предпочту в строжайшей тайне собрать комитет, то можно подождать до завтра. Он говорил, что по приказу комитета шестнадцати целый батальон двинется на Елисейский дворец, что во дворце ничего не опасаются, так как там думают только о нападении, а не о защите, и потому их можно застигнуть врасплох, что регулярные войска не пойдут против Национальной гвардии, что дело будет сделано без единого выстрела, что ворота Венсенского замка распахнутся и захлопнутся, пока Париж будет спать: президент проведет там остаток ночи, и Франция, пробудившись, услышит сразу две добрые вести: Бонапарт выведен из строя, и республика спасена.
Он добавил:
— Вы можете рассчитывать на двух генералов, Неймайера в Лионе и Лавестина в Париже.
Он встал и прислонился к камину; я как сейчас вижу его, погруженного в раздумье. Потом он сказал:
— Я не в силах снова пойти в изгнание, но я полон решимости спасти мою семью и мое отечество.
Вероятно, ему показалось, что я удивлен; поэтому все последующее он произнес особенно твердо и как бы подчеркивая каждое слово:
— Я выражу свою мысль яснее; да, я хочу спасти мою семью и мое отечество. Я ношу имя Наполеона, но, как вы знаете, я чужд фанатизма. Я — Бонапарт, но не бонапартист. Я уважаю это имя, но сужу о нем беспристрастно. На нем уже есть пятно — Восемнадцатое брюмера. Неужели к этому пятну прибавится еще одно? Старое пятно исчезло под славой. Брюмер смыт Аустерлицем. Гений Наполеона послужил ему оправданием. Народ так восхищался им, что простил его. Наполеон вознесен на колонну; это уже произошло; теперь пусть его оставят там в покое. Пусть не подражают ему в его дурных делах. Пусть не заставляют Францию слишком живо вспоминать о них. Слава Наполеона уязвима. Что бы ни говорили, что бы ни делали апологеты, все-таки нельзя отрицать, что переворотом Восемнадцатого брюмера Наполеон сам себе нанес первый удар.
— Вы правы, — согласился я, — всякое преступление неминуемо обращается против того, кто его совершил.
— Так вот, — продолжал он, — слава Наполеона пережила первый удар, второй убьет ее. Я этого не хочу! Я ненавижу первое Восемнадцатое брюмера, я страшусь второго. Я хочу предотвратить его.
Помолчав, он сказал:
— Вот почему я сегодня ночью пришел к вам. Я хочу спасти эту великую славу, которой угрожает гибель. Если вы сделаете то, что я вам советую, если левая это сделает, — я тем самым спасу первого Наполеона; ибо если его славу запятнает еще и второе преступление — она исчезнет. Да, это имя канет в безвестность, история отречется от него. Я иду еще дальше, я развиваю свою мысль до конца. Я спасаю и нынешнего Наполеона — ведь ему, уже бесславному, досталось бы только преступление. Я спасаю его память от вечного позора. Итак, арестуйте его.
Искренне, глубоко взволнованный, он оборвал свою речь. Немного погодя он сказал:
— Что касается республики, для нее арест Луи Бонапарта — избавление. Значит, я прав, говоря, что тем предложением, которое я вам сделал, я спасаю и свою семью и свое отечество.
— Но, — возразил я, — то, что вы мне предлагаете, — государственный переворот.
— Вы думаете?
— Несомненно! Мы, меньшинство, поступили бы так, словно мы — большинство. Мы, являющиеся лишь частью Собрания, действовали бы за все Собрание. Мы, осуждающие узурпацию, сами совершили бы узурпацию. Мы наложили бы руку на должностное лицо, которое может быть арестовано только по приказу Собрания. Мы, защитники конституции, нарушили бы конституцию. Мы, представители законности, извратили бы закон. Что же это, как не государственный переворот?
— Да, но переворот ради блага общества.
— Зло, совершенное ради блага, все же остается злом.
— Даже когда оно достигает цели?
— Особенно когда оно достигает цели.
— Почему?
— Потому, что тогда оно становится примером.
— Значит, вы не одобряете Восемнадцатое фрюктидора?
— Нет.
— Однако такие действия, как Восемнадцатое фрюктидора, препятствуют таким, как Восемнадцатое брюмера.
— Нет. Они их подготовляют.
— Но существует ведь государственная необходимость.
— Нет. Существует только закон.
— Многие безукоризненно честные умы одобряют Восемнадцатое фрюктидора.
— Я знаю.
— Бланки — за, и Мишле — тоже.
— Я и Барбес — против.
От моральных соображений я перешел к практическим.
— Я высказал вам свою точку зрения, — заявил я, — а теперь рассмотрим ваш план.
Этот план изобиловал трудностями. Я доказал это самым наглядным образом.
— Рассчитывать на Национальную гвардию? Но генерал Лавестин еще не командует ею! Рассчитывать на армию? Но генерал Неймайер в Лионе, а не в Париже! Можно ли поручиться, что он двинет свои войска на помощь Собранию? Откуда это известно? Что до Лавестина, — разве он не двуличен? Можно ли положиться на него? Призвать к оружию восьмой легион? Но Форестье уже не командует им. А как обстоит дело с пятым, с шестым легионом? Грессье и Овин, как известно, только подполковники — удастся ли им увлечь эти легионы за собой? Обратиться к комиссару Иону? Но подчинится ли он приказу, исходящему от одной левой? Он состоит при Собрании, следовательно, должен выполнять волю большинства, а не меньшинства. Все эти вопросы пока что остаются без ответа. Но если даже все они разрешатся, и притом успешно, — разве суть дела в успехе? Самое важное отнюдь не успех, а право. И в данном случае, даже если наши действия будут успешны, право не за нас. Чтобы арестовать президента, нужен приказ Собрания, а мы заменили бы этот приказ насильственными действиями левой. Захват и взлом: захват власти, взлом закона. Теперь предположим, что будет оказано сопротивление; мы стали бы проливать кровь. Нарушение закона влечет за собой кровопролитие. Что же все это, в общей сложности? Преступление.
— Нет, нет, — воскликнул он, — это — salus populi. [38] — И докончил:
— Suprema lex. [39]
Я возразил:
— Не для меня, — и решительным тоном продолжал: — Даже ради спасения целого народа я не убил бы и ребенка.
— Катон пошел бы на это.
— Иисус не пошел бы.
Я прибавил:
— За вас — весь древний мир. Вы правы с точки зрения греков и римлян, я прав с точки зрения человечества. Кругозор людей нашего времени шире кругозора древних.
Настало молчание. Он первый прервал его:
— В таком случае нападающей стороной будет он.
— Ну что ж!
— Сражение, которое вы дадите, проиграно заранее.
— Возможно.
— И для вас лично, Виктор Гюго, эта неравная борьба может кончиться только смертью или изгнанием.
— Я тоже так думаю.
— Смерть наступает мгновенно, изгнание длится долго.
— Придется привыкнуть к нему.
Он продолжал:
— Вас не только подвергнут изгнанию; на вас будут клеветать.
— К этому я уже привык.
Он настаивал:
— Знаете ли вы, что говорят уже и сейчас?
— Что именно?
— Будто вы раздражены против него за то, что он отказался назначить вас министром.
— Но вы-то знаете…
— Я знаю, что было как раз наоборот: он предложил вам портфель, а вы отказались.
— Ну, значит…
— Будут лгать.
— Пусть!
Он воскликнул:
— Итак, благодаря вам Бонапарты возвратились во Францию[40] — и вы будете изгнаны из Франции одним из Бонапартов!
— Кто знает, — заметил я, — не сделал ли я тогда ошибку? Возможно, предстоящая несправедливость будет актом справедливости.
Разговор снова прервался. Затем он спросил меня:
— Будете ли вы в силах перенести изгнание?
— Постараюсь.
— Сможете ли вы жить вдали от Парижа?
— У меня будет океан.
— Вы думаете поселиться на берегу моря?
— Я так предполагаю.
— Унылое зрелище!
— Величественное!
Помолчав, мой собеседник сказал:
— Послушайте, вы не знаете, что такое изгнание, а я знаю. Изгнание ужасно. Нет, я никогда не соглашусь снова претерпеть его. От смерти нет возврата в жизнь. От жизни на родине нет возврата в изгнание.
Я ответил:
— Если понадобится, я пойду в изгнание, и не один раз.
— Нет, лучше умереть. Расстаться с жизнью нетрудно, но расстаться с родиной…
— Увы! — докончил я. — Это значит — лишиться всего.
— А тогда к чему соглашаться на изгнание, если можно избежать его? Что же вы ставите выше родины?
— Совесть.
Мой ответ несколько озадачил его. Он помолчал, но затем возобновил спор.
— И однако, если вдуматься, — ваша совесть одобрит вас.
— Нет.
— Почему?
— Я уже сказал вам. Моя совесть такова, что ничего не ставит выше себя самой. Я чувствую ее главенство над собой, как утес мог бы чувствовать сооруженный на нем маяк. Жизнь — бездна, и совесть освещает ее вокруг меня.
— Я тоже, — воскликнул он, и здесь нужно отметить полнейшую искренность и убежденность его речи, — я тоже чувствую и вижу свою совесть. И она одобряет меня. Может казаться, что я предаю Луи; нет, я оказываю ему величайшую услугу. Помешать ему совершить преступление — значит спасти его. Я всеми средствами пытался это сделать. Остается одно — арестовать его. Обращаясь к вам, действуя так, как я действую, я составляю заговор против него, и вместе с тем в его пользу, против его власти — и за его честь. Я поступаю правильно.
— Это правда, — сказал я, — вами руководит благородная, возвышенная мысль.
Я продолжал:
— Но у каждого из нас свой долг. Я мог бы помешать преступлению Луи Бонапарта, только сам став преступником. Я не хочу ни повторения Восемнадцатого брюмера для него, ни повторения Восемнадцатого фрюктидора для себя. Пусть лучше я буду изгнанником, чем гонителем. Я могу: или совершить преступление, или дать Луи Бонапарту совершить его. Что до меня, я не пойду на преступное дело.
— Тогда вы пострадаете от его преступления.
— Я готов пострадать от него, но не хочу стать преступником.
Подумав, он сказал мне:
— Пусть будет так. — И прибавил: — Быть может, мы оба правы.
Он взял рукопись мемуаров своей матери и вышел.
Было три часа утра. Наша беседа длилась больше двух часов. Я лег спать только после того, как записал ее.
XI Борьба кончена, начинается испытание
Я не знал, где искать приюта.
7 декабря, после полудня, я решился еще раз зайти в дом № 19 на улице Ришелье. Под воротами кто-то схватил меня за руку. То была г-жа Д. Она поджидала меня.
— Не входите, — сказала она.
— Меня выследили?
— Да.
— И поймают?
— Нет.
Она прибавила:
— Пойдемте.
Мы пересекли двор, по узкому проходу вышли на улицу Фонтен-Мольер, а оттуда к площади Пале-Рояль. Там, как всегда, стояли фиакры. Мы сели в первый попавшийся.
— Куда ехать? — спросил кучер.
Г-жа Д. посмотрела на меня.
Я ответил:
— Не знаю.
— А я знаю, — сказала она.
Женщины всегда знают, где спасение.
Через час я был в безопасности.
Начиная с 4 декабря, каждый из проходивших дней укреплял переворот. Наше поражение было полным, мы чувствовали, что все покинули нас. Париж стал словно лесом, где Луи Бонапарт травил депутатов; хищный зверь гнался за охотниками. Мы слышали позади себя глухой лай Мопа. Нам пришлось рассеяться во все стороны. Преследование было ожесточенным. Мы вступили во вторую стадию исполнения долга — приняли катастрофу и претерпевали ее последствия. Побежденные обратились в гонимых. У каждого была своя судьба. Моим уделом, как и следовало ожидать, раз смерть упустила меня, стало изгнание. Здесь не место говорить об этом; я рассказываю не о себе и не вправе привлекать к своей особе хотя бы крупицу того внимания, которое эта книга может возбудить. К тому же все, что касается лично меня, можно прочесть в книге, ставшей одним из заветов изгнания.[41]
Как бы яростно нас ни преследовали, я считал своим долгом оставаться в Париже, пока еще мерцал хоть слабый луч надежды, пока пробуждение народа еще казалось возможным. Маларме дал мне знать в мое убежище, что во вторник 9 декабря в Бельвиле начнется восстание. Я прождал до 12-го. Ничто не шелохнулось. Народ действительно был мертв. К счастью, смерть народа, как и смерть богов, всегда кратковременна.
Я в последний раз встретился с Жюлем Фавром и Мишелем де Буржем у г-жи Дидье, на улице Виль-Левек. Наше свидание произошло ночью. Бастид тоже был там. Этот мужественный человек сказал мне:
— Вы покидаете Париж, я остаюсь. Сделайте меня своим заместителем. Из вашего изгнания указывайте мне, как действовать. Располагайте мною так, словно я — ваша рука, оставшаяся во Франции.
— Я буду располагать вами так, словно вы — мое сердце, — ответил я.
14 декабря, после приключений, рассказанных в книге моего сына Шарля, мне удалось добраться до Брюсселя.
Побежденные подобны пеплу; дуновения судьбы достаточно, чтобы их развеять. Зловещий мрак поглотил всех, кто сражался за право и закон. Трагическое исчезновение.
XII Изгнанники
Преступление удалось, и все примкнули к нему. Можно было упорствовать, но не сопротивляться. Положение становилось все более безнадежным. Казалось, на горизонте вырастает огромная стена, которая вот-вот закроет его целиком.
Оставалось одно: уйти в изгнание.
Люди великой души, гордость народа, эмигрировали. Это было мрачное зрелище: Франция, изгнанная из Франции.
Но все, что кажется утраченным для настоящего, идет на пользу будущему: рука, разбрасывающая зерно по ветру, в то же время засевает.
Депутаты левой, окруженные, выслеженные, гонимые, травимые, в течение многих дней скитались от убежища к убежищу; тем, кто уцелел, удалось выехать из Парижа и Франции лишь после долгих мытарств. У Мадье де Монжо были черные как смоль, очень густые брови. Он наполовину сбрил их, коротко остриг волосы и отрастил бороду. Иван, Пеллетье, Жендрие, Дутр сбрили усы и бороду. Версиньи приехал в Брюссель 14 декабря с паспортом на имя некоего Морена. Шельшер переоделся священником. Эта одежда удивительно шла ему; она была под стать его суровому лицу и строгому голосу. Шельшеру помог один достойный священник: он дал ему свою сутану и брыжи, посоветовал снять бакенбарды за несколько дней до отъезда, чтобы свежевыбритые щеки не выдали его, дал ему свой собственный паспорт и расстался с ним только на вокзале.[42]
Де Флотт нарядился ливрейным слугой и в этом виде перебрался через бельгийскую границу у Мускрона. Оттуда он проехал в Гент, потом в Брюссель.
Вечером 25 декабря я вернулся в маленькую нетопленную комнату № 9, которую занимал на третьем этаже гостиницы Порт-Верт. Было около полуночи; я лег в постель и задремал, как вдруг в дверь постучали. Я проснулся и сказал: «Войдите» (ключ я всегда оставлял снаружи). Вошла служанка со свечой, а следом за ней — двое незнакомых мне мужчин. Один из них был гентский адвокат М., другой — де Флотт. Он взял меня за обе руки и долго, нежно пожимал их.
— Как! — воскликнул я. — Это вы?
В Собрании де Флотт всем своим обликом — задумчивыми глазами, высоким лбом мыслителя, коротко остриженными волосами, длинной, слегка курчавившейся бородой напоминал творения кисти Себастьяна дель Пьомбо; казалось, он сошел с картины «Воскрешение Лазаря». Сейчас я видел перед собой худощавого, бледного молодого человека в очках. Но ему не удалось изменить все то, в чем мне тотчас открылся прежний де Флотт: благородное сердце, возвышенность мысли, смелый ум, неукротимую отвагу; если я не узнал его лица, я тотчас узнал его рукопожатие.
Эдгара Кине увезла 10 декабря благородная женщина, валашская княгиня Кантакузен. Она взялась переправить его через границу и сдержала слово. Это было нелегкое дело. Кине снабдили заграничным паспортом на имя некоего Грубеско. Он должен был выдавать себя за валаха и делать вид, что ни слова не понимает по-французски, — он, который мастерски пишет на этом языке. Путешествие было очень тревожным. Начиная с вокзала в Париже, на всем протяжении пути то и дело требовали паспорта. В Амьене к путешественникам особенно придирались, а в Лилле они попали в опаснейшее положение. Жандармы с фонарями в руках ходили по всем вагонам и, внимательно разглядывая пассажиров, проверяли указанные в паспортах приметы. Нескольких человек, возбудивших подозрения, немедленно арестовали и отвели в тюрьму. Эдгар Кине, сидевший рядом с княгиней Кантакузен, ждал, когда дойдет очередь до их вагона. Наконец появились жандармы. Г-жа Кантакузен быстро подалась вперед и тотчас предъявила жандармам свой паспорт. Но жандармский бригадир отстранил ее, сказав: «Не нужно, сударыня. Нас не интересуют паспорта женщин», и тут же грубо спросил у Кине его документы. Кине держал свой паспорт наготове. Жандарм заявил:
— Выйдите из вагона, мы проверим ваши приметы.
Кине вышел. Но, как нарочно, в валашском паспорте не были указаны приметы. Бригадир нахмурился и сказал своим подручным:
— Паспорт не в порядке. Сходите за комиссаром.
Казалось, все пропало. Но тут г-жа Кантакузен обратилась к Кине по-валашски, сыпля непонятными словами так быстро и с таким невероятным апломбом, что сомнения жандарма рассеялись. Он поверил, что перед ним настоящие валахи, и, видя, что поезд сейчас тронется, вернул Кине его паспорт со словами: «Ладно, убирайтесь!» Спустя несколько часов Кине был уже в Бельгии.
Арно (от Арьежа) также испытал немало трудностей: за ним следили, ему пришлось прятаться. Арно был верующий католик, поэтому его жена обратилась к священникам; аббат Дегерри уклонился, аббат Маре согласился помочь; он выказал доброту и мужество. В течение двух недель Арно скрывался в квартире этого достойного священника. Находясь у аббата Маре, он написал архиепископу Парижскому письмо с призывом отказаться от Пантеона, декретом Луи Бонапарта отнятого у Франции и отданного Риму. Это письмо привело архиепископа в ярость. Изгнанный из Франции, Арно уехал в Брюссель; там, прожив на свете полтора года, умерла «маленькая революционерка», 3 декабря доставившая архиепископу письмо рабочего, — ангел, которого бог послал священнослужителю, не узнавшему ангела и отрекшемуся от бога.
В этом поразительном многообразии событий и приключений каждому досталась своя драма. Та, которую пережил Курне, была необычайна и ужасна.
Курне, как мы уже говорили, был прежде морским офицером. Он принадлежал к числу тех чрезвычайно решительных людей, которые подчиняют себе волю окружающих и в дни великих потрясений способны увлечь за собой массы. Его гордая осанка, широкие плечи, сильные руки, мощные кулаки, высокий рост внушали доверие толпе, а проницательный взгляд располагал к нему людей мыслящих. Глядя на него, вы изумлялись его силе; слушая его, вы чувствовали нечто более могущественное, чем физическая сила, — твердую волю. В молодости он служил на наших военных кораблях. Сочетая в себе пылкость человека из народа и спокойствие военного, Курне, полный энергии, нашедший достойных руководителей и достойную цель, стал воодушевляющим примером и в то же время опорой дела, которому отдался; то была натура, созданная для того, чтобы бороться с ураганом и вести толпу. Эти люди понимают народ, потому что они изучили океан, и во время революций, как и во время бури, они — в своей стихии.
Как мы уже говорили, Курне принял деятельное участие в борьбе, был отважен и неутомим. Он был одним из тех, кто мог снова разжечь угасавшее сопротивление. В среду днем нескольким полицейским было приказано отыскать Курне, арестовать его, где бы они его ни нашли, и доставить в полицейскую префектуру, куда уже был послан приказ немедленно расстрелять его.
Тем временем Курне, участвуя в законном сопротивлении, с обычной своей смелостью ходил по всему Парижу, даже по тем кварталам, которые были заняты войсками. Он принял одну только предосторожность: сбрил усы.
В четверг днем Курне стоял на бульваре, в нескольких шагах от кавалерийского полка, построенного в боевом порядке. Он спокойно разговаривал с двумя своими соратниками, Юи и Лореном. Вдруг он заметил, что его и обоих его спутников вплотную окружил полицейский отряд; какой-то человек коснулся его руки и сказал:
— Вы Курне. Я вас арестую.
— Что за вздор! — ответил Курне. — Моя фамилия Лепин.
Человек повторил:
— Вы Курне! Неужели вы меня не узнаете? А я вас сразу узнал; я был вместе с вами членом избирательного комитета социалистов.
Курне взглянул на неизвестного в упор и вспомнил эту физиономию. Шпион говорил правду. Он действительно участвовал в заседаниях на улице Сен-Спир. Шпион рассмеялся и прибавил:
— Мы вместе выбирали Эжена Сю.
Отпираться было бесполезно, а сопротивляться при данных обстоятельствах — невозможно. Как мы уже сказали, Курне и его спутников обступили человек двадцать полицейских, а рядом стоял драгунский полк.
— Я иду с вами, — сказал Курне.
Подозвали фиакр.
— Раз уж я взялся за дело, — заявил шпион, — садитесь-ка все трое.
Он подвел их к фиакру, усадил Юи и Лорена на переднее сиденье, на заднее сел сам с Курне и крикнул кучеру:
— В префектуру!
Полицейские окружили фиакр. Но случайно ли, или по самонадеянности шпиона, или потому, что ему хотелось поскорее получить награду за поимку, — человек, арестовавший Курне, крикнул кучеру: «Скорей! Скорей!» — и фиакр помчался.
Курне знал, что его расстреляют, как только он войдет во двор префектуры. Он твердо решил, что его туда не довезут.
На повороте улицы Сент-Антуан он украдкой обернулся и увидел, что полицейские сильно отстали.
Никто из четверых людей, сидевших в фиакре, еще не проронил ни слова.
Курне бросил товарищам, сидевшим напротив нею, взгляд, означавший: «Нас трое, воспользуемся этим — надо бежать!» В ответ они едва заметно подмигнули ему, косясь на улицу, где было очень людно. Этот взгляд говорил: «Нет».
Спустя несколько минут фиакр с улицы Сент-Антуан свернул на улицу Фурси — там всегда мало прохожих, а сейчас не было никого.
Курне резким движением повернулся к шпиону и спросил его:
— У вас есть ордер на мой арест?
— Нет, но при мне мое удостоверение.
Вынув из кармана документ, выданный полицией, шпион показал его Курне, и тут между этими двумя людьми произошел следующий разговор.
— Это беззаконие!
— Ну и что ж?
— Вы не имели права арестовать меня.
— А все-таки я вас арестую.
— Послушайте, ведь для вас все дело в деньгах. Я вам заплачу, деньги при мне. Дайте мне возможность бежать.
— Если бы вы предложили мне слиток золота величиной с вашу голову, и то я бы не соблазнился. Вы — самая крупная моя добыча, гражданин Курне.
— Куда вы меня везете?
— В полицейскую префектуру.
— Что же, меня там расстреляют?
— Пожалуй, что да.
— И обоих моих товарищей?
— Все может быть.
— Я не хочу ехать в префектуру.
— И все-таки придется.
— А я тебе говорю: не поеду, — крикнул Курне и молниеносным движением схватил шпиона за горло.
Тот и пикнуть не успел; тщетно он отбивался — его стиснула железная рука.
Язык у него высунулся изо рта, глаза, выражавшие ужас, вышли из орбит; вдруг голова его опустилась, на губах выступила кровавая пена; он был мертв.
Недвижные, будто их тоже поразила смерть, Юи и Лорен наблюдали эту страшную сцену.
Они не вымолвили ни слова, не тронулись с места. Фиакр все катился.
— Откройте дверцу, — приказал Курне товарищам.
Они не шелохнулись; оба словно окаменели.
Курне, вдавивший большой палец правой руки в шею негодяя-шпиона, пытался открыть дверцу левой рукой, но это ему не удалось. Сообразив, что без помощи правой руки не обойтись, он разжал пальцы. Мертвец повалился лицом вниз, ему на колени.
Курне открыл дверцу и сказал:
— Выходите!
Юи и Лорен выскочили из фиакра и помчались прочь.
Кучер ничего не заметил.
Курне выждал, пока беглецы скрылись из виду, затем дернул звонок, приказал кучеру остановиться, не торопясь вышел из фиакра, закрыл за собой дверцу, преспокойно вынул из кошелька сорок су, отдал их кучеру, не слезавшему с козел, и сказал: «Поезжайте дальше».
Курне пошел по парижским улицам. На площади Виктуар он встретил своего друга, бывшего члена Учредительного собрания Исидора Бювинье, полтора месяца назад освобожденного из тюрьмы Маделонет, где он отбывал наказание по делу «Солидарите Репюбликен». Бювинье был одним из самых выдающихся членов крайней левой. Светловолосый, наголо остриженный, со строгим взглядом, он напоминал английских «круглоголовых»; в нем было больше сходства с пуританами Кромвеля, чем с монтаньярами Дантона. Курне рассказал ему о том, что произошло, о жестокой крайности, принудившей его действовать.
Бювинье покачал головой и сказал:
— Ты убил человека.
В «Марии Тюдор» я в сходной ситуации вложил в уста Фабиани реплику:
— Нет, еврея.
Курне, по всей вероятности не читавший «Марии Тюдор», ответил:
— Нет, шпиона, — и прибавил: — Я убил шпиона, чтобы спасти трех человек, в том числе — себя.
Курне был прав. Борьба была в самом разгаре, его везли на расстрел, арестовавший его шпион был в сущности наемный убийца, здесь несомненно была налицо законная самозащита. Прибавлю от себя, что негодяй, шпионивший в пользу полиции, а перед народом корчивший из себя демократа, был дважды изменник. И, наконец, шпион был пособником переворота, а Курне боролся за правое дело.
— Тебе нужно скрыться, — решил Бювинье, — поедем в Жювизи.
У Бювинье была небольшая усадьба в Жювизи, селении, расположенном по дороге в Корбейль. Его там знали и любили. Он в тот же вечер отвез туда Курне. Но не успели они дойти до усадьбы, как местные крестьяне сказали Бювинье: «Жандармы уже приходили арестовать вас и опять придут сегодня ночью». Пришлось возвратиться в Париж.
Курне был в такой опасности, как никогда; разыскиваемый, преследуемый, он скитался по Парижу. С величайшим трудом он скрывался там до 16 декабря. Ему никак не удавалось раздобыть паспорт. Наконец приятели, служившие в управлении Северной железной дороги, снабдили его особым удостоверением, в котором значилось:
«Пропустить г-на…, инспектора, следующего по делам службы».
Курне решил уехать на следующий день, утренним поездом, предполагая, вероятно не без основания, что за ночными поездами следят более тщательно.
Поезд отходил в восемь часов утра.
17 декабря, перед рассветом, под покровом густой тьмы, Курне, крадясь из переулка в переулок, пробрался к Северному вокзалу. Высокий рост легко мог выдать его, но он благополучно достиг цели. Кочегары посадили его к себе на тендер паровоза; поезд уже готов был тронуться. Курне поехал в одежде, которую не снимал со 2 декабря, при нем не было ни белья, ни чемодана, но была некоторая сумма денег.
В декабре светает поздно, а смеркается рано; это благоприятствует беглецам.
Поздно вечером Курне без всяких осложнений доехал до границы. В Невэглизе, в Бельгии, он счел себя в безопасности; у него спросили документы; он потребовал, чтобы его отвели к бургомистру, и заявил ему:
— Я — политический эмигрант.
Бургомистр, бельгиец, но тем не менее бонапартист (существует и такая разновидность), просто-напросто приказал жандармам доставить Курне обратно на границу и сдать его с рук на руки французским властям.
Курне решил, что он погиб.
Бельгийские жандармы доставили его в Армантьер. Если бы они привели его к мэру, для Курне все было бы кончено; но они отправились с ним к таможенному инспектору.
Тут Курне начал надеяться.
Он с гордым видом подошел к инспектору и взял его за руку.
Бельгийские жандармы все еще не отставали от него ни на шаг.
— Черт возьми, сударь, — сказал Курне таможеннику, — вы таможенный инспектор, я — железнодорожный. Какого дьявола мы, два инспектора, будем делать неприятности друг другу! Эти простачки-бельгийцы всполошились, уж не знаю почему, и отправили меня к вам с жандармами. Меня послало сюда правление Северной железной дороги с поручением осмотреть в этой местности один мост, устойчивость которого вызывает сомнения. Я прошу вас пропустить меня. Вот мое удостоверение.
Он протянул его таможенному инспектору. Тот прочитал бумагу, нашел ее в полной исправности и обратился к Курне со словами:
— Господин инспектор, вы свободны.
Курне, избавленный французскими властями от бельгийских жандармов, помчался на станцию железной дороги. Там у него были друзья.
— Скорей, — сказал он им, — сейчас ночь, но все равно, это даже лучше. Найдите мне какого-нибудь бывшего контрабандиста, чтобы перевести меня через границу.
Ему привели юношу лет восемнадцати, белокурого, румяного, свеженького валлонца, говорившего по-французски.
— Как вас зовут? — спросил Курне.
— Анри.
— Вы похожи на девушку.
— Но я мужчина.
— Вы беретесь провести меня?
— Да.
— Вы были контрабандистом?
— Я и сейчас контрабандист.
— Вы знаете дороги?
— Нет. На что мне дороги?
— Что же вы знаете?
— Я знаю лазейки.
— По пути — два таможенных кордона.
— Это мне известно.
— Вы проведете меня сквозь них?
— Разумеется.
— Разве вы не боитесь таможенной стражи?
— Я боюсь собак.
— В таком случае, — сказал Курне, — мы возьмем с собой палки.
Действительно, они вооружились толстыми дубинками. Курне дал Анри пятьдесят франков и обещал уплатить еще столько же, когда они минуют второй кордон.
— Значит, это будет в четыре часа утра, — сказал Анри.
Было около полуночи.
Они двинулись в путь.
То, что Анри называл «лазейками», всякий другой назвал бы препятствиями. Крутые откосы сменялись оврагами. Недавно шел дождь, и во всех впадинах стояла вода.
По этому запутанному лабиринту змеилась почти непроходимая тропа, местами заросшая колючим вереском, местами топкая, как болото.
Ночь была темная. Порою во мраке откуда-то доносился собачий лай. Тогда контрабандист начинал кружить, долго ходил зигзагами, круто сворачивал вправо и влево, иногда возвращался назад.
Перелезая через изгороди, перепрыгивая через канавы, поминутно спотыкаясь, увязая в трясине, цепляясь за колючий кустарник, Курне, с окровавленными руками, в изодранной одежде, голодный, весь в ссадинах, измученный, обессиленный, едва живой, — весело следовал за своим проводником.
На каждом шагу он, оступаясь, падал в какую-нибудь яму и вылезал оттуда весь облепленный грязью. Наконец он свалился в колдобину глубиной в несколько футов, и вода смыла с него грязь.
— Вот и отлично! — воскликнул он. — Теперь я чистенький, но как мне холодно!
В четыре часа утра, как обещал Анри, они, благополучно миновав оба кордона, пришли в бельгийскую деревушку Мессин. Теперь Курне уже ничего не приходилось бояться — ни таможенников, ни переворота, ни людей, ни собак.
Он отдал Анри вторые пятьдесят франков и пешком отправился дальше, почти наугад.
Уже стемнело, когда Курне добрался до станции железной дороги. Он сел в поезд и поздно вечером вышел из вагона в Брюсселе, на Южном вокзале.
Выехав из Парижа накануне утром, Курне за все это время не спал и часу, всю ночь был на ногах и ничего не ел. Обшарив свой карман, он не нашел там бумажника, но нащупал корку хлеба. Он больше обрадовался этой находке, чем огорчился из-за потери бумажника. Деньги были зашиты в поясе Курне, а в бумажнике, по всей вероятности упавшем в колдобину, хранились письма, среди лих очень важное для Курне рекомендательное письмо, которое его друг Эрнест Кеклен дал ему к депутатам Гильго и Карлосу Форелю, бежавшим в Брюссель и поселившимся в Брабантской гостинице.
Выйдя из вокзала, Курне бросился в первую попавшуюся наемную карету и крикнул кучеру:
— В Брабантскую гостиницу!
Он тотчас услышал, как чей-то голос повторил: «В Брабантскую гостиницу», и, высунувшись в окошко, увидел человека, при свете фонаря карандашом заносившего что-то в записную книжку.
Вероятно, это был сыщик.
У Курне не было ни паспорта, ни рекомендательных писем, ни документов; он побоялся, как бы его ночью не арестовали, а ему так хотелось выспаться! «Только бы хорошую постель на эту ночь, — подумал он, — а завтра хоть потоп!» Доехав до Брабантской гостиницы, он расплатился с кучером, но не вошел в подъезд. Впрочем, он напрасно стал бы разыскивать там депутатов Фореля и Гильго. Оба они жили в этой гостинице под вымышленными именами.
Курне стал бродить по улицам. Было одиннадцать часов вечера, его давно уже одолевала усталость.
Наконец он увидел ярко горевший фонарь и на его стеклах надпись: «Гостиница Ла-Монне».
Он вошел в прихожую. Хозяин как-то странно посмотрел на него.
Тогда Курне догадался взглянуть на себя в зеркало.
Небритый, всклокоченный, с израненными руками, в испачканной грязью фуражке, в разодранной одежде — он был страшен.
Вынув из пояса двойной луидор, Курне положил его на стол и сказал хозяину:
— Сударь, я расскажу вам всю правду: я не бандит, я изгнанник; вместо паспорта у меня деньги. Я сейчас из Парижа. Я хотел бы прежде всего поесть, а потом выспаться.
Хозяин взял монету и, расчувствовавшись, велел отвести ему комнату и подать ужин.
На другое утро, когда Курне еще спал, хозяин гостиницы вошел к нему в комнату, осторожно разбудил его и сказал:
— Послушайте, сударь, будь я на вашем месте, я пошел бы к барону Оди.
— А что такое барон Оди? — спросил Курне спросонья.
Хозяин объяснил ему, что такое барон Оди. Что касается меня, то, задав тот же вопрос трем жителям Брюсселя, я получил три разных ответа, которые я привожу здесь:
— Это собака.
— Это лиса.
— Это гиена.
Вероятно, в этих трех ответах есть доля преувеличения.
Четвертый бельгиец ограничился тем, что, не определяя породы, сказал мне:
— Это дурак.[43]
Если говорить о занимаемой им должности — барон Оди был «начальник общественной безопасности», как этот пост называется в Брюсселе, иначе говоря, вроде как «префект полиции», помесь Карлье с Мопа.
Стараниями барона Оди, впоследствии оставившего эту службу и, к слову сказать, бывшего, подобно де Монталамберу, «простым иезуитом», бельгийская полиция в то время соединяла в себе черты русской и австрийской полиции. Я имел случай читать весьма странные конфиденциальные письма этого барона Оди. И по действиям и по стилю нет ничего циничнее и омерзительнее иезуитской полиции, когда она приподымает покров над своими сокровенными тайнами. Это производит впечатление расстегнутой сутаны.
В то время, о котором идет речь (декабрь 1851 года), клерикальная партия поддерживала все виды монархической власти; барон Оди простирал свое покровительство и на орлеанистов и на легитимистов. Я излагаю факты — и только.
— Так и быть, пойдем к барону Оди, — сказал Курне.
Он встал, оделся, почистился, как мог, и спросил хозяина:
— Где помещается полиция?
— В министерстве юстиции.
Действительно, в Брюсселе так заведено: полицейское управление входит в состав министерства юстиции; это не очень возвышает полицию и несколько принижает юстицию.
По просьбе Курне его провели к этому важному лицу. Барон Оди соизволил весьма сухо спросить его:
— Кто вы такой?
— Эмигрант, — ответил Курне. — Я один из тех, кого переворот заставил бежать из Парижа.
— Ваше звание?
— Морской офицер в отставке.
— Морской офицер в отставке? — повторил барон Оди заметно смягчившимся тоном. — Знали ли вы его королевское высочество принца Жуанвильского?
— Я служил под его начальством.
Это была чистейшая правда: Курне служил под начальством принца Жуанвильского и гордился этим.
После такого ответа управитель бельгийской общественной безопасности просиял и с самой любезной улыбкой, на какую только способна полиция, сказал Курне:
— Очень приятно, сударь; оставайтесь здесь, сколько вам угодно; мы не пускаем в Бельгию монтаньяров, но таким людям, как вы, мы настежь открываем двери.
Когда Курне рассказал мне об этом ответе Оди, я подумал, что прав был четвертый бельгиец.
Иногда к этим трагедиям примешивался какой-то зловещий комизм. В числе изгнанных депутатов был Бартелеми Террье. Ему выдали паспорт для него и его жены с указанием маршрута, по которому они должны были следовать в Бельгию. Получив этот паспорт, Террье уехал из Парижа в сопровождении женщины. Эта женщина была мужчиной. Преверо, владелец поместья в окрестностях Донжона, видное лицо департамента Алье, был шурином Террье. Когда в Донжон пришло известие о перевороте, Преверо взялся за оружие и выполнил свой долг; во имя закона он восстал против преступления. Поэтому его приговорили к смертной казни. Таково было тогда правосудие. Эти решения правосудия приводились в исполнение. Быть порядочным человеком считалось преступлением, за которое гильотинировали Шарле, гильотинировали Кюизинье, гильотинировали Сираса. Гильотина была орудием власти. Убийство посредством гильотины было в то время одним из способов установления порядка. Нужно было спасти Преверо. Он был маленького роста, худощав. Его переодели женщиной. Он был не так уж красив; пришлось закрыть ему лицо густой вуалью. Руки Преверо, мужественные, огрубелые руки бойца, засунули в муфту, фигуре путем некоторых ухищрений придали приятную округлость — в таком наряде Преверо стал очаровательной женщиной, госпожой Террье. Шурин отправился с ним на вокзал. Париж они пересекли спокойно и без приключений, если не считать одного неосторожного поступка Преверо: увидев, что лошадь, впряженная в тяжелый воз, упала на мостовую, Преверо бросил муфту, откинул вуаль, подобрал юбку, и, если бы насмерть перепуганный Террье не удержал его, принялся бы помогать возчику поднять лошадь. Окажись поблизости полицейский, Преверо тотчас схватили бы. Террье поспешил усадить своего спутника в вагон, и поздно вечером они выехали в Брюссель. Они сидели вдвоем в купе, друг против друга, каждый в своем уголке. До Амьена все шло гладко. В Амьене поезд остановился; дверца купе открылась, вошел жандарм и сел рядом с Преверо. Жандарм спросил паспорт. Террье предъявил его. Изящная женщина под вуалью молча, неподвижно сидела в уголке. Жандарм нашел, что все в порядке, и, возвратив паспорт, коротко сказал: «Мы поедем вместе, я сопровождаю поезд до границы».
Простояв положенное время, поезд тронулся. Ночь была темная. Террье заснул. Вдруг Преверо почувствовал, как чье-то колено прижалось к его колену. То было колено блюстителя порядка. Чей-то сапог слегка коснулся его ноги — то был сапог стража закона. В душе жандарма зародилась идиллия. Сначала он нежно прижался к колену Преверо, но вскоре темнота и крепкий сон супруга придали ему смелости, и он коснулся рукой платья прекрасной незнакомки — случай, предусмотренный Мольером; но дама под вуалью была добродетельна. Преверо, изумленный, взбешенный, осторожно отвел руку жандарма. Опасность была неописуема. Стоило жандарму распалиться, стать более дерзким — и дело приняло бы неожиданный оборот; эклога мгновенно превратилась бы в полицейский протокол, фавн снова стал бы сбиром, Тирсит — Видоком, и произошло бы нечто весьма странное: пассажира гильотинировали бы за то, что жандарм покушался на честь женщины. Преверо отодвинулся, еще глубже забился в утолок, подобрал складки платья, поджал ноги под сиденье — словом, продолжал решительно защищать свою добродетель. Однако жандарм не прекращал своих посягательств, и опасность увеличивалась с каждой минутой. Шла борьба — безмолвная, но ожесточенная; жандарм пытался ласкать Преверо, тот яростно отбивался. Сопротивление разжигало жандарма. Террье все спал. Вдруг поезд остановился, кто-то крикнул: «Кьеврен!», и дверца купе отворилась. Приехали в Бельгию. Жандарм должен был выйти и вернуться во Францию; он встал и уже спускался с подножки на платформу, как вдруг из-под кружевной вуали раздались выразительные слова: «Убирайся, или я тебе разобью морду!»
XIII Военные комиссии и смешанные комиссии
Что-то странное случилось с правосудием.
Это древнее слово приняло новый смысл.
Кодекс перестал быть надежным руководством. Закон превратился в нечто, присягнувшее преступлению. Судьи, назначенные Луи Бонапартом, обращались с людьми словно разбойники, хозяйничающие в лесу. Как густой лес благоприятствует преступлению своим мраком, так закон благоприятствовал ему своей туманностью. В тех статьях, где туманности не хватало, ее изрядно подбавили, она сгустилась до черноты. Как это сделали? Силой! Совсем просто. В порядке декрета. Sic jubeo. [44] Декрет от 17 февраля — верх совершенства. Этот декрет обрекал на изгнание не только человека, но и самое его имя. Домициан, и тот не придумал бы лучше. Совесть человеческая стала в тупик. Право, справедливость, разум почувствовали, что повелитель приобрел над ними ту власть, какую вор приобретает над краденым кошельком. Не возражать! Повиноваться! Это время не имеет равного себе по низости.
Любое беззаконие стало возможным. Законодательные органы принялись за работу и так затемнили законодательство, что в этой тьме легко можно было совершить любое черное дело.
Удавшийся переворот не стесняется. Такого рода успех позволяет себе все.
Фактов — великое множество. Но мы должны сократить изложение. Приведем только самое характерное.
Для отправления правосудия были введены военные комиссии и смешанные комиссии.
Военные комиссии судили при закрытых дверях, под председательством полковника.
В одном только Париже действовали три военные комиссии. Каждой из них было поручено по тысяче дел. Судебный следователь пересылал дела прокурору республики Ласку, а тот препровождал их полковнику, председателю военной комиссии. Комиссия вызывала подсудимого. Подсудимым являлась папка с делом. Ее обыскивали, то есть перелистывали. Обвинительный акт был краток; две-три строки, примерно следующего содержания: «Фамилия. Имя. Занятие. — Человек развитой. — Ходит в кафе. — Читает газеты. — Ведет разговоры. — Опасен».
Обвинение было лаконично. Приговор — еще более краток: это был простой значок.
Просмотрев дело, посовещавшись с судьями, полковник брал перо и в конце строки, содержавшей формулировку обвинения, ставил один из следующих трех значков:
- + 0
— означал ссылку в Ламбессу.
+ означал ссылку в Кайенну. («Сухая» гильотина. Смерть.)
0 означал оправдательный приговор.
В то время как это правосудие работало, человек, которого оно обрабатывало, нередко еще находился на свободе, расхаживал по городу, был совершенно спокоен; вдруг его арестовывали, и, так и не узнав, в чем его вина, он попадал в Ламбессу или Кайенну.
Зачастую его семья понятия не имела о том, что с ним случилось.
Жену, сестру, дочь, мать спрашивали:
— Где ваш муж?
— Где ваш брат?
— Где ваш отец?
— Где ваш сын?
Жена, сестра, дочь, мать отвечали:
— Не знаю.
В одном только семействе Преверо из Донжона, в департаменте Алье, пострадало одиннадцать человек: один из членов этой семьи был приговорен к смертной казни, остальные — кто к изгнанию, кто к ссылке.
Некий Бризаду, владелец кабачка в квартале Батиньоль, был сослан в Кайенну на основании следующей строчки в его деле: «Этот кабачок посещают социалисты».
Я дословно приведу разговор между полковником, председательствовавшим в суде, и человеком, которому он вынес приговор.
— Вы осуждены.
— Как так? За что?
— Право, я и сам хорошенько не знаю. Проверьте вашу совесть. Припомните, что вы сделали.
— Да нет же, я ничего не сделал. Я даже не исполнил своего долга. Мне следовало взять свое ружье, выйти на улицу, обратиться к народу, строить баррикады, — а я сидел сложа руки у себя дома, как настоящий лентяй (подсудимый смеется). Вот в чем я себя обвиняю.
— Вас осудили не за это. Подумайте хорошенько.
— Я ничего не могу припомнить.
— Как! Разве вы не были в кафе?
— Был; я там завтракал.
— Разве вы не вели там разговоров?
— Возможно, что вел.
— Не смеялись?
— Возможно, что смеялся.
— Над кем? Над чем?
— Над тем, что происходит; верно, зря я смеялся.
— И в то же время вы разговаривали?
— Да.
— О ком?
— О президенте.
— Что вы говорили?
— Да то, что можно о нем сказать, — что он нарушил присягу.
— А дальше?
— Что он не имел права арестовать депутатов.
— Вы сказали это?
— Да, и я прибавил, что он не имел права убивать людей на бульварах…
Здесь осужденный сам себя прервал восклицанием:
— И за это меня ссылают в Кайенну!
Пристально взглянув на заключенного, судья ответил:
— А разве не за что?
Другой вид правосудия.
Трое заурядных людей, три сменяемых чиновника, — префект, военный и прокурор, которым звонок Бонапарта заменял совесть, усаживались вокруг стола и судили. Кого? Вас, меня, нас, всех вообще. За какие преступления? Они придумывали преступления. Именем каких законов? Они придумывали законы. Какие наказания они применяли? Они придумывали наказания. Знали они подсудимого? Нет. Предоставляли ему слово? Нет. Каких адвокатов они выслушивали? Никаких. Каких свидетелей допрашивали? Никаких. Какие прения вели? Никаких. Какую публику допускали? Никакой. Итак, ни публики, ни прений, ни защитников, ни свидетелей, чиновники вместо судей, присяжные, не принесшие присяги, судилище без правосудия, воображаемые преступления, вновь изобретенные наказания, подсудимый отсутствует, закон отсутствует; из всех этих нелепостей, похожих на странный сон, возникало нечто весьма реальное: осуждение невинных.
Изгнание, ссылка, высылка, разорение, тоска по родине, смерть, отчаяние сорока тысяч семейств.
Вот что история называет «смешанными комиссиями».
Обычно крупные государственные преступления обрушиваются на крупных людей, уничтожением которых дело кончается; они разят одним ударом, словно каменные глыбы, и подавляют сопротивление верхов: своими жертвами они избирают только видных деятелей. Но переворот 2 декабря действовал изощренно; ему понадобились еще и жертвы из мелкоты. Обуревавшая его жажда истребления не пощадила ни бедных, ни безвестных; свою ярость и злобу переворот распространил и на низы; он расколол общество до самых его подвалов, чтобы репрессии просочились и туда. Эту службу ему сослужили местные триумвираты, так называемая «мешанина смесей». Не спаслась ни одна голова, как бы она ни была смиренна и скудоумна. Были найдены способы довести неимущих до нищеты, разорить бедняков, обобрать обездоленных; переворот совершил чудо — к нищете он прибавил несчастье. Можно было подумать, что Бонапарт удостаивал своей ненависти простого крестьянина: виноградаря отрывали от его лозы, хлебопашца — от его борозды, каменщика — от его помоста, ткача — от его станка. Нашлись люди, которые взяли на себя эту обязанность — губить самые безвестные существования, обрушивая на каждое из них долю чудовищной общественной катастрофы. Омерзительное занятие — раскрошив бедствие, осыпать им малых и слабых.
XIV Эпизод, связанный с религией
К этому правосудию порою примешивалась крупица религии. Приведу один эпизод.
Так же, как Арно (от Арьежа), Фредерик Морен был республиканец-католик. Ему пришла мысль, что души жертв избиения 4 декабря, столь внезапно перенесенные картечью в бесконечное и неведомое, быть может нуждаются в помощи; поэтому он решился на трудное дело — отслужить мессу за упокой этих душ. Но священники заботливо приберегают мессы для своих приверженцев. Группа республиканцев-католиков, возглавленная Фредериком Мореном, обращалась ко всем парижским священникам поочередно; всюду — отказ. Она обратилась к епископу — отказ. Сколько угодно месс для убийцы, ни одной для убитых. Служить мессу по таким покойникам казалось непристойным. Отказ был категоричен. Как выйти из положения? Обойтись без мессы было бы нетрудно для кого угодно, только не для этих упорно веровавших людей. Наконец почтенные демократы-католики, сильно огорчавшиеся своей неудачей, разыскали в маленьком, бедном приходе какого-то пригорода смиренного старенького викария, который согласился прошептать мессу на ухо господу богу, попросив его не разглашать эту тайну.
XV Как выпустили узников из Гамской крепости
В ночь с 7 на 8 января Шаррас спал в своей камере. Его разбудил лязг задвигаемых засовов.
«Вот как, — подумал он, — наверно, нас переводят на особо строгий режим». И он снова заснул.
Час спустя дверь камеры отворилась. Вошел комендант крепости в полной форме, его сопровождал полицейский с факелом в руке.
Было около четырех часов утра.
Комендант сказал Шаррасу:
— Полковник, немедленно одевайтесь.
— Это почему?
— Вы уезжаете.
— Вероятно, какая-нибудь новая гнусность?
Комендант промолчал. Шаррас начал одеваться.
Когда он был уже почти одет, в камеру вошел невзрачный молодой человек, весь в черном.
Молодой человек сказал Шаррасу:
— Полковник, вас выпустят из крепости, вы покинете пределы Франции. Я получил предписание отправить вас за границу.
Шаррас возразил:
— Если меня хотят выпустить из крепости с тем, чтобы я покинул Францию, я не выйду отсюда. Это еще новое беззаконие. Меня так же не имеют права изгнать из Франции, как не имели права арестовать. За меня — закон, право, мои старые боевые заслуги, мой мандат. Я протестую! Кто вы такой, сударь?
— Я начальник канцелярии министра внутренних дел.
— А! Так это вас зовут Леопольд Легон?
Молодой человек потупился.
Шаррас продолжал:
— Вас прислал некто, именующий себя министром внутренних дел, — господин де Морни, если не ошибаюсь. Я знаю этого господина де Морни. Он молод и плешив. Прежде он играл в ту игру, от которой теряют волосы; сейчас он ведет ту игру, в которой рискуют головой.
Разговор становился неприятным. Молодой человек пристально разглядывал кончики своих сапог.
Помолчав некоторое время, он все же решился снова заговорить:
— Господин Шаррас, мне приказано передать вам, что в случае, если вы нуждаетесь в деньгах…
Шаррас резко оборвал его:
— Молчите, сударь! Ни слова больше! Я служил отечеству двадцать пять лет в офицерском мундире, под огнем неприятеля, с опасностью для жизни, всегда во имя чести и никогда ради денег. Оставьте эти деньги себе!
— Но, сударь…
— Молчите! Деньги, побывавшие в ваших руках, замарали бы мои руки…
Снова водворилось молчание, и снова его прервал начальник канцелярии:
— Полковник, вас будут сопровождать два полицейских агента, снабженных особыми инструкциями. Должен вас предупредить, что по распоряжению свыше вы поедете с чужим паспортом и под фамилией Венсан.
— Разрази меня гром! — воскликнул Шаррас. — Час от часу не легче! Кому это пришло в голову, что мне можно приказать ехать с фальшивым паспортом и под чужим именем? — И, глядя в упор на Леопольда Легона, он прибавил: — Знайте, милостивый государь, что меня зовут Шаррас, а не Венсан, и что я происхожу из семьи, где всегда носили фамилию своего отца.
Двинулись в путь.
Доехали в кабриолете до городка Крейль, где проходит железная дорога.
Первым, с кем Шаррас встретился на станции, был генерал Шангарнье.
— Как! Это вы, генерал!
Они обнялись. Так на людей действует изгнание.
— Черт возьми, что они хотят сделать с вами? — спросил генерал.
— Вероятно, то же, что и с вами. Эти негодяи заставляют меня ехать неизвестно куда под именем Венсана.
— А меня, — подхватил Шангарнье, — под именем Леблана.
— Уж меня-то они должны были бы назвать Леружем! — воскликнул Шаррас и расхохотался.[45]
Тем временем вокруг них начали собираться люди, которых полицейские не подпускали близко. Обоих изгнанников узнали, их приветствовали. Какой-то подросток, которого мать не могла удержать, подбежал к Шаррасу и пожал ему руку.
Изгнанники сели в вагон. Посторонним могло казаться, что они так же свободны, как и остальные путешественники. Их только разместили по отдельным купе, и каждого из них сопровождали два человека, сидевшие один рядом с изгнанником, другой напротив и не спускавшие с него глаз. Агенты, приставленные к генералу Шангарнье, не выделялись ни своим ростом, ни особо крепким сложением; зато Шарраса караулили настоящие великаны, Шаррас очень высокого роста, а они были на голову выше его. Эти люди, ставшие сыщиками, прежде служили в карабинерах; эти шпионы когда-то были храбрецами.
Шаррас стал их расспрашивать. Оба поступили на военную службу совсем молодыми, в 1813 году. Таким образом, они некогда стояли на биваках Наполеона; теперь они ели тот же хлеб, что я Видок. Грустно видеть солдата, павшего так низко.
У одного из них карман сильно оттопыривался. Там что-то было спрятано.
Когда этот человек, конвоируя Шарраса, шел по платформе, какая-то пассажирка спросила:
— Уж не засунул ли он к себе в карман господина Пьера?
В кармане агента была спрятана пара пистолетов. Под долгополыми, наглухо застегнутыми сюртуками этих людей хранилось оружие. Им было приказано обходиться с «этими господами» как можно более почтительно — и в случае необходимости застрелить их на месте.
Каждого из пленников перед отъездом предупредили, что решено выдавать их в пути за иностранцев, швейцарцев или бельгийцев, высылаемых из Франции за предосудительные политические убеждения, а приставленные к ним агенты, отнюдь не скрывая своего звания, будут, в случае надобности, заявлять властям, что им поручено сопровождать мнимых иностранцев до границы.
Около двух третей пути проехали без всяких осложнений.
В Валансьене произошла заминка.
Когда переворот удался, все наперебой стали усердствовать. Ничто уже не считалось подлостью. Донести — значило угодить; усердие — один из тех видов рабства, которые люди принимают охотнее всего. Генерал добровольно превратился в солдата, префект — в полицейского комиссара, комиссар — в сыщика.
В Валансьене полицейский комиссар самолично руководил проверкой паспортов. Он ни за что на свете не согласился бы уступить эту высокую обязанность кому-либо из своих подчиненных.
Когда ему представили паспорт на имя Леблана, он в упор взглянул на человека, именовавшегося Лебланом, вздрогнул и воскликнул:
— Вы — генерал Шангарнье!
— Это меня не касается, — ответил генерал.
Тут оба агента, сопровождавшие генерала, возмутились и, предъявляя свои составленные по всем правилам документы, заявили:
— Господин комиссар, мы правительственные чиновники; посмотрите наши собственные паспорта; дело совершенно чистое.
— Нечистое, — заметил генерал.
Комиссар покачал головой. В свое время он служил в Париже. Его нередко посылали в Тюильри, в главный штаб, к помощникам генерала Шангарнье; он хорошо знал генерала в лицо.
— Уж это слишком! — кричали агенты.
Они были вне себя; они доказывали, что им, полицейским чиновникам, дано особое поручение — доставить на границу этого Леблана, высланного по политическим соображениям. Они клялись всевозможными клятвами, они ручались своим честным словом в том, что человек, в паспорте именуемый Лебланом, подлинно есть Леблан.
— Я не очень-то верю честному слову, — возразил комиссар.
— Вы правы, превосходнейший из комиссаров, — пробурчал Шангарнье. — Со Второго декабря честное слово и клятвы стоят не дороже ассигнаций.
И он усмехнулся.
Недоумение комиссара все возрастало. Наконец агенты попытались сослаться в подтверждение своих слов на самого арестованного.
— Сударь, скажите сами, как ваша фамилия.
— Выпутывайтесь как знаете, — ответил Шангарнье. Провинциальному альгвазилу все это должно было казаться более чем странным.
Валансьенский комиссар уже не сомневался в том, что генерал Шангарнье бежал из крепости Гам под чужим именем, с чужим паспортом, в сопровождении сообщников, выдающих себя, с целью обмануть власти, за конвоирующих его полицейских агентов, словом, комиссар был уверен, что дело идет о хитро задуманном побеге и что этот побег едва не удался.
— Выходите все трое, — приказал он.
Генерал сошел на платформу и, увидев Шарраса, сидевшего под охраной своих силачей в соседнем вагоне, воскликнул:
— А! Вот вы где, Шаррас!
— Шаррас! — завопил комиссар. — Шаррас тоже здесь! Живо — паспорта этих господ!
Глядя в упор на Шарраса, он спросил:
— Вы полковник Шаррас?
— А кто я, по-вашему? — огрызнулся Шаррас.
Дело усложнялось. Теперь пришлось изворачиваться агентам, конвоировавшим Шарраса. Они заявили, что Шаррас — не Шаррас, а некий Венсан, показали паспорта и другие документы, клялись, горячились. Комиссар убедился, что все его подозрения обоснованы.
— Отлично, — сказал он. — Я арестую всех.
С этими словами он передал Шангарнье, Шарраса и четверых полицейских на попечение жандармов. Комиссару уже мерещился орден Почетного Легиона. Он сиял.
Полиция вцепилась в полицию. Иногда случается, что волк, думая схватить добычу, сам себя кусает за хвост.
Шестерых арестованных — сейчас их уже было шестеро — заперли в подвальном помещении вокзала. Комиссар известил местные власти, и власти во главе с супрефектом явились немедленно.
Войдя в подвал, супрефект, некий Сансье, не знал, как себя держать: раскланиваться или допрашивать, пресмыкаться или грубить. Весь этот жалкий чиновничий люд очутился в крайне затруднительном положении. В свое время генерал Шангарнье был так близок к диктатуре, что их и сейчас брала оторопь. Кому дано предвидеть события? Все возможно. Вчера властвовал Кавеньяк, сегодня властвует Бонапарт; что, если завтра восторжествует Шангарнье? Господь бог поступает жестоко, он ни на палец не приподнимает перед супрефектами завесу будущего.
Как тяжко почтенному чиновнику, желающему только одного: ко времени прислуживаться или быть дерзким, как тяжко ему сознавать, что, угодничая, он, может быть, унижается перед человеком, который, пожалуй, зачахнет в изгнании и уже впал в ничтожество, а оскорбляя — рискует восстановить против себя изгнанника-головореза, имеющего — кто знает? — шансы через полгода возвратиться победителем и в свою очередь возглавить правительство? Как быть? К тому же чиновники знали, что за ними шпионят. Среди этих людей так принято. Малейшее слово подвергается обсуждению, о малейшем движении подробно сообщается. Как уберечь одновременно капусту, имя которой — «сегодня», и козу, имя которой — «завтра»? Слишком строга допрашивать — значит раздражить генерала, слишком низко кланяться — значит рассердить президента. Как быть одновременно в значительной мере супрефектом и в некоторой мере холуем? Как сочетать угодливость, которая может понравиться Шангарнье, с наглостью, которая может понравиться Бонапарту?
Супрефект вообразил, что ловко выйдет из трудного положения, сказав: «Генерал, вы мой пленник» — и с улыбкой прибавив: «Окажите мне честь позавтракать у меня».
Он обратился с теми же словами к Шаррасу.
Генерал лаконически отказался.
Шаррас пристально взглянул на супрефекта и ничего не ответил.
Тут у супрефекта зародились сомнения относительно личности арестованных. Он шепотом спросил комиссара: «Вы уверены?» — «Еще бы!» — ответил тот.
Супрефект решил пощупать Шарраса и, недовольный его манерой держать себя, довольно сухо спросил:
— Да кто же вы наконец?
Шаррас ответил:
— Мы — багаж. — И, указывая на своих стражей, в свою очередь очутившихся под стражей, добавил: — Обратитесь к нашим отправителям; спросите наших таможенников. Груз идет транзитом.
Заработал электрический телеграф. Растерявшись, Валансьен запросил Париж. Супрефект сообщил министру внутренних дел о том, что благодаря неусыпному личному наблюдению он только что задержал опаснейших преступников, расстроил заговор, спас президента, спас общество, спас религию — словом, что он захватил генерала Шанварнье и полковника Шарраса, бежавших утром с подложными паспортами из крепости Гам, очевидно с целью возглавить восстание, и проч. и проч. — и просит правительство указать ему, как поступить с арестованными, в проч. и проч.
Через час получился ответ: «Предоставьте им следовать дальше».
Полиция сообразила, что в порыве усердия она довела свое глубокомыслие до глупости. Так бывает.
Следующий поезд увез обоях арестованных; им не вернули свободу; им вернули их конвоиров.
Приехали в Кьеврен.
Пассажиры вышли из вагона, затем снова сели. Когда поезд тронулся, Шаррас вздохнул глубоко, радостно, как человек, выпутавшийся из беды, и промолвил:
— Наконец-то!
Он оглянулся вокруг и увидел рядом с собой своих тюремщиков. Они вошли в вагон вслед за ним.
— Что это? — воскликнул он. — Опять вы здесь!
Из двух стражей в разговоры вступал только один. Он ответил:
— Точно так, господин полковник.
— Что вы тут делаете?
— Мы сторожим вас.
— Но ведь мы в Бельгии.
— Возможно.
— Бельгия — не Франция.
— Может быть, и так.
— А что, если я высунусь из вагона, позову на помощь, заставлю арестовать вас, потребую, чтобы меня освободили?
— Ничего такого вы не сделаете, господин полковник.
— Как же вы можете помешать мне?
Агент показал рукоятку пистолета и ответил:
— Вот как.
Шаррас счел за лучшее расхохотаться и спросил:
— Где же вы, наконец, от меня отстанете?
— В Брюсселе.
— Иначе говоря — в Брюсселе вы отпустите меня на свободу, а в Монсе готовы пустить мне пулю в лоб?
— Совершенно верно, господин полковник.
— Впрочем, — сказал Шаррас, — это меня не касается. Это дело короля Леопольда. Бонапарт поступает с чужими территориями так же, как он поступил с депутатами. Он нарушил права Собрания, он нарушает права Бельгии. Но так или иначе, все вы, вместе взятые, — шайка прекурьезных мошенников. Тот, кто на самом верху, — безумец, те, кто внизу, — дураки. Ну ладно, друзья мои, дайте-ка мне поспать.
Он в самом деле заснул.
Приблизительно то же и почти одновременно произошло с генералами Шангарнье и Ламорисьером и с квестором Базом.
Агенты расстались с генералом Шангарнье только в Монсе. Там они заставили его выйти из поезда и заявили ему:
— Генерал, ваше местопребывание — здесь; вы свободны.
— А! — воскликнул Шангарнье. — Мое местопребывание — здесь, и я свободен! Раз так — прощайте!
И он проворно вскочил обратно в вагон, когда поезд уже тронулся, оставив изумленных стражей на платформе.
В Брюсселе полицейские отпустили Шарраса, но не отпустили генерала Ламорисьера. Оба приставленных к нему агента хотели заставить его тотчас отправиться дальше, в Кельн. Генерал, страдавший приступом ревматизма, нажитого в Гамской крепости, объявил им, что заночует в Брюсселе.
— Ладно, — сказали агенты.
Они последовали за ним в гостиницу Бельвю и тоже переночевали там; с большим трудом убедили их оставить его на ночь одного.
На другой день они увезли генерала в Кельн, нарушив этим территориальные права Пруссии, так же как до того — территориальные права Бельгии.
Еще более нагло переворот поступил с Базом.
Его вместе с женой и детьми заставили уехать из Франции под фамилией Лассаль, выдав его за слугу приставленного к нему полицейского агента.
Так они приехали в Ахен.
Там агенты хотели было поздней ночью оставить посреди улицы База и всю его семью, без паспортов, без документов, без денег. Ему пришлось прибегнуть к угрозам, чтобы заставить агентов пойти с ним к какому-нибудь должностному лицу и объяснить, кто он такой. Вероятно, Бонапарт потехи ради распорядился, чтобы с квестором Собрания поступили как с бездомным бродягой.
В ночь на 7 января генерал Бедо, хотя его отправили только через день, проснулся, как и все другие, от лязга засовов. Не догадавшись, что его запирают, а, наоборот, решив, что тюремщики освобождают его соседа по камере, База, Бедо крикнул из-за двери: «А! Браво, Баз!»
Действительно, генералы изо дня в день твердили квестору: «Вам здесь нечего делать. Гам — военная тюрьма, и в одно прекрасное утро вас выставят отсюда, как выставили Роже, депутата Севера».
Между тем генерал Бедо явственно слышал необычный в крепости шум. Он поднялся с постели и стал «выстукивать» другого своего соседа по камере, генерала Лефло, с которым часто переговаривался этим способом, не стесняясь, по-военному, в выражениях, когда заходила речь о перевороте. Генерал Лефло откликнулся на стук, но он знал не больше, чем Бедо.
Окно камеры генерала Бедо выходило во внутренний двор крепости. Подойдя к этому окну, он увидел мелькавшие там и сям фонари, какие-то запряженные повозки вроде двуколок и роту 48-го полка под ружьем. Немного погодя он увидел, как во двор вышел генерал Шангарнье, сел в повозку и уехал. Спустя еще несколько минут во дворе появился Шаррас. Шаррас заметил стоявшего у окна Бедо и крикнул ему: «Монс!»
Шаррас в самом деле полагал, что его повезут в Монс; вот почему на другой день генерал Бедо выбрал своим местопребыванием Монс, рассчитывая встретиться там с Шаррасом.
Как только Шаррас уехал, к генералу Бедо явился в сопровождении коменданта крепости Леопольд Легон. Он поклонился генералу, изложил данное ему поручение и назвал себя. Генерал Бедо ограничился тем, что сказал ему: «Нас отправляют в изгнание, это еще одно беззаконие и еще одна подлость, в добавление ко всем остальным. Впрочем, от тех, кто прислал вас, можно ожидать чего угодно».
Его отправили только на другой день. Луи Бонапарт сказал: «Нужно рассредоточить генералов».
Агент, по приказанию начальства сопровождавший Бедо до бельгийской границы, был в числе тех полицейских, которые 2 декабря арестовали генерала Кавеньяка. Он рассказал Бедо, что при аресте генерала Кавеньяка они пережили тревожные минуты, так как отряд численностью в пятьдесят человек, посланный в помощь полиции, не явился.
В вагоне, увозившем генерала Бедо в Бельгию, в одном купе с ним сидела дама, по-видимому принадлежавшая к высшему обществу. У нее были тонкие черты лица; с ней ехали трое маленьких детей. Ливрейный лакей, похожий на немца, держал двух малюток на коленях и всячески ухаживал за ними. Впрочем, генерал, сидевший в темном углу и так же, как и приставленные к нему агенты, прятавший лицо в воротник, мало обращал внимания на своих спутников. Когда поезд остановился на станции Кьеврен, дама обратилась к Бедо со словами:
— Поздравляю вас, генерал. Теперь вы в безопасности.
Генерал поблагодарил даму и попросил ее назвать себя.
— Баронесса Коппенс, — ответила она.
Читатель помнит — у Коппенса в доме № 70 на улице Бланш состоялось 2 декабря первое заседание левой.
— У вас, сударыня, — сказал генерал, — прелестные дети и, — прибавил он, — прекрасный слуга.
— Это мой муж, — ответила г-жа Коппенс.
Действительно, Коппенс в продолжение пяти недель скрывался, словно заживо погребенный, в устроенном в его квартире тайнике. В эту ночь он бежал из Франции в ливрее своего собственного слуги. Малюток заранее вышколили. Случайно семья Коппенса оказалась в одном купе с генералом Бедо и конвоировавшими его агентами, и всю ночь напролет г-жа Коппенс, глядя на полицейских, терзалась мыслью, что кто-нибудь из малышей спросонья может броситься на шею слуге и сказать: «Папа».
XVI Взгляд на прошлое
Луи Бонапарт испытывал большинство Собрания, как испытывают мост. Он взвалил на это большинство груз несправедливости, насилия, низостей. Избиение на Гаврской площади, крики «Да здравствует император!», раздача денег войскам, разрешение уличной продажи бонапартистских газет, закрытие газет, отстаивавших республику и парламент, смотры в Сатори, речь в Дижоне — большинство вынесло все.
— Отлично, — сказал Луи Бонапарт, — оно выдержит и переворот.
Вспомним факты. До 2 декабря переворот осуществлялся в мелочах, здесь и там, почти повсеместно, довольно нагло, и большинство Собрания снисходительно улыбалось. Депутат Паскаль Дюпра подвергся насилию со стороны полицейских. «Очень забавно», — говорили правые. Забрали депутата Дена. «Прелестно!» Арестовали депутата Сартена. «Великолепно!» В одно прекрасное утро, когда все шарниры были тщательно испробованы и смазаны, все нити крепко связаны, государственный переворот совершился разом, внезапно; тут большинство перестало смеяться, но дело было сделано. Это большинство не замечало, что давно уже, когда оно смеялось над тем, как душили других, у него на шее болталась петля.
Подчеркиваем это — не для того, чтобы заклеймить прошлое, но чтобы извлечь урок для будущего. За много месяцев до того, как переворот совершился, он в сущности уже произошел. Когда настал назначенный день, когда пробил назначенный час, оставалось только пустить в ход вполне налаженную машину. Все должно было действовать без промаху, все так и действовало. Вмиг было сметено препятствие, которое, исполни правая свой долг, пойми она свою солидарность с левой, стало бы непреодолимым. Неприкосновенность была нарушена самими неприкосновенными. Рука жандармов приноровилась хватать депутатов за шиворот совершенно так же, как она хватала воров; галстуки государственных людей нисколько не мялись в кулаке блюстителей порядка, и виконт де Фаллу, пораженный (о святая наивность!) тем, что с ним обращаются совершенно так же, как с гражданином Сартеном, являл собою бесподобное зрелище.
Непрерывно рукоплеща Бонапарту, большинство, пятясь все дальше, дошло до ямы, которую Бонапарт вырыл, и свалилось туда.
XVII Поведение левой
Поведение левой республиканской партии в сложной обстановке, создавшейся 2 декабря, достопамятно.
Знамя закона валялось на земле, в грязи всеобщего предательства, под ногами Луи Бонапарта; левая подобрала это знамя, собственною кровью смыла с него грязь, развернула его, высоко подняла перед глазами народа и со 2 по 5 декабря разрушала все замыслы Бонапарта.
Горсть людей, сто двадцать депутатов, случайно избежавших ареста, ввергнутых во мрак и безмолвие, не располагавших даже голосом свободной печати, этим набатным колоколом, будящим разум и ободряющим борцов, — эта горсть людей, не имевших в своем распоряжении ни полководцев, ни солдат, ни оружия, — эти сто двадцать человек вышли на улицу, решительно преградили путь перевороту и вступили в бой с чудовищным преступлением, принявшим все меры предосторожности, закованным в непроницаемую броню, вооруженным до зубов, окружившим себя густым лесом штыков, спустившим с цепи рычащую свору пушек и гаубиц.
На стороне республиканцев было присутствие духа, иными словами — действенное бесстрашие; они испытывали недостаток во всем, но чувство долга порождало в них необычайную, неиссякаемую изобретательность. Не было типографии — они ее нашли; не было ружей — они их добыли; не было пуль — они их отлили; не было пороха — они его изготовили; у них не было ничего, кроме мостовых, и они из булыжников создали борцов. Правда, то были мостовые Парижа, камни, способные превращаться в людей.
Так велико могущество справедливости, что эти сто двадцать человек, сильных одной только правотой своего дела, в продолжение четырех дней противостояли стотысячной армии. Был даже момент, когда чаша весов склонялась на их сторону. Благодаря этим людям, благодаря их сопротивлению, поддержанному негодованием всех честных сердец, настал час, когда победа закона казалась не только возможной, но даже несомненной. В четверг 4 декабря переворот пошатнулся, и ему пришлось опереться на массовые убийства. Мы видели — если бы Луи Бонапарт не учинил резню на бульварах, если бы он не спас своего клятвопреступления кровавой бойней, не оградил своего злодеяния новым злодеянием — ему не миновать бы гибели.
В течение долгих часов этой непрестанной борьбы, днем против армии, ночью против полиции — борьбы неравной, в которой на одной стороне были и сила и бешеная злоба, а на другой, как мы уже сказали, только право — никто из ста двадцати депутатов не остался глух к призыву долга, никто не отступил, никто не дрогнул. Все они смело подставили головы под нож гильотины и четверо суток ожидали его падения.
Ныне — тюрьма, ссылка, разлука с родиной, изгнание, нож гильотины поразили почти все эти головы.
Я принадлежу к числу тех, чья заслуга в этой борьбе заключалась лишь в том, что они сосредоточили мужественные усилия всех борцов вокруг единой идеи. Но да будет мне дозволено с чувством глубокого волнения воздать здесь должное людям, вместе с которыми я имел честь три года служить священному делу прогресса человечества, воздать должное этой всеми оскорбляемой, оклеветанной, непризнанной и неустрашимой левой, которая грудью встала за дело народа, не давала себе передышки, не отступила ни перед военным, ни перед парламентским заговором и, уполномоченная народом защищать его, защищала народ даже тогда, когда он сам от себя отступился, защищала своим словом с трибуны и своим мечом — на улице.
На заседании, где был составлен и утвержден декрет об отрешении Бонапарта от должности президента и объявлении его вне закона, Комитет сопротивления, основываясь на неограниченных полномочиях, данных ему левой, постановил опубликовать под этим декретом подписи всех оставшихся на свободе депутатов-республиканцев. То был отважный шаг. Члены комитета не скрывали от себя, что в случае победы переворота в руках Бонапарта окажется готовый список тех, кто подлежит изгнанию, и, быть может, втайне опасались, как бы некоторые из депутатов-республиканцев не уклонились и не стали протестовать. Действительно, на другой день мы получили два письма с протестами: два депутата, имена которых были пропущены в списке, требовали опубликования их подписей, заявляя, что для них это дело чести. Я хочу восстановить здесь право этих людей на изгнание. Имена их: Англад и Прадье.
Со вторника 2 до пятницы 5 декабря, с первого собрания на улице Бланш и до последнего заседания у Реймона, депутаты левой и члены комитета, преследуемые, гонимые, измученные, знавшие, что их ежеминутно могут найти и арестовать, иначе говоря — убить, заседали в двадцати семи различных домах, двадцать семь раз меняли место своих собраний; чтобы всегда быть в центре борьбы, они отказывались от убежищ, которые им предлагали на левом берегу Сены. Во время этих скитаний они не раз пересекали из конца в конец весь правобережный Париж; при этом они обычно шли пешком, в обход, чтобы сбить преследователей с пути. Все грозило им гибелью: их многочисленность, то, что их лица примелькались всем, даже те предосторожности, которые они принимали; людные улицы опасны — там постоянно находились полицейские; пустынные улицы тоже опасны — там каждый прохожий привлекал к себе внимание.
Они не ели, не спали, подкреплялись чем придется; порой — стаканом воды, иногда — куском хлеба. Как-то раз г-жа Ландрен накормила нас бульоном, г-жа Греви — остатками паштета; однажды наш ужин состоял из нескольких плиток шоколада, присланного на баррикаду каким-то аптекарем. В ночь с 3 на 4 декабря, когда мы заседали у Женеса на улице Граммон, Мишель де Бурж взял стул и сказал: «Вот моя кровать!» Усталость? Они ее не чувствовали. Старики, как Ронжа, больные, как Буассе, — все были на ногах. Опасность, угрожавшая родине, вызывала лихорадочный подъем.
Наш достойнейший коллега Ламенне не пришел, но эти три ночи он не ложился; доверху застегнув свой старый сюртук, не снимая грубых башмаков, он ждал, готовый по первому зову выйти на улицу. Он написал автору этой книги записку, которую нельзя не привести здесь: «Вы — герои, а я не среди вас! Я страдаю от этого. Я жду ваших приказаний. Дайте же мне возможность принести пользу хотя бы своей смертью!»
На совещаниях все держали себя как обычно. Порою можно было думать, что происходит очередное заседание одной из комиссий Законодательного собрания. Будничное спокойствие сочеталось с твердостью, столь необходимой в дни великих потрясений. Эдгар Кине сохранял весь свой высокий ум, Ноэль Парфе — свое блестящее остроумие, Иван — свою глубокую и вместе с тем тонкую проницательность. Лабрус — свое воодушевление. Где-нибудь в уголке Пьер Лефран, автор памфлетов и песенок, — памфлетов, достойных Курье, и песенок, достойных Беранже, — с улыбкой слушал серьезные, суровые речи Дюпона де Бюссака. Группа блестящих молодых ораторов левой — увлекательно пылкий Бансель, юношески бесстрашные Берсиньи и Виктор Шоффур, Сен, чье хладнокровие свидетельствовало о силе, Фарконне, сочетавший кроткий голос с мужественным вдохновением, — все они, то на совещаниях, то среди толпы, страстно призывали бороться с переворотом, тем самым доказывая, что настоящим оратором может быть только борец. Неутомимый де Флотт всегда был готов обежать весь Париж. Ксавье Дюррье был смел, Дюлак — бесстрашен, Шарамоль — отважен. Граждане — и рыцари! Кто посмел бы не быть храбрым, находясь среди этих людей, не знавших страха? Небритые бороды, измятая одежда, всклокоченные волосы, бледные лица, сверкающие гордостью глаза. В домах, где нам давали приют, мы устраивались, как могли. Если не хватало кресел или стульев, тот, кого покидали силы, но не мужество, усаживался прямо на пол. Когда дело касалось декретов или воззваний, все становились переписчиками: один человек диктовал, писали десять. Писали, стоя у стола, или положив бумагу на краешек стула, или держа ее на коленях. Зачастую не хватало бумаги, не хватало перьев. Эти мелочи тормозили работу в самые критические часы. А ведь в жизни народов бывают моменты, когда пустая чернильница может стать общественным бедствием. Прибавим, что между всеми этими людьми установилось сердечное согласие; все различия исчезли. Во время тайных заседаний комитета стойкий, великодушный Мадье де Монжо, вдумчивый и храбрый де Флотт, этот воинствующий философ революции, учтивый, холодный, спокойный и непоколебимый Карно, смелый Жюль Фавр, изумлявший простотой и силой своих речей, неистощимо изобретательный и насмешливый, — все они соединяли свои столь разнообразные способности, тем самым удваивая их.
Сидя у камина или облокотясь о стол, Мишель де Бурж, в неизменном широком пальто и черной шелковой шапочке, тотчас откликался на любую мысль, метко оценивал события, проявлял поразительную находчивость в любой опасности, при любом стечении обстоятельств, в любом положении, в любой крайности, ибо он принадлежал к тем богато одаренным натурам, которым либо разум, либо воображение мгновенно подсказывает правильный выход. Всевозможные мнения скрещивались, но не вызывали столкновений. Эти люди не питали никаких иллюзий Они знали, что вступили в борьбу не на жизнь, а на смерть. Пощады нельзя было ждать. Ведь они имели дело с человеком, сказавшим: «Всех истребить!» Им были известны кровавые слова так называемого министра Морни. Эти слова Сент-Арно обратил в расклеенные повсюду декреты, а натравленные на народ преторианцы обратили их в массовые убийства. Члены комитета восстания и депутаты, присутствовавшие на заседаниях, отлично знали, что, где бы их ни захватили, их на месте заколют штыками. Вот что ожидало их в этой войне. И все же их лица дышали безмятежностью, той глубокой безмятежностью, которую дает спокойная совесть. Порою эта безмятежность даже переходила в веселость. Смеялись охотно, все казалось им смешным — порванные брюки одного, шляпа, которую другой по ошибке принес с баррикады вместо своей, теплый шарф третьего. «Спрячьтесь туда, вы будете казаться ниже», — трунили товарищи. Они были словно дети, все их забавляло. Утром 4 декабря явился Матье (от Дромы). Он пришел сказать, что тоже образовал комитет, который будет действовать заодно с Центральным комитетом. Чтобы его не узнали на улице, Матье сбрил бороду, обрамлявшую его лицо. «Вы похожи на архиепископа!» — воскликнул Мишель де Бурж, и все расхохотались. А ведь их ни на минуту не покидала мысль: эти шаги за дверью, резкий поворот ключа в замке — быть может, то идет смерть…
Депутаты и члены комитета были во власти случая. Много раз их могли арестовать и не арестовали — потому ли, что кое в ком из полицейских еще шевелилась совесть (куда только она ни забирается!), потому ли, что полицейские не были уверены в исходе борьбы и боялись чересчур поспешно хватать людей, которые, возможно, победят. Полицейский комиссар Вассаль встретился с нами 4 декабря на тротуаре улицы Мулен; стоило ему только захотеть, и нас тогда же забрали бы; он нас не выдал. Но такие случаи составляли исключение. Дело от этого не менялось, полиция преследовала нас ожесточенно и свирепо. Читатель помнит — полицейские и подвижная жандармерия нагрянули к Мари спустя каких-нибудь десять минут после того, как мы ушли из его дома; они искали даже под кроватями и шарили там штыками.
Среди депутатов было несколько членов Учредительного собрания. Их возглавлял Бастид. Во время второго ночного заседания на улице Попенкур Бастиду поставили в упрек некоторые действия, совершенные им в 1848 году, когда он был министром иностранных дел. «Дайте мне сперва умереть в бою, — ответил он, — а потом уж упрекайте, в чем хотите! — и прибавил: — Как вы можете сомневаться во мне, республиканце, готовом действовать даже кинжалом». Бастид упорно отказывался называть наше сопротивление мятежом. Он называл его контрмятежом. Он говорил: «Виктор Гюго прав. Мятежник — тот, кто засел в Елисейском дворце». Как известно, я считал, что медлить нельзя, что нужно навязать противнику сражение, бросить в бой все силы, без остатка. Я твердил: «Бей переворот, пока он горяч». Бастид поддерживал меня. В бою он был бесстрастен, хладнокровен и, при всей своей невозмутимости, весел. Когда на Сент-Антуанской баррикаде ружья переворота целились в депутатов, он, улыбаясь, сказал Мадье де Монжо: «Спросите-ка Шельшера, что он думает об отмене смертной казни» (в эту роковую минуту Шельшер ответил бы так же, как я, — что ее нужно отменить). На другой баррикаде Бастиду понадобилось ненадолго отлучиться; уходя, он положил свою трубку на мостовую. Трубку нашли и решили, что Бастид убит. Вернувшись под градом картечи, он спросил: «Где моя трубка?», раскурил ее и снова занял свое место на баррикаде. Его пальто было пробито двумя пулями.
Когда появились баррикады, депутаты-республиканцы распределили их между собой. Каждый отправился на ту, которая была ему назначена. Почти все депутаты левой побывали на баррикадах, либо помогая строить их, либо участвуя в боях. Не говоря уже о славной Сент-Антуанской баррикаде, где так доблестно вел себя Шельшер, на баррикаде улицы Шарон сражался Эскирос, у Пантеона и часовни Сен-Дени — де Флотт, в Бельвиле и на улице Омер — Мадье де Монжо, у мэрии V округа — Дутр и Пеллетье, на улице Бобур — Брив, на улице Пти-Репозуар — Арно (от Арьежа), на улице Пажвен — Вигье, на улице Жуаньо — Версиньи, у Порт-Сен-Мартен — Дюпон де Бюссак, на улице Рамбюто — Карлос Форель и Буассо. Дутра ударили саблей по голове, но разрубили только шляпу. Пальто Бурза продырявили четыре пули. Боден был убит. Гастон Дюссу был болен и не мог прийти; брат Гастона, Дени Дюссу, занял его место. Где? В могиле.
Боден пал на первой баррикаде, Дени Дюссу — на последней.
Мне не так посчастливилось, как Бурза; мое пальто прострелили только три пули; не могу с уверенностью сказать, откуда они прилетели. Вероятно, с бульвара.
Когда битва была проиграна, это не повлекло за собой ни смятения, ни паники, ни беспорядочного бегства. Все остались в Париже, все скрывались там, готовые вновь начать бой; Мишель ютился на Алжирской улице, я — на Наваринской. Комитет собрался еще раз в субботу 6 декабря, в одиннадцать часов вечера. Ночью мы — Жюль Фавр, Мишель де Бурж и я — встретились у благородной, бесстрашной женщины, г-жи Дидье. Туда пришел и Бастид. Он сказал мне: «Если вас не убьют здесь, вам придется уйти в изгнание. Я останусь в Париже. Располагайте мною. Сделайте меня своим заместителем». Я уже рассказывал об этом. Мы надеялись, что борьба возобновится в понедельник 9 декабря. Надежда не сбылась. Об этой возможности Маларме говорил Дюпону де Бюссаку, но удар 4 декабря сразил Париж. Население замерло в страхе. Лишь спустя несколько дней, когда последняя искра сопротивления угасла в сердце народа и последний проблеск надежды померк в небесах, — лишь тогда депутаты решились подумать о своей безопасности и покинуть Францию, хотя и на этом пути им грозили неисчислимые опасности.
Среди депутатов-республиканцев было несколько рабочих; в изгнании они вернулись к своим профессиям. Надо опять взял в руки лопатку каменщика и работает в Лондоне; ножовщик Фор, депутат от Роны, и сапожник Бансет сочли своим долгом приняться за прежнее ремесло и теперь по-старому занимаются им в Англии: Фор делает ножи, Бансет шьет башмаки. Греппо — ткач. Это он, изгнанник, выткал платье, в котором короновалась королева Виктория. Мрачная ирония судьбы! Ноэль Парфе служит корректором в одной из брюссельских типографий. Агриколь Пердигье, прозванный «добродетельным авиньонцем», опять надел кожаный фартук и столярничает в Антверпене. А ведь совсем недавно эти люди заседали в Верховном собрании! Такие случаи встречаются у Плутарха.
Красноречивый и отважный изгнанник Эмиль Дешанель, обладавший замечательным даром слова, создал в Брюсселе новый вид общественного обучения — публичные лекции. Ему принадлежит честь организации этого столь плодотворного и полезного дела.
Скажем в заключение: Законодательное собрание жило дурно, но умерло хорошо.
В час падения, роковой для малодушных, правые вели себя достойно, левые — доблестно.
В истории еще не было случая, чтобы парламент кончил подобным образом.
Февраль подул на депутатов «легальной страны» — и депутаты исчезли. Созе сник за трибуной и ушел, забыв даже захватить шляпу.
Тот, другой Бонапарт, первый, настоящий, заставил в Сен-Клу членов Совета Пятисот прыгать из окон оранжереи, хотя длинные мантии несколько стесняли их движения.
Когда Кромвель, древнейший из Бонапартов, совершил свое Восемнадцатое брюмера, сопротивление ограничилось несколькими проклятиями, произнесенными Мильтоном и Ладлоу, и он мог по праву сказать в своем грубо-величественном стиле: «Я сунул короля в мешок, а парламент в карман». Настоящие курульные кресла можно было бы найти только в римском сенате.
Законодательное собрание — скажем это к его чести — перед лицом гибели сохранило свое достоинство. История зачтет ему это. Можно было опасаться, что, совершив столько предательств, Собрание в конце концов предаст самое себя. Этого не случилось. Нельзя не признать, что Законодательное собрание делало одну ошибку за другой. Роялистское большинство Собрания гнуснейшим образом преследовало республиканское меньшинство, мужественно исполнявшее свой долг, разоблачая перед народом замыслы монархистов. Это Собрание долго сожительствовало с преступником и было, себе на погибель, его сообщником, пока, наконец, преступник не задушил его, как вор душит свою любовницу в постели; но что бы ни говорили об этом злосчастном Собрании, оно не пало так низко, как на то надеялся Луи Бонапарт. Оно не пошло на подлость.
Так случилось потому, что оно было детищем всеобщего избирательного права. Скажем во всеуслышание ибо это великий урок: Законодательное собрание, порожденное всеобщим избирательным правом и замышлявшее убить его, на пороге смерти ощутило в себе его животворную силу.
Нравственная мощь всего народа неминуемо сообщается избранному им Собранию, даже самому хилому. В решающий день эта мощь дает себя знать.
Как ни тяжела грозная ответственность, падающая на Законодательное собрание, — будущее, быть может, отнесется к нему менее сурово, чем оно того заслуживает.
Благодаря всеобщему избирательному праву, преданному Собранием и все же в последний час вдохнувшему в него веру и силу; благодаря левой — подавленной, осмеянной, оклеветанной, обескровленной этим Собранием и все же озарившей его отблеском своего героизма, — эта жалкое Собрание умерло доблестной смертью.
XVIII Страница, написанная в Брюсселе
Итак, решено! Пинком я распахну дверь этого дворца и войду туда вместе с тобой, История! Я схвачу всех виновных за ворот на месте их нескончаемого преступления. Я сразу освещу это мрачное логово ярким полуденным солнцем истины!
Да, я впущу туда свет! Я сорву занавес, я настежь открою окно, я покажу всем, покажу таким, каков он есть, этот отвратительный, страшный, роскошный, торжествующий, ликующий, раззолоченный, загаженный Елисейский дворец, этих придворных, эту шайку, эту кучу — называйте, как вам угодно, — это скопище каторжников, где ползают, кишат, совокупляются, размножаются все низости, все подлости, все пакости — бандиты, пираты, клятвопреступники, ханжи, шпионы, жулики, живодеры, палачи, от кондотьера, продающего свою шпагу, до иезуита, торгующего своим господом богом! Этот вертеп, где Барош разгуливает рядом с Тестом, где каждый выставляет напоказ свои мерзости: Маньян — свои эполеты, Монталамбер — свою религию, Дюпен — самого себя! А главное — я покажу интимный кружок, святая святых, тайный совет, семейный притон, где пьют, едят, смеются, спят, играют в карты, жульничают, обращаются к его величеству на «ты», утопают в разврате. О! Сколько гнусностей! Все гнездится там, все! Бесчестье, подлость, стыд, позор — всё налицо! О История! Каленым железом выжги клеймо на всех этих лицах!
Там веселятся, обжираются, кутят, там измываются над Францией. Там, хохоча во все горло, прикарманивают вперемежку миллионы луидоров и миллионы голосов. Взгляните на них, полюбуйтесь ими: они обошлись с законом как с продажной девкой, и они в восторге! Право задушено, свободе заткнули рот, знамя обесчещено, народ растоптан — они блаженствуют! Кто же они такие? Что за люди? Европа этого не знает. В одно прекрасное утро они возникли из преступления. Вот и все. Шайка плутов, прославившихся на весь свет, но все же безыменных. Да, все они налицо, глядите же на них, говорю я вам, смотрите же на них, опознайте их, если можете. Какого они пола? Какой породы? Кто вот этот? Писатель? Нет, пес. Он пожирает человечину. А это кто? Пес? Нет, придворный. У него лапы в крови.
«Новые люди» — так они себя называют. Да, уж подлинно новые. Нежданные, небывалые, невообразимые, чудовищные! Вероломство, беззаконие, воровство, убийство стали отделами их министерств, всеобщее голосование они подменили мошенничеством, власть их основана на подлоге, долг они именуют преступлением, преступление — долгом, зверства они сопровождают циничным хохотом, — вот из чего слагается их новизна.
Теперь они радуются; все удалось на славу, задул попутный ветер, им раздолье. Они выиграли Францию крапленым и картами и делят ее. Франция — мешок, куда они запустили руки. Шарьте, черт возьми, хватайте, пока не поздно, доставайте, загребайте, выуживайте, воруйте, грабьте! Одному нужны деньги, другому — доходные места, третьему — орден на шею, четвертому — плюмаж на шляпу, пятому — золотое шитье на обшлага, шестому — женщины, тому — власть, этому — последние новости для биржевой игры, кому-то — концессия на железную дорогу, еще кому-то — вино. Еще бы им не радоваться! Вообразите себе оборванца, который каких-нибудь три года назад занимал по десять су у своего привратника, а сегодня сидит, развалясь, в креслах, опершись локтем на «Монитер», и ему достаточно подписать декрет, чтобы присвоить себе миллион. Жить в свое удовольствие, расхищать казну, кормиться за счет государства, не стесняясь, по-семейному, — это они называют своей «политикой». Прожорливость — вот настоящее имя их честолюбия!
Честолюбцы? Они-то? Бросьте! Просто-напросто — обжоры! Управлять — значит наслаждаться жизнью. Это отнюдь не мешает предательству, — напротив! Все друг за другом шпионят, все друг друга предают. Мелкие изменники предают крупных. Пьетри подсиживает Мопа, а Мопа — Карлье. Отвратительный притон! Там все они сообща обделали переворот — это объединило их. В остальном там никто никому и ничему не верит — ни взглядам, ни улыбкам, ни сокровенным мыслям, ни мужчинам, ни женщинам, ни лакею, ни государю, ни честному слову, ни свидетельству о рождении. Каждый сознает, что он мошенник, и чувствует, что его подозревают. У каждого свои тайные замыслы. Каждый в глубине души знает, почему он пошел на преступление, но ни один не заикнется об этом, и никто не носит имени своего отца. О, если только господь продлит мою жизнь, я — да простит меня Христос — воздвигну позорный столб вышиною в сто локтей, я возьму гвозди и молоток и распну Богарне, именующего себя Бонапартом, между Леруа, именуемым Сент-Арно, и Фьяленом, именуемым Персиньи!
И вас, сообщники, всех вас я приволоку туда же! Морни, и Ромье, и Фульда, еврея-сенатора, и Делангля, на чьей спине красуется ярлык «Правосудие»! И Тролона, законоведа, восхваляющего беззаконие, ученого юриста, сочиняющего апологии переворота, прокурора, угодничающего перед клятвопреступником, судью, прославляющего убийство, — Тролона, которому суждено предстать перед потомством, держа в руке губку, напитанную грязью и кровью.
Итак, я вступаю в бой. С кем? С тем, кто ныне властвует над Европой. Миру полезно увидеть это зрелище. Луи Бонапарт — это успех, это опьянение торжеством, это веселый и зверский деспотизм, празднующий победу, это обезумевшее полновластие, ищущее себе пределов и не находящее их ни в установлениях, ни в людях. Луи Бонапарт владеет Францией, urbem Romam habet, [46] а кто владеет Францией — тот владеет миром; он — властелин голосований, властелин совестей, властелин народа; он назначает себе преемника, он владеет всеми будущими выборами, распоряжается вечностью и запечатывает грядущее в конверт; его сенат, его законодательный корпус, его государственный совет, понуря головы, гурьбой идут за ним и лижут ему пятки; он ведет на сворке епископов и кардиналов; он топчет ногами правосудие, клянущее его, и судей, пресмыкающихся перед ним. Тридцать газетных корреспонденций оповещают континент о том, что он нахмурился; стоит ему только погрозить пальцем — и по всем телеграфным проводам пробегает дрожь; вокруг него бряцают сабли, и барабаны бьют «встречу»; он восседает под сенью орла, посреди штыков и крепостей; свободные народы трепещут и прячут свои свободы, боясь, как бы он их не похитил. Великая американская республика — и та робеет перед ним и не решается отозвать своего посла; короли, окруженные армиями, смотрят на него с улыбкой на губах и с ужасом в сердце. С какой страны он начнет? С Бельгии? Со Швейцарии? С Пьемонта? Европа ждет, что он ее захватит. Он все может и на все зарится.
И что же! Против этого властелина, победителя, завоевателя, диктатора, императора, всемогущего владыки восстает и идет войной одинокий скиталец, лишившийся всего, разоренный, побежденный, преследуемый. У Луи-Наполеона десять тысяч пушек и пятьсот тысяч солдат; у писателя — перо и чернильница. Писатель — ничто, песчинка, тень, бездомный изгнанник, беспаспортный бродяга, — но рядом с ним и на его стороне сражаются две великие силы: непобедимое Право и бессмертная Истина.
Конечно, для этой беспощадной борьбы, для этого грозного поединка провидение могло выбрать более славного борца, более могучего атлета; но какое значение имеют люди, когда в бой вступает идея! Повторяю — миру полезно увидеть такое зрелище. В самом деле, что происходит? Человеческий разум, пылинка, сопротивляется силе, колоссу.
В моей праще — всего один камень, но смертоносный; имя ему — справедливость.
Я иду на Луи Бонапарта в час, когда он утвердился, когда он властелин; он достиг апогея — тем лучше, это-то мне и нужно!
Да, я иду на Луи Бонапарта, иду на него перед лицом всего мира, иду, призывая в свидетели бога и людей, иду бесповоротно, безоглядно, во имя любви к моему народу и Франции! Он будет императором — ну что ж! Но пусть окажется хоть один человек, который не склонит перед ним голову! Пусть Луи Бонапарт знает: можно завладеть государством, но совестью завладеть нельзя.
XIX Нерушимое благословение
Папа одобрил содеянное.
Когда курьеры доставили в Рим известие о событии 2 декабря, папа отправился на парад, объявленный генералом Жемо, и поручил генералу поздравить от его имени принца Луи-Наполеона.
Нечто подобное уже было однажды.
12 декабря 1572 года Сен-Гоар, посол французского короля Карла IX при дворе испанского короля Филиппа II, писал из Мадрида своему повелителю Карлу IX: «Вести о делах, совершившихся в день св. Варфоломея, дошли до его католического величества; вопреки своему нраву и обыкновению, король выказал такую радость, как никогда еще ни при одном из счастливых событий и успехов его жизни. Посему в воскресенье я отправился к нему в Сан-Херонимо, а он, завидев меня, рассмеялся и с величайшим удовольствием и восторгом стал восхвалять ваше величество».[47]
Рука Пия IX осталась простертой над Францией, превратившейся в империю. И тогда, под мрачной сенью этого благословения, началась эра благоденствия…
РАЗВЯЗКА ПАДЕНИЕ
I
Я возвращался из четвертого своего изгнания (пустячного изгнания в Бельгию). Это было в конце сентября 1871 года. Я ехал во Францию через люксембургскую границу. В вагоне я уснул. Меня разбудил толчок при остановке. Я открыл глаза.
Поезд стоял в очаровательной местности.
Сумерки прерванного сна еще не рассеялись. Неясные, расплывчатые образы, подобные туманным грезам, застилали от меня действительность; то была смутная дремота, предшествующая пробуждению.
У самого полотна железной дороги прозрачная речка омывала своими струями приветливый зеленый островок, покрытый такой густой растительностью, что водяные курочки, подплыв к берегу, словно ныряли туда и исчезали из виду. Речка текла по долине, похожей на огромный сад. Там были яблони, вызывавшие мысль о Еве, и старые ивы, напоминавшие о Галатее. Как я уже упомянул, это был один из тех месяцев равноденствия, когда так чувствуется прелесть угасающего времени года. Кончается зима — и вдали уже слышится песня весны; уходит лето — на небосклоне теплится едва приметная улыбка осени. Ветер смягчал и сливал в единый напев множество радостных звуков, доносившихся с полей. Позвякивание колокольчиков, казалось, баюкало жужжавших пчел; последние бабочки садились на первые гроздья винограда. В это время года к отрадному сознанию, что жизнь еще длится, примешивается безотчетная грусть — предчувствие неотвратимой смерти. Несказанно ласково светило солнце. Плодородные земли, изборожденные плугом, незатейливые кровли крестьянских жилищ; под сенью деревьев — сочная темно-зеленая трава; протяжное мычанье быков, как у Вергилия; струившийся из труб дым, пронизанный лучами солнца, — такова была эта картина. Вдали стучали кузнечные молоты — ритм труда в гармонии природы. Я слушал, годный смутных дум; долина была тиха и прекрасна; синяя небесная твердь безмятежно покоилась на прелестном кольце холмов. Где-то вдали щебетали птицы, близ меня звенели детские голоса, словно две ангельские песни, звучащие в лад. Меня обволакивала ясность окружающего мира, прелесть и величие этой природы рождали в душе луч зари…
Вдруг кто-то из пассажиров спросил:
— Как называется это место?
Другой ответил:
— Седан.
Я вздрогнул.
Рай оказался могилой.
Я огляделся вокруг. Долина была круглая и глубокая, как кратер вулкана; речка извивалась по-змеиному; высокие холмы, вздымавшиеся уступами, окружали это таинственное место тройным рядом несокрушимых стен; однажды попав сюда, уже нельзя было выйти. Долина походила на древний цирк. Какая-то зловещая растительность, как бы продолжавшая чащи Шварцвальда, густо покрывала вершины холмов и терялась вдали, напоминая огромную непроницаемую ловушку. Солнце сияло, птицы пели, возчики что-то насвистывали, шагая за своими возами, там и сям виднелись овцы, ягнята, голуби; листья трепетали и перешептывались; трава, необычайно густая трава, пестрела цветами. Это было ужасно.
Мне чудился над этой долиной огненный меч архангела.
Слово «Седан» как бы сорвало завесу. Пейзаж вдруг стал трагическим. Что видели странные глаза, смутно обрисовывавшиеся на коре деревьев? Нечто страшное, исчезнувшее.
Да, это было здесь! Без малого тринадцать месяцев тому назад здесь завершилась чудовищная авантюра, начавшаяся 2 декабря. Жуткое крушение!
Глубокий трепет охватывает того, кто изучает мрачные пути судьбы.
II
31 августа 1870 года целая армия оказалась сосредоточенной под стенами Седана; она сгрудилась в так называемой «ложбине Живонны». То была французская армия: двадцать девять бригад, пятнадцать дивизий, четыре армейских корпуса — девяносто тысяч человек. Она стояла здесь неведомо зачем, без порядка, без определенной цели; все части были перемешаны: куча людей, словно нарочно согнанных в это место, чтобы там их схватила чья-то гигантская рука.
Этой армии в то время не угрожала — так по крайней мере казалось — непосредственная опасность. Знали или предполагали, что неприятель находится довольно далеко. Считая дневной переход за четыре лье, думали, что немцы по меньшей мере в трех сутках пути от Седана. Все же командование приняло к вечеру кое-какие разумные стратегические меры; армия тылом опиралась на Седан и реку Маас — с фронта ее прикрывали две мощные боевые линии: первая, в составе 7-го корпуса, тянулась от Флуэна до деревни Живонны, вторая, в составе 12-го корпуса, — от деревни Живонны до Базейля; получился треугольник, гипотенузой которого была река Маас. 12-й корпус, состоявший из трех дивизий, Лакретеля, Лартига и Вольфа, расположенных по прямой, с артиллерией, размещенной между бригадами, являлся мощным заслоном, центр которого находился в Деньи, а фланги опирались на Базейль и деревню Живонну; дивизии Пти и Леритье, сосредоточенные двумя линиями позади этого заслона, должны были его поддерживать. 12-м корпусом командовал генерал Лебрен. 7-й корпус, которым командовал генерал Дуэ, состоял всего из двух дивизий — Дюмона и Жильбера. Они образовали вторую линию (продолжение первой), прикрывавшую армию в промежутке от деревни Живонны до Флуэна, со стороны плоскогорья Илли; эта линия была сравнительно слаба и слишком открыта со стороны деревни Живонны; только со стороны Мааса она опиралась на две кавалерийские дивизии — генералов Маргерита и Бонмена — и бригаду Гийомара, расположенную под прямым углом к селенью Флуэн. Внутри этого треугольника стояли лагерем 5-й корпус под командой генерала Вимпфена и 1-й корпус под командой генерала Дюкро. Кавалерийская дивизия Мишеля прикрывала 1-й корпус со стороны Деньи; 5-й корпус вплотную опирался на Седан. Четыре дивизии — Леритье, Граншана, Гоза и Консей-Дюмениля, расположенные каждая в две линии, образовали подобие подковы, повернутой к Седану и связывавшей обе передовые линии; резерв этих четырех дивизий составляли кавалерийская дивизия Амейля и бригада Фонтанжа. Артиллерия была целиком сосредоточена на обеих боевых линиях. Два крупных соединения стояли отдельно: одно — направо от Седана, по ту сторону предместья Балан, другое — слева от Седана, на пути к полуострову Ижу; по ту сторону Балана стояли дивизия Вассоня и бригада Ребуля; по дороге на Иж — две кавалерийские дивизии — Маргерита и Бонмена.
Такое расположение свидетельствовало о том, что командование было уверено в полной безопасности. Прежде всего, не будь император Наполеон III исполнен такой уверенности, он не расположил бы войска здесь. Ложбина Живонны точно соответствует тому, что Наполеон I называл «миской», а адмирал Тромп — «ночным горшком». Плотнее нельзя было закупориться. В таких местах армия чувствует себя как дома, даже слишком уютно; она рискует уже не выбраться оттуда. Это и беспокоило некоторых отважных и дальновидных командиров — таких, как Вимпфен; но на них не обращали внимания. Если дело примет скверный оборот, говорили приближенные императора, всегда можно будет выйти к Мезьеру, а предполагая самое худшее, — к бельгийской границе. Но допустимо ли предусматривать такие крайности? Иногда предусмотрительность почти равносильна оскорблению. Итак, все сошлись на том, что можно не тревожиться.
Не будь этого спокойствия, можно было бы снести мосты через Маас, но об этом и не подумали. К чему? Ведь неприятель далеко. Так утверждал император, очевидно хорошо осведомленный.
Армия, как мы уже говорили, расположилась довольно беспорядочно и спокойно простояла всю ночь на 1 сентября — ведь путь отступления на Мезьер во всяком случае был, или считался, свободным. Пренебрегли даже самыми обычными предосторожностями: по свидетельству одного немецкого военного писателя,[48] не произвели кавалерийской разведки, даже не выставили застав. Немецкая армия находилась самое меньшее в четырнадцати лье от ложбины Живонны, то есть в трех дневных переходах от нее; никто не знал с достоверностью, где именно эта армия находится; считали, что она раздроблена, слабо сплочена, плохо осведомлена, направлена одновременно и почти наугад на несколько пунктов, неспособна быстро двинуться большими массами на такой объект, как Седан. С уверенностью передавали, что кронпринц саксонский идет на Шалон, а кронпринц прусский — на Мец. Об этой армии, ее полководцах, ее военном плане, ее вооружении, ее численности не знали ровно ничего. Придерживается ли она еще стратегии Густава-Адольфа? Или стратегии Фридриха Второго? Этого никто не мог сказать. Все были убеждены, что через несколько недель вступят в Берлин. Прусская армия — велика важность! Об этой войне говорили как о мимолетном сновидении, о неприятельской армии — как о призраке.
В эту самую ночь, пока французская армия спала, происходило следующее.
III
В час сорок пять минут пополуночи кронпринц саксонский Альбрехт приказом из штаб-квартиры в Музоне привел в движение Маасскую армию. По тревоге королевская гвардия стала в ружье, и две дивизии немедленно двинулись — одна через Эскамбр и Фурю-о-Буа на Вилле-Серне, другая — через Сюши и Фурю-Сен-Реми на Франшеваль. За ними следовала гвардейская артиллерия.
Тогда же, минута в минуту, по тревоге взялся за оружие 12-й саксонский корпус; выступив по большой дороге, пролегающей южнее Дузи, корпус миновал Ламекур и направился к селенью Монсель. 1-й баварский корпус шел на Базейль. В Рельи на Маасе его подкрепила артиллерийская дивизия 4-го корпуса. Другая дивизия 4-го корпуса перешла Маас при Музоне и остановилась в Мери, на правом берегу реки, в резерве. Все три колонны поддерживали связь друг с другом. Передним частям был дан приказ не начинать наступления до пяти часов утра, а к этому времени бесшумно занять Фурю-о-Буа, Фурю-Сен-Реми и Дуэ. Ранцы были оставлены в обозах войсковых частей; обозы не трогались с места. Кронпринц саксонский, верхом на коне, находился на пригорке Амблимон.
В тот же час генерал Блюменталь из своей главной квартиры в Шемери приказал одной из вюртембергских дивизий навести мост через Маас. Выступив до рассвета, 11-й корпус переправился через реку в Дон-ле-Мениль и в Доншери и занял Вринь-сюр-Буа. Следовавшая за ним артиллерия могла обстреливать дорогу из Вриня на Седан. Вюртембергская дивизия охраняла наведенный ею мост и могла обстреливать дорогу из Седана на Мезьер. В пять часов утра одна из дивизий 2-го баварского корпуса отделилась от других и, с артиллерией во главе, двинулась через Бюльсон на Френуа; другая дивизия прошла через Нуайе и сосредоточилась напротив Седана, между Френуа и Ваделенкуром. Резервная артиллерия расположилась на высотах левого берега, напротив Доншери.
Тогда же 6-я кавалерийская дивизия выступила из Мазере; пройдя Бутанкур и Бользикур, она у Флиза вышла к Маасу. Покинув свою стоянку, 2-я кавалерийская дивизия заняла позиции южнее Бутанкура; 4-я кавалерийская дивизия заняла позиции к югу от Френуа, 1-й баварский корпус занял Ремильи, 5-я кавалерийская дивизия и 6-й корпус следили за неприятелем, и все эти силы, сосредоточенные и выстроенные в боевом порядке на высотах, ожидали рассвета. Кронпринц прусский, верхом на коне, находился на пригорке Френуа.
В этот час такие же передвижения происходили по всей линии горизонта. Все высокие холмы внезапно покрылись черными полчищами. Ни одного возгласа команды. Двести пятьдесят тысяч человек неслышно сомкнулись и взяли в кольцо ложбину Живонны.
Вот какое это было кольцо.
Правое крыло — баварцы в Базейле, на реке Маас; рядом с баварцами, в Ламонселе и Деньи — саксонцы; против деревни Живонны — королевская гвардия; 5-й корпус — в Сен-Манже; 2-й — во Фленье; в излучине Мааса, между Сен-Манжем и Доншери, — вюртембержцы; граф Штольберг со своей кавалерией — в Доншери; на передней линии, против Седана, — 2-я баварская армия.
Все это совершилось бесшумно, беззвучно — словно призраки сомкнутым строем прошли по лесам, оврагам, долинам. Извилистый и зловещий путь. Движения пресмыкающихся.
Под густой листвой едва слышался легкий шорох. Войска безмолвно кишели во мраке, дожидаясь восхода солнца.
Французская армия спала.
Внезапно она пробудилась.
Она была в плену.
Взошло солнце; оно славило бога — и несло гибель людям.
IV
Вот каково было положение.
У немцев — огромное численное превосходство; на одного француза приходятся три, даже четыре немца. Они говорят, что у них было двести пятьдесят тысяч человек, но доподлинно известно, что фронт их наступления развернулся на тридцать километров; у них — более выгодные позиции, они занимают высоты, они кишат в лесах, их прикрывают откосы, их маскирует густая листва; у них несравненная артиллерия. Французская армия скучена в котловине, почти без артиллерии и боеприпасов, ничем не защищенная от немецкой картечи. На стороне немцев — засада. На стороне французов — только героизм. Умереть с честью — прекрасно, но застать врасплох — выгодно. Внезапность нападения — вот секрет этой победы.
Честная ли это война? Да. Но если это честная война — какую же тогда назвать нечестной?
Разницы нет.
Сказав это, мы объяснили сражение при Седане.
Тут хотелось бы поставить точку. Но это невозможно. Какой бы ужас ни испытывал историк, для него история — долг, и этот долг он обязан исполнить. Нет стремления более неодолимого, чем стремление говорить правду; для того, кем оно завладело, возврата нет: он дойдет до конца. Это неизбежно. Судья обречен вершить суд.
Сражение при Седане — нечто большее, чем обычная битва. Это — заключение некоего силлогизма; грозное предначертание судьбы. Судьба никогда не торопится и всегда является в свое время. Пробьет ее час, она на месте. Она медлит годами — и наносит удар в минуту, когда этого меньше всего опасаются. Седан — событие неожиданное и фатальное. Время от времени божественная логика властно проявляет себя в истории. Седан — одно из таких проявлений.
Итак, 1 сентября в пять часов утра над миром взошло солнце, а над французской армией разразилась гроза.
V
Базейль — в огне, Живонна — в огне, Флуэн — в огне; вначале — исполинский костер. Горизонт — сплошное зарево. В этом кратере лагерь французов — ошеломленный, растерянный, застигнутый врасплох, кишащий обреченными людьми. Громы гремят вокруг армии. Гибель кольцом охватила ее. Ужасающая бойня происходит одновременно повсюду; французы сопротивляются, и они страшны, ибо за них — отчаяние. Наши пушки, почти все старого образца и недальнобойные, сразу умолкают под точным, убийственным огнем пруссаков. Гранаты сыплются градом, так что, по словам очевидца, «земля изборождена, словно граблями». Сколько у немцев пушек? По меньшей мере тысяча сто. Двенадцать немецких батарей на одном только холме Монсель; 3-й и 4-й дивизионы, артиллерия ужасающей силы, стоят на Живоннских высотах, в резерве у них — 2-я конная батарея; напротив Дуаньи — десять саксонских батарей и две вюртембергские; лес, тянущийся к северу от Вилле-Серне, прикрывает дивизион полевой артиллерии, имеющий в резерве еще одну батарею тяжелой артиллерии; из этих темных зарослей несется яростный огонь; двадцать четыре орудия 1-го дивизиона тяжелой артиллерии установлены на прогалине, у дороги из Монселя в Лашапель; батарея королевской гвардии подожгла Гаренский лес. Бомбы и ядра градом сыплются на Сюши, Франшеваль, Фурю-Сен-Реми и на долину между высотами Эйб и рекой Живонной. Непрерывной цепью в три-четыре ряда тянутся пушки до крестового холма Илли — крайней точки, видной на горизонте. Сидя или лежа перед батареями, немецкие солдаты наблюдают работу артиллерии. Французские солдаты падают и умирают. Среди трупов, которыми усеяна ложбина Живонны, — труп офицера; после битвы при мертвеце найдут запечатанный конверт с приказом за подписью Наполеона, гласящим: «Сегодня, 1 сентября, отдых для всей армии». Доблестный 35-й линейный полк почти весь полег под снарядами; храбрая морская пехота сначала сдерживает натиск саксонских и баварских полков, но, теснимая со всех сторон, отступает. Великолепная кавалерия дивизии Маргерита, брошенная против немецкой пехоты, на полпути была остановлена, рассеяна и уничтожена «размеренными и меткими залпами», как сказано в прусском донесении.[49]
У этого поля бойни — три выхода, и все они отрезаны: дорога на Бульон — прусской гвардией, дорога на Кариньян — баварцами, дорога на Мезьер — вюртембержцами. Французы не догадались забаррикадировать железнодорожный виадук, и ночью его заняли три немецких батальона; два уединенных дома по дороге в Балан могли стать опорным пунктом продолжительного сопротивления — немцы уже там; заняв обширный, густой, как лес, парк Монвилле под Базейлем, французы могли помешать соединению саксонцев, овладевших селеньем Ламонсель, с баварцами, захватившими Базейль, но было поздно: баварцы своими тесаками уже рубили там живые изгороди. Немецкая армия движется согласованно, как единое целое. С холма Мери кронпринц саксонский руководит всеми операциями. Во французской армии командование переходит из рук в руки. В самом начале битвы, в пять часов сорок пять минут утра, Мак-Магон был ранен осколком гранаты; в семь часов его заменил Дюкро; в десять командование перешло к Вимпфену. С каждой минутой огненная стена придвигается все ближе, раскаты грома не стихают; чудовищное истребление девяноста тысяч человек! Никогда еще мир не видел ничего подобного, никогда еще ни на какую армию не обрушивалась такая лавина картечи. К часу дня все было потеряно. Полки беспорядочной толпой бегут в Седан. Но Седан уже горит. Дижонваль горит, лазареты горят. Остается одно — прорыв. Храбрый, стойкий Вимпфен предлагает императору пойти на это. Третий полк зуавов, движимый отчаянием, подал пример: отрезанный от всех остальных частей, он сквозь неприятельские войска прорвался в Бельгию. Бегство львов.
Внезапно над разгромом, над исполинской грудой мертвых и умирающих, над всем этим обреченным героизмом появляется позор. Поднят белый флаг.
Тюренн и Вобан оба присутствовали при этом — один в образе своей статуи, другой в образе своей крепости.
Статуя и крепость видели ужасную капитуляцию; эти девственницы, бронзовая и гранитная, познали бесчестье. О священный лик родины! О несмываемый стыд!
VI
Разгрома под Седаном легко мог избежать кто угодно, только не Луи Бонапарт. Он и не избегал его, он сам устремился ему навстречу. Lex fati. [50]
Нашу армию словно нарочно расположили таким образом, что катастрофа стала неизбежной. Солдаты были встревожены, сбиты с толку, голодны. 31 августа они, разыскивая свои части, бродили по улицам Седана; они ходили от двери к двери и просили хлеба. Мы уже отметили, что приказом императора следующий день, 1 сентября, был объявлен «днем отдыха» для всей армии. Армия в самом деле изнемогала от усталости. А между тем она делала только небольшие переходы. Солдаты отвыкли от долгих маршей. Некоторые корпуса, например 1-й, проходили не больше восьми километров за день (29 августа — из Стона в Рокур).
Тем временем немецкая армия, возглавленная беспощадными командирами, шедшая, как армия Ксеркса, под угрозой бича, за пятнадцать часов делала переходы в четырнадцать лье, — поэтому она появлялась внезапно и вплотную окружала мирно спавшие французские войска. Быть застигнутым врасплох стало самым обычным делом; так попался в Бомоне генерал де Файи; днем солдаты разбирали ружья, чтобы почистить их, а ночью спали; они даже не разрушали мостов, отдававших французские войска в руки неприятеля; так, например, не сочли нужным взорвать мосты в Музоне и Базейле. 1 сентября еще до рассвета авангард из семи батальонов под командой генерала Шульца захватом Рюля обеспечил соединение Маасской армии с королевской гвардией. Почти в ту же минуту с немецкой точностью вюртембержцы захватили мост в Платинери, а саксонские батальоны, стоявшие под прикрытием леса Шевалье, построились ротами в колонны и заняли всю дорогу из Ламонселя в Вилле-Серне.
Итак, повторяем, пробуждение французской армии было ужасно. В Базейле к пороховому дыму прибавился еще и туман. Наши солдаты, на которых немцы набросились в этой мгле, не понимали, откуда шла на них смерть; они грудью отстаивали каждую комнату, каждый дом.[51]
Бригада Ребуля пыталась поддержать бригаду Мартена де Пейера, но тщетно: пришлось уступить. В тот же час Дюкро был вынужден сосредоточить свои силы в Гаренском лесу, перед крестовым холмом Илли. Корпус Дуэ дрогнул и отступил: один только Лебрен стойко держался на возвышенности Стене. Наши войска занимали линию протяжением в пять километров; фронт французской армии был обращен к востоку, левый фланг — к северу, крайний левый (бригада Гийомара) — к западу; но обращен ли фронт к неприятелю, этого никто не знал — враг был невидим. Смерть поражала неведомо откуда; приходилось сражаться с Медузой в маске. Наша кавалерия была изумительна, но бесполезна. Поле битвы, стиснутое большим лесом, усеянное рощицами, домами, фермами, изгородями, было удобно для артиллерии и пехоты, но непригодно для конницы; в речке Живонне, протекающей по ложбине через все поле битвы, в продолжение трех дней было больше крови, чем воды. Одно из самых страшных побоищ произошло в Сен-Манже; был момент, когда казалось возможным прорваться через Кариньян на Монмеди, но и эта возможность вскоре отпала. Осталось единственное прибежище — Седан; Седан, загроможденный обозами, фургонами, упряжками, бараками для раненых — груда горючего. Десять часов длилась агония героев. Они отказывались сдаться, они негодовали, они хотели до конца пройти путь, на который так смело вступили, — путь к смерти. Их предали.
Как уже было сказано, армией один за другим командовали три человека, три храбрых воина: Мак-Магон, Дюкро, Вимпфен; Мак-Магону хватило времени только на то, чтобы получить рану, Дюкро — только на то, чтобы совершить ошибку, Вимпфену — только на то, чтобы задумать героическую попытку, и он ее задумал. Но Мак-Магон не ответствен за свою рану, Дюкро не ответствен за свою ошибку, Вимпфен не ответствен за невозможность прорыва. Осколок, ранивший Мак-Магона, избавил его от этой катастрофы; ошибка Дюкро — несвоевременный приказ генералу Лебрену отступить — была вызвана ужасающей запутанностью положения: этот приказ — скорее недоразумение, нежели ошибка; Вимпфену, охваченному решимостью отчаяния, нужно было для прорыва двадцать тысяч человек, а ему удалось собрать только две тысячи; перед лицом истории все трое невиновны. Ответственность за разгром под Седаном несет один-единственный, роковой полководец — император. Завязкой было Второе декабря 1851 года, развязка последовала Второго сентября 1870 года; избиение на бульваре Монмартр и капитуляция под Седаном составляют, мы это подчеркиваем, две части одного силлогизма. Логика и справедливость взвешивают на одних весах. Волею судьбы гибельный путь этого человека начался с черного флага — избиения и кончился белым флагом — бесчестьем.
VII
Смерть или позор — таков был выбор; нужно было отдать либо жизнь, либо шпагу. Луи Бонапарт отдал шпагу. Он написал Вильгельму:
Государь брат мой.
Мне не дано было умереть среди моих войск; теперь мне остается только вручить вашему величеству мою шпагу.
Вашего величества добрый брат
Наполеон.
Седан. 1 сентября 1870 года.
Вильгельм ответил: «Государь брат мой, я принимаю вашу шпагу». И 2 сентября, в шесть часов утра, долина, залитая кровью и усеянная трупами, увидела позолоченную открытую коляску, запряженную четверкой цугом, с форейторами, и в этой коляске — человека с папиросой в зубах. То император французов ехал вручить свою шпагу прусскому королю.
Король заставил императора ждать. Было слишком рано. Он послал Бисмарка сказать Луи Бонапарту, что пока еще «не желает» принять его. Луи Бонапарт вошел в убогую лачугу, у самой дороги. Там была комната, в ней стол и два стула. Бисмарк и он беседовали, облокотившись о стол. Мрачная беседа! Когда королю заблагорассудилось, около полудня, император снова сел в коляску и отправился в замок Бельвю, расположенный на полпути от замка Вандрес. Там он ожидал прибытия короля. В час дня король приехал из Вандреса и соизволил принять Бонапарта. Он принял его плохо. У Аттилы не легкая рука. В сочувствии, которое грубоватый старик выказал императору, была доля неумышленной жестокости. Иногда жалость бывает оскорбительной. Победитель поставил свою победу в укор побежденному. Грубое обращение плохо врачует открытую рану. «И зачем только вы затеяли эту войну?» Побежденный оправдывался, сваливая вину на Францию. Время от времени этот диалог прерывало доносившееся издалека победное «ура» немецкой армии.
Король приказал отряду своей гвардии сопровождать императора. Это предельное унижение называется «почетным эскортом».
После шпаги — армия.
3 сентября Луи Бонапарт сдал Германии восемьдесят три тысячи французских солдат. Кроме того (так значится в прусском отчете):
«Штандарт и два знамени.
Четыреста девятнадцать полевых орудий и митральез.
Сто тридцать девять крепостных орудий.
Одну тысячу семьдесят девять различных повозок.
Шестьдесят тысяч ружей.
Шесть тысяч лошадей, еще годных для службы».
Приведенные немцами цифры недостоверны. В зависимости от того, что представлялось выгодным в данный момент, прусские канцелярии то преуменьшали, то преувеличивали размеры катастрофы. Среди пленных было около тринадцати тысяч раненых. В официальных документах цифры расходятся. Определяя общее число французских солдат, убитых и раненных в сражении под Седаном, один из прусских отчетов дает итог: «шестнадцать тысяч четыреста человек». Эта цифра приводит в содрогание: столько же солдат — шестнадцать тысяч четыреста человек — действовало по приказу Сент-Арно 4 декабря на бульваре Монмартр.
На расстоянии около полумили к северо-западу от Седана, вблизи Ижа, излучина Мааса образует полуостров. Перешеек прорезан каналом, поэтому полуостров в сущности является островом. Туда прусские капралы согнали восемьдесят три тысячи французских солдат. Эту армию стерегли несколько часовых. Сама их малочисленность была оскорблением. Побежденные пробыли там десять дней — раненые почти без ухода, здоровые почти без пищи. Немецкая армия посмеивалась, глядя на них. Небо тоже не щадило пленных — погода стояла ужасная. Ни бараков, ни палаток. Ни одного костра, ни одной охапки соломы. Десять дней и десять ночей восемьдесят три тысячи пленных стояли биваком под проливным дождем, в непролазной грязи. Многие умерли от лихорадки, сожалея, что не погибли от картечи. Наконец их погрузили в вагоны для скота и увезли.
Императора король отправил в первое попавшееся место — Вильгельмсгое.
Какой жалкий лоскут — император без империи!
VIII
Я размышлял. Весь трепеща, я смотрел на эти поля, овраги, холмы. Мне хотелось оскорбить это страшное место.
Но священный ужас удерживал меня.
Начальник станции Седан подошел к моему вагону и стал объяснять то, что было у меня перед глазами.
Я слушал его, и мне виделись сквозь его слова слабые отблески Седанской битвы. Все эти разбросанные вдалеке среди полей деревушки, прелестные в ярком солнечном свете, были сожжены; их отстроили вновь. Природа, так быстро забывающая о прошлом, все восстановила, вычистила, прибрала и расставила по местам. Жестокие разрушения, произведенные людьми, исчезли, вечный порядок возобладал. Но, повторяю, как ни ярко светило солнце — для меня эта долина была окутана дымом и мраком. Слева, на дальнем пригорке, виднелась деревня; она называлась Френуа. Там во время сражения находился прусский король. На склоне этого холма, у дороги, я различил поверх деревьев три высоких шпиля: то был замок Бельвю; там Луи Бонапарт сдался Вильгельму; там он отдал и предал нашу армию; там, узнав, что король примет его не сразу, что нужно запастись терпением, он, мертвенно-бледный, опозоренный навек, безмолвно просидел около часа у двери, дожидаясь, пока Вильгельм соблаговолит впустить его; там прусский король принял шпагу Франции, заставив ее сперва потомиться в передней. Поближе, в долине, у начала дороги на Вандрес, мне указали жалкую лачугу: там, сказали мне, император Наполеон III остановился перед встречей с прусским королем; мне указали и тесный двор, где сейчас ворчала цепная собака; император сел на камень возле кучи навоза; в лице у него не было ни кровинки; он сказал: «Я хочу пить». Прусский солдат принес ему стакан воды.
Потрясающее завершение переворота! Выпитая кровь не утоляет жажду. Должен был настать час, когда у несчастного вырвался этот вопль муки и отчаяния. Позор уготовил ему эту жажду, а Пруссия — этот стакан воды.
Страшный осадок в чаше судьбы!
В нескольких шагах от меня, по ту сторону дороги, пять тополей с бледной, трепещущей листвой осеняли двухэтажный дом. Фасад его был увенчан вывеской. На вывеске крупными буквами значилось: «Друэ». Я не верил своим глазам. «Друэ», — а мне чудилось «Варенн». Трагическая случайность, сблизившая Варенн с Седаном, как бы хотела сопоставить обе эти катастрофы, сковать одной цепью императора, плененного чужестранцем, и короля, плененного его собственным народом.
Сквозь мглу раздумья я видел долину. На волнах Мааса мне чудился багровый отсвет; сочная зелень ближнего островка, которою я так восхищался, расстилалась на огромной могиле; там были погребены полторы тысячи лошадей и столько же солдат. Вот почему трава была так густа. Там и сям, теряясь в отдалении, виднелись пригорки, поросшие зловещей растительностью. Каждый из этих мрачных пригорков обозначал место гибели какого-нибудь полка; здесь полегла бригада Гийомара; здесь погибла дивизия Леритье; там был уничтожен 7-й корпус; вот там «размеренными и меткими залпами», как сказано в прусском отчете, была скошена, не успев даже доскакать до вражеской пехоты, вся кавалерия генерала Маргерита; с этих двух возвышенностей, выделяющихся среди холмов, обступивших ложбину, — Деньи, высотой в двести семьдесят метров, против деревни Живонны, и Фленье, высотой в двести девяносто шесть метров, против Илли, — батареи прусской гвардии расстреливали французскую армию. Уничтожение обрушивалось сверху, с ужасающей непреклонностью судьбы. Казалось, все эти люди пришли сюда нарочно: одни — убивать, другие — умирать. Долина была ступой, немецкая армия — пестом; вот сражение при Седане. Не в силах оторваться, я смотрел на тюле, где совершился разгром; я видел все складки местности, не укрывшие наших солдат, овраг, где погибла наша кавалерия, весь этот амфитеатр, на уступах которого разразилась катастрофа, видел темные откосы Марфе, все эти заросли, обрывы, ущелья, леса, кишащие засадами, и в этой грозной мгле, о Незримый, я видел тебя!
IX
Такого плачевного падения еще не бывало в истории.
Никакое другое искупление не может сравниться с этим. Потрясающая драма в пяти действиях, настолько страшных, что сам Эсхил не дерзнул бы их задумать. Западня, Борьба, Избиение, Победа, Падение. Какая завязка — и какой финал! Если бы какой-нибудь поэт предсказал все это, его сочли бы предателем. Только бог мог позволить себе Седан.
Его правило — воздавать полною мерой. Преступление было страшнее Брюмера; возмездие — страшнее Ватерлоо.
Наполеон Первый — мы уже говорили об этом в другом месте[52] — гордо встретил свою судьбу. Кара не обесчестила его; он пал, глядя на бога в упор. Возвратясь в Париж, он спорил с теми, кто стремился его свергнуть; он проводил между ними резкое различие, отдавал должное Лафайету и презирал Дюпена. Он до последней минуты хотел ясно знать, что его ждет, и не позволил завязать себе глаза; он принял катастрофу, но поставил ей свои условия. Здесь все по-другому. Хочется даже сказать, что предатель был сражен предательским ударом. Перед нами — жалкий человек, смутно сознающий, что он всецело во власти судьбы, и неспособный понять, что она с ним делает. Он был на верху могущества, слепой владыка отупевшего мира. Он захотел плебисцита — и получил его. Тот же Вильгельм лежал у его ног. И в этот час содеянное им преступление внезапно завладело им. Он не сопротивлялся. Он уподобился тем осужденным, которые безропотно принимают приговор; он слепо подчинился велениям грозного рока. Большей покорности нельзя себе представить. У него не было армии — он затеял войну; у него был только Руэр — он бросил вызов Бисмарку; у него был только Лебеф — он пошел против Мольтке; он доверил Страсбург Уриху; оборону Меца он поручил Базену. В Шалоне у него была стодвадцатитысячная армия, он мог прикрыть Париж; но он чувствовал, что там на него грозно подымается его преступление, — и он бежал от Парижа. Намеренно и невольно, сам того желая и в то же время не желая, сознательно и бессознательно, — жалкое ничтожество, обреченное бездне, — он привел свою армию к месту, где ее ждало истребление. Он сам сделал страшный выбор и указал это поле битвы, откуда нельзя было спастись. Он уже ни в чем не отдавал себе отчета — ни в сегодняшней своей вине, ни в давнем своем преступлении. Нужно было кончать; но кончить он мог только бегством. Этот осужденный был недостоин взглянуть своей гибели в лицо; он стал к ней спиной, он опустил голову; к возмездию бог присовокупил унижение. Как император, Наполеон III мог притязать на гром небесный, но и гром заклеймил его позором: он поразил беглеца в спину.
X
Забудем этого человека и обратим взгляд к человечеству.
Нашествие немцев на Францию в 1870 году знаменовало воцарение ночи. Мир был поражен тем, что один народ может разлить вокруг себя такой мрак. Пять месяцев непроглядной тьмы — вот чем была осада Парижа. Распространением мрака можно, пожалуй, доказать свое могущество, но славу можно стяжать только распространением света. Франция распространяет свет: в этом причина ее огромной популярности среди людей. Благодаря Франции занялась заря цивилизации. Чтобы ясно мыслить, разум человеческий обращается в сторону Франции. Пять месяцев мрака — вот все, что Германия в 1870 году сумела дать всем народам; Франция дала им четыре столетия света.
Сегодня цивилизованный мир, больше чем когда-либо, сознает, как ему нужна Франция. Франция достойно проявила себя в опасности. Безучастие неблагодарных правительств только усилило тревогу народов. Когда над Парижем нависла угроза, народы ужаснулись, словно казнь грозила им самим. Неужели Германию не остановят? — трепетно вопрошали они. Но Франция сама отстояла себя. Ей стоило только подняться. Patuit dea. [53]
Сегодня она велика, как никогда. То, что убило бы всякий другой народ, лишь слегка ранило ее. Горизонт ее подернулся мглой, но тем ярче ее сияние. То, что она потеряла, уменьшившись в территории, она выиграла в блеске. Поэтому она полна искренней братской любви. Ее улыбка превозмогла несчастье. Готской империи не удалось наложить на нее свою тяжелую руку. Франция — нация граждан, а не стадо верноподданных. Границы? А будут ли еще границы через двадцать лет? Победы? В прошлом у Франции военные победы, в будущем — победы мирные. Будущее принадлежит Вольтеру, а не Круппу. Будущее принадлежит книге, а не мечу. Будущее принадлежит жизни, а не смерти. Политика, направленная против Франции, отдает тленом; искать жизни в обветшалых установлениях — напрасный труд; питаться прошлым — значит поедать прах. Франция обладает способностью излучать свет; никакие катастрофы, политические или военные, не в силах отнять у нее это таинственное верховенство. Пронеслась туча, и звезда снова сияет.
Звезда не ведает гнева, заря не помнит зла; свет довольствуется тем, что он свет. Свет — это все; только его любит человечество. Франция добра, поэтому она чувствует себя любимой, а кто умеет внушать любовь, тот могущественнее всех. Французская революция принадлежит всему миру. Это — битва, которую неустанно ведут во имя справедливости и неустанно выигрывают во имя истины. Справедливость — сущность человека; истина — сущность бога. Что можно сделать против революции, которая столь глубоко права? Ничего. Любить ее. И народы любят ее. Франция отдает себя, народы принимают ее в дар. В этих немногих словах — объяснение всего, что происходит сейчас. Можно сопротивляться вторжению армий, нельзя сопротивляться вторжению идей. Варвары обретают славу, лишь покоряясь гуманности, дикари — покоряясь цивилизации, мрак — покоряясь свету. Вот почему Франция всеми любима и признана; вот почему она полна братской и материнской любви; вот почему, не ведая ненависти, она не ведает страха; вот почему ее нельзя умалить, нельзя унизить, нельзя разгневать; вот почему, после стольких испытаний, катастроф, бедствий, несчастий, падений, она, неподкупная, неуязвимая, величавая, протягивает руку всем народам.
Устремив взгляд на этот старый континент, ныне волнуемый новыми веяниями, подмечаешь необычайные явления, и мнится, что присутствуешь при великом таинстве — рождении будущего. Как луч света слагается из семи цветов, так цивилизованный мир слагается из семи народов. Три из них, Греция, Италия и Испания, представляют Юг; три, Англия, Германия и Россия, представляют Север; в седьмом, или первом, — Франции — сочетаются Север и Юг; в нем слились кельты и латиняне, готы и греки. Этой дивной случайностью, скрещением двух лучей, Франция обязана своему климату; скрещение двух лучей подобно рукопожатию, символу мира. В этом великое преимущество Франции; она одновременно озарена и солнцем и звездами; на ее небе — заря востока и звездная россыпь севера. Порою, подобно полярному сиянию, свет Франции вспыхивает во тьме, пронизывая своими огненными лучами глубокий мрак войн и революций.
Придет день, и он уже близок, когда семь наций, представляющих все человечество, соединятся и сольются, как семь цветов спектра сливаются в лучезарной небесной дуге; зримое и незыблемое, вознесется над цивилизацией чудо всеобщего мира, и восхищенное человечество увидит исполинскую радугу Соединенных народов Европы.
ПРИЛОЖЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Чрезвычайное заседание, состоявшееся 2 декабря 1851 года, в 11 часов утра, в большом зале мэрии X округа.[54]
Бюро состоит из двух заместителей председателя Собрания — Бенуа д'Азии, Вите, и секретарей — Шапо, Мулена, Гримо.
В зале сильное волнение; присутствуют около трехсот депутатов, представлены все оттенки политических направлений.
Председатель. Объявляю заседание открытым.
Многие депутаты. Не будем терять время.
Председатель. Некоторые из моих сотоварищей подписались под протестом; вот его текст.
Беррье. Я считаю, что Собранию не приличествует изъявлять протесты. Национальное собрание лишено возможности заседать в своем помещении; оно заседает здесь; оно должно осуществлять свои права, а не выражать протест (Очень хорошо! — Изъявления согласия.) Мы должны действовать как свободное Собрание, именем конституции.
Вите. Нас могут разогнать; не следует ли тотчас условиться о другом месте встречи, либо в Париже, либо вне Парижа?
Множество голосов. В Париже! В Париже!
Биксио. Я предлагаю свой дом.
Беррье. Этот вопрос мы обсудим во вторую очередь; прежде всего Собрание, уже достаточно многочисленное, должно издать декрет; я прошу слова по вопросу о декрете.
Моне. Я прошу слова по вопросу о факте насилия. (Шум, оратора прерывают.)
Беррье. Оставим в стороне всякие отдельные факты; возможно, в нашем распоряжении нет и четверти часа. Издадим декрет. (Да, да!) Согласно статье шестьдесят восьмой конституции, ввиду того что Собранию препятствуют осуществлять его полномочия, я предлагаю следующий текст:
«Национальное собрание постановляет, что Луи-Наполеон Бонапарт отрешается от должности президента Республики; посему исполнительная власть по праву переходит к Национальному собранию». (Бурное, единогласное одобрение. Крики: На голосование!) Я предлагаю всем присутствующим здесь членам Собрания подписать этот декрет. (Да! Да!)
Бешар. Я поддерживаю это предложение.
Вите. Нужно объявить заседание непрерывным.
Председатель. Декрет будет напечатан любым возможным для нас способом немедленно. Ставлю вопрос о декрете на голосование (Декрет принимается единогласно под крики: «Да здравствует конституция!» «Да здравствует закон!» «Да здравствует республика!»)
Бюро составляет текст декрета.[55]
Пискатори. Я советую для ускорения дела пустить по рукам листы бумаги, на которых депутаты поставят свою подпись; затем эти листы будут приложены к декрету. (Да, да!)
(Депутатам раздают листы бумаги.)
Один из депутатов. Нужно дать командиру 10-го легиона приказ защищать Собрание. Генерал Лористон здесь.
Беррье. Дайте письменный приказ.
Многие депутаты. Пусть бьют сбор!
(В глубине зала происходят пререкания между депутатами и группой граждан, которых хотят удалить. Кто-то из этих граждан восклицает: «Господа, быть может через час мы пойдем на смерть за Собрание!»)
Пискатори. Два слова: мы не можем… (Шум. — Внимание! Внимание!) мы не должны, мы не хотим удалять слушателей. Мы будем рады всем, кто захочет прийти. Только что были сказаны слова, которые запали мне в память: «Быть может, через час мы пойдем на смерть за Собрание!» Здесь не хватит места для всех, но те, кто вошел, должны остаться! (Правильно! Правильно!) По конституции заседания открытые. (Возгласы одобрения.)
Председатель Вите. Вот текст декрета о вызове вооруженных сил:
«Согласно статье тридцать второй конституции, Национальное собрание вызывает Десятый легион для охраны места заседаний Собрания».
Я запрашиваю мнение Собрания. (Декрет принимается единогласно, затем возникает некоторое волнение, гул — многие депутаты говорят одновременно).
Беррье. Я настоятельно прошу депутатов хранить молчание. Сейчас бюро составляет текст декретов; кроме этого, я предлагаю дать бюро широкие полномочия для принятия всех мер, которые окажутся необходимыми; бюро нуждается в спокойствии и тишине. Те, у кого имеются предложения, внесут их позднее, но если все начнут говорить разом, невозможно будет столковаться. (Тишина восстанавливается.)
Один из депутатов. Я предлагаю, чтобы Собрание не расходилось, пока не явятся вызванные нами войска. Если мы разойдемся до этого момента, нам уже не собраться вторично.
Легра-Дево. Да, да. Заседание должно быть непрерывным.[56]
(В зал входят Одилон Барро и Денагль; они подписывают декрет об отрешении президента от должности.
Председатель поручает Овену Траншеру провести в зал депутатов, которых туда не пропускают.)
Пискатори. Я хочу довести до сведения Собрания следующий важный, как мне кажется, факт. Я пошел удостоверить личность нескольких депутатов, которым не давали войти в зал. Полицейские надзиратели сообщили мне, что мэр распорядился никого не пропускать. Я немедленно отправился к нему. Он сказал мне: «Я представляю исполнительную власть, я не могу разрешить депутатам доступ в зал». Я сообщил ему изданный Собранием декрет, заявил ему, что теперь единственная исполнительная власть — это Национальное собрание (Правильно!), и ушел. Я счел необходимым сделать это заявление от имени Национального собрания. (Да, да! Отлично!) Кто-то на ходу сказал мне: «Поторопитесь, войска будут здесь через несколько минут».
Беррье. Я предлагаю в виде временной меры предписать мэру открыть свободный доступ в зал.
Де Фаллу. Мне кажется, мы не предусмотрели двух возможностей, которые мне представляются весьма вероятными: одна — что ваше предписание не будет выполнено, другая — что нас выгонят отсюда. Нужно теперь же условиться, где именно мы соберемся.
Беррье. Ввиду присутствия здесь посторонних это вряд ли было бы целесообразно. Разумеется, мы сумеем известить всех депутатов о месте встречи. (Нет! Нет!) Я предлагаю дать мэру предписание.
Председатель. Слово имеет господин Дюфор. Тише, господа! Сейчас минуты для нас равны часам.
Дюфор. Соображение, только что высказанное здесь, — справедливо; мы не можем во всеуслышание объявить, где именно мы соберемся снова, Я предлагаю, чтобы Собрание предоставило своему бюро право назначить место. Бюро известит каждого депутата о месте заседания, чтобы все мы могли явиться. Господа! В настоящее время мы — единственные защитники конституции, права, республики, родины. (Да, да! Правильно! — Возгласы: «Да здравствует республика!») Так сохраним же свое достоинство, и если придется уступить насилию, — история зачтет нам то, что до последней минуты мы сопротивлялись всеми доступными нам средствами. (Крики: «Браво!» Аплодисменты)
Беррье. Я предлагаю, чтобы Национальное собрание издало декрет, предписывающий всем начальникам тюрем и арестных домов, под страхом обвинения в должностном преступлении, освободить всех арестованных депутатов.
(Декрет ставится председателем на голосование и принимается единогласно.)
Генерал Лористон. Здесь Собрание не в безопасности. Представители муниципалитета заявляют, что мы водворились в мэрии насильственно и что они не могут оставить ее в нашем распоряжении. Мне известно, что полицейские отправились сообщить об этом властям, и в скором времени значительные вооруженные силы принудят нас очистить зал.
(Только что вошедший в зал депутат восклицает: «Скорее! Идут солдаты!» Это происходило в половине первого.
Входит Антони Туре. Он подписывает декрет об отрешении президента от должности и говорит: «Те, кто не подпишется, — подлецы».
После сообщения о прибытии солдат наступает глубокая тишина. Все члены бюро становятся на скамьи, чтобы их могли видеть и депутаты и командиры отряда.)[57] (Движение, шум.)
(В глубине зала раздаются восклицания: «Подымаются по лестнице! Идут!» Сильное волнение, затем — гробовая тишина.)
Председатель Бенуа д'Ази. Ни слова, господа, ни слова! Полное молчание! Это — больше чем просьба; разрешите вам сказать — это приказание!
Возгласы. Сержант! Прислали сержанта!
Председатель Бенуа д'Ази. Сержант — представитель военной силы.
Де Фаллу. Если у нас нет силы, пусть по крайней мере у нас будет достоинство!
Один из депутатов. У нас будет и сила и достоинство (Глубокая тишина.)
Председатель. Оставайтесь на своих местах; помните — на вас смотрит вся Европа.
(Председатель Вите и один из секретарей, Шапо, направляются к двери, в которую должен вступить отряд, выходят из зала и останавливаются на площадке лестницы, нижние ступеньки которой уже заняли десять — двенадцать венсенских стрелков под командой сержанта.
Следом за Вите и Шапо на площадку выходят Греви, де Шарансе и еще некоторые члены Собрания, а также ряд лиц, не принадлежащих к числу депутатов, среди них — бывший член Учредительного собрания Беле.)
Председатель Вите (обращаясь к сержанту). Что вам нужно? Мы заседаем здесь на основании конституции.
Сержант. Я выполняю данный мне приказ.
Председатель. Переговорите с вашим командиром.
Шапо. Скажите вашему батальонному командиру, чтобы он пришел сюда.
(Спустя минуту на площадке лестницы появляется капитан, исполняющий обязанности батальонного командира.)
Председатель (обращаясь к командиру). Здесь заседает Национальное собрание. Именем закона, именем конституции мы требуем, чтобы вы ушли.
Командир. Мне дан приказ.
Вите. Собрание только что издало декрет, которым, на основании статьи шестьдесят восьмой конституции, президент республики, ввиду того что он препятствует законной деятельности Собрания, отрешается от должности; все чиновники и прочие лица, представляющие государственную власть, обязаны повиноваться Национальному собранию. Я требую, чтобы вы ушли.
Командир. Я не вправе уйти.
Шапо. Под страхом обвинения в должностном преступлении и тяжком нарушении закона вы обязаны повиноваться; ответственность за неподчинение падет на вас лично.
Командир. Вам известно, что значит быть орудием; я выполняю приказ. Впрочем, я немедленно доложу начальству.
Греви. Не забывайте, что вы обязаны подчиняться конституции и статье шестьдесят восьмой.
Командир. Статья шестьдесят восьмая меня не касается.
Беле. Она касается всех; вы обязаны повиноваться ей.
(Председатель Вите и секретарь Шапо возвращаются в зал.
Вите докладывает Собранию о том, что произошло между ним и батальонным командиром.)
Беррье. Я предлагаю немедленно объявить — и не только постановлением бюро, а декретом Собрания, — что парижским войскам поручается охрана Национального собрания и что генералу Маньяну под страхом обвинения в государственном преступлении вменяется в обязанность предоставить эти войска в распоряжение Национального собрания. (Правильно!)[58]
(Собрание единогласно принимает декрет)
Моне. Я предлагаю послать председателю Собрания копию декрета об отрешении президента от должности.
Многие депутаты. У нас нет больше председателя! Нет больше председателя! (Волнение.)
Паскаль Дюпра. Нужно прямо сказать — Дюпен вел себя подло. Я предлагаю не называть его имени. (Сильный шум.)
Моне. Я хотел сказать — председателю Верховного суда. Декрет нужно послать председателю Верховного суда.
Председатель Бенуа д'Ази. Господин Моне предлагает послать декрет об отрешении президента от должности председателю Национального верховного суда. Запрашиваю мнение Собрания.
(Собрание принимает декрет.)
Жюль де Ластери. Я предлагаю вам, господа, издать декрет, предписывающий командующему парижскими войсками и всем полковникам легионов Национальной гвардии под страхом обвинения в государственном преступлении повиноваться председателю Национального собрания. Пусть в столице все без исключения знают, в чем заключается их долг, пусть всем станет известно, что не исполнить его — значит предать родину. (Правильно! Правильно!)[59]
Один из депутатов. Я предлагаю реквизировать телеграф.[60]
Генерал Удино. Никогда еще потребность окружить нашего председателя уважением и симпатией, выразить готовность повиноваться ему не была в нас так сильна, как в настоящий момент. Он должен быть облечен своего рода диктаторской властью, если мне позволено так выразиться. (Протестующие возгласы некоторых депутатов.) Я отказываюсь от этого выражения, если оно может возбудить в ком-либо хоть малейшее недовольство. Я хочу сказать, что его слова должны выслушиваться в почтительном молчании. Наша сила, наше достоинство — в нашем единстве. Мы — единое целое, в Собрании нет более ни правой, ни левой. (Правильно! Правильно!) Во всех сердцах звучит одна струна; сейчас оскорблена вся Франция. (Правильно!)[61]
Председатель Бенуа д'Ази. Мне кажется, сила Собрания — в незыблемом единстве. Сообразно желанию, которое мне только что выразили многие члены Собрания, я предлагаю назначить командующим войсками нашего сотоварища, генерала Удино. (Правильно! Правильно! Браво!)
Тамизье. Конечно, генерал Удино, как и все наши сотоварищи, готов исполнить свой долг. Но вам должна быть памятна римская экспедиция, которую он возглавлял. (Громкие возгласы; сильный шум.)
Де Рессегье. Вы вторично лишаете Собрания защиты оружия.
Де Дампьер. Замолчите, вы убиваете нас.
Тамизье. Дайте же мне кончить, вы меня не поняли.
Председатель Бенуа д'Ази. Если среди нас начнутся раздоры, мы погибли.
Тамизье. Это не повод для раздора; но какой же авторитет генерал Удино будет иметь в глазах народа?
Беррье. Господин председатель, голосуйте предложение.[62]
(Собрание принимает декрет, которым генерал Удино назначается командующим войсками.)[63]
(В то время как члены бюро составляют текст декрета, генерал Удино подходит к Тамизье и обменивается с ним несколькими словами.)
Генерал Удино. Господа, я предложил господину Тамизье пост начальника моего главного штаба. (Отлично!) Он согласен. (Отлично! Отлично! — Восторженные крики: «Браво!») [64]
(В эту минуту депутаты, стоящие у двери, предупреждают, что явился офицер 6-го батальона Венсенских стрелков с новыми приказами. Генерал Удино, сопровождаемый Тамизье, выходит к нему. Тамизье читает офицеру декрет о назначении генерала Удино командующим парижскими войсками.)
Генерал Удино. Мы заседаем здесь на основании конституции. Вы видите, Национальное собрание только что назначило меня командующим войсками. Я — генерал Удино; вы должны признать власть Собрания, должны подчиниться ему. Если вы откажетесь повиноваться его приказаниям, вы понесете суровую кару. Вас немедленно предадут суду. Я приказываю вам уйти.
Офицер (сублейтенант 6-го батальона Венсенских стрелков). Генерал, вам известны наши обязанности. Я должен выполнить приказ.[65]
Генерал Удино (офицеру). Итак, вы заявляете, что получили приказ и будете ждать распоряжений начальника, который дал вам инструкции?
Сублейтенант. Да, генерал.
Генерал Удино. Это единственное, что вы можете сделать.
(Генерал Удино и Тамизье возвращаются в зал. Это происходило в час пятнадцать минут пополудни.)
Генерал Удино. Господин председатель, мне только что вручили два декрета; одним из них мне вверяется командование линейными войсками, другим — командование Национальной гвардией. По моему предложению вы согласились назначить господина Тамизье начальником штаба линейных войск. Я прошу вашего согласия назначить господина Матье де Ларедорта начальником штаба Национальной гвардии. (Отлично!)
Многие депутаты. Вы вправе выбирать людей. Это входит в ваши полномочия.
Председатель Бенуа д'Ази. Вы пользуетесь вашим правом; но раз вы сообщаете нам ваши предложения по этому поводу, я думаю, что выражу мнение Собрания, говоря, что мы приветствуем ваш выбор. (Да! Да! Очень хорошо!)
Генерал Удино. Итак, вы утверждаете назначение господина Матье де Ларедорта начальником штаба Национальной гвардии? (Изъявления согласия.)
Председатель Бенуа д'Ази (выждав несколько минут). Мне сказали, что некоторые лица уже вышли из зала; но я не думаю, чтобы хоть один человек захотел уйти, прежде чем мы до конца сделаем все, что в наших силах. (Со всех сторон возгласы: «Нет! Нет! Не расходиться!»)
Беррье с группой депутатов возвращается в зал и говорит: «Господа, одно из окон было открыто. На улице собралось много народа. Я подошел к окну и объявил, что Национальное собрание, заседающее здесь в законном порядке, при числе депутатов, более чем достаточном для утверждения декретов, постановило отрешить президента республики от должности, что командующим армией и Национальной гвардией назначен генерал Удино и что начальник его штаба — господин Тамизье. Народ ответил приветственными криками и аплодисментами». (Очень хорошо!)[66]
(Спустя несколько минут в дверях зала появляются два полицейских комиссара; по знаку председателя они подходят к членам бюро.)
Один из комиссаров (пожилой). Нам дан приказ очистить залы мэрии. Вы согласны подчиниться этому приказу? Мы присланы префектом полиции.
Возгласы. Не слышно! Громче!
Председатель Бенуа д'Ази. Господин комиссар говорит, что ему дан приказ очистить зал. Я обращаюсь к господину комиссару с вопросом: известна ли ему статья шестьдесят восьмая конституции? Известно ли ему, какие из нее вытекают следствия?
Комиссар. Разумеется, мы знаем конституцию; но по занимаемой нами должности мы обязаны выполнять распоряжения высшего начальства.
Председатель Бенуа д'Ази. Именем Собрания я предлагаю огласить статью шестьдесят восьмую конституции.
Председатель Вите (читает). «Всякий акт, посредством которого президент республики распускает Национальное собрание, отсрочивает его заседания или препятствует осуществлению его полномочий, является тягчайшим государственным преступлением; на этом основании президент считается отрешенным от должности; граждане обязаны отказывать ему в повиновении; исполнительная власть по праву переходит к Национальному собранию. Члены Верховного суда обязаны собраться немедленно, под страхом обвинения в государственном преступлении; они обязаны созвать присяжных в назначенное ими место и сами назначают прокуроров».
Председатель Бенуа д'Ази (комиссару). Собрание, лишенное возможности заседать в обычном месте, заседает в этих стенах на основании статьи шестьдесят восьмой конституции, текст которой мы только что довели до вашего сведения. Собрание издало декрет, который вам сейчас прочтут.
Председатель Вите читает вслух декрет об отрешении президента от должности. Декрет гласит:
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Национальное собрание на чрезвычайном заседании в мэрии X округа,
На основании статьи шестьдесят восьмой конституции, гласящей…
Ввиду того что Собрание насильственным путем лишили возможности осуществлять свои полномочия,
Постановляет:
Луи-Наполеон Бонапарт отрешается от должности президента республики; все граждане обязаны отказывать ему в повиновении; исполнительная власть по праву переходит к Национальному собранию; членам Верховного суда под страхом обвинения в государственном преступлении вменяется в обязанность немедленно собраться и приступить к суду над президентом и его сообщниками.
Посему всем чиновникам и представителям власти под страхом обвинения в тягчайшем государственном преступлении предписывается выполнять все требования, предъявляемые именем Собрания.
Постановлено и принято единогласно на публичном заседании
2 декабря 1851 года.
За отсутствующего председателя заместители председателя Бенуа д'Ази, Вите; секретари Гримо, Мулен, Шапо и все присутствующие на заседании члены Собрания.
Председатель Бенуа д'Ази. В силу этого декрета, копию которого мы можем вручить вам, Собрание заседает здесь и моими устами приказывает вам подчиниться его требованиям. Я повторяю, в настоящее время во Франции существует только одна законная власть — та, представители которой заседают здесь. Именем Собрания, хранителя этой власти, мы требуем, чтобы вы повиновались. Если армия, если те, кто захватил власть, применяют к Собранию силу, — мы должны заявить, что на нашей стороне право. Мы обратились с призывом к стране, страна ответит.
Де Равинель. Спросите у комиссаров их фамилии.
Председатель Бенуа д'Ази. С вами говорят заместители председателя Национального собрания Вите и Бенуа д'Ази и секретари Собрания Шапо, Гримо, Мулен.
Комиссар (пожилой). Нам дано трудное поручение: у нас даже нет полной свободы действий, ведь в настоящее время распоряжаются военные власти, и, явившись сюда, мы хотели предотвратить столкновение, для нас весьма нежелательное. Господин префект послал нас, чтобы предложить вам удалиться отсюда, но мы застали здесь большой отряд Венсенских стрелков, который направили сюда военные власти, считающие, что право действовать принадлежит им одним; попытка, которую мы предприняли, не носит официального характера; она имела целью избежать прискорбного столкновения; мы не можем разбираться в вопросе права; но я имею честь предупредить вас, что военные власти получили строгий приказ и, по всей вероятности, выполнят его.
Председатель Бенуа д'Ази. Вы прекрасно понимаете, сударь, что предложение разойтись, которому вы в данный момент придаете неофициальный характер, не может произвести на нас никакого впечатления. Мы уступим только силе.
Второй комиссар (помоложе). Господин председатель, вот приказ, данный нам. Дольше тянуть ни к чему. Законно это или незаконно — мы требуем, чтобы вы немедленно разошлись. (Громкий шум.)
Многие депутаты. Фамилии! Фамилии комиссаров!
Первый комиссар (пожилой). Лемуан, Башраль и Марле. (В эту минуту в зал входит офицер с приказом в руках. Он заявляет: «Я военный, мне дан приказ, я обязан его выполнить. Вот он:
«Командир, на основании распоряжения военного министра немедленно займите мэрию Десятого округа и в случае необходимости арестуйте тех депутатов, которые не подчинятся беспрекословно требованию разойтись. Командующий войсками Маньян». (Взрыв негодования.)[67]
Председатель Бенуа д'Ази (обращаясь к офицеру). Вы пришли с приказом; прежде всего мы должны спросить вас, так же как мы спросили офицера, пришедшего перед вами, известна ли вам статья шестьдесят восьмая конституции, гласящая, что всякое Действие исполнительной власти, имеющее целью воспрепятствовать заседанию Собрания, рассматривается как государственное преступление и влечет за собою немедленное прекращение полномочий главы исполнительной власти. В настоящее время мы действуем на основании декрета об отрешении главы исполнительной власти от должности. Если мы не можем противопоставить беззаконию вооруженную силу…
Де Ларси. Мы противопоставляем ему закон.
Председатель Бенуа д'Ази. Я прибавлю, что Собрание, обязанное принять меры к охране своей безопасности, назначило генерала Удино командующим всеми войсками, которые могут быть призваны для защиты Собрания.
Де Ларси. Командир, мы взываем к вашему патриотизму француза.
Генерал Удино (офицеру). Вы командир Шестого батальона?
Офицер. Я замещаю командира; он болен.
Генерал Удино. Итак, командир Шестого батальона, вы слышали то, что вам сказал председатель Собрания?
Офицер. Да, генерал.
Генерал Удино. Вы слышали, что во Франции в настоящее время нет другой власти, кроме власти Национального собрания. Именем этой власти, доверившей мне командование армией и Национальной гвардией, я заявляю вам, что только принуждением и насилием можно заставить нас повиноваться приказу, запрещающему нам продолжать заседание. На основании и в силу полномочий, доверенных нам этой властью, я приказываю вам покинуть зал и вывести ваш отряд из мэрии.
Вы слышали, командир Шестого батальона, вы слышали, что я приказал вам вывести ваш отряд из мэрии? Вы согласны повиноваться?
Офицер. Нет — и вот почему: я получил приказ от моих начальников, и я выполняю его.
Со всех сторон возгласы: В Мазас! В Мазас!
Офицер. На основании приказа исполнительной власти мы предлагаем вам разойтись немедленно.
Многие депутаты. Нет! Нет! Исполнительная власть перестала существовать! Выведите нас силой, примените силу!
(По приказанию командира батальона в зал входят несколько стрелков. Входит также третий полицейский комиссар в сопровождении нескольких полицейских агентов. Комиссары и агенты хватают членов бюро, генерала Удино, Тамизье и многих других депутатов и выводят их на площадку лестницы. Лестница все еще занята солдатами. Комиссары и офицеры то идут вниз за распоряжениями, то, получив их, возвращаются наверх. Около четверти часа спустя солдаты расступаются, и депутаты по-прежнему в сопровождении агентов и комиссаров выходят во двор; является генерал Форе; генерал Удино разговаривает с ним минуту-другую; обратясь к депутатам, он сообщает, что генерал Форе ответил: «Мы люди военные и знаем только данный нам приказ».)
Генерал Лористон. Он должен знать законы и конституцию; мы сами были военными, так же как он.
Генерал Удино. Генерал Форе утверждает, что он обязан повиноваться только исполнительной власти.
Депутаты (в один голос). Пусть нас отведут в Мазас! Пусть нас отведут в Мазас!
Офицеры то и дело входят в мэрию и выходят оттуда. При их появлении находящиеся во дворе национальные гвардейцы всякий раз кричат: «Да здравствует республика! Да здравствует конституция!»
Проходит еще несколько минут; наконец дверь растворяется, полицейские приказывают членам бюро и Собрания выйти на улицу. Председатели Бенуа д'Ази и Вите заявляют, что уступят только силе. Полицейские хватают их под руки и выводят за ворота; такому же обращению подвергаются секретари Собрания, генерал Удино, Тамизье и остальные депутаты; наконец колонна трогается; ее конвоируют солдаты, построенные двумя шеренгами. Председателя Вите полицейский держит за ворот. Генерал Форе, возглавляющий отряд, указывает колонне путь. Под возгласы: «Да здравствует республика!», «Да здравствует Собрание!», «Да здравствует конституция!», несущиеся с тротуаров и из открытых окон, у которых толпятся люди, арестованных членов Собрания ведут по улицам Гренель, Сен-Гийом, Новой Университетской, Университетской, Бонской, набережным Вольтера и Орсе в казарму на набережной Орсе. Депутаты входят во двор казармы, ворота закрываются. (Это происходило в три часа двадцать минут пополудни.)
По предложению одного из депутатов секретарь Гримо и Антони Туре производят перекличку: налицо оказывается 220 членов Собрания. Вот их имена:[68]
ПРИМЕЧАНИЯ
…годовщину смерти первого Бонапарта — Наполеон I умер 5 мая 1821 г.
…удивительного 1877 года. — Имеется в виду острый конфликт между президентом Франции бонапартистом Мак-Магоном, который стремился к восстановлению монархии, и республиканским большинством Палаты депутатов. 16 мая 1877 г. Мак-Магон уволил в отставку правительство, опиравшееся на парламентское большинство, и сформировал внепарламентский кабинет из орлеанистов и бонапартистов. Эти действия справедливо расценивались как попытка нового государственного переворота. Однако, благодаря решительной защите республики народными массами, конфликт разрешился победой республики. В январе 1879 г. Мак-Магон был вынужден уйти в отставку с поста президента.
…француз, родившийся голландцем и принявший швейцарское подданство… — Отец Луи-Наполеона в момент рождения сына был королем Голландии. После провала попытки государственного переворота в 1836 г. Луи-Наполеон поселился в Швейцарии и принял швейцарское подданство.
Квестор — административная должность в парламенте (в данном случае — в Законодательном собрании).
«Елисейскими скамьями» называли те скамьи, на которых сидели депутаты — сторонники президента республики Луи-Наполеона Бонапарта (его резиденцией был Елисейский дворец).
Бои под Константной и Медеей. — Имеются в виду сражения между французскими интервентами и населением Алжира в 1837 и 1840 гг.
…первый раз после 1804 года вы будете голосовать… — В 1804 г. Наполеон I провел плебисцит о замене консульства наследственной империей.
Собрание из двухсот двадцати одного представителя. — В марте 1830 г. представители оппозиции в Палате депутатов (221 человек) обратились к Карлу X с адресом, в котором говорилось, что реакционная политика правительства противоречит интересам нации, и высказывалась надежда на изменение этой политики. Карл X ответил на адрес указом о роспуске Палаты и назначении новых выборов. Однако выборы не оправдали надежд короля и принесли победу оппозиции, получившей 270 мест вместо 221.
68 статья конституции Второй республики квалифицировала всякую попытку президента республики помешать деятельности Законодательного собрания как тягчайшее государственное преступление. В этом случае президент должен быть отрешен от должности, а исполнительная власть переходит к Собранию.
Нестор — персонаж Гомера, участник Троянской войны, старик, считавшийся образцом мудрости и красноречия.
Комиссия по национальным мастерским. — Одним из важнейших требований рабочего класса в революции 1848 г. было требование обеспечить всех работой. Чтобы предотвратить восстание безработных, временное правительство 25 февраля 1848 г. издало декрет об организации национальных мастерских, в которые было зачислено более 100 тысяч человек. Национальные мастерские занимались посадкой деревьев, мощением улиц, строительством дорог. Подразделения рабочих, входивших в национальные мастерские, размещались, в частности, и в парке Монсо. Национальные мастерские просуществовали недолго. Уже в июне 1848 г. правительство решило ликвидировать их, и это решение послужило толчком к июньскому восстанию парижских рабочих.
Бывший вестфальский король. — Имеется в виду брат Наполеона I, Жером Бонапарт.
«Государь» — главное произведение Н. Макьявелли, излагающее его теорию деспотизма (см. именной указатель).
Святой Мартин. — Имеется в виду епископ Турский, живший в IV в. н. э. Легенда гласит, что, увидев в зимнюю стужу у городских ворот Амьена полуголого нищего, он разорвал свой плащ и отдал ему половину.
Бойня на улице Транснонен — зверская расправа военщины с мирным населением улицы Транснонен в Париже во время народного восстания против Июльской монархии 14 апреля 1834 г.
Кабилы — часть коренного берберского населения Алжира, принимавшая активное участие в освободительной войне против французских захватчиков.
Притон Банкаль — публичный дом в городе Родезе, где в 1817 г. было совершено зверское убийство.
Лига — объединение воинствующих католиков, стремившихся расправиться с протестантами (основана в 1576 г.). Во главе Лиги стоял герцог Генрих Гиз, претендовавший на королевскую корону. Лигу поддерживали наиболее реакционные круги феодальной аристократии и высшего духовенства. Фронда — движение, направленное против абсолютизма кардинала Мазарини в период малолетства Людовика XIV (1648–1653 гг.). В этом движении участвовали различные социальные группы: феодальная аристократия, парижская буржуазия и народные массы, причем каждая из этих сил преследовала свои собственные цели.
Дивизия Шиндерганнеса, бригады Мандрена… и т. д. — Здесь вместо имен генералов, подавлявших народные выступления против государственного переворота 2 декабря 1851 г., Гюго называет имена бандитов, грабителей, воров, убийц.
Драгоннадами в конце XVII и начале XVIII вв. называлось принудительное размещение драгун-кавалеристов в домах французских протестантов-гугенотов с целью заставить их перейти в католичество.
Сицилийская вечерня — народное восстание в Палермо и других городах Сицилии 30 марта 1282 г., направленное против французских поработителей, прибывших в Сицилию с королем Карлом Анжуйским. Почти все оккупационные войска в Сицилии (более 4 тысяч человек) были перебиты. В результате восстания Анжуйская династия потеряла Сицилию.
Сентябрьскими убийствами называют события, происходившие 2–4 сентября 1792 г., в момент, когда Париж находился под непосредственной угрозой вторжения интервентов. Опасаясь, что враги революции, воспользовавшись уходом патриотов на фронт, захватят власть и расправятся с их семьями, парижане двинулись к тюрьмам, где содержались контрреволюционеры, и расстреляли многих из них. Как только Законодательное собрание дало обещание обуздать роялистов, расстрелы прекратились.
Доктринеры — группа буржуазных либералов периода реставрации Бурбонов, сторонников конституционной монархии и политического господства верхушки буржуазии.
Контрафатто — священник, развращавший малолетних и пытавшийся изнасиловать пятилетнюю девочку. В 1829 г. был приговорен к пожизненной каторге.
Восемнадцатое фрюктидора. — Переворот 18 фрюктидора V года республики (4 сентября 1797 г.) был совершен буржуазной Директорией после того, как выборы в Законодательный корпус дали большинство монархистам, а председателем Совета Пятисот был избран связанный с эмигрантами-монархистами генерал Пишегрю. Во время переворота 18 фрюктидора Пишегрю и его сообщники были арестованы и сосланы; некоторые из них были казнены.
«Мария Тюдор» — драма в прозе Виктора Гюго. — Фабиани — персонаж драмы, любовник Марии Тюдор, авантюрист.
…заставил в Сен-Клу членов Совета Пятисот прыгать из окон оранжереи… — Подготовляя государственный переворот 18 брюмера, Наполеон прежде всего добился переноса заседаний Законодательного корпуса во дворец Сен-Клу (пригород Парижа). Затем, окружив дворец войсками, он потребовал, чтобы депутаты издали декрет о передаче ему власти. Когда же большинство депутатов отказались сделать это, Бонапарт приказал гренадерам разогнать их. Депутаты, заседавшие в помещении бывшей дворцовой оранжереи, обратились в бегство. Многие разбивали окна и прыгали во двор.
Когда Кромвель… совершил свое Восемнадцатое брюмера… — Имеется в виду разгон Кромвелем так называемого Долгого парламента в 1653 г. и последовавшее затем установление протектората Кромвеля, то есть фактически его неограниченной власти.
Курульными креслами назывались стулья, на которых восседали высшие должностные лица в древнем Риме.
Варенн — местечко на восточной границе Франции, где в июне 1791 г. был задержан народом пытавшийся бежать за границу король Людовик XVI с семьей.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие к первому тому
Первый день ЗАПАДНЯ
I. Беспечность
II. Париж спит. Звонок
III. Что произошло ночью
IV. Другие ночные события
V. Мрак преступления
VI. Плакаты
VII. Улица Бланш, дом № 70
VIII. Разгон Собрания
IX. Конец, худший, чем смерть
X. Черная дверь
XI. Верховный суд
XII. Мэрия X округа
XIII. Луи Бонапарт в профиль
XIV. Казармы Орсе
XV. Мазас
XVI. Происшествие на бульваре Сен-Мартен
XVII. Как 24 июня отразилось на событиях 2 декабря
XVIII. Депутатов преследуют
XIX. На краю могилы
XX. Похороны великой годовщины
Второй день БОРЬБА
I. Меня разыскивает полиция
II. От Бастилии до улицы Кот
III. Сент-Антуанская баррикада
IV. Рабочие союзы требуют от нас боевого приказа
V. Труп Бодена
VI. Декреты депутатов, оставшихся на свободе
VII. Архиепископ
VIII. Форт Мон-Валерьен
IX. Первые признаки грозы в народе
X. Зачем Флери отправился в Мазас
XI. Конец второго дня
Третий день ИЗБИЕНИЕ
I. Те, что спят, и тот, кто не дремлет
II. В комитете
III. За кулисами Елисейского дворца
IV. Приближенные
V. Нерешительный союзник
VI. Дени Дюссу
VII. Известия и встречи
VIII. Положение вещей
IX. У Порт-Сен-Мартен
X. На баррикадах
XI. Баррикада на улице Меле
XII. Баррикада возле мэрии V округа
XIII. Баррикада на улице Тевено
XIV. Оссиан и Сципион
XV. Вопрос должен решиться
XVI. Избиение
XVII. Встреча с рабочими ассоциациями
XVIII. Непреложность нравственных законов
Четвертый день ПОБЕДА
I. Ночные события. Улица Тиктонн
II. Ночные события. Квартал Центрального рынка
III. Ночные события. Улица Пти-Карро
IV. Ночные события. Проезд Сомон
V. Другие мрачные события
VI. Совещательная комиссия
VII. Другой список
VIII. Давид д'Анже
IX. Наше последнее собрание
X. Долг можно понимать по-разному
XI. Борьба кончена, начинается испытание
XII. Изгнанники
XIII. Военные комиссии и смешанные комиссии
XIV. Эпизод, связанный с религией
XV. Как выпустили узников из Гамской крепости
XVI. Взгляд на прошлое
XVII. Поведение левой
XVIII. Страница, написанная в Брюсселе
XIX. Нерушимое благословение
Развязка ПАДЕНИЕ
Примечания
1
Эти ворота, запертые со 2 декабря, были открыты только 12 марта для Луи Бонапарта, приехавшего осмотреть постройку зала Законодательного корпуса.
(обратно)2
Где нет ничего, там нет ничего (лат.).
(обратно)3
Рождается новый порядок (лат.).
(обратно)4
Жестокий закон, но закон (лат.).
(обратно)5
Здесь оставили пробел. Только позднее было вписано имя Ренуара, советника при кассационном суде.
(обратно)6
Мишель де Бурж назвал так Луи Бонапарта, считая, что он охраняет республику от монархических партий.
(обратно)7
Поговорить (жаргон).
(обратно)8
Перевод Б. Лихарева.
(обратно)9
«Не было уверенности и насчет назначенного часа. Некоторые ошиблись и решили, что нужно явиться к девяти часам. Депутаты, прибывшие первыми, с нетерпением ожидали своих коллег. Как мы уже сказали, в половине девятого их было двенадцать или пятнадцать человек. Один из них, едва успев войти, воскликнул: «Не нужно терять времени, наденем наши перевязи, покажем народу его депутатов, будем вместе с ним строить баррикады. Может быть, мы спасем родину, во всяком случае мы спасем честь нашей партии. Идем строить баррикады». Все немедленно согласились; только один, гражданин Боден, привел серьезнейшее возражение: «Нас слишком мало, чтобы принять такое решение». Но он все же с восторгом присоединился к большинству и, сделав эту оговорку, с чистой совестью, не мешкая, надел перевязь». — Шельшер. История преступлений 2 декабря, стр. 130–131.
(обратно)10
Сюда вкралась ошибка, объясняющаяся тем, что эти страницы написаны двадцать шесть лет тому назад. Я расспрашивал о Бодене Эскироса, который был с ним знаком, и он сказал мне, что Боден был раньше школьным учителем. Эскирос ошибся. Боден был врачом.
(обратно)11
Здесь в плакате опечатка. Нужно читать «ст. 68». По поводу этих прокламаций автор настоящей книги получил следующее письмо; оно делает честь тем, кто его написал:
«Гражданин Виктор Гюго, мы знаем, что вы написали призыв к оружию. Нам не удалось достать его. Мы заменяем его этими прокламациями, которые подписываем вашим именем. Вы не отречетесь от этой подписи. Когда Франция в опасности, ваше имя принадлежит всем; ваше имя — общественная сила.
Даба. — Феликс Бони»
(обратно)12
Этот список, являющийся достоянием истории, лег в основу списка изгнанников, все депутаты, перечисленные в нем, были высланы.
(обратно)13
«In partibus infidelium» — в стране неверующих (лат.).
(обратно)14
Трудные домашние обстоятельства (лат.).
(обратно)15
Перевод В. Королькова
(обратно)16
Дал смертному чело, обращенное вверх (лат.).
(обратно)17
Улица Анжу-Сент-Оноре, № 16.
(обратно)18
Автор сохранил эту собственноручную записку Ламорисьера.
(обратно)19
Впоследствии произошло заражение крови, и пришлось ампутировать ногу.
(обратно)20
Amable — любезный: Certain — надежный.
(обратно)21
Подлинная записка находится в руках автора. Бокаж переслал ее мне через Авенеля.
(обратно)22
Не следует забывать, что эта книга писалась в изгнании и что называть имена героев значило обречь их на высылку из Франции.
(обратно)23
Умер в изгнании на острове Гернсей (см. «Дела и речи», том II, «В изгнании»).
(обратно)24
Умер в изгнании в Термонде.
(обратно)25
Pro Hugonotorum strage — надпись на медали, выбитой в Риме в 1572 году. (Прим. авт.) Перевод латинской фразы: «В ознаменование избиения гугенотов».
(обратно)26
В подлиннике непереводимая игра слов: Jusqu'au bout — «до конца» и Jusqu'aux boues — «до грязи».
(обратно)27
16 410 человек, эта цифра приведена в отчете военного министерства.
(обратно)28
Сите Родье № 20.
(обратно)29
Улица Комартен. См. т. 1
(обратно)30
Нас.
(обратно)31
Здесь непереводимая игра слов: bete по-французски значит и «дурак» и «животное».
(обратно)32
«Возмездие».
(обратно)33
Сейчас, по прошествии двадцати шести лет, можно назвать имя этого честного, отважного человека. Он звался Галуа, а не Галлуа, как писали это имя некоторые историографы переворота, рассказывая на свой лад события, изложенные в этой главе.
(обратно)34
18 февраля. — Лувен.
(обратно)35
Он увещевает и громким голосом говорит в царстве теней (лат.)
(обратно)36
Впоследствии, по особому поручению префекта полиции, этот Кришелли в Вожираре, на улице Транси, застрелил некоего Кельша, «заподозренного в намерении убить императора».
(обратно)37
Маркиз Сарразен де Монферрье, свойственник моего старшего брата; теперь я могу назвать его имя.
(обратно)38
Спасение народа (лат.).
(обратно)39
Высший закон (лат.).
(обратно)40
14 июня 1847. Речь в Палате пэров. См. книгу «До изгнания».
(обратно)41
Шарль Гюго. Люди изгнания.
(обратно)42
См. книгу «Люди изгнания».
(обратно)43
В подлиннике — непереводимая игра слов: bete — значит и «животное» и «дурак».
(обратно)44
Таков мой приказ (лат.).
(обратно)45
Леблан по-французски значит «белый»; Леруж — «красный».
(обратно)46
Владеет городом Римом (лат.).
(обратно)47
Архивы Оранского дома, дополнительный том, стр. 125.
(обратно)48
Гарвига.
(обратно)49
Франко-прусская война; отчет прусского генерального штаба, стр. 1087.
(обратно)50
Закон судьбы (лат.).
(обратно)51
«Французов наша атака буквально пробудила от сна». — Гельвиг.
(обратно)52
«Грозный год».
(обратно)53
Открылась богиня (лат.).
(обратно)54
В квадратные скобки заключены те части стенограммы, которые были выпущены в официальной публикации.
(обратно)55
Шапо. Вот проект декларации, предложенный господином де Фаллу.
Де Фаллу. Огласите его.
Беррье. У нас другое неотложное дело; прежде всего — декрет.
Пискатори. Декрет — вот подлинная декларация.
Беррье. Декларации составляются в частных собраниях. Мы находимся на заседании Национального собрания.
Возгласы. Декрет! Декрет!
Кантен Бошар. Подпишем его!
(обратно)56
Фавро. Я хочу дать отчет в том, что произошло сегодня утром в Собрании. Морской министр приказал полковнику Эспинасу очистить залы. Нас было человек тридцать или сорок в Конференц-зале. Мы заявили, что перейдем в зал заседаний и останемся там, пока нас не удалят силой. Послали за Дюпеном, он пришел к нам в зал заседаний; мы вручили ему перевязь, и когда прибыл отряд войск, он сказал, что хочет переговорить с командиром. Явился полковник……., Дюпен сказал ему:
«Я глубоко уважаю закон и говорю языком закона; вы угрожаете нам военной силой: я выражаю протест».
Моне. Я присутствовал при этой сцене и прошу занести в протокол, что мы подверглись насилию. После того как я, по предложению моих сотоварищей, прочел вслух статью шестьдесят восьмую конституции, меня схватили и стащили со скамьи.
Даирель. Мы нисколько не удивлены этим, ведь нас кололи штыками.
(обратно)57
Председатель Бенуа д'Ази. Молчание, господа!
(Командиры не появляются.)
Антони Туре. Так как те, кто сейчас занимает мэрию, не явились в зал, чтобы закрыть это единственно законное заседание, то ч предлагаю следующее: пусть председатель от имени Национального собрания пошлет делегацию, которая именем народа прикажет войскам удалиться. (Да, да, правильно!)
Кане. Я прошу включить меня в эту делегацию.
Бенуа д'Ази. Спокойствие, господа! Наш долг — не расходиться и выжидать.
Паскаль Дюпра. Защитить вас может только революция.
Беррье. Нас защитит право.
Возгласы. И закон! Закон, но не революция!
Паскаль Дюпра. Нужно разослать людей по всему Парижу, а главное — по предместьям, и сказать народу, что Национальное собрание продолжает существовать, что в руках Собрания — вся мощь права и что оно взывает к народу во имя права. Вот единственное, что может вас спасти.
(обратно)58
Паскаль Дюпра. Маньян уже не командует войсками.
Де Равинель. Командует Бараге д'Илье. (Нет, нет! Да, да!)
Многие депутаты. Дайте предписание, не называя фамилии генерала.
Председатель Бенуа д'Ази. Я запрашиваю мнение Собрания.
(обратно)59
Дюфрес. Следует предписать это также и командующему парижской Национальной гвардией.
Председатель Бенуа д'Ази. Ясно, что декрет, изданный Собранием, обязателен для всех командиров и чиновников.
Дюфрес. Это нужно уточнить.
Паскаль Дюпра. Можно опасаться, что декреты, опубликованные сегодня утром президентом республики и призывающие к бунту, найдут отклик в провинции; я предлагаю Собранию принять меры к тому, чтобы во всех департаментах Франции узнали, какую позицию мы заняли здесь именем Национального собрания.
Множество голосов. Налицо наши декреты! Наши декреты!
Де Рессегье. Я предлагаю поручить бюро составить воззвание к Франции.
Со всех сторон голоса. Декреты! Только декреты!
Председатель Бенуа д'Ази. Если нам удастся опубликовать декреты — все будет хорошо; если нет — мы ничего не достигнем.
Антони Туре. Нужно разослать эмиссаров по всему Парижу: дайте мне экземпляр нашего декрета.
Ригаль. Я предлагаю принять все меры к тому, чтобы декреты были напечатаны.
Со всех сторон возгласы. Меры приняты! Приняты!
(обратно)60
Де Равинель. Нужно помешать директору телеграфа сноситься с департаментами и сообщать туда что бы то ни было, кроме декретов правительства.
Дюфрес. Я предлагаю, если Собрание сочтет это полезным, издать декрет, запрещающий директорам казначейств выдавать деньги по приказаниям чиновников, находящихся в настоящее время на службе. (Это уже сделано! Сделано! Указано ли это в декрете?)
Кольфаврю. Указано, раз декрет постановляет, что все функции исполнительной власти переходят к Собранию.
Де Монтебелло. Следует установить материальную ответственность.
Антони Туре. Мне кажется, следует также подумать о положении наших сотоварищей, генералов, отправленных в Венсен.
Со всех сторон возгласы. Это сделано; по предложению господина Беррье издан декрет
Антони Туре. Прошу извинения. Я пришел с опозданием.
(обратно)61
Еще одно слово: когда председатель сочтет необходимым дать одному или нескольким из нас какое-нибудь поручение, мы должны повиноваться ему. Что касается меня — я подчинюсь безоговорочно. Я предлагаю принять за правило, что все предложения должны проходить через бюро. Иначе что получится? Так же, как это сейчас сделал Антони Туре, депутаты будут вносить предложения, ценные по существу, но уже ранее внесенные и принятые. Не будем напрасно терять время; пусть все проходит через бюро. Подчинимся председателю; что касается меня — я полностью с величайшей готовностью отдаю себя в его распоряжение. (Правильно!)
(обратно)62
Паскаль Дюпра. Среди наших сотоварищей есть человек, который в других обстоятельствах, правда не столь трудных, сумел дать отпор пагубным замыслам Луи-Наполеона Бонапарта. Это — господин Тамизье. (Возгласы, шум.)
Тамизье. Но мое имя никому не известно! Что же я смогу сделать?
Пискатори. Прошу вас, дайте проголосовать. Разумеется я убежден в том, что господин Тамизье, возражая против назначения генерала Удино, не хотел вызвать раскол в наших рядах.
Тамизье. Нет, клянусь! Я был не согласен, так как опасался, что это назначение не произведет на жителей Парижа того впечатления, на которое вы рассчитываете.
Генерал Удино. Я готов подчиниться любым приказаниям, которые будут мне даны во имя блага родины; поэтому я приму всякое назначение…
Возгласы со всех сторон. Голосовать назначение генерала Удино!
Председатель Бенуа д'Ази. Я запрашиваю мнение Собрания.
(обратно)63
Генерал Удино. Я буду краток. Господин председатель и мои сотоварищи, я не вправе отказаться от этой чести. Это значило бы оскорбить моих собратьев по оружию; они исполнили свой долг в Италии, они исполнят его и здесь. В настоящий момент наш долг предначертан: он заключается в том, чтобы выполнять приказания председателя, руководствующегося правами Собрания и конституцией. Итак, приказывайте, генерал Удино будет повиноваться; если бы он нуждался в популярности, он почерпнул бы ее здесь. (Отлично! Отлично!)
Де Сен-Жермен. Я предлагаю, чтобы декрет о назначении генерала Удино был издан немедленно; генерал должен иметь экземпляр декрета.
Члены бюро. Декрет составляется.
(обратно)64
Я прошу господина председателя немедленно оповестить линейные войска о той чести, которой вы меня удостоили. (Правильно!)
Тамизье. Господа, вы даете мне очень ответственное назначение, на которое я не притязал; но прежде чем я пойду выполнять приказы Собрания, позвольте мне поклясться, что я буду защищать республику (Со всех сторон возгласы: «Очень хорошо! Да здравствует республика! Да здравствует конституция!»)
(обратно)65
(Два сержанта, стоящие рядом с офицером, обращаются к нему вполголоса, очевидно убеждая его не уступать.)
Генерал Удино. Замолчите! Пусть говорит ваш командир. Вы не имеете права разговаривать.
Один из сержантов. Нет, имеем.
Генерал Удино. Замолчите! Пусть говорит ваш командир.
Сублейтенант. Я временно замещаю командира. Если хотите — вызовите его.
Генерал Удино. Итак, вы отказываетесь повиноваться Собранию?
Офицер (после минутного колебания). Категорически!
Генерал Удино. Вам вручат письменный приказ. Если вы не выполните его, последствия неповиновения всей тяжестью падут на вас. (Некоторое движение среди солдат.)
Генерал Удино. Стрелки, у вас есть командир; вы обязаны уважать его и повиноваться ему. Дайте ему говорить.
Один из сержантов. Мы его знаем; он храбрец.
Генерал Удино. Я сказал ему, кто я. Пусть он назовет себя.
Второй сержант порывается что-то сказать.
Генерал Удино. Молчите, или вы плохие солдаты.
Офицер. Я — Шарль Гедон, сублейтенант Шестого стрелкового батальона.
(обратно)66
(Гильбо, командир 3-го батальона 10-го легиона Национальной гвардии, пришедший в полной форме, заявляет генералу Удино, что отдает себя в распоряжение Собрания.)
Генерал Удино. Прекрасно, прекрасно, командир, вы подаете хороший пример.
(Рало, командир 4-го батальона, пришедший в штатском, делает такое же заявление.)
(обратно)67
Многие депутаты. Ну что ж! Пусть нас арестуют, пусть дадут приказ арестовать нас.
(В зал входит другой офицер, тоже с приказом в руках. Подойдя к членам бюро, он читает его вслух. Приказ гласит:
«Командующий войсками предписывает пропустить из мэрии тех депутатов, которые не окажут никакого сопротивления. Депутатов, которые не пожелают подчиниться требованию разойтись, надлежит тут же арестовать и препроводить, оказывая им при этом всяческое почтение, в тюрьму Мазас»).
Со всех сторон возгласы: Все в Мазас!
Эмиль Леру. Да, да! Пойдем пешком!
(обратно)68
Альбер де Люин, д'Андинье де Лашас, А. Туре, Арен, Одрен де Кердрель (от Иля-и-Вилены), Одрен де Кердрель (от Морбигана), де Бальзак, Баршу де Пеноэн, Барийон, О. Барро, Бартелеми-Сент-Илер, Бошар, Г. де Бомон, Бешар, Бехатель, де Бельвез, Бенуа д'Ази, де Барнарди, Беррье, де Берсе, Бесс, Беттен де Ланкастель, Блавуайе, Боше, Буассье де Бомийо, Буватье, де Бройль, де Лабруаз, де Бриа, Бюффе, Кайе дю Тертр, Каллер Камюсде Лагибуржер, Кане, де Кастийон, де Казалис, адмирал Сесиль, Шамболь, Шамьо, Шампане, Шапер, Шапо, де Шаррансе, Шассень, Шовен, Шазан, де Шазель, Шегаре, де Куален, Кольфаврю, Кола де Ламот, Кокрель, де Корсель, Кордье, Корн, Кретон, Дагийон-Пюжоль, Даирель, Дамбре, де Дампьер, де Бротон, де Фонтен, де Фонтене, де Сез, Демар, де Ладевансе, Дидье, Дьелеве, Дрюэ-Дево, А. Дюбуа, Дюфор, Дюфужре, Дюффур, Дюфурнель, Марк Дюфрес, П. Дюпра, Дювержье де Оран, Этьен, де Фаллу, де Фотрис, Фор (от Роны), Фавро, Ферре, де Ферре, де Флавиньи, де Фоблан, Фришон, Ген, Гасслен, Жермоньер, де Жикьо, де Гуляр, де Гуйон, де Гранвиль, де Грассе, Грелье-Дюфужру, Греви, Грийон, Гримо, Гро, Гийе де Латуш, Арскуэ де Сен-Жорж, д'Авренкур, Эннекар, Эннекен, д'Эспель, Уэль, Овен Траншер, Юо, Жоре, Жуанне, де Керанфлек, де Кератри, де Керидек, де Кермарек, де Керсозон-Пенендреф, Лео де Лаборд, Лабули, Лакав, Оскар Лафайет, Лафос, Лагард, Лагрене, Леме, Лене, Ланжюине, Лараби, де Ларси, Ж. де Ластери, Латрад, Лоро, Лорансо, генерал Лористон, де Лосса, Лефевр де Грорье, Легран, Легро-Дево, Лемер, Эмиль Леру, Лесперю, де Лепинуа, Лербет, де Ленсаваль, де Люппе, Марешаль, Мартен де Виллер, Маз-Лоне, Мез, Арман де Мелен, Анатоль де Мелен, Мерантье, Мишо, Миспуле, Моне, де Монтебелло, де Монтиньи, Мулен, Мюра-Систриер, Альфред Неттеман, д'Оливье, генерал Удино, де Реджо, Пайе, Дюпарк, Пасси, Эмиль Пеан, Пекуль, Казимир Перье, Пиду, Пижон, де Пьоже, Пискатори, Проа, Прюдом, Кероэн, Рандуэн, Родо, Ролен, де Равине, де Ремюза, Рено, Резаль, де Рессегье, Анри де Риансе, Ригаль, де ла Рошет, Рода, де Рокфейль, де Ротур де Шолье, Руже-Лафос, Руне, Ру-Карбоннель, Сент-Бев, де Сен-Жермен, генерал де Сен-Прист, Сальмон (от Мааса), Бартелеми Совер, де Серре, де Семезон, Симоно, де Стапланд, де Сюрвиль, де Талуэ, Талон, Тамизье, Тюрьо де ла Розьер, де Тенги, де Токвиль, де Латурет, де Тревенек, Мортимер Терно, де Ватимениль, де Вандевр, Вернет (от Эро), Вернет (от Авейрона), Везен, Вите, де Вогюэ.
После переклички генерал Удино предлагает депутатам, тем временем рассеявшимся по двору, собраться вокруг него и сообщает им следующее:
«Батальонный адъютант, оставшийся здесь для наблюдения за порядком в казармах, получил приказ приготовить для нас комнаты, куда мы должны будем удалиться, так как считаемся арестованными. (Отлично!) Не хотите ли вы, чтобы я вызвал адъютанта? (Нет! Нет, не нужно!) Я скажу ему, чтобы он исполнил данный ему приказ». (Да! Правильно!) Спустя несколько минут некоторые депутаты расходятся по приготовленным для них комнатам, другие остаются во дворе.
В половине пятого появляются Валет, Виктор Лефран и Биксио; они присоединяются к арестованным сотоварищам.
В половине девятого в казармы приводят генерала Радуб-Лафоса, Эжена Сю, Бенуа (от Роны), Тупе де Виня, Арбе, Полен-Дюррье, Тийяр-Латериса, Шане и Фейоля; их арестовали утром и продержали весь день в доме, строившемся для министерства иностранных дел. Теперь число арестованных депутатов дошло до двухсот тридцати двух.
Без четверти десять во двор въезжают арестантские фургоны. Депутатов сажают в эти фургоны и везут в форт Мон-Валерьен, в Мазас и в Венсен.
(обратно)
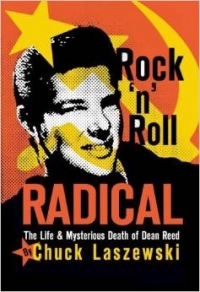




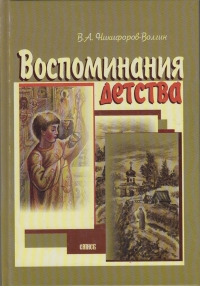
Комментарии к книге «История одного преступления», Виктор Гюго
Всего 0 комментариев