Генрих Гофман Гитлер был моим другом. Воспоминания личного фотографа фюрера
Глава 1 МОЙ ФОТОАППАРАТ И КАЙЗЕР
«Фотограф Гитлера». Наверно, этих двух слов хватит, чтобы напомнить обо мне тем, кто заинтересуется и спросит себя: кто такой этот Генрих Гофман?
По роду занятий я всегда был фотографом, а по склонности горячим поклонником искусства, издателем художественных журналов и страстным художником-любителем, хотя и скромных способностей. Свой путь в профессии я начал в солидной фотостудии отца и, когда пришел черед, стал опытным мастером своего дела. За много лет короли и князья, великие художники, певцы, писатели, политики и прочие люди, прославившиеся в какой-то области, замирали перед моим объективом на те несколько секунд, которые только и требовались мне, чтобы увековечить человека и событие.
Именно так, благодаря своей профессиональной деятельности, я и соприкоснулся впервые с Адольфом Гитлером – это было случайное задание, из которого выросла глубокая и долгая дружба, дружба, не имевшая ничего общего ни с политикой, в которой я мало разбирался и которая еще меньше заботила меня, ни с корыстью, ибо в то время из нас двоих я занимал куда более прочное положение. Эта дружба возникла из столкновения двух импульсивных натур, и в основе ее лежало отчасти общее увлечение искусством, а отчасти, быть может, притяжение противоположностей – некурящего трезвенника и аскета Гитлера, с одной стороны, и бесшабашного бонвивана Генриха Гофмана – с другой.
Но эта же дружба удерживала меня на протяжении самых неистовых, самых бурных и хаотичных лет мировой истории рядом с человеком, сыгравшим в них ключевую роль. До Гитлера – фюрера и канцлера Третьего рейха мне не было дела; но Адольф Гитлер – человек оставался моим другом с первой встречи до самого дня его смерти. Он отвечал мне такой же дружбой, я пользовался полным его доверием. В моей жизни его фигура занимает значительное место.
В 1897 году я занялся семейным делом в качестве ученика и помощника. Над студией на площади Иезуитов в Регенсбурге, которую мы делили с отцом и дядей, важно красовалась помпезная вывеска с гордой надписью:
ГЕНРИХ ГОФМАН, ПРИДВОРНЫЙ ФОТОГРАФ
его величестеа короля Баварского
его высочества эрцгерцога Гессенского
его высочества герцога Томазо Генуэзского,
принца Савойского
Эта вывеска обошлась владельцам довольно дорого, ибо, чтобы получить разрешение на использование такого титула, пришлось заплатить кругленькую сумму в канцелярии обер-церемониймейстера. Но отец и дядя не упускали возможности подчеркнуть, что это звание они заработали честным трудом, а не купили взяткой. Они действительно фотографировали не одну королевскую особу из династии Виттельсбахов, а также эрцгерцога Гессенского и Рейнского, герцога Генуэзского и многих других высокопоставленных лиц. В признание их похвальных достижений в искусстве фотографии и в знак особой благодарности принц-регент Люитпольд Баварский презентовал им золотую галстучную булавку с большой, выложенной бриллиантами буквой L, и каждое воскресенье партнеры-фотографы спорили о том, чья очередь закалывать галстук королевским подарком!
Когда я начал работать, главной моей задачей было следить за состоянием подголовников и подлокотников, которые мы использовали в то время из-за долгой экспозиции, чтобы наши блистательные клиенты не слишком утомились и не заработали себе прострел. Кроме того, в мои обязанности входило вытирать пыль со всех остальных принадлежностей, обязательных для любого уважающего себя фотоателье. Например, у нас были лодка с поднятыми парусами, скорлупа гигантского яйца, куда сажали младенцев, как будто аист не просто принес новорожденного, а высидел его из яйца как положено, и всякие прочие глупости.
Сама наша фотостудия была обставлена а-ля дом Макарта – в стиле когда-то знаменитого венского художника Ганса Макарта, славу которому принесла его грандиозная картина «Вход Карла V в Антверпен». Когда эту картину впервые выставили в Вене, она вызвала всеобщий ажиотаж. В изображенных на ней нагих куртизанках многие женатые мужчины венского общества узнали своих супруг, явно позировавших художнику, который в самой добросовестной и исчерпывающей манере увековечил их на полотне. За выставкой последовала череда самоубийств и разводов.
В то время я прямо-таки ненавидел Макарта, потому что копии его букетов, обильно развешанные по стенам студии, его позолоченные вазы с лепными украшениями и картинные рамы собирали на себе неимоверное количество пыли.
Однажды в воскресенье, когда я уже собирался закрывать фотостудию, вошел неизвестный человек.
– Я хочу сфотографироваться! – отрезал он.
Приличествующим образом выразив свое сожаление, я сказал, что тут нет никого, кто мог бы выполнить его желание.
– Вы же здесь! Вы меня и сфотографируйте!
Я отказался.
– Простите, – сказал я, – боюсь, мне не хватит опыта.
Однако незнакомец не принял отказа и начал вести себя угрожающе. Тогда я решился с оговорками, что не гарантирую качество снимка. Человек, не обращая на меня никакого внимания, прошел в гардеробную и вынул из чемодана новый костюм. Уложив снятую одежду в чемодан, он замер перед фотокамерой. Я накинул черную ткань, навел объектив и пролепетал обычное: «Пожалуйста, улыбайтесь и смотрите в объектив!» Сердце у меня едва не выпрыгивало из груди.
Человек продолжал стоять без всякого выражения, как памятник. Отстояв положенное время, мой упрямый клиент удалился, оставив чемодан и заявив, что заберет его потом вместе с фотографиями. Снимок вышел как нельзя лучше. Я гордо продемонстрировал его отцу и дяде. Но заказчик так и не вернулся ни за фотографией, ни за своими пожитками.
Через несколько недель мы решили открыть чемодан, и там, кроме старого костюма, оказались кошелек, набитый золотыми монетами, и духовое ружье. Полиция установила, что деньги и чемодан принадлежали крестьянке, которую нашли убитой в окрестностях Регенсбурга. Позднее также выяснилось, что убийца выманил жертву из дома, подражая кудахтанью перепуганных кур! Однако сделанная мною фотография представляла для полиции больший интерес, чем находка. Ее разместили во всех полицейских участках на досках под заголовком «Разыскивается», и таким образом мой первый снимок стал настоящей сенсацией.
В 1900 году я закончил свое ученичество, но мне пришлось оставаться в семейном деле до совершеннолетия. В 16 лет я оказался в Дармштадте, где меня взял к себе Хуго Тьеле, придворный фотограф эрцгерцога Гессенского. Самым интересным для меня было, когда мне разрешали ассистировать на съемке членов семейства эрцгерцога, которые частенько заглядывали к моему патрону.
Примерно в то же время на Матильденхёхе открылась так называемая «Художественная колония» при поддержке эрцгерцога. Эта выставка показала новые перспективы в архитектуре и изобразительном искусстве, имела большой успех во всей Германии и заметно повлияла не только на немецкую живопись, но и на фотографию, которая стала освобождаться от старых баронских драпировок, пальм, зубчатых стен и прочих уродливых и напыщенных аксессуаров, загромождавших фотографические студии. Их место заняли естественное освещение и простая обстановка, придававшие портретной фотографии совершенно иной вид. Выдающийся дармштадский фотограф Веймер первым отбросил все эти атрибуты прошлого и попробовал сменить искусственность портрета в неподвижной позе на легкость и натуральность. Если только была такая возможность, он всегда предпочитал фотографировать заказчиков в их собственных домах, в непринужденной, знакомой атмосфере, а не приглашать их к себе в фотоателье.
Когда нас вызывали в эрцгерцогский дворец, чтобы сделать несколько снимков, как это часто случалось, наш визит всегда сопровождался большим волнением. Двор эрцгерцога, благодаря тесным семейным связям, породнившим его со всеми могущественными королевскими домами Европы, в то время занимал важное место, совершенно несоразмерное величине государства. Из трех сестер тогдашнего эрцгерцога Эрнста-Людвига, а я видел их всех, когда они позировали для фотографии во время визитов к брату, одна вышла замуж за князя Генриха Прусского, вторая обвенчалась с членом российского императорского дома, а третья, принцесса Виктория-Елизавета, стала женой принца Людовика Баттенбергского, который позднее стал маркизом Милфорд-Хайвен.
В то время на меня сильно действовала аура трагической грусти, окружавшая российских аристократок как предзнаменование ужасной участи, которая постигла их в будущем. Царица всегда держалась робко и отстранение в присутствии незнакомых людей, казалось, она испытывала облегчение, когда заканчивался фотографический сеанс. Ее гораздо более красивая сестра, жена великого князя Сергея, была изящней и естественней. Позднее я узнал, что, когда ее мужа убили, она посетила убийцу в камере московской тюрьмы и с поистине ангельским терпением расспрашивала его, почему он это сделал, и что в конце концов она простила его, словно истинный ангел милосердия.
Считалось само собой разумеющимся, что наши блистательные клиенты не должны испытывать ни малейшего неудобства, и мы изо всех сил старались насколько возможно ускорить процесс фотографирования. Любая задержка с установкой аппарата в нужное положение, любой затянувшийся поиск подходящей позы влекли за собой резкую отповедь и повеление поторапливаться. Эрцгерцог и его родные быстро утомлялись и легко теряли терпение.
Во дворце оборудовали темную комнату, и мы проявляли фотопластинки сразу же после экспонирования. Таким образом, если снимок оказывался неудачным, его можно было тут же переснять. Проявка входила в мои обязанности. Однажды, когда у эрцгерцога гостила супруга великого князя Сергея, я спешил в нашу фотолабораторию, и тут неизвестный мне господин спросил, нельзя ли ему пойти вместе со мной, поскольку он интересуется процессом проявки.
Я от души предложил ему идти со мной. По время работы я спросил его, как ему кажется, не удастся ли мне мельком поглядеть на эрцгерцога. Я объяснил, что мне особенно интересно потому, что глава нашего семейного фотоателье носит гордый титул «придворного фотографа эрцгерцога Эрнста-Людвига Гессенского и Рейнского», а я, хотя и довольно часто бывал во дворце, до сих пор еще ни разу его не видел.
– Тем более, – продолжал я, – что на самом деле я подданный эрцгерцога, потому что мой отец родился в Дармштадте и служил в белых драгунах.
– Думаю, это можно устроить, – улыбнулся мой гость, и, когда мы вместе уходили из темной комнаты, он поблагодарил меня и дал мне неплохие чаевые.
Я был заинтригован и спросил слугу, что это за господин.
Оказалось, что это не кто иной, как эрцгерцог собственной персоной, и он дал мне талер со своим портретом!
В 1901 году я счел, что настала пора двигаться вперед в освоении фотографического искусства, и отправился в Гейдельберг, где работал у Лангбейна, университетского фотографа. Лангбейн специализировался на фотографировании «мензурного» фехтования – знаменитых дуэлей немецких студентов, – мои же обязанности состояли в том, чтобы подкрашивать форменные шапки и пояса студенческих корпораций.
В те дни студенты задавали тон в Гейдельберге, его величество студент владычествовал безраздельно – как в нашей фотостудии, так и повсюду в городе. Я уверен, что у многих пожилых господ над столом в кабинете висит какая-нибудь из тех «мензурных» фотографий, над которыми мы так усердно трудились. Каждого участника, а иногда группы участников нужно было сфотографировать отдельно в студии. Затем каждую фигуру нужно было очень аккуратно вырезать и приклеить на фотографию пустого дуэльного зала, который образовывал задний план. После всего этот коллаж надо было снять повторно, и конечный результат производил впечатление яростного поединка в самом разгаре. Чтобы получить нужную перспективу, все фигуры на втором плане нужно было соответствующим образом уменьшить, и Лангбейн, безусловно, обладал исключительным опытом и умел добиваться самого реалистичного и правдоподобного результата.
В 1902 году я снова пустился в путь – на этот раз во Франкфурт, где работал в фотостудии Теобальда, специализировавшегося на солдатских портретах. «Военный фотограф» не занимал видного места среди мастеров этого дела, но я утешался мыслью, что для того, чтобы овладеть всеми навыками, нужно браться за все.
Фотоателье находилось прямо напротив казарм. Самым важным для нас было воскресенье, в этот день сыны Марса валом валили к нам, чтобы запечатлеть себя во всем великолепии парадной формы. Иметь дело с военными очень сложно. Чуть что они хватались за оружие, и малейшая складочка на форме приводила их в ярость. За всякой мелочью нам приходилось следить зорко, как ястребам. Большой популярностью пользовались раскрашенные фотографии, они давали мне возможность чуть-чуть заработать на стороне. Подцвечивание фотографии стоило одну марку; те, кто хотел ярко раскрасить только шнуры, платили пятьдесят пфеннигов, а с тех, кто хотел, чтобы их еле пробивающиеся усики смотрелись более мужественно, я брал тридцать пфеннигов. Одну половину того, что я зарабатывал «халтурой», приходилось отдавать моему работодателю, а другую половину он регулярно выигрывал у меня по вечерам за карточным столом.
Когда я начал работать у Теобальда, мне хотелось реформировать искусство солдатской фотографии. Обычно юные воины становились в позу, которая называлась «непринужденной», уставившись в камеру неподвижным стеклянным взглядом, как будто ожидая, что из нее в любой момент извергнется поток ефрейторской ругани. Я хотел отказаться от этих снимков в стиле надгробных памятников и уговаривал их принять более свободную позу и сделать такое лицо, которое должно быть после слов «улыбнитесь, сейчас вылетит птичка». Но все мои попытки ни к чему не привели. Как-то я уговорил одного солдата как бы небрежно встать коленом на край стула, и результат оказался убийственный – по фотографии казалось, что в армию взяли солдата с деревянной ногой!
Я недолго пробыл у Теобальда, потому что хотел только получить некоторый опыт в этой области, но не собирался специализироваться в ней, и в начале 1903 года я перешел на свое следующее место – гамбургскую фотостудию Томаса Войта, знаменитого фотографа при императорском дворе. Это, конечно, была совершенно другая работа. В Гомбурге, одном из самых элегантных и модных минеральных курортов Германии, любили отдыхать британские и русские принцы, великие князья, мультимиллионеры и аристократы всего мира. Большой интерес неизменно вызывали международные теннисные турниры, ибо сливки общества считали для себя престижным показаться на них; и я пожинал богатую жатву вокруг теннисных кортов.
Среди множества эксцентричных сановников, с которыми мне приходилось встречаться в Гомбурге, был Чулалонгкорн, король Сиама. Он всегда заказывал свои портреты почти в полный рост, и вдобавок мы их раскрашивали как можно художественнее. Затем гигантские фотографии упаковывали в оцинкованные ящики и отправляли в Сиам. Однажды его величество не моргнув глазом оплатил представленный ему счет на 27 тысяч золотых марок.
Однажды мне поручили сделать фотографию великого русского князя Михаила Михайловича, но, увы, сохранить ее для потомков не удалось. Надо признаться, что его императорское высочество так императорски надрызгался, что снимок просто «съехал с пластинки», как говорят профессиональные фотографы. Я сделал больше дюжины снимков – и в темноте лаборатории совершенно ясно увидел прискорбный итог своей работы!
Одно из самых волнующих переживаний я испытал, когда фотографировал кайзера. 5 ноября 1903 года моему шефу приказали явиться, чтобы сделать фотографии по случаю исторической встречи кайзера с русским царем Николаем в старом Висбаденском замке. В замке герр Войт все приготовил к съемке и поставил меня караулить в коридоре, чтобы я предупредил его, когда появится кайзер. Дожидался я его долго.
(Августейшие особы всегда заставляют себя ждать. Сначала ты не знаешь, чем себя занять, а потом, когда они наконец-таки соизволят прибыть, они становятся чертовски нетерпеливы!)
В конце концов я увидел, как по темному коридору ко мне приближается чья-то фигура, в которой мне удалось различить только бороду и встопорщенные усы в характерном стиле кайзера Вильгельма II, которые между собой мы звали «ура!». Но когда он подошел поближе, я увидел, что на нем штатское платье – визитка, так что он никак не мог быть кайзером. И действительно, это оказался его личный парикмахер Хаби, который изобрел сетку для усов, чем весьма прославил усы кайзера Вильгельма.
Наконец прибыл и кайзер. Вильгельм II, почетный полковник бесчисленных иностранных полков, пожелал сфотографироваться в форме каждого из них! И тут началось! – из одного мундира в другой: то полковник российской гвардии, то британский полковник, то полковник королевских венгерских гусар, – кавалерийские, пехотинские и артиллерийские мундиры сменяли друг друга так, что рябило в глазах. Самое большое впечатление на меня произвел доломан венгерского гусара, расшитый золотыми галунами, позднее этот снимок стал очень популярным.
В другой раз, когда кайзер ненадолго остановился в замке Фридрихсрух под Гомбургом, я узнал, что он принял приглашение герра Маркса, супрефекта округа, который пользовался большим уважением кайзера. Я подумал, что может получиться отличная фотография, и разузнал, когда и где состоится визит. На каких-то строительных лесах перед виллой герра Маркса я установил фотоаппарат и прилежно нацелил его на то место, через которое обязательно должен будет пройти кайзер на обратном пути. Передо мной расположились несколько армейских ветеранов в сюртуках и цилиндрах, с разноцветными орденскими лентами на груди. Несмотря на свои упитанные брюшки, они изо всех сил старались стоять прямо, как палка, хотя их усилия не всегда увенчивались успехом.
Над блестящей крышей из цилиндров возвышалась моя фотокамера, неподвижно нацеленная на выбранную точку, рядом с ней на леса взгромоздился и я, словно курица на насест, вглядываясь поверх моря голов, готовый в любой миг спустить затвор. И вдруг слышу:
– Кайзер идет!
Нарастающий гул приветственных криков встретил его появление. Ветераны с верноподданническим восторгом бросали цилиндры в воздух, приветствуя своего военачальника и повелителя. И я сумел сфотографировать только кучу парящих в воздухе цилиндров! К тому времени, когда цилиндры – и волнение – улеглись, от кайзера не осталось и следа – ни во плоти, ни на фотопластинках!
Некоторое время спустя удача улыбнулась мне. Когда кайзер вместе со своим высокопоставленным дядей королем Англии Эдуардом VII осматривал Заальбург, старый римский замок, перестроенный по его распоряжению, я сделал серию фотографий, которые впоследствии опубликовали ведущие газеты всего мира. На одной из них кайзер с сестрами и его сановный гость стояли рядом с последней моделью «даймлера», который поразил Германию своей роскошью и элегантностью.
У Войта я пробыл три года, в курортный сезон работал в Гомбурге, а зимой в его франкфуртских фотоателье. Потом я перебрался в Швейцарию, где в течение какого-то времени сотрудничал в Цюрихе с известным фотографом Камилло Руфом.
Руф был одним из самых выдающихся фотографов своего времени. Мне очень нравилось с ним работать. Но тогда я уже мечтал открыть собственную фотостудию, и Руф помог мне реализовать эти честолюбивые планы, вверив моим заботам два небольших филиала его фотоателье, где я мог экспериментировать и валять дурака сколько душе угодно.
После Швейцарии я вернулся в Мюнхен. Несмотря на то что до сих пор я полностью отдавал свои силы приобретению опыта в своей профессии, в моем сердце все еще сохранялось желание стать художником. Но отец мой был категорически против и разрешал мне дальше изучать искусства и живопись только в той мере, в какой они касались моего занятия как фотографа.
Так, я изучал технику рисунка у профессора Книрра в Мюнхене, посещал лекции по анатомии профессора Мольера в Мюнхенском университете и некоторое время проработал в Париже под руководством знаменитого фотографа Ройтлингера, специализировавшегося на персонах из высшего общества и прекрасных женщинах.
Для меня это был год ничем не омрачаемой радости, но после передышки в качестве беспечного любителя искусств мне, увы, пришлось вернуться к своей профессии.
Довольно долго я лелеял в душе желание познакомиться с Англией, и в 1907 году, опираясь на превосходные рекомендации и практический опыт, я набрался смелости перебраться через Ла-Манш, обуянный оптимистической идеей, что Англия только и дожидается моего приезда.
Однако резюме, которое я попросил составить на английском языке, мне неизменно возвращали, присовокупив к нему несколько добрых слов и холодную улыбку. К моему опыту относились уважительно, но никто не мог мне ничего предложить. Деньги катастрофически заканчивались, и тут, в критическую минуту, на помощь пришел чистый случай, как часто бывало в моей жизни.
В один прекрасный день я получил рекомендательное письмо к знаменитейшему английскому фотографу Е.О. Хоппе от профессора Эммериха, основателя Мюнхенского учебно-исследовательского института фотографии. Этот мастер фотографического искусства принял меня, как старого друга семьи. Однажды он пригласил меня на традиционное чаепитие, и там я познакомился с некоторыми известными художниками и фотографами.
Когда гости стали расходиться, Хоппе попросил меня задержаться, и мы сразу же перешли к делу.
– Каково ваше финансовое положение? Сколько вы можете заплатить? – спросил Хоппе, делая первый шаг.
Боюсь, у меня был не слишком умный вид, когда он огорошил меня этими вопросами. Сколько я могу заплатить? Вот я, перед ним, у меня есть общепризнанные навыки в профессии, значительные достижения, которыми я мог гордиться, весомые рекомендации – и меня просят заплатить за возможность работать! Несмотря на некоторое замешательство, я без околичностей описал ему свое положение.
– К сожалению, я не могу позволить себе заниматься фотографией в качестве хобби, – сказал я. – Этим я зарабатываю на хлеб. И между прочим, я, может быть, еще и поспособнее вас!
Хоппе на минуту задумался.
– Вот что, – сказал он, – приходите и поработайте у меня несколько дней, тогда посмотрим, что можно с вами сделать.
Так вышло, что в ближайшие дни мне пришлось поехать на французско-британскую выставку, чтобы сделать фотографии ее колониального отделения. Едва я взялся за работу, как зал, в котором я находился, сотряс оглушительный грохот. Я схватил камеру и бросился наружу сквозь толпу, охваченную паникой. Что произошло? Оказалось, что привязной аэростат, бывший одним из дополнительных экспонатов, взорвался и рухнул на землю. Трупы лежали вперемешку с ранеными, окровавленными людьми, корчившимися от боли; дымящиеся, еще не потухшие остатки аэростата возвышались зловещим фоном, и я, установив аппарат, быстро сделал несколько снимков ужасной катастрофы.
Снимки оказались хорошего качества и произвели сенсацию.
Благодаря случаю я далеко обошел своих конкурентов. Фотографии Хоппе – на самом деле мои – напечатали все ведущие газеты в Англии и за границей, а «Дейли миррор» поместила одну из них на первой полосе. Мой шеф получил хороший куш в виде авторских гонораров, да и на мою долю пришлась кругленькая сумма. Мой успех произвел на Хоппе большое впечатление, и он взял меня на постоянное место, очень скоро я уже работал фоторепортером. Таким образом взорвавшийся шар придал начальный импульс моей последующей карьере в качестве фоторепортера.
Хоппе специализировался на портретах, и в этом деле он был настоящим мастером. Еще он превосходно владел техникой линогравюры, и за то время, что я провел с ним, я многому научился. В числе прочего он задумал издать фотоальбом под заголовком «Люди XX века» и доверил мне фотографировать британских знаменитостей. Выполняя это задание, я получил доступ в те сферы, куда иначе вход мне был бы закрыт.
Выдающиеся личности, чьи имена не сходили с уст публики, позировали перед моим объективом, и вскоре я уже приобрел собственный стиль, заслуживший одобрение даже Королевского фотографического общества. Один снимок у меня приняли для эксклюзивной ежегодной выставки, а в 1908 году еще один мой снимок напечатали в «Фотографиях года» Сноудена Уорда – тщательно отобранной коллекции лучших фотографий 1908 года.
Вскоре после этого Хоппе на несколько месяцев уехал за границу, и у меня не осталось иного выбора, кроме как попытаться самостоятельно встать на ноги. В таком городе, как Лондон, это оказалось нелегкой задачей. Я открыл фотомастерскую на Аксбридж-роуд и нанял натурщиц, которых фотографировал для рекламы книг и плакатов в иллюстрированной прессе. Однако основной доход мне приносили премии. В то время я участвовал в огромном количестве конкурсов, и мне порядком везло, так что мое имя неоднократно оказывалось в списке призеров.
Я круглые сутки ломал голову над тем, как мне оживить свое дело. Наконец у меня появилась одна идея. Я взял сборник «Кто есть кто» и выбрал всех знаменитостей, которые в том году должны были отмечать юбилеи. Я навещал их лично и говорил, что хочу сфотографировать их для иллюстрированных газет. Человеческое тщеславие – очень сильное чувство, и они почти без исключений охотно позволили себя сфотографировать. Естественно, каждому я послал по бесплатному экземпляру, и, так как фотографии были действительно хороши, я получил немало заказов еще на несколько копий за дополнительную плату. Теперь мой бизнес неуклонно шел в гору, и очень скоро я накопил достаточно средств, чтобы подумывать об открытии собственного фотоателье на родине.
В 1909 году я вернулся в Мюнхен. Мне нравилось в Англии, но… в гостях хорошо, а дома лучше.
В начале 1910 года я снял фотомастерскую в доме 33 по Шеллингштрассе. Я решил специализироваться на мужских портретах, но, если ко мне заходила какая-нибудь дама, изъявляя желание сфотографироваться, я, естественно, не имел ничего против.
В начале весны того же года ко мне в фотоателье вошла молодая женщина.
– Я столько слышала о вашем художественном мастерстве, герр Гофман, – сказала она с очаровательной улыбкой, – я хочу попросить вас сделать один особенный портрет для моей подруги, которая сейчас за границей.
Это была прелестная девушка, высокая, белокурая и стройная, с грацией и сияющим румянцем идеального здоровья и молодости – от такой картины ни один художник не сможет оторвать взгляда.
Я всегда был импульсивным человеком, и мне редко приходилось в этом раскаиваться. Что до меня, то я влюбился с первого взгляда. Либо я буду с этим прелестным созданием, подумал я, либо ни кем на всем белом свете!
Я хорошо сделал ее первый портрет, хотя моему восхищенному взору он казался жалкой подделкой. Но Лелли он понравился. К моему бесконечному восторгу, оказалось, что она увлекается фотографией и вроде бы по-настоящему интересуется искусством и техникой фотографии. У нее вошло в привычку заглядывать ко мне, чтобы спросить совета и помощи. Один бог знает, что за вздор я лепетал под видом профессиональных указаний, сам не свой от волнения; но она казалась вполне довольной, и до всего остального мне не было дела. Постепенно до меня дошло – хотя я не смел поверить в то, что это правда, – что ее интересовали не только искусство и наука фотографии. Может ли быть, что она?..
Быстро пролетели несколько волшебных месяцев, услащенных простыми восторгами тех, кто молод и влюблен, и в начале 1911 года мы поженились. Я был еще довольно беден, и на медовый месяц денег у нас не хватило. Утром состоялось бракосочетание, а через несколько часов мы стояли бок о бок в моей фотостудии, полностью погрузившись в работу. Интерес моей жены к фотографии не оказался женским капризом, и первые дни нашей совместной жизни она была для меня большой поддержкой, да к тому же идеальной моделью для множества журнальных обложек, которые я делал для печати.
Так мало-помалу моя известность и клиентура стали расти. Однажды осенью 1911 года я получил записку, где говорилось, что меня желает немедленно видеть главный редактор «Мюнхнер иллюстрирте цайтунг» герр Фюрстенхайм.
– Только что в Мюнхен прибыл Карузо, – сказал он, – и, если вы мне достанете его фотографию, я вам по-царски заплачу, не будь я Фюрстенхайм. Мне нужна его фотография на первой полосе.
Я тут же поспешил в отель «Континенталь», где остановился Карузо, и через несколько минут удостоился аудиенции – конечно, не самого Карузо, но его импресарио Леднера, которому я изложил свое пожелание, прибавив, что «Мюнхнер иллюстрирте» хочет опубликовать снимок на первой полосе.
Импресарио внимательно выслушал меня и потом с извиняющимся выражением лица объяснил, что Карузо не разрешено позировать для фотографий.
– Все права на фотографии, – сказал он, – принадлежат американскому агентству. Но если вам просто нужна фотография, берите какую хотите, у нас есть из чего выбрать.
Это предложение я с благодарностью отклонил. Меня не интересовали фотографии, сделанные кем-то другим.
– Но ведь Карузо публичная фигура, – возразил я, – наверняка ему очень трудно скрыться от фотографов.
– О, вам никто не мешает снять его где-нибудь на улице, – ответил Леднер. – Контракт ограничивается студийными портретами. Можете сфотографировать его, когда он будет выходить из отеля.
Когда же примерно это может случиться, спросил я его. И мне было сказано, что Томас Кнорр, соучредитель и собственник «Мюнхнер иллюстрирте цайтунг», в то время ведущей южногерманской газеты, пригласил Карузо на обед.
Перед отелем уже собралась в ожидании целая толпа моих коллег-фотографов, они уже успели установить свои фотокамеры и нацелить их на двери отеля. «Если я сольюсь с этой ордой, – подумал я, – прощай мой царский гонорар! Все эти ребята бросятся со своими фотографиями к Фюрстенхайму. Нужно придумать что-нибудь получше». Минуту я раздумывал, а потом меня осенила блестящая идея.
Я направился к дому Томаса Кнорра. Он жил в настоящем дворце на Бринерштрассе, обставленном с самым утонченным вкусом и бывшем одним из средоточий культурной жизни баварской столицы. Меня встретил вежливо-холодный и почти неприступный слуга.
– Мне нужно поговорить с герром Кнорром по срочному делу, – сказал я.
– Могу я осведомиться, в какой связи?
– Прошу вас сказать ему только слово «Богема», – хладнокровно ответил я. («Богема» – это опера, которой Карузо открывал свои мюнхенские гастроли.)
Слуга молча скрылся. Чуть погодя он вернулся:
– Герр Кнорр просит вас войти.
Когда я очутился лицом к лицу с владельцем самой влиятельной газеты во всей Баварии, я собрал в себе все остатки храбрости. «Пожалуйста, – взмолился я про себя, – пусть только меня не оставит наглость!»
– Откуда вы узнали, что Карузо будет у меня? – заинтересованно спросил Кнорр.
– Боюсь, я не имею права раскрыть источник сведений, – ответил я, многозначительно улыбаясь. – Однако могу сказать вам, что мне поручили сделать фотографию Карузо в этой обстановке, – что в каком-то смысле было правдой, ведь меня все-таки просили сделать нечто в этом роде.
– Ага, понимаю! Вы хотите сказать, это был сам Карузо! – воскликнул герр Кнорр.
У меня в мозгу промелькнула старая пословица о том, что молчание – золото. Я не промолвил ни слова, и Кнорр принял мое молчание за знак согласия. Он явно был очень доволен тем, что Карузо пожелал сфотографироваться в его доме рядом с хозяином. Честно говоря, меня прошиб пот. Только бы получилось!
Наконец в сопровождении импресарио приехал Карузо. Я направился к герру Леднеру и преувеличенно радостно приветствовал его, словно старинного приятеля. Признаться, вид у него был несколько обескураженный, сначала – когда он увидел меня в этом месте, а потом – потому что я, пожалуй, слегка переиграл с изъявлением дружбы. Со своей стороны Карузо, кажется, предположил, что меня ради этого случая пригласил герр Кнорр.
Все прошло как по маслу. Они оба замерли перед фотоаппаратом, и я сделал несколько снимков. Потом я как можно скорее убрался из дома. Еле справляясь с волнением, я проявил пластинки, и, к моей радости, снимки оказались отличного качества.
Когда я положил отпечатки перед Фюрстенхаймом, он просиял. Эти портреты сделали мне имя. Разумеется, пробные отпечатки я отослал «на одобрение» Карузо в гамбургский отель «Атлантик», и они ему тоже очень понравились, так что он заказал довольно большую партию копий, которые я отправил ему вместе со счетом внушительной величины!
Когда в 1919 году Карузо вернулся в Мюнхен, он подарил мне собственноручно нарисованный шарж с автографом – хотя давным-давно уплатил по счету.
В карьере любого газетного фотографа наверняка бывает случай, когда тот или иной снимок создает сенсацию, но не столько из-за достоинств самой фотографии, сколько из-за придуманной к ней подписи. Во время злополучного цабернского инцидента совершенно безобидная фотография кайзера Вильгельма II вызвала международный фурор только из-за подписи, с которой она появилась в печати.
В начале 1913 года в городке Цаберн произошли некоторые события, приобретшие размах международного инцидента. Один очень молодой и неопытный лейтенант из местной военной школы заявил, что в округе и в самом Цаберне полно «ренегатов». Этим словом – чрезвычайно оскорбительным местным ругательством – обозначали ненадежные элементы среди приграничного населения Эльзаса[1].
Население, как можно представить, сильно возмутилось, печать подлила масла в огонь, и в один миг отношения между военными и гражданскими лицами категорически испортились. Некоторые молодые люди прямо на улице выкрикивали оскорбления в адрес офицеров. Инцидент, сам по себе малозначительный, привел к тому, что в Цаберне ввели военное положение, что очень встревожило все государство. В город вошли вооруженные войска, установили пулеметы, и под барабанную дробь жителям было приказано уйти с улиц и площадей, иначе будет открыт огонь.
В понедельник 1 декабря рейхсканцлер Германии фон Бетман-Гольвег и военный министр фон Фалькенхайн доложили о ситуации кайзеру, который в то время находился в Донауэшингене. В то время я тоже случайно оказался в Донауэшингене по заданию газеты «Ди вохе», чтобы сделать несколько фотографий кайзера, принявшего приглашение поохотиться с принцем Эгоном Фюрстенбергским.
Совещание кайзера с министрами по цабернскому делу должно было проходить в полной изоляции в парке донауэшингенского замка. Однако с молчаливого согласия принца мне разрешили прокрасться в парк, строго запретив попадаться кому-либо на глаза, и, стоя за деревом, я стал дожидаться прибытия кайзера.
Наконец его величество появился в сопровождении фон Бетман-Гольвега. Некоторое время он оживленно разговаривал с министрами и генералом Даймлингом, местным главнокомандующим, а несколько офицеров почтительно стояли в стороне. В ту минуту, когда кайзер отвернулся от рейхсканцлера и обратился к одному из офицеров из стоявшей неподалеку группы, я щелкнул его так, чтобы на пластинку не попали офицеры.
На следующий день, разбирая отпечатки, предназначенные для прессы, я нашел среди них один снимок, который, как мне показалось, может вызвать недоразумение. Я отложил его подальше в сторону, чтобы ненароком не перепутать с фотографиями для печати.
Через несколько дней я случайно увидел «Иллюстрасьон», самую знаменитую французскую газету, и не мог поверить своим глазам. Передо мной та самая отвергнутая фотография, а под ней значилась сенсационная подпись: «Кайзер отворачивается от канцлера, не сойдясь во мнении по цабернскому делу!»
Через ассистента, злоупотребившего моим доверием, «Иллюстрасьон» получила снимок и присовокупила к нему весьма тенденциозную подпись.
Мое скромное дело продолжало процветать, мы с женой были счастливы и в браке, и в работе, которой мы с таким увлечением занимались вместе. Конечно, монархия предоставляет фоторепортеру интересные и весьма прибыльные возможности, и удача не обходила меня стороной. Но я посвящал больше внимания искусству, чем политике или светским новостям, и в творческих кругах мои связи были действительно многочисленны. Все прославленные звезды театра и музыки – дирижер Бруно Вальтер, Рихард Штраус и многие другие – в тот или иной момент оказывались перед объективом моего фотоаппарата.
3 февраля 1912 года родилась дочь Генриетта и привнесла новую радость и удовлетворение в нашу семейную жизнь, которая шла своим чередом, слава богу, в блаженном неведении о годах кровопролития, бедствий и хаоса, которые мрачными тучами надвигались на нас.
Последствия сараевского убийства разрушили мою жизнь, как и жизни миллионов других людей всего мира.
Вечером того дня, когда произошло убийство, я сидел в известном мюнхенском «Кабаре папы Бенца». Мне сообщили, что в популярном кафе в центре города начались бесчинства. Я поймал такси и помчался домой за фотоаппаратом. Когда я добрался до Карлстора, то увидел, к чему приводит энтузиазм, направленный не в то русло. Знаменитое кафе «Фарих» было совершенно разгромлено! Мебель, стекло, посуда – все валялось в мелких осколках, собравшаяся толпа подбирала кирпичи с соседнего строительного участка и швыряла их в окна с зеркальным стеклом.
Я пробрался через дыру в одном из зияющих окон и сделал несколько снимков. К тому времени, как я вышел, полиция уже приехала на место и разводила возбужденную толпу в разные стороны. Один из полицейских подошел ко мне и сказал, что должен конфисковать пластинки. Я без возражений передал их ему, так как уже принял меры предосторожности и передал коробку с пластинками другу. Потом я спросил одного из демонстрантов, из-за чего сыр-бор. «Оркестр, – пылая возмущением, сказал он, – отказался сыграть «Вахту на Рейне».
Через несколько дней я получил телеграмму: «Ваше назначение военным фотографом утверждено тчк сообщите 22 отдел разведки Меце тчк Генштаб».
В 1914 году во всем рейхе было всего семь военных фотографов, а в Баварии я был один.
Меня назначили военным фотографом «под собственную ответственность и за собственный счет» и отправили на Западный фронт, где я присоединился к III Баварскому армейскому корпусу. Название должности «военный фотограф» не совсем верно, так как я получил разрешение фотографировать только на линиях коммуникаций, и лишь в очень редких случаях какой-нибудь офицер по доброте своей брал меня с собой на передовую.
Несмотря на эти ограничения, сделанные нами фотографии получали высокую оценку и в тылу, и за рубежом.
Одна моя фотография представляет значительный интерес для истории. В мюнхенском дворце Прейзинга мне удалось сфотографировать независимого ирландского лидера Роджера Кейсмента перед самым его отъездом в Ирландию. Германия поддерживала Кейсмента, ему дали задание вернуться в Ирландию и поднять там восстание. Его предали, и британцы арестовали его сразу же, как только он высадился на берег, судили как шпиона и расстреляли.
Примерно через семь месяцев войны была сформирована «кинофотослужба», и мы получили более официальный статус. Нас зачислили на военную службу как солдат, и мы стали подчиняться военному закону и дисциплине. Меня самого направили в летучий отряд № 298, где в мои обязанности входило проявлять и классифицировать фотографии воздушной разведки – признаюсь, не слишком увлекательное занятие, хотя и очень важное.
В конце октября 1918 года меня прикомандировали к части в Шлейсхайме, где формировалось новое подразделение для отправки на фронт. Но оно так и не добралось до фронта, поскольку 8 ноября по указанию военного министерства мы получили разрешение посетить, если будет такое желание, массовый политический митинг.
Сам я воспользовался увольнительной не для того, чтобы пойти на митинг, а чтобы поспешить домой и сменить военную форму на штатское платье, переключившись тем самым с военных действий на революционные события.
Революционный штаб располагался в «Метезере» – и это бесспорно демонстрирует, что во всех случаях Мюнхен отдает явное предпочтение пивным погребкам! На следующий день Совет солдатских и рабочих депутатов провозгласил революцию в баварском парламенте.
Ранним утром 9 ноября, щеголяя самодельной красной повязкой на рукаве и с фотоаппаратом под мышкой, я уже был на ногах. Не без труда мне удалось пробраться в здание парламента. Здесь у меня был шанс посмотреть на наших новых правителей и одновременно сделать самые первые фотографии только что сформированного Совета солдатских и рабочих депутатов. Красная повязка сослужила мне отличную службу.
Работа фоторепортера стала весьма увлекательным, но и опасным занятием. Очень скоро мне удалось запечатлеть своей камерой всех главных героев, а мой снимок нового баварского премьер-министра Эйснера – первый из череды последовавших снимков – появился во всех немецких и зарубежных газетах.
21 апреля 1919 года граф Арко застрелил Эйснера. Этот роковой выстрел привел к мятежу радикалов, который окончился их победой и провозглашением рабоче-солдатской республики.
Мюнхен был охвачен волнением, улицы полнились кричащими, жестикулирующими людьми. Я снова надел красную повязку и бродил по улицам с фотоаппаратом, стремясь увековечить картины истории, творившейся на моих глазах. Остановились предприятия, трамваи перестали ходить. Исполнительный комитет Совета рабоче-солдатских депутатов призвал к всеобщей забастовке. Баварский парламент сбежал в Бамберг.
Однако в день всеобщей забастовки по крайней мере у меня работы было по горло. На Людвигштрассе вылилась массовая демонстрация; Эгельхофер, командующий Красной армией и одновременно комендант Мюнхена, стоял на грузовике напротив Людвигскирхе и отдавал честь огромной колонне, маршировавшей мимо него.
Я яростно щелкал затвором везде, где только мог, и отправлял в карманы пластинку за пластинкой. Поглощенный работой, я краем уха услышал, как кто-то сказал: «Берегитесь этого фотографа», но не придал им значения.
Внезапно грубые руки схватили меня, и я очутился между двумя революционными солдатами с ружьями и ручными гранатами, засунутыми за пояс. Под аплодисменты толпы меня увели и доставили к заместителю коменданта, сидевшему за столом в маленькой комнатке спиной ко мне. Прошло несколько тревожных минут, в течение которых он ни разу не посмотрел на меня. Наконец он повернулся.
Я не поверил своим глазам. «Бог ты мой! – подумал я. – Это же Алоис, мой бывший помощник!»
Он тоже сразу меня узнал.
– Эгельхофер, наверно, ошибся, – сказал он, поворачиваясь к солдатам. – Это же герр Гофман, мой старый друг. – Он обернулся ко мне: – Ведь Эгельхофер не знает, – продолжал он извиняющимся тоном, – что вы были моим самым честным шефом!
Фотоаппарат мне возвратили, и от заместителя коменданта я получил письменный пропуск, дающий разрешение фотографировать все, что мне вздумается.
Разрешение удалило все препятствия с моей дороги. Я был официальным уполномоченным фотографом рабоче-солдатской республики! Масса интереснейших фотографий быстро пополнила мой архив, но, к сожалению, мало какие из них уцелели.
Однако одного человека не хватало в моей коллекции портретов революционных вождей – красного коменданта города Эгельхофера. Эгельхофер был выходцем из мюнхенских окраин и практически в одну ночь оказался на посту главнокомандующего Красной армией и городского коменданта. Под охраной своей красной повязки я отправился в логово льва на Эттштрассе, где раньше располагалось управление полиции, а теперь Эгельхофер устроил свою штаб-квартиру. В приемной я написал короткую записку, в которой заверял коменданта, что если один из наиважнейших героев революции не войдет в мои исторические архивы, это будет весьма прискорбным упущением.
Прошло несколько минут, затем открылась дверь, и в проеме показался Эгельхофер собственной персоной. Он оценивающе оглядел меня и сказал:
– Вы как раз вовремя. Я вас дожидался.
Ну и что теперь? Это могло означать, что он настроен дружелюбно и приветливо, точно так же это могло означать и совершенно противоположное. Вскоре он развеял мои сомнения.
– Ладно, щелкните меня, как есть, – продолжал он, пропуская меня в святая святых и закрывая дверь за собой. – Но вот что я вам скажу, господин хороший, если кто-нибудь еще увидит эту фотографию, я вас пристрелю собственными руками!
Он сказал, что ему нужен снимок размером примерно с фотографию для паспорта, причем как можно быстрее; а если когда-нибудь ее копия окажется в досье полицейского управления, даже сам Господь Бог мне не поможет!
Эгельхофер сел на крутящийся стул и замер. Я поспешно сфотографировал его, после чего он снял очки, которые надел, чтобы сфотографироваться, повернулся к охранникам и велел им проводить меня и не спускать с меня глаз, пока не будут проявлены и отпечатаны фотографии.
– А пластинки заберите, чтобы этот тип не отправил копию в газеты, – отрезал он.
Под вооруженным конвоем я вернулся к себе в фотоателье. Там солдаты пристально и настороженно следили за каждым моим движением, так что пришлось отказаться даже от мысли проделать какой-нибудь трюк с отпечатками. Я вернулся к Эгельхоферу и лично доставил пластинки и отпечатки. Я снова попытался переубедить его. Он не хотел даже и думать об этом, но вместо этого предложил мне деньги; а когда я заверил его, что для меня и так уже большая честь иметь возможность его сфотографировать, он вдруг выдвинул ящик стола, вынул снимок, сделанный в то время, когда он служил матросом, и вручил его мне!
– Ну, вот это можете напечатать, – доброжелательно сказал он. – А эти… – он указал на плоды моих недавних усилий, – даже и не думайте!
Этим мне и пришлось удовольствоваться.
Через несколько недель республика потерпела крах. Эгельхофера расстреляли, и при нем нашли паспорт на другую фамилию. В этом паспорте была именно та фотография, что сделал я, – Эгельхофер в очках, которых он никогда не носил!
21 апреля по всему Мюнхену, словно лесной пожар, распространилась весть о том, что красные расстреляли заложников, которых удерживали в гимназии Люитпольда, в последний момент перед самым освобождением. В горожанах ужас соединялся с возмущением и гневом. Отряд из нескольких решительных мужчин разоружил красногвардейцев, стоявших на посту в резиденции, и вскоре после этого со всех сторон начали входить первые части освободительной армии, которые население встречало с облегчением и энтузиазмом.
Среди ночи кто-то позвонил в дверь моего дома. Это был Алоис, с него уже сошел недавний торжествующе-революционный вид. Я без слов понял, что ему нужно, и спрятал его у себя дома вместе с его соратником Германом Заксом, американцем.
Как-то раз через много лет моя секретарша сказала, что меня хочет видеть какой-то штурмовик, но отказывается назвать свое имя. Я велел ей пропустить его, и передо мной оказался Алоис, молодцеватый в форме штурмовика, бывший заместитель городского коменданта и бывший ученик фотографа!
После входа правительственных войск ход событий в Мюнхене быстро вернулся в нормальное русло, и я опубликовал альбом фотографий под заголовком «Год баварской революции», который снискал большой успех.
1920 год в Мюнхене был одной длинной серией демонстраций, маршей и массовых митингов, и всякий раз, как происходило нечто подобное, я был тут как тут со своей верной фотокамерой. Однажды я присутствовал на районном митинге городского ополчения. Среди прочих ораторов выступал некий Адольф Гитлер. Я не посчитал нужным потратить на него фотопластинку, поскольку тогда он ничего не значил и на митинге, как и остальные, всего лишь провозглашал все те же давнишние политические требования. На его речь я не обратил особого внимания – я же был фотографом, а не журналистом.
Фотографии, на которых я запечатлел эти политические события, имели большой успех и принесли хороший доход. Очень немногие фотографы имели смелость слиться с толпой демонстрантов, а часто и под градом пуль, ради нескольких снимков; поэтому мне удавалось сделать во многих отношениях уникальные фотографии, и, соответственно, они стоили дорого.
И хотя я заработал тогда немало денег, их покупательная способность стремительно уменьшалась изо дня в день. Тем, что мне вообще удавалось держаться на плаву, я обязан сделкам с иностранными заказчиками.
Я продал фотоателье за семьдесят тысяч марок (теоретически сумма была равна 3500 английским фунтам), и в то время мне казалось, что я выручил за него отличные деньги. Но когда мне выплатили первую половину суммы, я мог купить на нее только подержанную «зеркалку»; а к тому времени, как я получил остаток, его не хватило бы даже на полдюжины яиц!
На грани отчаяния я обратился к кинопроизводству, и еще с двумя энтузиастами мы основали кинокомпанию и сняли фильм, в котором задействовали актеров, хорошо известных мюнхенским зрителям. Это была комедия вроде американского бурлеска. По сюжету фильма некий парикмахер изобретает средство против облысения, обладающее невероятной силой. Лысые моментально обрастают гривой волос, доведенных гримерами до абсурда, безбородые в мгновение ока превращаются в натурального Барбароссу, но потом один из помощников портит препарат, в результате чего наступают «ужасные» комические последствия.
Это был наш первый, последний и единственный фильм. И мы с товарищами были рады, что отделались только стыдом!
Глава 2 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ФОТОГРАФИЯ ГИТЛЕРА
Следующие полтора года или около того мы не жили, а влачили жалкое существование. И хотя в нацистскую партию я вступил в апреле 1920 года, получив партийный билет за номером 427, – в то время мне казалось, что программа партии предлагает единственный возможный выход из хаоса и бедствий, охвативших мою родину, – личное общение с Гитлером началось лишь после того, как я получил телеграмму с текстом: «Немедленно вышлите фото Адольфа Гитлера платим сотню долларов».
Эта телеграмма из известного американского фотоагентства застала меня в Мюнхене 30 октября 1922 года, и щедрость предложения меня весьма удивила. За фотографию президента республики Эберта обычно платили 5 долларов, примерно столько же за другие выдающиеся фигуры, а за какого-то малоизвестного Гитлера они готовы выложить ни с чем не сообразную сумму!
Сотня долларов! Гонорар так гонорар! «Дитрих Эккарт – вот кто мне нужен, – подумал я, – наверняка он поможет мне связаться с Гитлером».
Я выразил свое изумление Дитриху Эккарту, главному редактору «Фёлькишер беобахтер» и моему доброму другу, который по случайности в то время находился рядом со мной. Эккарт был близко знаком с Гитлером, более того, он финансировал его политическое движение с выручки за перевод «Пер Гюнта» и отчислений от сборов за театральные пьесы, которые получал из Швейцарии.
В своей обычной грубоватой манере Эккарт сказал мне, что я могу выкинуть это из головы. Гитлер, пояснил он, никому не позволяет себя фотографировать.
– Если кому-то нужен снимок Гитлера, – медленно и многозначительно сказал он, – ему придется заплатить не сто и даже не тысячу, а тридцать тысяч долларов.
У меня мелькнула мысль, что мой друг слегка не в себе. Гитлер, сказал я ему, сейчас у всех на виду, и авторских прав на свои фотографии у него нет. Любой фотограф имеет полное право сфотографировать его, не заплатив ни гроша, потому что Гитлер стал публичной фигурой. Потом я прибавил, что вряд ли найдется такой дурак, который заплатит за его фотографию тридцать тысяч долларов.
– Я фотографировал императоров, королей и мировых знаменитостей, – продолжил я, – и никто не просил меня за это заплатить. Наоборот, платили мне – мне заплатил даже сам Карузо, которому никто не выставлял счетов. Ведь ты не станешь спорить, что Карузо будет познаменитее Гитлера!
Эккарт внимательно выслушал меня, а потом тихо и спокойно стал объяснять. Гитлер, сказал он, имеет серьезные основания для того, чтобы не разрешать себя фотографировать. Это один из множества ходов в той политической игре, которую он ведет, и то, что он прячется от фотографов, дает поразительные результаты. Все о нем слышали и читали, но никто еще не видел, как он выглядит. Люди заинтригованы, они сгорают от любопытства, вот почему они валом валят на его митинги. Приходят из любопытства, а уходят членами его движения. Ибо Гитлер, сказал он, обладает даром внушать каждому отдельному слушателю чувство, будто он обращается лично к нему. Эккарт уже успел оседлать любимого конька, и «граммофонная пластинка про Гитлера», как говаривали в нашем дружеском кругу, раскрутилась на полную скорость.
– Ты говоришь, не найдется такого дурака, который заплатит тридцать тысяч долларов за снимок Гитлера? Ну так я скажу тебе, что он уже отказался от двадцати тысяч!
Мне трудно было поверить, что кто-то не ухватился за такое предложение обеими руками. Но это только показывает, возразил мне Эккарт, как мало я понимаю Гитлера. Он настаивает на сумме в тридцать тысяч долларов за редкую, уникальную фотографию, чтобы иметь возможность продолжить формирование боевых отрядов, которые возьмут на себя задачу обеспечения безопасности и порядка на митингах; и в конце концов, тридцать тысяч не такие уж большие деньги, чтобы не уплатить их за эксклюзивные права на фотографию, которая будет опубликована во всем мире.
Эккарт показал на мюнхенский журнал «Симплиссимус», который по отношению к Гитлеру был настроен как угодно, только не дружелюбно, и тем не менее с точки зрения пропаганды оказал ему ценную услугу. Под заголовком «Как выглядит Гитлер?» журнал опубликовал серию карикатур, которыми имел претензию ответить на свой же собственный вопрос.
Я начал лихорадочно соображать. Если бы мне удалось «щелкнуть» Гитлера, тогда никто не смог бы оспорить мое право на предложенные двадцать тысяч долларов. Ну что ж, нет ничего невозможного. Во мне проснулись профессиональный азарт и решительность.
Эккарт обещал помалкивать о моем готовящемся фотографическом подвиге, но предупредил, что Гитлер знает все хитрости этого дела.
Мое фотоателье в доме 50 по Шеллингштрассе располагалось как раз напротив типографии Мюллера, где печаталась гитлеровская газета «Фёлькишер беобахтер», и Гитлер нередко наведывался туда в очень старой зеленой «сельве». Я стал его караулить. Меня охватил охотничий азарт, и я проводил в ожидании час за часом, день за днем.
Наконец, едва прошла неделя после моего разговора с Эккартом, я вдруг заметил, как машина, которую я дожидался с большим нетерпением, подъехала к конторе издательства. Может быть, Гитлер в редакции? Надо проверить. Проще пареной репы, подумал я про себя, и направился в контору «Фёлькишер беобахтер», чтобы узнать, нет ли там моего приятеля Эккарта. Войдя в редакцию, я увидел, что за столом сидит Гитлер и пишет. Отлично, вот и он. Я уже видел его пару раз и мог узнать его из сотни людей хотя бы только по его характерным усикам, тренчу и стеку, с которым он не расставался, будто с каким-то талисманом, и который теперь лежал рядом на столе. Он повернулся ко мне, и я спросил, нет ли здесь Эккарта.
– Нет, – ответил Гитлер. – Я тоже его жду.
Поблагодарив его, я сказал, что зайду попозже.
Я тут же побежал к себе в фотостудию за большим аппаратом фирмы «Нетель» 13 на 18. Оказавшись снова на улице, я не отрывал глаз от зеленой «сельвы». Смотреть там особенно было не на что, это была уже видавшая виды колымага, из задних сидений которой уже вылезала набивка из морских водорослей. Сзади нее остановилась повозка, и лошадь, приняв водоросли за сено, вытянула из сиденья добрую охапку набивки. Однако она тут же поняла, что это ей совсем не по вкусу, и принялась громко фыркать, пытаясь прочихаться от едкой трухи, которой были обильно пересыпаны водоросли. Тем временем шофер со скучающим видом сидел за рулем и совершенно не замечал, что происходит у него за спиной. Чтобы завести с ним разговор, мне пришлось выдать злосчастную лошадь.
– Эй, смотрите! Эй!.. Господин… У вас сзади старая лошадь, она пытается пообедать вашим задним сиденьем!
Шофер повернулся и обрушил на возницу поток ругательств на отборнейшем баварском диалекте, а я, как и надеялся, заручился его симпатией. По-дружески поболтав со мной, он с улыбкой согласился (за вознаграждение) не слишком торопиться, когда будет пора уезжать.
Проходил час за часом. Я снова и снова осматривал фотоаппарат, убеждаясь, что все в порядке, и это хоть как-то помогало мне справиться с нетерпением и убить время. Ожидание всегда нагоняло на меня жуткую тоску. Наконец-то – не прошло и года! – Гитлер вышел из редакции в сопровождении еще троих человек. Пришла пора действовать.
Щелк! Клацнул затвор. Ей-богу, получилось! И в следующий миг меня за запястья схватили не очень нежные руки. Трое сопровождающих накинулись на меня! Один из них схватил меня за горло, последовала яростная схватка за овладение фотокамерой, которую я желал сохранить любой ценой.
Но силы были слишком неравны. С мрачной яростью я смотрел, как телохранители вынимают и засвечивают пластинку. Снимок погиб.
– Это незаконное ограничение моей личной свободы, – закричал я, – грубое вмешательство в мою профессиональную деятельность!
Не удостоив меня ни словом, все трое вернулись к медленно проезжавшей машине, где уже сидел Гитлер, и запрыгнули в нее.
Я стоял там со съехавшим набок галстуком и сломанной камерой, а Адольф Гитлер лишь улыбнулся мне.
Какое фиаско!
Да, нелегко заработать двадцать тысяч долларов. Что там говорил Дитрих Эккарт? Что-то о том, что Гитлер знает все профессиональные трюки? С этим не поспоришь, видно, эти его трое молодцов хорошо натренированы в обращении с незваными фотографами!
После моей постыдной неудачи желание сфотографировать Гитлера превратилось у меня в навязчивую идею. Прошли месяцы, и как-то раз я заглянул к своему другу Герману Эссеру, входившему в ближний круг Гитлера. Эссер сказал мне, что собирается жениться.
Обязательно надо сделать ему свадебный подарок, подумал я. Но какой? Поразмыслив, я сказал Эссеру: вместо того чтобы дарить ему третий обеденный сервиз или пятое блюдо для торта, лучше я устрою ему свадебный обед за свой счет. Я сказал, что задам ему у себя на Шноррштрассе такой пир, что сам Лукулл остался бы доволен. Эссер в явном восторге от моего предложения сказал, что Декслер, основатель немецкой рабочей партии, из которой впоследствии родилась НСДАП, и сам Гитлер обещали быть свидетелями у него на бракосочетании. Сам Адольф Гитлер! «Сейчас или никогда!» – подумал я. Разумеется, в моем-то собственном доме я сумею сделать желанный снимок! Гитлер, как сказал мне Эккарт, в то время питал пристрастие к пирожным и всевозможным сладостям. Я заказал свадебный торт у знакомого кондитера, и он обещал мне сотворить истинный шедевр кондитерского искусства. С огоньком в глазах этот мастер своего дела сказал, что подготовит настоящий сюрприз.
Когда вместе с другими гостями прибыл Гитлер, он тут же узнал во мне неудачливого фотографа.
– Поверьте, мне очень жаль, что вам так грубо помешали, когда вы фотографировали, – сказал он, извиняясь, – надеюсь, сегодня у меня обязательно будет возможность более подробно объяснить вам суть дела.
Я изо всех сил постарался обратить все это в шутку и заверил его, что при моей профессии приходится быть постоянно готовым к инцидентам подобного рода. По выражению его лица я понял, что на самом деле он благодарен мне, что я не держу на него зла и вижу в произошедшем лишь забавный случай.
– Герр Гофман, мне было бы поистине мучительно сознавать, что воспоминание о вашей неудаче помешает вам веселиться и испортит сегодняшний праздник.
Обед прошел с размахом. Хотя Гитлер не притрагивался к спиртному, он нисколько не выбивался из общего веселого настроения и выказал себя обаятельным и остроумным собеседником. Тем не менее, когда его попросили выступить с речью, он отказался.
– Когда я говорю, мне нужны массы, – заявил он. – В тесном дружеском кругу я никогда не знаю, что сказать. Я только разочарую всех вас, а этого мне бы совсем не хотелось. Для семейного торжества я никудышный оратор.
После еды подали кофе и свадебный торт: великолепное сооружение в полметра высотой. Он же оказался и настоящим сюрпризом – в середине торта стоял марципановый Адольф Гитлер в окружении засахаренных роз! Я посмотрел на Гитлера поверх торта со смешанным чувством. Интересно, подумал я, как же отреагирует Гитлер на это сладкое подношение?
По его лицу я ничего не смог понять. С совершенно бесстрастной миной он взирал на свою копию в весьма заурядном исполнении, у которой только крошечные усики отдаленно напоминали прототип. Я, как мог, постарался прикрыть кондитера. Он не имел в виду ничего плохого, сказал я, и, если в дело вложено сердце, можно извинить посредственный результат. Гитлер понимающе улыбнулся.
– Послушайте, мы же не можем разрезать и съесть человека прямо у него на глазах, – прошептал Эссер.
Я постарался справиться с этой дилеммой.
– Прошу вас, угощайтесь, – беспечно сказал я, приглашающим жестом показав на торт, сбоку от которого лежал здоровенный нож.
Робко и очень осторожно гость за гостем отрезали себе по кусочку, изо всех сил стараясь не повредить марципановую фигурку.
После кофе мне показалось, что настало удобное время поближе сойтись с Гитлером и вернуться к теме фотографии; и в шуме общего разговора никто не заметил, что мы вдвоем удалились ко мне в кабинет.
Гитлер с очевидным интересом осмотрел медали и дипломы, которые я заработал своим фотографическим искусством: золотую медаль за достижения в искусстве фотографии, врученную мне Южногерманской ассоциацией фотографов, золотую медаль короля Швеции Густава, которой меня наградили на выставке в Мальме, большие серебряные медали Бугры, Лейпцига и прочие награды и знаки отличия.
На книжных полках стояли многочисленные книги по живописи, и Гитлер с удивлением замер перед ними.
– Когда-то я решил стать художником и одно время учился в академии у профессора Генриха Книрра, – объяснил я. – К сожалению, отец имел насчет меня другие планы и настоял, чтобы я выучился профессии фотографа и тем обеспечил себе возможность продолжить семейное дело. Мой старик говорил, лучше хороший фотограф, чем плохой художник.
– Мне тоже не суждено было стать художником, – печально улыбаясь, ответил Гитлер.
Какое-то время мы беседовали об искусстве, и, так как Гитлер все больше и больше увлекался, я набрался мужества, чтобы сменить тему разговора.
– Дитрих Эккарт недавно объяснил мне причины, по которым вы не хотите фотографироваться, – сказал я, – и в какой-то степени я их вполне понимаю. Но вы отклонили предложение на двадцать тысяч долларов, у меня это в голове не укладывается.
– Я в принципе никогда не принимаю предложений, – подчеркнуто возразил он. – Я предъявляю требования. И это, прошу заметить, тщательно продуманные требования. Не забывайте, мир очень велик. Задумайтесь, что значит для газетного концерна получить эксклюзивные права на опубликование моих фотографий в тысячах газет по всему миру, и вы поймете, что мое требование тридцати тысяч долларов – это сущий пустяк. Тот, кто сразу же принимает предложение, попросту теряет лицо, как говорят китайцы. – В его голосе послышались презрительные нотки. – Посмотрите на наших теперешних политиков, – продолжал он. – Они непрерывно находятся в состоянии компромисса, и в итоге когда-нибудь они все плохо кончат. Запомните мои слова – я сброшу с политической сцены всех этих продажных господ, любителей заключать пакты. Я…
Голос Гитлера загремел, словно он говорил с трибуны. Гул разговора, доносившийся до нас из соседней комнаты, внезапно смолк; гостям показалось, что мы с Гитлером ссоримся, да и меня этот неожиданный порыв порядком смутил. Должно быть, он заметил, что мне не по себе, поскольку перестал кричать и через минуту продолжал спокойным, самым обычным тоном:
– Я не могу сказать вам, когда разрешу себя фотографировать, но вот что я вам обещаю, герр Гофман, – когда это случится, вы получите разрешение на первые же снимки.
Гитлер протянул руку, и я крепко пожал ее.
– Однако вынужден просить вас, – прибавил он, – отныне воздерживаться от попыток сфотографировать меня без моего разрешения.
В эту минуту вошел посыльный и протянул мне отпечаток и фотопластинку. Дело в том, что еще раньше я тайком установил фотокамеру в подходящем месте и снял Гитлера. Я объяснил ему это и добавил, что дал своему помощнику указание сразу же проявить пластинку.
Гитлер вопросительно посмотрел сначала на отпечаток, потом на меня.
Я поднял пластинку к свету.
– Да, верно, это негатив. Взгляните сами, – сказал я.
– Недодержанный, – сказал Гитлер.
– Но достаточно хороший, чтобы вышел отличный отпечаток, то есть… был достаточно хорош…
С этими словами я разбил пластинку о край стола. Гитлер изумленно посмотрел на меня.
– Уговор дороже денег, – заверил я его. – И пока вы сами меня не попросите, я вас фотографировать не буду.
– Герр Гофман, вы мне нравитесь! Могу я к вам заглядывать почаще?
В его голосе звучала неподдельная искренность, и я от души ответил, что мои двери всегда для него открыты. Гитлер сдержал слово и с того дня стал частым гостем в нашем доме.
Мы с женой сразу же ощутили личную притягательность этого человека и абсолютную искренность его убеждений. Для меня с моим легкомыслием большее значение имела сама его личность, его обаятельные манеры, скромная наружность, привычка наслаждаться непритязательными удовольствиями и, быть может, больше всего его страстная преданность искусству и понимание его, в то время как моя более серьезная жена загорелась его политическими теориями и планами и очень скоро превратилась в горячего сторонника партии.
В 20-х годах важную роль в повседневной жизни Адольфа Гитлера играли кофейни – вероятно, эту привычку он приобрел во время долгого пребывания в Вене, где все вращается вокруг кафе.
В Мюнхене у него было три любимых заведения: кафе «Вайханд» неподалеку от Народного театра, чайная «Карлтон» на Бриннерштрассе, место встреч элиты, и кафе «Хек» на Галериенштрассе, облюбованное известными людьми из художественного мира.
Больше всего он любил ходить в кафе «Хек», устраивался там в уединенном уголке длинного, узкого зала (за ним был закреплен постоянный столик), откуда мог видеть все кафе, оставаясь в полной безопасности, поскольку за спиной у него никого не было.
Здесь он наслаждался артистической атмосферой. Он хотел стать художником, но пожертвовал этим стремлением ради своего предназначения, в котором был убежден, как и в том, что, если только он сумеет претворить в жизнь свои политические планы, они принесут спасение его стране; и ради этого ни одна жертва не казалась ему слишком большой. Поэтому кафе было для него оазисом, местом блаженного отдыха, где он на краткий миг скрывался от политических волнений. В личных отношениях с людьми он был довольно одинок, а потому с удовольствием откликался на частые приглашения посетить наш скромный, но вместе с тем очень уютный дом, где я собрал неплохую коллекцию картин, многие из которых подарили мне друзья-художники, где царила беззаботная богемная атмосфера и часто бывали гости из художественных кругов.
В те первые, ранние годы нашей дружбы с Гитлером моя жена, хоть и была горячей сторонницей его партийной политики, все же обижалась на меня, что я втягиваю его в нашу личную жизнь. Наша дочь взрослела, приближаясь к школьному возрасту, а наш сын Генрих, родившийся в 1916 году, быстро рос и вскоре должен был вступить в те лета, когда постоянное присутствие отца и общение с ним могло сыграть решающую роль в формировании его характера. Но я думаю, что ее раздражал не сам факт присутствия Гитлера в нашей личной жизни, а его совершенная нелогичность. Если б я был фанатичным приверженцем партии, она вполне бы меня поняла; но она чувствовала, что я разрушаю наш домашний уклад и, возможно, ставлю под угрозу собственную карьеру только ради того, чтобы потакать своему капризу и предаваться приятному общению с очередной родственной душой, которых, знает бог, уже было достаточно в числе наших друзей.
Что до меня, то я все это сознавал, хотя меня непреодолимо влекло к моему другу. Я знал, что он питает ко мне искренние чувства, и понимал, как он одинок и как важна была для него эта дружба, этот шанс оказаться в совершенно иной обстановке.
Мы собрали вокруг себя широкий круг друзей: художников, музыкантов, писателей, актеров, и они по-прежнему составляли центр нашего общения. Мы свободно давали – и посещали – приемы, но не в атмосфере показного расточительства, а беззаботного товарищества.
В 1923 году Гитлер стал очень активен. Каждый день росло число его приверженцев, политическое движение Гитлера начали принимать всерьез и бояться его.
Одной из самых выдающихся фигур в кругу его повседневного общения был капитан Рём, знавший Гитлера еще в бытность его офицером «политического просвещения», и фамильярно обращавшийся к нему на «ты». Как только вы привыкали и переставали обращать внимание на зловещие шрамы, обезображивавшие его лицо, – последствия полученного на войне тяжелого ранения, – Рём оказывался приятным и интересным собеседником.
В то время он подвергался сильным нападкам левацкой прессы по причине своей прискорбной слабости; однако для Гитлера это не имело никакого значения.
– У такого человека, как Рём, – сказал он мне, – долго прожившего в тропиках, эта болезнь – ибо я предпочитаю считать его пристрастие болезнью – заслуживает особого внимания. Рём с его связями в армии очень ценный человек для партии, и, пока он не болтает лишнего, его личная жизнь меня совершенно не интересует. Мне и в голову никогда не придет упрекать его или принимать к нему какие-то меры.
Другой заметной фигурой нашего круга был профессор Штемпфль, в прошлом иезуит и священник. Сначала Гитлер относился к нему подозрительно и думал, что он шпионит в пользу церковной партии. Но постепенно профессор заслужил полное его доверие, и, между прочим, именно он часто советовал Гитлеру проявлять умеренность.
27 января 1923 года я наблюдал, как сотни штурмовиков проходили строем по Марсову полю и получали из рук Гитлера четыре штандарта, которые он придумал сам. После парада колонны промаршировали по городу. Люди косо смотрели на них, зная, что они полностью преданы Гитлеру, но никто не смел бросить им вызов.
В последующие недели стало очевидно, что между правительством Баварии, коммунистами и Гитлером разгораются нешуточные страсти.
Весь апрель ходили настойчивые слухи о том, что коммунистическая партия намерена превратить традиционную первомайскую демонстрацию в государственный переворот и захватить власть. Гитлер, со своей стороны, был убежден, что коммунисты в первую очередь нападут на его штурмовиков и попытаются разгромить их. В связи с этим он тайно созвал в Мюнхен как можно больше сторонников со всей Баварии. Первого мая ситуация в городе достигла крайней точки накала. Правительство санкционировало массовый митинг и шествие красных на Терезиенвизе, знаменитой площади в центре Мюнхена и месте проведения ежегодного Октоберфеста, но только при условии, что все мероприятия не выйдут за пределы указанной площади. Тем временем гитлеровские части СА, вооруженные винтовками, легкими и тяжелыми пулеметами (полученными, по словам Рёма, от вермахта), стекались на Обервизенфельд, аэродром в ближайшем пригороде, который быстро приобретал сходство с огромным военным лагерем.
Очень скоро войско Гитлера тронулось в путь. Площадь с коммунистами окружили со всех сторон, и вооруженные отряды СА перекрыли все ведущие от нее улицы, ощетинясь винтовками и пулеметами, готовые открыть огонь в любой миг.
Я сам постоянно находился при Гитлере. Он держал стальную каску в руке за ремешок, и, как я ни старался уговорить его надеть ее, он только отмахивался. А какой бы вышел отличный кадр! Но никогда, ни разу в жизни, даже во время войны, Гитлер не надевал каски.
Он ожидал, что красных удастся спровоцировать на агрессивные действия; право слово, я нисколько не сомневаюсь, что он надеялся на это, поскольку его хорошо вооруженные, дисциплинированные части СА в два счета расправились бы с ними, и тогда партия могла бы захватить власть, проигнорировав правительство.
Однако ничего не происходило. К вящему неудовольствию Гитлера, красные, как видно, поняли слабость своего положения и старательно избегали любых провокационных действий. Гитлер отвел свои войска, и после ряда маневров за городом части постепенно разошлись. Хотя тот день напряженного кризиса закончился на ноте полного разочарования, он все же сыграл свою роль и оказался поучителен в качестве предварительной пробы сил.
Все лето и осень я сопровождал Гитлера в его поездках по стране, пока он вербовал сторонников, выступал с речами, организовывал партийные отделения и улаживал тысячу вопросов, которые ставило перед ним быстро расширявшееся движение.
В Нюрнберге во время «Дойчер таг» случилось так, что меня опередили, и Гитлеру пришлось окончательно и бесповоротно отказаться от своей мечты о тридцати тысячах долларов за первую фотосъемку.
Нацистские части проходили маршем, и Гитлер стоял среди офицеров, принимая парад, когда фотограф Ассошиэйтед пресс Паль преспокойно воспользовался удобным случаем и снял его.
Паль растворился в толпе, прежде чем личная охрана успела вмешаться. Наконец это случилось, и с мыслью о тридцати тысячах долларов было покончено.
Сразу же после того, как этот «взятый силой» снимок имел большой успех, Гитлер вызвал меня к себе.
– Гофман, – сказал он, – завтра я приеду в ваше мюнхенское фотоателье. Пора вам наконец-то меня сфотографировать.
В конце октября мы вернулись в Мюнхен, и 8 ноября мы с Гитлером сидели, как это часто бывало, в маленькой чайной на Гертнерплац. Он любил захаживать в это место, когда хотел отдохнуть от друзей. Мы говорили о всякой всячине, как вдруг Гитлеру захотелось навестить очень близкого друга – Эссера, который слег с желтухой. Мы пошли к нему вместе, но в доме Эссера Гитлер попросил меня подождать минуту в гостиной.
Пробыв недолго у Эссера, мы поехали на Шеллингштрассе, где находилась штаб-квартира СА, в том же доме, что и «Фёлькишер беобахтер». Там мы встретились с Герингом, который в то время командовал штурмовиками. Под мышкой он держал объемистый сверток, где, как я узнал позднее, были его каска, повязка со свастикой и пистолет. Гитлер еще раз отозвал Геринга в сторону и переговорил с ним, я не слышал о чем. К чему вся эта таинственность, подумал я и оставил их. Перед уходом я спросил Гитлера, что он собирается делать вечером, и он ответил, что будет занят очень важным делом.
Я отправился в кафе «Шеллинг-Салон» неподалеку от моего дома, где меня ждал Дитрих Эккарт, и мы по обыкновению сели за карты, сыграть партию в тарок. Оба мы не догадывались о том, что в этот самый миг полным ходом идет подготовка к путчу 9 ноября. Даже те, кому предстояло принять участие в путче, не знали точно, чего от них ждут.
В счастливом неведении я пошел домой, там меня застал телефонный звонок кондитера, приготовившего достопамятный свадебный торт с фигуркой Гитлера.
– В «Бюргербройкеллере» провозгласили нацистскую революцию, – сказал он. – Гитлер и Людендорф свергли социалистическое правительство Кара. Уже сформировано новое правительство, и в него вошли Кар, Лоссов и Зайссер.
– Не может быть! – недоверчиво возразил я. – Мы же были с Гитлером каких-то два часа назад.
– Как же, телеграмму с этой новостью уже печатают в «Мюнхнер нойесте нахрихтен», и штурмовики вместе с союзом «Оберланд» уже заняли все общественные здания.
Без дальнейших проволочек я побежал в обезлюдевший город, по улицам которого маршировали только колонны СА и части союза «Оберланд». Редакцию социал-демократической газеты «Мюнхнер пост» осаждали сотни людей, а ворвавшиеся внутрь громили печатные станки и прочее оборудование.
Впервые я начал понимать, о чем Гитлер шептался с Эссером и Герингом. Позднее я узнал, что Гитлер посетил Эссера затем, чтобы поручить ему организацию митинга в «Левенбройкеллере», который бы отвлек внимание от происходившего в «Бюргербройкеллере». Но о самом путче, как видно, он не сказал ни слова.
Когда около полуночи я вернулся домой, там меня дожидался Эссер. Сразу же после митинга в «Левенбройкеллере» он поспешил в «Бюргербройкеллер», и там его ждали самые удручающие вести.
– Все кончено… путч провалился! – воскликнул он, вскакивая с кресла, в котором сидел.
– Но, бога ради, какой путч?! Что произошло? Начните с самого начала, я ничего не знаю!
Эссер снова сел.
– Вы же, конечно, знаете, – произнес он уже более спокойным тоном, – что местные добровольцы сегодня вечером организовали встречу в «Бюргербройкеллере» и пригласили на нее членов правительства? Словом, когда все собрались, Гитлер внезапно занял зал с группой штурмовиков. Он выстрелил в потолок, призывая к тишине и вниманию, и сообщил изумленному собранию, что они с Людендорфом только что сформировали новое правительство и что сам Кар и несколько других членов бывшего правящего кабинета согласились в него войти.
– А потом?
– Потом Гитлер и Людендорф разрешили Кару, Лоссову и Зайссеру покинуть собрание, что было очень неразумно, и, как только эта троица оказалась на свободе, они тут же сделали все возможное, чтобы народ узнал, что они присоединились к Гитлеру под принуждением! Вокруг правительственных зданий уже протянули колючую проволоку, и регулярные войска удерживали в казармах большинство частей союза «Оберланд», – закончил Эссер.
Рано утром того знаменательного ноябрьского дня я вышел из дому с фотокамерой. День стоял пасмурный, и с точки зрения фотографа освещение было хуже некуда. На башне ратуши развевался флаг со свастикой, под ней нацистские агитаторы произносили речи перед восторженной толпой, которая, по всей видимости, и не подозревала о последних событиях.
Я прибыл как раз вовремя, чтобы увидеть, как арестовывают социалистов и коммунистов – членов совета, но очень скоро у меня вышел весь запас фотопластинок. Кто-то сказал мне, что в это самое время в «Бюргербройкеллере» обсуждается вопрос, не следует ли заручиться поддержкой народа, организовав мирную процессию в городе, и я поспешил домой за новыми пластинками, решив, что примерно часа мне хватит, чтобы вернуться в «Бюргербройкеллер».
Но когда на обратном пути я добрался до Фельдхерренхалле, мне рассказали об ужасной развязке. Небольшая безоружная колонна шла от «Бюргербройкеллера» до Фельдхерренхалле, где подразделение правительственных войск встретило ее градом пуль. Генерал Людендорф, шедший с Гитлером во главе колонны, уцелел каким-то чудом. Гитлер, видимо, бросился на землю при первом же залпе и потом исчез; но собственными глазами я успел увидеть только то, как с улицы убирают древесные опилки, пропитанные кровью четырнадцати погибших.
Я упустил шанс сделать исторический снимок, за который позднее Гитлер был бы мне особенно благодарен.
Кажется, Гитлер серьезно повредил плечо, и кто-то, скорее всего Христиан Вебер, сумел оттащить его в безопасное место. Потом он скрылся в Уффинге, верхнебаварской деревеньке. Однако очень скоро полиция обнаружила его, арестовала и отправила в Ландсбергскую крепость.
Художники, состоявшие в гитлеровском движении, собирались праздновать Рождество в кафе «Блюте» на Блютештрассе и решили представить живую картину «Адольф Гитлер в тюрьме».
Мне поручили найти подходящего двойника на роль Гитлера. Случайно я наткнулся на человека, поразительно на него похожего. Я спросил его, не хочет ли он принять участие в спектакле, и он согласился.
Большой зал кафе «Блюте» быстро заполнялся людьми. Когда поднялся занавес и на полутемной сцене показалась тюремная камера, установилась благоговейная тишина. За зарешеченным окошком падали снежинки, а за маленьким столом спиной к зрителям сидел человек, закрыв лицо руками. Невидимый хор мужских голосов запел «Тихая ночь, святая ночь».
Когда замер звук, крохотный ангел спустился в камеру, неся освещенную огнями рождественскую елочку, и осторожно поставил ее на стол рядом с одиноким человеком.
«Гитлер» медленно повернул голову лицом к зрителям. Многие решили, что это и в самом деле он, и в зале послышались всхлипы.
Зажегся свет, и повсюду вокруг себя я увидел мужчин и женщин с мокрыми глазами, которые поспешно прятали носовые платки. В тот же вечер человек, исполнявший роль Гитлера, вступил в партию. Его звали Ахенбах – это имя впоследствии прославилось в партийных кругах, так как он был специалистом по генеалогии и именно он организовал и стал руководителем бюро по изучению расовой чистоты.
26 февраля 1924 года Гитлера судили. Судебное заседание проходило в Мюнхене, в бывшей военной академии на Блютенбергштрассе. Все подходы к зданию, окруженному оградой с копьями, загораживала колючая проволока, и толпы полицейских в сине-зеленой униформе внимательно проверяли пропуска. Всех обыскивали, не прячет ли кто оружие, было совершенно очевидно, что власти опасаются, как бы сторонники Гитлера не попытались его освободить, и старались не оставить ни одной открытой щели. Мне самому удалось пробраться в зал, но при этом было сказано, что фотографировать запрещено.
Однако, несмотря на строгий запрет, я все же смог сделать одну групповую фотографию и сфотографировать зал скрытой камерой «Стирншен», изобретенной в начале века, на которую можно посмотреть в отделе фотографии Немецкого музея. Я спрятал аппарат под жилетом, а объектив вставил в пуговичную петлю. Из сделанных снимков приличного качества оказался только один, но хватило и его одного.
Гитлеру предъявили серьезное обвинение в государственной измене, закон карал такое преступление «смертной казнью или менее строгим наказанием по усмотрению суда». Но симпатия публики полностью была на стороне Гитлера, и взволнованные массы с большим облегчением встретили приговор суда, вынесший ему мягкое наказание в виде шести лет тюремного заключения.
Мне повезло быть среди тех, кому удалось получить разрешение посетить Гитлера в тюрьме. Но для этого пришлось пройти бесконечные формальности, прежде чем я оказался перед ним с большущей корзиной фруктов, которую принес для него и его товарищей по несчастью.
Гитлер явно пользовался большой симпатией тюремного начальства, ибо тюремщики охотно помогли мне донести тяжелую ношу по лабиринту коридоров и клеток, через которые надо было пройти. К сожалению, фотоаппарат пришлось оставить в караульном помещении, так как фотографировать было запрещено. Однако мне все же удалось тайно пронести с собой другую фотокамеру.
Я смог скрытно передать ее сообщнику среди тюремщиков, который сделал для меня фотографию и вернул мне камеру перед уходом из Ландсберга.
После ареста Гитлера партия разбилась на две фракции. Сторонниками Великогерманского народного сообщества были Эссер, Штрайхер, Динтер и Боулер, а во главе Народного блока встали Розенберг, Штрассер и Бутман.
По необходимости наш разговор был коротким и осторожным.
– Герр Гитлер, – спросил я, – какую из двух фракций вы признаете, когда выйдете на свободу?
– Никакую! – решительно ответил Гитлер. – Я рассчитываю на то, что, когда я выйду отсюда, все примкнут ко мне, все, кто понимает, что может быть только ОДИН вождь. И если это необходимо для партии, это вдвойне необходимо для государства.
Мне вспомнилось это посещение десять лет спустя, когда мы с Гитлером, тогда уже рейхсканцлером, вернулись в Ландсберг посмотреть на его камеру. Какой контраст! Гитлер велел послать за всеми, от начальника до охранников, чтобы принести им личную благодарность за внимательное отношение к нему за то время, пока он находился в крепости. Сама камера ничуть не изменилась. Но на столе, окруженный лавровым венком, лежал экземпляр «Майн кампф», и вся камера была завалена цветами.
Гитлер остановился у зарешеченного окна. Со взором, обращенным вдаль, он повернулся ко мне.
– Ну что ж, Гофман, можете без опаски сфотографировать меня в камере, – сказал он. И потом прибавил: – Именно здесь я написал «Майн кампф», даже тюремная решетка не в силах помешать судьбоносным мыслям проникнуть в разум и сердца людей.
За несколько дней до Рождества 1924 года ко мне зашел Адольф Мюллер, владелец мюнхенского издательства.
– Не хотите съездить со мной на пикничок? – спросил он. – В Ландсберг.
Конечно, я его понял. Он собирался посетить Гитлера. На всякий случай я взял с собой фотокамеру. Никогда не знаешь, вдруг повезет.
Я с удивлением увидел, что Мюллер не взял шофера, но сам сел за руль своего большого «даймлер-бенца». Пока мы усаживались в машину, он сказал, что собирается забрать Гитлера из тюрьмы!
– Мало кто знает точную дату и время, когда его отпустят, – прибавил он.
Да уж, это был настоящий сюрприз!
Давление общественного мнения было настолько велико и упорно, что правительство попросту было вынуждено освободить Гитлера через несколько месяцев.
– Как только Гитлер вернется, – сказал Мюллер по дороге, – наступят совсем другие времена. Интересно, что-то скажет Людендорф. Определенно ему не понравится, что его снова вынуждают уступить первое место!
Мюллер был туговат на ухо и, как все плохо слышащие, разговаривал очень громко.
– Интересно, за кого будет Гитлер, – раздумчиво сказал он, – за Великогерманское сообщество или за Народный блок?
Вскоре большой «даймлер-бенц» затормозил у Ландсбергской крепости. Я вышел из машины и подготовил фотокамеру. Потом я услышал скрежет – отворялись ворота. Мы присутствовали при историческом миге! Однако на самом деле ничего такого не случилось. Это оказался всего лишь привратник в униформе, который обратил мое внимание на то, что фотографировать категорически запрещено. Я возразил, что он превышает свои полномочия, которые заканчиваются за порогом крепости; на что он довольно спокойно ответил, что, если я проигнорирую его предупреждение, он конфискует мой фотоаппарат. Этого я уже вытерпеть не мог и потребовал начальника. Начальник разговаривал со мной вполне дружелюбно, но тем не менее твердо стоял на своем.
– Указание правительства, – сказал он. – Фотографировать, как Гитлер покидает крепость, запрещено.
Вот и все.
Я сердито вернулся к машине.
– Не везет мне с Гитлером! – закричал я на ухо Мюллеру. – Сначала он сам не давал себя фотографировать, теперь запрещают другие.
И я передал ему свою беседу с начальником.
В эту минуту Гитлер вышел из ворот. Коротко поздоровавшись, он быстро сел в машину, и мы поехали.
– Рад, что вы заехали, – сказал он, обернувшись ко мне, – теперь можете фотографировать меня беспрепятственно.
– Я этого не заметил, – возразил я и рассказал ему о нашей пикировке с тюремным начальством.
Мне представлялось, что очень важно сделать фотографию в ознаменование этого события в самом Ландсберге, а если этого нельзя сделать у крепости, то нужно сфотографировать Гитлера в другом месте поблизости. Я предложил остановиться у ворот старого города, где удастся в какой-то мере сохранить атмосферу крепости. Гитлер согласился, и я сделал несколько снимков.
В тот же день я отправил фотографии во всевозможные немецкие и иностранные газеты с подписью «Адольф Гитлер покидает Ландсбергскую крепость». Как я и ожидал, снимки опубликовали по всему миру. Но когда мне прислали экземпляры газет, я не мог удержаться от смеха. Ни одна газета не воспользовалась моей подписью. Вместо этого были: «Первый шаг к свободе», «Врата крепости раскрылись», «Вперед к новым свершениям», «Гитлер в раздумьях стоит у врат своей тюрьмы – каковы его планы?».
На самом же деле Гитлер сказал мне:
– Поехали, Гофман, а то толпа собирается. Да и, по правде сказать, здесь чертовски холодно!
Мы вернулись в машину, и я спросил его, что он собирается делать.
– Начну с самого начала, – решительно ответил он. – Первым делом мне нужно помещение для канцелярии. Вы что-нибудь понимаете в этом, Гофман?
Я сказал ему, что в доме 50 по Шеллингштрассе сдаются тридцать пустых комнат.
– Отлично! – весело ответил он. – Я займу двенадцать.
Гитлер, помимо прочего, был очень суеверен.
Когда Гитлер вышел из Ландсберга, он все свои наличные деньги – двести восемьдесят две рейхсмарки – оставил менее удачливым товарищам по заключению. Свою штаб-квартиру он устроил в моей бывшей фотостудии и без гроша в кармане приступил к задаче по перестройке партии. В то время он полагался на содействие членов партии, которые своими вкладами дали ему возможность арендовать и обставить двенадцать пустых комнат.
Одна из его самых горячих сторонниц, состоятельная представительница знаменитого аристократического семейства и жена уважаемого бизнесмена, взялась обустроить для него личный кабинет и обставила его своей мебелью, годами хранившейся на складе. Но побитая молью обивка нервировала Гитлера, и он не смог там работать и предпочел остаться в своей меблированной комнате на Тиршштрассе.
Единственную фотостудию в доме на Шеллингштрассе он велел переделать в памятный зал, где развесили спасенные флаги и знамена, включая «окровавленное знамя»; в будущем он хотел выгравировать имена погибших на двух больших мраморных стелах. Однако прежде чем он успел выполнить свой замысел, партия приобрела Барлог-хаус на Бриннерштрассе, который получил название «Коричневый дом».
Сначала Гитлер, кажется, был вполне искренен в своем намерении основать партию на демократических принципах, и приготовленная в Коричневом доме совещательная комната, рассчитанная на тридцать девять сенаторов, вполне доказывает искренность его намерений.
Каждый член партии внес свою скромную лепту в перестройку Коричневого дома, и эти лепты, приходившие со всех сторон, дали Гитлеру возможность спроектировать и обставить дом по собственному вкусу. Зал сената имел в длину около двадцати метров и сорока пяти в ширину; стулья, обтянутые красным сафьяном, расставили полукругом в два ряда, а их спинки красного дерева украшала величественная голова орла. По обе стороны от входа прикрепили два штандарта и две бронзовых мемориальных доски с именами тех, кто погиб 9 ноября 1923 года. Кроме того, комнату украшали бюсты Бисмарка и Дитриха Эккарта, который, выйдя из тюрьмы безнадежно больным, умер в Рождество 1923 года в Берхтесгадене. За дверьми зала сената стоял двойной почетный караул СА и СС.
Но зал так и не увидел ни одного заседания сената, который даже не был создан; позднее там обосновался помощник Гитлера Рудольф Гесс.
Гитлеру удалось придать своей партии уникальное и эффектное оформление. Гигантские свастики, коричневая форма, флаги и знамена революционно красного цвета, яркие, красочные плакаты, залы для приемов, украшенные букетами цветов и лозунгами, отпечатанными на огромных полосах ткани, – все это задумывалось с пропагандистскими целями и производило сильное впечатление.
Еще одним рассчитанным пропагандистским ходом было то, что для своей газеты «Фёлькишер беобахтер» он выбрал американский формат. Многие члены партии были недовольны этим форматом, считая его непривычным для немецкой газеты и неудобным. Однако это мнение нисколько не повлияло на Гитлера, который твердо решил, что необычность его газеты должна разорвать цепи обывательского самодовольства. Он сам придумал использовать в заголовке редкий антик в противоположность рубленому шрифту большинства других газет.
Мое дело процветало совершенно независимо от моей дружбы с Гитлером, и я вел отнюдь не сидячий образ жизни. Я получал приличный доход: одна только моя книга «Год революции в Баварии» принесла прибыль в полмиллиона марок – около 25 тысяч английских фунтов – правда, большая доля ушла на покрытие расходов и налоги, а инфляция съела остальное. Но мы выжили, и вскоре удача к нам вернулась. Сначала мы купили маленький «опель», потом «мерседес» побольше, а наша прислуга состояла из повара, горничной и шофера.
Моя работа в качестве газетного фотографа означала, что я не имею права рассиживаться на месте. Я уже снял на постоянной основе номер в берлинском отеле «Кайзерхоф», и постепенно мое занятие стало приобретать промышленную форму, хотя и в миниатюре. Один за другим я открывал филиалы в Берлине, Вене, Франкфурте, Гааге, пока наконец у меня не оказалось как минимум двенадцать студий и сотня с лишним работников, рассеянных по всей Европе.
В 1928 году меня чуть не сломило большое несчастье. В тот год Мюнхен поразила эпидемия смертоносного гриппа, и моя дорогая жена пала ее жертвой. Единственное счастье моей жизни ушло, и какое-то время я находился в полной прострации. Но меня очень поддерживало чувство ответственности за детей, напряженность исторических событий, в которых я принимал участие, и ощущение абсолютной незначительности отдельного человека, которое они внушали, и в конце концов моя жизнь вернулась на прежние рельсы.
Одним дождливым воскресеньем 1932 года мы с Гитлером сидели в кафе «Хек», как это было у нас заведено. Плохая погода действовала нам на нервы, и разговор не клеился; даже Гитлеру не удавалось сказать что-нибудь такое, что послужило бы началом оживленной беседы. Он предложил сходить в кино и попросил газету, но не нашел в афише ничего интересного и сердито ее отбросил. Потом, как-то внезапно, он обратился к шоферу.
– Сколько времени вам потребуется, – спросил он, – чтобы подготовиться к двухнедельной поездке?
– Я буду готов через час, – ответил Шрек.
Гитлер повернулся ко мне.
– Хотите поехать со мной? – коротко спросил он. – Вы определенно получите возможность сфотографировать кое-что интересное! Какой толк сидеть без дела. Я хочу власти, и я ее получу, – продолжал он, давая мне понять, что у него на уме и какова цель предполагаемого путешествия. – Первым делом нужно мобилизовать финансовые круги. Когда я закончу с этим, я буду в силах вывести Германию из нынешнего плачевного положения.
На следующий день мы выехали в Веймар, чтобы повидаться с Заукелем, гаулейтером Тюрингии, который организовал встречу Гитлера с тюрингскими промышленниками. Через неделю Гитлер изложил свою программу на собрании Ассоциации промышленников в Дюссельдорфе. Его обращение получило немедленный отклик. Шестьдесят пять тысяч марок составили неплохую основу; первый шаг к захвату власти был сделан.
А если бы в то воскресенье в Мюнхене не шел дождь или если бы Гитлер решил сходить на какой-нибудь фильм, кто знает, что могло бы случиться!
Глава 3 ФОТОГРАФИРОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО
Перед своим приходом к власти, когда Гитлер не находился в разъездах в связи с предвыборной кампанией, он неделями подряд оставался в Берлине, где устроил себе штаб-квартиру в отеле «Сан-Суси» на Линкштрассе, который пользовался популярностью у поместного дворянства и немецких националистов. Именно там он проводил все политические совещания.
Сам я поселился на четвертом этаже отеля «Кайзерхоф», и в конце года Гитлер тоже въехал туда, заняв весь второй этаж. Там его дни были наполнены обсуждениями и совещаниями с важными представителями политики, промышленности и вооруженных сил. Живя бок о бок с ним, я конечно же был в курсе всего происходящего и мог делать свои выводы. Однако в то время сложилась очень щекотливая политическая ситуация, и я по большей части помалкивал. Днем я видел, как Гитлер пьет чай в главном салоне отеля, по очереди приглашая к себе на чаепитие почти всех будущих министров и глав государственных ведомств. Меня тоже порой звали на чашку чая, если повод был менее официальным. Постоянно присутствовал Геббельс и вел подробный журнал всех совещаний, который потом лег в основу его книги «От «Кайзерхофа» до рейхсканцелярии».
По Берлину быстро распространилась весть, что будущая «твердая рука» Германии зарезервировала себе постоянный, можно сказать, собственный столик в углу большого салона «Кайзерхофа», и вскоре в просторном зале, обставленном в имперском стиле и обычно немноголюдном, по вечерам стало не протолкнуться.
Гитлеру очень нравился «Кайзерхоф». Тамошняя тихая музыка расслабляла и успокаивала его. Однако позднее Гитлер узнал, что какой-то жадный метрдотель придерживал столики поблизости от того места, где он сидел, для тех, кто готов был выложить кругленькую сумму за эту привилегию, и резко прекратил чаепития.
Незадолго до конца января я встретил его, когда он торопливо шел по коридору, направляясь к себе в апартаменты. Ухватив под руку, он повел меня с собой.
– Гофман, – обратился он ко мне с мягкой настойчивостью. – Сегодня вечером я ожидаю одного посетителя, чей приход кажется мне чрезвычайно благоприятным знаком. Ко мне придет начальник канцелярии президента по указанию самого Гинденбурга!
– Черт возьми, вот это здорово!
– Теперь слушайте внимательно! Это серьезно, крайне важно и крайне секретно. Никаких фотографий, никаких, – и держите язык за зубами!
В результате этого визита Гитлер через несколько дней встретился с президентом и заверил его, что способен преодолеть любые возражения и препятствия, которые старые друзья Гинденбурга вместе с политиками и военными властями наверняка постараются воздвигнуть у него на пути. Так был заложен фундамент, на котором основывалось решение 30 января.
– Пойдемте со мной, Гофман, и не забудьте свой фотоаппарат. Я не совсем уверен, но мне сдается, что у вас будет шанс увековечить событие исторического значения!
Так сказал Гитлер 30 января в вестибюле отеля «Кайзерхоф».
– Но не болтайте лишнего, – предостерег он.
– Раз я не знаю подробностей, я при всем желании не смогу много разболтать, – дерзко сказал я.
– Но вы неплохо угадываете, – возразил он.
Мы вместе поехали в президентский дворец, где Гитлер велел мне дожидаться в приемной, пока он меня не позовет.
– Я дам вам знать, когда вы понадобитесь, – уверил он меня и с этими словами ушел.
Чуть погодя он вышел из президентского кабинета, и я заметил, что он сильно взволнован. Увидев меня, он хлопнул себя рукой по лбу.
– Бог мой, Гофман! – с досадой воскликнул он. – Про вас-то я и забыл! Боюсь, теперь уже слишком поздно.
Мы вышли, сели в машину и поехали в гостиницу. Если Гитлер забыл про меня, подумал я, значит, что-то его действительно взволновало.
Неожиданно он повернулся ко мне.
– Все отлично, – сказал он. – Старик подписал!
Гитлер стал канцлером немецкого государства! И я был одним из первых, кто его поздравил.
В те дни чрезвычайного политического напряжения отель «Кайзерхоф» был средоточием событий, и его неизменно осаждали сотни людей. И тот эпохальный день, когда Гитлера назначили на должность канцлера, толпа, не подозревая о случившемся, встретила его прибытие обычными рукоплесканиями. Через несколько минут раздалось драматическое объявление: «Адольф Гитлер назначен рейхсканцлером Германии!»
Мне снова повезло оказаться в нужном месте в нужное время, и я снова выныривал то тут, то там, запечатлевая своей фотокамерой сцены этого исторического события.
Всеобщее ликование просто не поддавалось описанию. Подобно молнии весть облетела город, и за считаные минуты отель с радостными криками окружила огромная восторженная толпа. Вечером Гитлер отправился в рейхсканцелярию, чтобы принять парад – факельное шествие, организованное Геббельсом, в котором участвовали войска СА, СС и вермахта. Геббелье подготовил настоящий шедевр, и это поразительное и ошеломляющее проявление энтузиазма показало, что в искусстве пропаганды для него не осталось секретов.
– Этот маленький доктор, – сказал мне Гитлер, – настоящий волшебник. Как только ему удалось за какие-то несколько часов из воздуха сотворить тысячи факелов?
Один за другим Геринг, Геббельс, Фрик и Бломберг вставали рядом с Гитлером у небольшого окна рейхсканцелярии, так как там было недостаточно места, чтобы встать всем вместе. Шествие продолжалось несколько часов кряду, непрестанные крики «ура!» в честь нового рейхсканцлера и его соратников сотрясали воздух. Это зрелище произвело неизгладимое впечатление на иностранных дипломатов и журналистов, впечатление, которое они с точностью донесли до своих правительств и газет.
В окне президентского дворца, соседнем от рейхсканцелярии, виднелась фигура престарелого и седого президента Гинденбурга, его тоже приветствовали радостными возгласами, такими же сердечными и восторженными, и они явно тронули его до глубины души.
Гитлер относится к Гинденбургу с глубоким почтением. Он называл Гинденбурга отцом, другом и советчиком.
В последовавшие дни девизом Гитлера и его нового правительственного кабинета, как, впрочем, и моим, стало «полный вперед!». Конца не было просьбам что-нибудь сфотографировать: Гитлера в должности рейхсканцлера, потом всех новых министров, присягу чиновников старого рейха и канцелярии, и прочая, и прочая.
Кроме того, я получил привилегию быть единственным присутствующим при том, как Гитлер впервые выступил по радио в роли рейхсканцлера с обращением к немецкому народу и всему миру. Мне также позволили делать фотографии во время этой исторической радиопрограммы. Его желание поставить радио на службу пропаганде сбылось. Хотя он сам никогда не слушал радиопередач, он полностью отдавал себе отчет, какое значение имеет радио в политике.
Однажды, когда генерал Шляйхер должен был выступать с важной речью, Гитлер отказался слушать радио.
– Я не желаю, чтобы кто-то оказывал на меня влияние, – заявил он, – и по этой причине принципиально отказываюсь слушать какие бы то ни было политические речи по радио.
Этих принципов он придерживался неукоснительно и отказывался слушать даже речи иностранных государственных деятелей.
Текущие политические события потребовали коренным образом изменить и мои собственные дела. Мне пришлось переехать в столицу. В доме 10 по Кохштрассе я основал «Иллюстрированную прессу Гофмана», а чуть позже открыл фотоателье в отеле «Бристоль». Геббельс настаивал на том, чтобы я вошел в министерство пропаганды, но я с благодарностью отказался от его предложения. Я не испытывал желания занять государственный пост и был твердо намерен и дальше оставаться частным предпринимателем. Я стремился создать коллекцию своих фоторабот, которая представляла бы истинную историческую ценность.
Так или иначе, но в 1933 году я не имел ни малейшего намерения становиться работником какого бы то ни было министерства или получать приказы от кого бы то ни было. Моя дружба с Гитлером носила характер личной привязанности, такой я и хотел ее сохранить.
Мое равнодушие к политике, власти или высокому положению, упорные отказы занять какую-либо должность в партии и мое искреннее желание сохранить чисто личные отношения с Гитлером позволили ему не просто поддерживать нашу дружбу, но и полностью доверять человеку, который, как ему было прекрасно известно, не преследовал никаких своекорыстных целей и всегда говорил с ним откровенно и свободно в меру своих ограниченных способностей. В одном я совершенно уверен: мы никогда не стали бы близкими друзьями, если бы я согласился на какой-нибудь пост под эгидой партии. Как мне кажется, он тоже придавал важность нашим личным отношениям и желал, чтобы я продолжал обращаться к нему «герр Гитлер», а не «господин рейхсканцлер» или «мой фюрер».
Сразу же после прихода Гитлера к власти Геббельс в узком кругу сотрудников Гитлера объявил, что к Гитлеру следует обращаться «господин рейхсканцлер», так как это соответствует его новому статусу. Я спросил у Гитлера, как мне следует отныне к нему обращаться.
– Для вас, Гофман, – сказал он, положив руку на мое плечо, – я всегда останусь просто герром Гитлером.
На мою работу эта дружба тоже никак не влияла. Я был и остался газетным фотографом и продолжал рассылать свои снимки во все иностранные издания, которые были готовы их напечатать, независимо от их принадлежности к левым, правым или центристским политическим движениям. Конечно, после 1933 года на родине мои фотографии публиковали исключительно нацистские газеты, ибо партия взяла под полный контроль всю печать в стране и других газет просто не было.
Одной из акций Геббельса, которая отнюдь не была единодушно одобряемой и вызвала в партийных кругах самую резкую критику, было знаменитое сожжение книг на берлинской площади.
Я без колебаний и вполне откровенно сказал Гитлеру, что я об этом думаю.
– Такие вещи, – сказал я, – попросту дискредитируют рейх и партию, особенно когда происходят огульно, без разбора, а все, чего можно ими добиться, – это дешевая популярность у толпы и черни. Многие сожженные книги действительно ничего не стоили, но там было и много трудов, имеющих солидную репутацию во всем мире. Да ведь жгут даже словари, только потому, что их составляли евреи!
Тем не менее Геббельсу удалось настоять на своем.
– Люди должны сами увидеть, что это настоящая революция, хотя она и была бескровной, – заявил он.
Сожжение книг стало символическим актом. Но поджог Рейхстага был актом вандализма, которому суждено было стать сигналом!
26 января 1933 года мы с Гитлером приняли приглашение отобедать с Геббельсом на Рейхсканцлерплац. Из уважения к Гитлеру мяса не готовили. Однако, помимо вегетарианских блюд, подали рыбу; но, когда Гитлеру предложили крупного карпа, он отказался.
– Я думала, вы едите рыбу, мой фюрер, – сказала фрау Геббельс. – Рыба – это же не мясо.
Гитлер улыбнулся не без сарказма.
– Значит, по вашему мнению, дорогая сударыня, рыба – это овощ!
Телефонный звонок прервал фривольную беседу. Геббельс лично снял трубку, и я помню этот разговор, как если бы он происходил вчера.
– Геббельс у телефона, кто это? А, здравствуйте, Ганфштенгль! В чем дело?.. Что?! Ушам не верю! Секунду, я передам трубку фюреру!
– Алло, Ганфштенгль, что случилось?.. Ай, да ну вас! – Кажется, Гитлер от души забавляется. – Вам что, мерещится, или вы перепили виски? Что? Вам видно пламя из вашей комнаты?
Гитлер обернулся к нам:
– Ганфштенгль говорит, что в здании Рейхстага пожар. Кажется, это точно.
Мы посмотрели в окно и увидели, что небо над Тиргартеном действительно окрасилось кроваво-красным заревом.
– Это коммунисты! – вдруг свирепо выкрикнул Гитлер и с силой бросил трубку на рычаг. – Мы с ними окончательно разберемся! Я должен ехать немедленно! Теперь они у меня в руках!
Гитлер вместе с Геббельсом отправились к месту пожара. Я сразу же позвонил к себе в контору, и мне сказали, что один из моих репортеров уже отправился к Рейхстагу; этого было достаточно. Я решил, что туда съедутся все берлинские фотографы, поэтому лично мне там особенно делать нечего. Я спокойно остался на своем месте с фрау Геббельс и с удовольствием доел рыбу. Потом я неторопливо направился к Рейхстагу, и к тому времени, как я до него добрался, пожарным командам уже удалось взять пламя под контроль. Геринг допрашивал «подозреваемого», а Гитлер находился внутри здания, осматривая ущерб.
– Слава богу, отделались от этой развалюхи, – презрительно бросил он мне.
В полночь я проводил Гитлера в редакцию «Фёлькишер беобахтер». В кабинетах было пусто. Единственный автор передовиц, оказавшийся на месте, сидел в корректорской. Когда Гитлер вошел, он на скорую руку набрасывал статью о пожаре, чтобы поместить ее на странице местных новостей. Гитлер рассвирепел.
– Такое событие должно идти на первой полосе! – гневно крикнул он. – Неужели ваше журналистское чутье вам этого не сказало?
Главного редактора вытащили из постели и обругали, не стесняясь в выражениях.
Гитлер швырнул шинель и фуражку на стул, быстро подошел к письменному столу и набросал передовицу под самым что ни на есть провокационным заголовком: «Коммунисты поджигают Рейхстаг».
Только ранним утром, увидев сходящие с пресса первые экземпляры дневного выпуска, Гитлер покинул типографию. На следующий день «Фёлькишер беобахтер» предсказала решительные действия против коммунистов в статье, помещенной на первой полосе на самом видном месте.
Поджог Рейхстага, как хорошо известно, привел к роспуску Немецкой коммунистической партии; ее вождей арестовали, а дом, где находилась их штаб-квартира, Либкнехтхаус, конфисковали.
Через год, в апреле 1934 года, я женился во второй раз. Я познакомился с Эрной Горебке еще в декабре 1929 года в кафе «Остерия Бавария», излюбленном месте мюнхенских артистов, которое вскоре после этого прославилось как одно из любимых заведений Гитлера. В Эрне, дочери Адольфа Горебке, ведущего оперного тенора своего времени, и столь же известной венской актрисы, я нашел родственную душу, большую поклонницу искусства и музыки, любительницу богемы, для которой театральная суета была дыханием жизни, и просто женщину, которая пришлась мне по сердцу. Мы поддерживали связь и встречались настолько часто, насколько позволяла лихорадочная жизнь, которую я вел. Наша дружба зрела с каждой встречей, и в 1934 году Эрна согласилась стать моей женой.
Политикой она интересовалась еще меньше меня, если такое вообще возможно.
– Послушай, – первым делом сказала она мне после свадьбы, – только потому, что мы поженились, не думай, что ты сделаешь из меня члена партии или национал-социалистку. Ничего подобного!
И ни тогда, ни потом она не испытывала ни малейшего интереса к политике и не вступала в партию.
Для нее Гитлер был другом ее мужа и человеком с любезным обхождением, которое она находила приятным и притягательным. Она любила бывать в его обществе и всегда охотно беседовала с ним о живописи, музыке и гуманитарных предметах, но отказывалась иметь что-либо общее с его политической деятельностью. Гитлер устроил прием в честь нашего бракосочетания у себя в доме на Принцрегентштрассе, но провести медовый месяц в Париже, как мы планировали, нам помешали.
С женами главных нацистов моя жена была вежлива в рамках принятых в обществе условностей, но никак не пыталась сблизиться с кем-то из них. Единственным исключением были профессор Морелль с супругой, которые всегда были нашими большими и близкими друзьями.
Конечно, нас часто приглашали на официальные приемы, и там Эрна опять же вела себя так, как от нее требовалось, но не более того. В артистическом кругу наших мюнхенских друзей, где я проводил каждую свободную минуту, которую мог урвать, она бывала с удовольствием и радостью. Больше всего она интересовалась театром и классической музыкой, но время от времени снисходила до того, чтобы сходить со мной на какую-нибудь музыкальную комедию, которые куда больше отвечали моим вкусам.
17 июня 1934 года мы с Эрной поехали в Париж, чтобы провести там наш отложенный медовый месяц. Берлин, директор завода «Мерседес-бенц», ждал меня во французской столице, где я должен был сфотографировать рекордный автомобиль его выпуска, который 21 июля участвовал в гонке на Гран-при.
За день до гонки, в ту минуту, когда мы выходили из театра, до нас донеслись взбудораженные выкрики газетчиков. Люди толпой бросились покупать газеты, на первой полосе которых горел сенсационный заголовок: «Попытка путча в Германии провалилась! Рём и еще шестеро глав СА расстреляны!»
При свете уличного фонаря мы стояли и читали ошеломительные новости. Рём, один из самых доверенных помощников Гитлера, оказался предателем? Я не мог в это поверить – я слишком хорошо его знал. Что же могло произойти?
Вдруг я вспомнил последние слова, сказанные мне Гитлером перед отъездом в Париж: «Что ж, если какая-то дурацкая автогонка для вас важнее уникального события, которое войдет в историю, – скатертью дорога!»
Перед самым отъездом он пригласил меня вместе с ним проинспектировать прирейнские трудовые лагеря, и мой отказ в какой-то мере выбил его из равновесия. Обычно я считал приглашение от Гитлера за своего рода приказ, но в тот раз на первом месте для меня оказалось данное жене обещание, и вместо лагерей мы поехали в Париж.
Стоя на парижской улице с газетой в руке, я вспомнил об этих последних словах Гитлера. «Уникальное событие», сказал он. Может быть, он уже в то время знал о деталях предполагаемого путча? Неужели Рём действительно хотел свергнуть Гитлера? В газете говорилось именно так. Но это никак не могло быть правдой. Единственное, чего хотел Рём, как я точно знал из многочисленных разговоров с ним, это преобразовать СА в огромную добровольческую армию, которой не обладала ни одна другая страна. В этом он полностью расходился с Герингом и Гиммлером, которые видели в нем самого грозного своего противника, человека, за которым стояли тысячи штурмовиков, уже смотревших на себя как на вооруженные силы страны; а кроме того, Рём имел то преимущество, что, в отличие от них, был с Гитлером на короткой ноге. Что бы там ни произошло за кулисами, это навечно останется тайной.
Нам пришлось прервать свадебное путешествие и немедленно вернуться в Германию. Я поспешил к Гитлеру. Казалось, он был глубоко тронут этим.
– Подумать только, Гофман, – сказал он с чувством, сжимая мою руку, – эти свиньи убили моего доброго отца Штемпфля!
Позднее я подступил к Гитлеру с вопросами о том, что произошло, но он оборвал меня резким жестом.
– Ни слова больше, – сказал он повелительным тоном, и на протяжении всех последующих лет мы никогда об этом не говорили.
Вскоре Геббельс издал приказ о том, что все работники публичных фотоагентств должны носить особую нашивку на рукаве. Этот заметный значок в виде жестяного щита предназначался для того, чтобы неуполномоченные лица не могли выдавать себя за фоторепортеров. Геббельс обратился ко мне с вежливым указанием, чтобы я тоже надел этот официальный знак: поскольку я не был служащим ни партии, ни государства, он надеялся таким способом получить надо мной хоть какую-то власть. Но я категорически отказался принимать его условия.
– Я постоянно нахожусь рядом с Гитлером, – резко сказал я ему, – и фотографирую только те мероприятия, на которых он присутствует. Во всех других случаях этим занимаются четверо моих ассистентов, причем все они носят вашу нашивку. Я вам не номер такой-то – я Генрих Гофман.
В канун Рождества я помогал жене наряжать елку, когда посыльный принес нам громадный букет роз для жены и небольшой сверток для меня с «наилучшими пожеланиями от доктора Йозефа Геббельса». «Подарок от Геббельса! Что бы это могло значить?» – подумал я. Сгорая от любопытства, я развернул сверток и нашел там огненно-красную нашивку с большой цифрой 1, изображенной на металлическом щитке. «Мой дорогой профессор, – говорилось в приложенном письме, – разрешите мне пожелать вам и вашей супруге веселого Рождества и счастливого Нового года от себя лично и от имени моей жены. Убежден, что посылаемый мною Почетный знак № 1 доставит вам, нашему главному и знаменитейшему фотографу, большое удовольствие…» Дальше я не стал читать. Вот как, значит, старый лис решил обойти меня с другой стороны? Что же, придется его разочаровать! Право, я так страшно рассердился, что швырнул нашивку прямо в елку. Через несколько минут приехал Гитлер со своим обычным визитом, как приезжал в каждый сочельник. Само Рождество мы всегда проводили наедине с семьей, и, хотя я не однажды приглашал его отметить праздник вместе с нами, он всегда отказывался, говоря: «Рождество – семейный праздник, я никому не намерен навязывать свое общество».
Прежде чем сесть за ужин, мы полюбовались на столик с подарками. Гитлер отведал домашнего рождественского печенья и покормил наших собак. Увидев на ели незанятое место, он повесил туда сверкающий блестками шар. И тут заметил красную нашивку.
– Что это? – изумленно спросил он.
– Сюрприз от доктора Геббельса, – отозвался я.
Мною снова овладело возмущение, и я молча протянул ему письмо.
– Успокойтесь, Гофман, – утешительно сказал Гитлер. – Не омрачайте себе Рождество такими пустяками! Я буду вашим почетным знаком!
После того как Гитлер пришел к власти, Берлин, разумеется, стал центром политической деятельности партии, и туда со всего мира приезжали политики, надеясь встретиться с Гитлером. Среди многих, кто позировал перед моей фотокамерой, позвольте упомянуть лишь нескольких: Жан Гуа, бывший президент французского Национального союза бывших фронтовиков, маркиз Лотиан из либеральной партии, лорд Аллен Хертвуд из партии лейбористов, Иден и Саймон. Когда приехали Иден и Саймон, меня представили им, мы пожали руки и обменялись несколькими дружескими репликами, и во время последовавшего разговора по указанию Гитлера я сделал несколько фотографий. 15 июня 1935 года я сфотографировал делегацию Британского легиона под командованием майора Фезерстоуна Годли в саду рейхсканцелярии; 16 февраля я снял заместителя госсекретаря США Уильяма Филипса, а еще в том же месяце лорда Лондондерри и полковника Линдберга. В моих папках есть фотография Линдберга, первого покорителя воздушного океана, где он стоит рядом с Герингом у свяоего самолета. Геринг очень уважал Линдберга и с гордостью показал ему свою коллекцию живописи.
Многие из важных гостей были моими старыми знакомыми, и, хотя я, конечно, не участвовал в совещаниях, они неизменно были любезны и привечали меня добрым словом. Особенно приятные воспоминания я сохранил об Уильяме Филипсе, заместителе госсекретаря США, который постоянно приветствовал меня словами вроде: «Как поживаете, герр Гофман? Рад вас видеть. Хотите сделать еще несколько замечательных фотографий? Пожалуйста, и не забудьте прислать мне несколько копий».
И несколько раз, когда вновь прибывший стоял перед моим объективом, Гитлер подчеркивал, представляя меня: «Вы же слышали о великом Гофмане! Вот он, перед вами, собственной персоной».
Особенно много гостей приезжало из Франции. Между 1936 и 1938 годами, среди прочих знаменитостей, Гитлера посетили Лабейрами, директор Французского банка, Бастид, министр торговли, и генерал Веймен, главнокомандующий французскими военно-воздушными силами. А в 1936 году во время Олимпийских игр своим визитом нас удостоил даже лорд Венситтарт, который отнюдь не питал к Германии теплых чувств.
Особо значительным событием был приезд Ллойд Джорджа. Я сфотографировал этого чрезвычайно популярного британского деятеля в Мюнхене, когда в окружении почетной гвардии СС он возлагал венок на памятник Неизвестному Солдату и стоял перед Музеем войны, который впоследствии был разрушен во время бомбардировок.
На следующий день Гитлер пригласил его в Оберзальцберг, а после того, как между ними состоялся долгий разговор, я получил возможность сделать еще несколько фотографий. Ллойд Джордж откланялся явно под глубоким впечатлением от Гитлера. Когда я провожал его к гардеробной, мне удалось обменяться с ним несколькими словами. Я сказал ему, что лет тридцать назад имел честь сфотографировать его в поместье недалеко от Лондона. Он вспомнил этот случай, казалось, ему было очень приятно, что я о нем упомянул. Уезжая, знаменитый старик похлопал меня по плечу и сказал: «Благодарите бога, что у вас такой замечательный фюрер».
Гитлер проводил своего гостя до автомобиля, и, когда тот уехал, он не смог скрыть восторга от его посещения.
– Познакомиться с этим прославленным государственным деятелем Великобритании, – сказал он, – великая честь для меня.
Потом он повторил фразу, сказанную им еще 1925-м:
– Я не желаю, чтобы хоть одна жемчужина выпала из короны Британской империи. Для Европы это будет несчастьем!
Визит герцога Виндзорского с супругой в 1937 году вызвал интерес во всем мире. Для нас он тоже оказался сенсацией.
С первой минуты после прибытия герцог производил впечатление совершенно довольного и дружелюбного человека. Гитлер и бывший английский король имели долгий разговор наедине в Большом зале, а герцогиня осталась на террасе, где восхищалась видом на окрестности и болтала со мной.
Под действием ее личного обаяния я совсем забыл, как она была одета; у меня в памяти сохранилось лишь впечатление гармонии и чувства собственного достоинства, которое оставила у меня спокойная элегантность ее одежды.
Гитлер лично проводил своих гостей до машины; тем вечером у камина все разговоры, разумеется, крутились вокруг виндзорской четы.
– В сотрудничестве с этим человеком, – заявил Гитлер, – я мог исполнить свое желание о союзе с Британией, которое лелею уже давно.
Кажется, это впечатление было взаимным, ибо вскоре он получил следующее письмо:
«Фюреру и рейхсканцлеру Германии.
Перед отъездом из Германии мы с герцогиней пользуемся возможностью выразить нашу искреннюю благодарность как за гостеприимство, которое вы столь любезно нам оказали, так и за предоставленную вами возможность увидеть все, что вы делаете для процветания трудолюбивого немецкого народа.
Особенно хотим поблагодарить вас за восхитительные часы, проведенные с вами в Оберзальцберге.
Эдуард».
В 1937 году я также имел огромное удовольствие снова приехать в Англию – на коронацию его величества короля Георга VI. Излишне было бы в очередной раз описывать это эпохальное событие, и я ограничусь тем, что вкратце расскажу о том, что делал сам и что делало немецкое посольство, где я остановился в качестве гостя.
Для Риббентропа и посольства коронация представляла наиважнейшее значение, они не жалели ни сил, ни средств не только для того, чтобы подготовить поистине королевский прием для множества ожидаемых гостей, но и для того, чтобы принять их в обстановке всего лучшего, чем обладал Третий рейх. Самый ценный вклад в это внесла фрау Риббентроп, женщина безупречного художественного вкуса, тонко понимающая искусство, и благодаря ее трудам в посольстве была собрана и выставлена, можно сказать, уникальная коллекция произведений немецкой живописи.
Интересно, что среди гостей посольства не присутствовало ни одного ведущего члена немецкого правительства. Мне неизвестно, то ли сам Риббентроп их не пригласил, то ли они не приняли приглашения, но в большинстве своем гостями посольства были знаменитые личности в основном из творческих сфер.
Я сделал несколько сотен цветных фотографий и собирался поступить, как обычно поступал в таких эпохальных случаях, то есть издать их в форме книги. Однако этому помешало яростное соперничество между двумя немецкими министерствами – пропаганды и иностранных дел, так как оба они претендовали на право использовать мои фотографии и опубликовать их в качестве официального министерского издания. Я категорически отверг их требования, и в итоге, хотя многие фотографии появились в печати по отдельности, коллекция целиком так и не была опубликована.
Глава 4 НАШИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ
Гитлер всегда держал наготове кучу сюрпризов не только для внешнего мира, но и для своего непосредственного окружения. Он был мастером искусства скрывать истинные намерения и никому не раскрывал своих планов, кроме тех, без кого их невозможно было выполнить. И горе тому, кто не мог сдержать наложенный на него обет молчания!
Эта привычка не ограничивалась одними официальными делами. В личной жизни он обожал устраивать сюрпризы и смотреть на изумленные лица зрителей. В данном случае речь идет о присвоении мне профессорского звания. По случаю открытия первой выставки в Доме немецкого искусства в 1937 году Геббельс объявил, что фюрер счастлив присвоить мне звание профессора. Я понятия не имел о том, что это случится, и, видимо, Гитлер строго-настрого приказал Геббельсу ничего мне не говорить раньше времени.
Из-за этого всевозможным секретным службам иностранных государств приходилось туго в «эпоху свершившихся фактов», как говаривал Гитлер. Всякий раз, когда Гитлер появлялся в рейхстаге и говорил, что наконец время неожиданностей окончилось, можно было не сомневаться, что опять готовится какой-то сюрприз!
Однажды в марте 1937 года Гитлер пригласил меня отобедать с ним в рейхсканцелярии.
– Не уверен, что у меня получится, герр Гитлер, – сказал я. – Доктор Геббельс уже попросил меня прийти на какую-то важную встречу с прессой в министерстве пропаганды.
– На важную встречу? Чепуха, друг мой. Не ходите вы к Геббельсу умирать со скуки – приходите лучше ко мне, поверьте, вы не пожалеете!
На лице Гитлера появилось то выражение, которое я хорошо знал, оно означало, что он тайком радуется какой-то своей шутке. Я подумал, что получу новость из первых рук, так что плюнул на встречу с прессой и вместо этого пошел обедать с Гитлером.
А тем временем в министерство пропаганды явились редакторы и фоторепортеры ведущих немецких газет.
– Господа, фюрер поручил мне собрать вас здесь и рассказать вам о предстоящей акции, в которой вы должны принять участие, – загадочно начал Геббельс. – Поскольку сам фюрер решил представить это германскому народу как свершившийся факт, чрезвычайно важно, чтобы то, что я собираюсь вам рассказать, оставалось в полной тайне, – продолжал он, обводя взглядом круг заинтригованных редакторов и журналистов. – Я уверен, что вы поймете причины, которые заставляют меня запретить вам на этот вечер любые контакты с внешним миром и запереть все двери министерства. Телефоны отключены. Если кому-то из вас понадобится что-либо для поездки, которую мы предлагаем вам совершить, вам нужно только сказать об этом мне, и министерство предпримет все необходимые шаги, чтобы удовлетворить ваши потребности.
Журналисты высказывали множество догадок, но никому не удалось ни на йоту подобраться к правде. Когда представители прессы вошли в ожидавший их самолет и взлетели, направление полета тоже никак не помогло им догадаться. Даже пилот не знал, куда летит! Он должен был лететь в определенном направлении и только через определенное время открыть запечатанный конверт с указаниями и следовать им.
На следующий день я присутствовал в рейхстаге и слушал выступление Гитлера, в котором он драматически объявил парламенту:
– В то самое время, как я говорю с вами, господа, немецкие войска переходят Рейн и овладевают оккупированной рейнской территорией!
И действительно, когда самолеты приземлились на другом берегу Рейна, журналистам сообщили, что немецкие войска перешли реку и в этот самый час занимают свои старые гарнизоны!
После того как армия заняла Рейнскую землю, Гитлер сказал мне:
– Две ночи я не смыкал глаз! Я снова и снова задавал себе один тот же вопрос: как поступит Франция? Будет ли она сопротивляться горстке моих батальонов? Я знаю, что бы я сделал на месте французов; я бы ударил по врагу и не дал бы ни одному немецкому солдату перейти Рейн. Все это оказалось возможным только в условиях строжайшей секретности. Геббельс хорошо постарался. То, что мы устроили миру еще один сюрприз, – это полностью его заслуга!
– Через несколько дней я еду в Мюнхен, – сказал мне Гитлер в Берлине в начале марта 1938 года.
Когда мы приехали в Мюнхен и, как обычно, зашли в кафе «Хек», он вдруг повернулся ко мне и сказал:
– Гофман, у меня небольшое совещание в Мюльдорфе. Хотите поехать со мной? Я рассчитываю вернуться в Мюнхен к вечеру, но на всякий случай возьмите с собой все, что вам понадобится, если придется заночевать. Но в первую очередь не забудьте взять вашу «лейку»!
В Мюльдорфе, что неподалеку от австрийской границы, Гитлер прямиком направился в деревенскую школу, где его встретили несколько генералов. Я заметил разложенные на столах крупномасштабные карты Генштаба. Что же планируется? Маневры? В такое-то время года? Конечно, я слышал о том, что войска концентрируются у границы, чтобы заставить австрийское правительство задуматься о серьезности положения; но в то же время я слышал и о том, что все это не более чем блеф.
Гитлер вышел из школы в приподнятом настроении.
– Господа, – сказал он, – не хотели бы вы проехаться со мной в Зимбах? Это всего лишь в нескольких километрах отсюда, а мне бы очень хотелось посмотреть на Браунау, место, где я родился, это на другом берегу Инна.
По дороге в Зимбах стало очевидно, что Гитлера там ждали. Повсюду развевались флаги и транспаранты с лозунгами, рабочие трудились в поте лица, чтобы закончить украшение улиц и домов.
Наше прибытие встретили громкими приветственными криками. Внезапно Гитлер поднялся в машине и выпрямился по стойке «смирно».
– Итак, через мост и на Браунау!
На середине моста, у австро-германской границы, стоял в ожидании немецкий офицер. Машину окружили дети в нарядной одежде и задарили фюрера букетами цветов. Только тогда мы поняли то, что уже знали зимбахские жители, – мы едем в Австрию! Гитлер обернулся и весело рассмеялся, глядя на наши удивленные лица. Ему удался еще один сюрприз! Браунау был охвачен волнением. Именно тогда мы впервые услышали, что за несколько часов до того немецкие войска перешли границу, и везде народ встречал их с невероятным воодушевлением. Мы ума не могли приложить, откуда у местных жителей взялось столько флагов со свастикой, фотографий Гитлера и транспарантов с лозунгами, ведь все они были запрещены в Австрии под страхом сурового наказания. Встав на подножку автомобиля, я стал фотографировать энтузиазм толпы на свою «лейку». Камера не лжет, да и киносъемка окончательно доказала, что в 1938 году подавляющее большинство австрийского населения радостно приветствовало Адольфа Гитлера.
Час за часом возгласы «Хайль!» гремели в наших ушах, и, где бы ни останавливалась машина Гитлера, воодушевленная толпа взрывалась криками. Позднее тем же днем мы въехали в Линц, в котором Гитлер провел часть юности. Там мы отправились в гостиницу «Вайнцингер», где уже собрались городские власти и партийная верхушка, чтобы приветствовать нас.
В мгновение ока вся картина изменилась. «Маленькая частная экскурсия», как назвал ее Гитлер, закончилась. Гостиница превратилась в штаб-квартиру.
Телефон звонил не переставая. Из Вены прибыл канцлер доктор Зейсс-Инкварт, и Гитлер его встретил словами: «Благодарю вас за Австрию!» В тот же вечер Гитлер выступал с балкона муниципалитета перед восторженной и взволнованной толпой; там собрался весь Линц.
Заседания продолжались до раннего утра, и, даже когда Гитлер наконец-то удалился, он не лег спать, но велел подать чай к нему в номер, куда пригласил нас и господ из Вены. Обсуждались планы и оговаривались детали австрийской аннексии и захвата власти со свержением правительства и администрации. Гитлер находился на высшей точке душевного подъема, ибо заветная мечта его детства – влиять на судьбы своего отечества – шаг за шагом начинала сбываться, причем с таким размахом, который ему и не снился.
Кроме того, всю ночь он поддерживал постоянный и тесный контакт с Муссолини. Он считал, что перевал Бреннер[2] может вызвать некоторые опасения у дуче, особенно из-за того, что уже ходили слухи о празднике в честь освобождения и торжествах в Южном Тироле. Гитлер знал темперамент Муссолини и понимал, что, только постоянно и полностью информируя его о событиях, по мере того как они происходят, он может сохранить дружбу с Италией, которой он дорожил.
Владелец гостиницы отвел ему апартаменты, которые обычно занимал сам с женой, и это, право слово, был лучший номер в отеле. Но расставленные и развешанные в апартаментах всевозможные чучела зверей не доставляли фюреру никакого удовольствия, поскольку он был категорическим противником любых кровавых развлечений.
Над большой двуспальной кроватью, украшенной позолоченными ангелами, висела обрамленная гравюра с изображением знаменитой танцовщицы Жозефины Бейкер, а на стенах висели огромная копия Рубенса и пастельная копия «Цветущей» Аштета, голова длинноволосой женщины в профиль. Вот в такой-то комнате прошли окончательные переговоры о присоединении Австрии к германскому рейху.
Из Линца триумфальный марш двинулся в Вену. По пути мы обогнали походную колонну под командованием майора Ласелле, кавалера медали «За заслуги», который тут же явился к Гитлеру с докладом. Он прискакал галопом с обнаженной саблей и остановился как вкопанный перед самой машиной. Вдруг его лошадь шарахнулась в сторону, сбросила всадника, и он сломал руку.
Этот трагикомический эпизод заставил Гитлера коротко высказаться о применении лошадей в военных целях. Неужели при современном прогрессе, сказал он, нельзя прибегнуть к чему-то более надежному в техническом смысле!
Энтузиазм, с которым нас встречали до сих пор, ни в какое сравнение не шел с тем, как нас встретили в Вене. Казалось, что все два миллиона венских жителей столпились на тротуарах, и отель «Империал» на Рингштрассе постоянно окружала огромная толпа, скандировавшая: «Мы хотим фюрера!» и «Ура отечеству!». Снова и снова Гитлер был вынужден выходить на балкон и показываться перед кричащим, жестикулирующим народом.
После присоединения Австрии в марте 1938-го к нам хлынул очередной поток иностранных гостей. На Мюнхенской конференции я сопровождал Гитлера в Бад-Годесберг, где он встречался с Чемберленом.
– Никаких фотографий, Гофман, – сухо сказал Гитлер. – Мне сказали, что старик не любит вспышек, а я очень не хочу, чтобы он терпел какие-то неудобства после такой долгой дороги.
Однако мои фотографии с конференции, решившей судьбу Судет и на время сохранившей мир, вместе с фотографиями Гитлера, Муссолини, Чемберлена и Даладье прославились на весь мир.
Не меньший интерес вызвали фотографии, сделанные по случаю подписания Франко-германской декларации о ненападении в 1938 году.
В том же году Бек, польский министр иностранных дел, проехал по Баварии на автомобиле, который предоставил в его полное распоряжение Гитлер, и собственными глазами увидел все то, что свершилось в новой Германии. Он был потрясен!
Среди прочих, кто оказался в поле зрения моей фотокамеры до того, как разразилась война, были Стоядинович, премьер-министр Югославии, и Гембеш, председатель Совета министров Венгрии. Второго я снял во время охоты в Эрфурте, которую устраивал Геринг и на которой вместе с Гембешем присутствовал Гитлер по случаю большого съезда штурмовиков СА.
По вечерам после таких конференций в интимном кругу ближайших друзей Гитлер часто несколькими словами выражал мнение о своих недавних посетителях, словами, не предназначенными для посторонних ушей.
«Кровавый мясник – да и вид у него вполне соответствующий!» – воскликнул он о венгерском премьере Гембеше, которого терпеть не мог только потому, что тот обожал охотиться на крупную дичь! Даладье он считал очень искренним и честным человеком, поднявшимся из средних классов. Письмо, в котором Даладье обращался к Гитлеру со словами о том, что война принесет только уничтожение, опустошение, кровь и cлезы всем и победу никому, пробудило в Гитлере ответную симпатию, но он также заметил: «Все это прекрасно, но я боюсь, что у судьбы собственная дорога». Муссолини ему нравился, но восхищение многими его качествами не мешало Гитлеру заметить слабости и пунктики дуче. «В том, что касается искусства, он настоящий олух!» – утверждал Гитлер, а увидев фотографию Муссолини в плавках, потерял к нему всякое уважение как к государственному деятелю. Балканских политиков он обычно называл «балканскими бандитами», но от души восхищался Ататюрком, и его бюст, выполненный знаменитым скульптором профессором Траком, был одним из любимых произведений Гитлера. Также он считал выдающимися деятелями Бека и Пилсудского. Особенно он уважал второго и после оккупации Варшавы посетил бывшую резиденцию Пилсудского и возложил венок в его обители смерти. Наибольшим уважением Гитлера пользовались британские политики, за исключением посла Хендерсона, о котором он сказал: «Этот обожает блефовать, но и я тоже, – разница между нами только в том, что он плохой обманщик, а я хороший!» О дипломатических качествах Идена и Саймона он всегда отзывался высоко, но величайшим государственным деятелем в его глазах был Ллойд Джордж.
Во время войны частым посетителем ставки фюрера был болгарский царь Борис, его естественность и обаяние снискали ему всеобщую симпатию. Мне самому он очень нравился, особенно потому, что в любой момент был готов по моей просьбе принять нужную позу для фотографии. Кроме того, всякий раз, как он появлялся с визитом, он всегда презентовал большую коробку очень дорогих сигар со своим изображением тем, кто находился в непосредственном окружении фюрера.
Румынский царь Михаил с матерью, Павел, принц-регент Югославии, Али Котинкая, турецкий министр общественных работ, Цинцар-Маркович, югославский министр иностранных дел, венгерский премьер и многие другие – все они фотографировались у меня или моих ассистентов.
Каждый Новый год иностранные послы во главе с папским нунцием в роли старшины дипломатического корпуса в своей великолепной парадной форме приходили отдать дань почтения главе германского государства, и никогда в жизни мне не доводилось запечатлевать столько пылких проявлений дружбы и рукопожатий, как на этих новогодних приемах. Никто, и, уж конечно, не фотограф Генрих Гофман, не мог сомневаться в искренности и энтузиазме их уверений в дружбе, миролюбии и доброй воле! Даже сам Черчилль написал открытое письмо, опубликованное в «Тайме» в 1938 году: «Я всегда говорил, что если Великобритания потерпит поражение в войне, то, надеюсь, мы найдем своего Гитлера, который вернет нам наше законное место среди наций»[3].
«Гофман, я предоставлю вам возможность сделать совершенно уникальные фотографии!» – сказал мне не кто иной, как сам Муссолини, и я обеими руками ухватился за этот шанс! Это произошло за несколько лет до войны, во время поездки в Рим вместе с моей женой и группой немецких журналистов. Помимо обычного осмотра достопримечательностей, нас пригласили посетить Академию спорта в великолепном мраморном Форуме Муссолини. Там дуче лично принял вызов на поединок.
Когда мы вошли в фехтовальный зал, его уже ждал инструктор, и я смог сделать фотографии, а моя жена – снять превосходный фильм об историческом и уникальном бое на спортивных рапирах, из которого, разумеется, победителем вышел Муссолини. Но, будучи прирожденным шоуменом, на этом он не остановился. Он потребовал, чтобы во время боя противники сняли маски, и перед моей фотокамерой встали два «незащищенных» бойца! Поистине сенсационный снимок! Но и на этом дело не кончилось. По дороге на обычный фуршет мы прошли через классную комнату, где занимались ученики академии; Муссолини сел за парту в одном из классов и забарабанил перед собой обоими кулаками, и в моих ушах на хорошем немецком языке зазвучала строчка из старой студенческой песни: «Славное было времечко!»
Это определенно было славное времечко и для его памяти, и для моей фотокамеры! Диктатор в школьном классе – для меня уж это точно невиданное дело!
Дуче, как и все его соотечественники, с удовольствием становился жертвой моей фотоохоты, он прекрасно знал, что, в отличие от «доброго друга Гитлера», фотогеничен, и подчеркивал это тем, что позировал перед объективом во всевозможных видах от Цезаря до Наполеона.
Да, какой поразительный контраст между этими двумя личностями и их фотографиями! Как профессионалу мне мучительно вспоминать поездку Гитлера в Венецию в июне 1934 года. На тогдашних снимках немецкий фюрер, плохо одетый и раздраженный, гораздо больше походил на вассала итальянского дуче, чем на будущего партнера по оси, а позднее и ее повелителя! В то время мне казалось, будто личные и политические неудачи Гитлера сказались на фотографиях. Серия оказалась фотографическим триумфом – для Муссолини!
Как же изменилась картина во время «медового месяца» Гитлера в Италии в мае 1938 года и какие разные снимки сделала моя камера! Теперь перед ней стояли два человека по меньшей мере равного масштаба, и редко мне удавались такие превосходные снимки, как те, что я сделал под вечноголубым небом Рима, Неаполя и Флоренции. Позднее я опубликовал подборку фотографий в книге, озаглавленной «С Гитлером в Италии», которая получила высокую оценку. В ней можно увидеть двух диктаторов на борту линкоров, во время посещения музеев, среди приветственных толп, на праздниках – короче говоря, в разгар их дружбы и в зените славы.
И все же поездка эта была весьма напряженной и довольно сложной. А суть дела в том, что Италия была королевством, и, несмотря на едва скрываемую антипатию к монархической системе, Гитлер ничего не мог с этим поделать. Даже приказать мне отретушировать снимки так, чтобы на них не осталось и следа от короля с королевой, кронпринца, двора и всех прочих!
Вышло совсем наоборот. Естественно, королевское семейство уцелело на фотографиях, но помимо этого я совершенно неожиданно имел «профессиональную» беседу с первой дамой Италии. Мы с Гитлером и его свитой остановились в Квиринале, старинном замке Савойского дома, и, когда королева услышала, что в числе делегации буду я, она попросила Гитлера передать мне, чтобы я побывал у нее, так как ей нужен мой «профессиональный совет». Однако вскоре выяснилось, что никакие советы ей не требуются.
Королева Елена была страстным и опытным фотографом-любителем, и ее поистине творческие этюды, в основном с изображением ее счастливой семейной жизни, вызвали мое искреннее восхищение. Мне только жаль, что я не смог увековечить нашу встречу в виде фотографии с подписью: «Королева с фотокамерой».
Несмотря на антимонархические чувства, Гитлер во время итальянского тура отнюдь не остался равнодушен к очарованию южной женской красоты и исключительной мудрости, которая ей так часто сопутствует. Особенно его привлекла кронпринцесса Мария-Жозе, супруга Умберто. Через несколько лет, во время войны, ее долгие разговоры с Гитлером решили судьбу ее брата, короля Бельгии Леопольда. Фотографии, которые я сделал в те дни, в какой-то мере помогают понять политические и личные трудности, имевшие место во время этого визита.
Графиня Чиано, любимая дочь Муссолини, не стесняясь, выражала свои взгляды, чего не позволили бы ни одной иностранке.
Однако больше всего Гитлер восхищался графиней Элеонорой Аттолико, «прекраснейшей представительницей Италии», как он называл жену мудрого посла Италии в Берлине. Ее классическая красота и личное обаяние, в отличие от неистовой антинацистской позиции ее предшественницы Элизабетты Черрути, невероятно влекли к себе Гитлера и восхищали его художественный вкус.
Через много лет, говоря об этой исключительной женщине, Гитлер сказал: «Если бы все дипломаты привозили с собой таких жен, им, несомненно, было бы гораздо легче добиться успеха. Кстати, не мешало бы обратить на это внимание наших послов. В будущем я позабочусь о том, чтобы наши представители за рубежом следовали этому примеру».
Жаль, что фотографии тех счастливых дней счастливого года были не последними сделанными мною снимками Муссолини. К несчастью, мне суждено было сделать и роковые снимки в сентябре 1943-го, когда он прибыл в ставку фюрера из Гран-Сассо. Фотографиям, на которых они с Гитлером стоят среди руин ставки после покушения 20 июля, можно дать лишь одно название: «Сумерки богов»[4].
Нет, право слово, это было что угодно, только не безмятежные деньки, и сделанные мною фотографии показывают это еще яснее, чем могли бы выразить любые слова.
Есть ли в мире что-либо беспристрастнее фотоаппарата? Я успел поймать в свой объектив императоров и королей, государственных деятелей и дипломатов, революционеров и народных вождей, – и все они охотно позировали мне. Волшебный глаз моей камеры запечатлел трех диктаторов – Гитлера, Муссолини и Сталина – и увековечил на все времена. Не хватало только страны Веласкеса и Гойи, тореадоров и Кармен, но, к сожалению, я так никогда ее и не увидел. И все же мне удалось встретиться с генералиссимусом Франко и его зятем Серрано Суньером, министром иностранных дел, в Андае 23 октября 1940 года и во время визита второго в Оберзальцберг.
Ничто так не навевает «фотографу истории» мечтательных воспоминаний, как созерцание собственных снимков. В те дни казалось, что Гитлер и Риббентроп строят империю, которая простоит вечность и в которой испанцы займут лишь очень скромное место – и только на том условии, что вступят в войну. Сегодня из людей этого круга уцелели только Франко и его зять; и тем, кто интересуется историей, я советую внимательно изучить портреты двух министров иностранных дел: испанского – хладнокровного, осторожного и расчетливого, и итальянского – фривольного, тщеславного и импульсивного. Фотокамера поистине является беспристрастным судьей. От ее взгляда не ускользает ничто!
14 марта 1939 года я обедал с Гитлером.
– Ровно год назад, – заметил я, – мы вошли в Вену.
Мы немного поговорили о том, с каким энтузиазмом встречали австрийцы своего освободителя, и я рассказал ему, как ходил в венское кабаре, где один из комедиантов пел веселую песенку: «Это уже все – или ждать еще?»
– На самом деле мы довольно быстро ответили на вопрос, – продолжал я, – потому что всего через несколько месяцев пришла очередь Судет.
Гитлер бросил на меня короткий взгляд.
– И это еще не все, – сказал он. – Сегодня я жду Гаху, близится еще один исторический день, о котором мир пока не подозревает.
– Так это уже все или ждать еще чего-то? – удивленно спросил я.
Но прежде чем Гитлер успел ответить, ему доложили, что в рейхсканцелярию прибыл Гаха. Он быстро поднялся и поспешил приветствовать своего гостя, а я последовал за ним с фотоаппаратом, готовый запечатлеть историческую сцену, которая должна была вот-вот разыграться.
Обычно в таких случаях для начала делали фотографии для протокола. Гитлер занял место рядом со своим коллегой, и я спустил затвор. Как правило, Гитлер спрашивал гостей, не возражают ли они против того, чтобы я сделал еще несколько снимков для прессы. Тем временем я снова подготовил камеру, так как до сих пор мне не говорили ни о каких возражениях. Гаха тоже не протестовал, и я, сделав пару снимков, удалился на тактичное расстояние, но остался в комнате. Фотограф всегда должен находиться под рукой, но быть не слишком заметным и держаться так, чтобы не мешать главным действующим лицам. Когда наступит верный момент для снимка – это полностью на его усмотрении.
Многие знаменитости начинали нервничать, видя, что на них нацелен фотоаппарат, и по этой причине я всегда пользовался угловым видоискателем, который позволял мне фотографировать, так сказать, из-за угла. Президент Чехословакии сильно нервничал. Видимо, старик устал, да и сказывалась долгая поездка. Вдобавок ему предстояло принять важнейшее решение в своей жизни. Если он подпишет документ, то тем самым откажется от независимости своей страны.
Я слишком ясно видел происходившую в нем борьбу, а еще я заметил, как внимательно следил Гитлер за нервными, возбужденными жестами пожилого политика. Переговоры становились все более напряженными, и я потихоньку вышел из комнаты.
Чуть позже, когда я находился в приемной, вошел Морелль. Он сказал, что за ним послали, потому что Гаха внезапно почувствовал недомогание. Мы вместе вошли в зал.
Гаха сидел в кресле, тяжело дыша, было очевидно, что у него случился нервный срыв. Но хватило одного укола, чтобы к пожилому политику вернулось спокойствие, и переговоры продолжились. Прошло довольно много времени, прежде чем за мной послали, чтобы запечатлеть судьбоносный акт подписания договора. С чахоточным румянцем на лице Гаха дрожащей рукой поставил подпись и потом, повернувшись к Мореллю, поблагодарил его за врачебную помощь.
Позднее, когда мы сидели за столом в своем интимном кругу, Гитлер выразил большое удовлетворение случившимся.
– Мне было жаль старика, – сказал он. – Но сентиментальность в данных обстоятельствах была неуместна и могла поставить под угрозу наш успех.
Тщеславный Морелль поторопился заручиться признанием его столь своевременного медицинского вмешательства и дал понять, что если бы не он, то договор так бы и не был подписан.
– Слава богу, – сказал он, искоса глянув на Гитлера, – что я оказался на месте и успел сделать укол!
– Идите вы к черту со своим уколом! – воскликнул Гитлер. – Из-за вас старик так взбодрился, что я уж испугался, не откажется ли он подписывать!
В ту ночь мы не сомкнули глаз. Через несколько часов после подписания договора мы уже находились в специальном поезде, спешившем к чехословацкой границе. На самой границе нас встретила группа бронированных полугусеничных «мерседесов», в которых мы продолжили путь, и вечером 15 марта 1939 года под яростные завывания метели прибыли в Прагу, неузнанные и незамеченные.
Приезд Гитлера стал полной неожиданностью и ввиду окружавшей его секретности был не подготовлен. Мы поехали прямо в Градчин, знаменитую пражскую крепость, где и поселились. В большой спешке власти организовали банкет в честь подписания, который состоялся в полночь.
В Градчине не нашлось достаточно кроватей для такой многочисленной группы, и мне вместе с несколькими товарищами пришлось переночевать на походных раскладушках, которые поспешно отыскали и принесли. Техники быстро организовали телефонное сообщение, и мы с профессором Мореллем устроились спать на телефонной станции. Однако отдохнуть нам не удалось, как, впрочем, и всем остальным, – непрестанно звонили телефоны, всю ночь кто-то постоянно входил и выходил. Наконец, изнемогшие от усталости, мы заснули, причем свою роль тут сыграли и обильные возлияния на банкете. Я помню только, что нас то и дело будили и жаловались, что мы своим храпом не даем заниматься делами и совершенно заглушаем официальные телефонные переговоры.
Когда несколько дней спустя Гаха прибыл в Прагу, он не мог прийти в себя от изумления, узнав, что вся подготовка к провозглашению протектората уже закончена.
На следующий день я получил множество превосходных возможностей сделать поистине исторические снимки, которые составили основу моей книги «С Гитлером в Богемии и Моравии».
По правде говоря, десятилетие, предшествовавшее приходу Гитлера к власти, было совершенно лихорадочным, и лихорадка достигала своего апогея во время предвыборных поездок по всей стране, часто продолжавшихся неделями. Но по сравнению с тем, что началось в 1934 году, это просто детские забавы. Присоединение Австрии, возвращение рейнских территорий, Олимпийские игры, создание оси Берлин – Рим, оккупация Судет, подписание советско-германского пакта шли одно за другим с головокружительной быстротой.
Атмосферу горячечной активности, в которой мы жили, вполне подытоживает шутка, известная во всей Германии:
– Как поживают твои родные, где они сейчас?
– Спасибо, хорошо. Я здесь, папа в СА, мама в НСНБ, Хайнц в СС, сестра Гертруда в БНП, а маленький Фриц в ГЮ[5]; но мы каждый год встречаемся в Нюрнберге на Дне партии!»
И если эта шутка довольно точно изображает то, как жила обычная семья, представьте себе, какую жизнь вели мы в непосредственном окружении Гитлера.
Тем из нас, кто входил в его ближний круг, приходилось мириться с вынужденным отказом от личной жизни. Мы почти не бывали дома, мы как будто поселились в поездах, самолетах и гостиницах, где проводили времени больше, чем под крышей собственного дома. Помимо прочего у Гитлера была одна причуда, что-то вроде ревности: хотя он был само очарование с нашими женами и очень приветливо встречал их всякий раз, когда они нас сопровождали, он считал, что наша преданность ему должна стоять на первом месте, и его сильно задевало, если семью мы ставили выше.
Ни в первые годы, ни даже в короткий период национал-социалистического режима среди партийной верхушки не существовало нацистской элиты как таковой. Надо помнить, что подавляющее большинство соратников Гитлера были людьми скромного, а часто и самого низкого происхождения, которых он выбрал в первую очередь из-за их рвения, расторопности и преданности фюреру и его делу. Разумеется, в большинстве своем они уже успели жениться в том непритязательном окружении, из которого вышли; и, как это часто бывает с людьми, которые всего добились сами, вдруг оказалось, что их жены не вписываются в новую обстановку и совершенно не способны идти в ногу с мужьями ни в общественном, ни в умственном отношении, притом что круг интересов и сфера ответственности их мужей постоянно расширялись. За исключением нескольких редких женщин, они попадали в неловкое положение, нелепые и неуместные среди сияния и блеска общественных и дипломатических сфер, куда стали вхожи их мужья, и чаще всего предпочитали мирно оставаться дома, в уютной и привычной обстановке. Поэтому их выходы в свет ограничивались самым необходимым минимумом, и свои общественные обязанности им приходилось исполнять лишь на редких официальных приемах, в основном партийных, где их присутствие было крайне желательно.
Можно представить себе, как это сказывалось на семейной жизни. Мужья встречали столько женщин моложе, элегантнее, очаровательнее и умнее, чем их жены, что многие семьи неизбежно распадались. Кое-кто даже цинично прозвал ближайший круг Гитлера приемной суда по бракоразводным процессам.
Будучи дочерью артистов, моя жена, к счастью, с раннего детства привыкла к постоянной спешке и переездам. Пожалуй, ей даже нравилось волнение такой жизни. К тому же ей щекотал нервы мой успех и растущее влияние, но только в той мере, в какой это касалось профессиональной и творческой деятельности. Ко всем политическим событиям она относилась с долей презрения, а иногда и совершала поступки, из-за которых мы оба попадали в неловкое положение.
– Ты добился бы такого же успеха в любом другом месте, – бывало, вдруг вскричит она, – а за границей мы, по крайней мере, вели бы нормальную, спокойную жизнь! Ты женился слишком рано и застрял в этой стране, вот в чем твоя проблема! Представляешь, как бы ты прославился в большом мире, а не здесь у нас!
Понятно, что подобные высказывания не могли вызвать сочувствия в партийных кругах.
Мы встречались, когда и где только была возможность. Очень часто она садилась на поезд или самолет, чтобы провести со мной всего несколько дней. Чаще она присоединялась ко мне на особых мероприятиях, подобных Байройтскому фестивалю или партийному съезду, но очень редко мы начинали или заканчивали поездку вместе.
От Олимпийских игр, на которых мы с моими помощниками сделали более 6 тысяч фотографий, и на соревнованиях по зимним видам спорта в Гармише, и собственно на берлинских играх, она получала огромное удовольствие. Благодаря тому что моя жена знала несколько языков, ее просили помочь с приемом огромного количества иностранных гостей, хлынувших в Берлин со всего мира. Во время игр каждый день устраивались званые вечера и приемы, а когда игры закончились, она, счастливая, но изнемогшая, в шутку сказала мне:
– Ну, Хайни, если я приму все приглашения погостить, которыми меня завалили наши благодарные гости, мне придется оставить тебя на пару лет.
Только однажды мы получили возможность по-настоящему отдохнуть вдвоем. Это было в 1935 году, когда после серьезной болезни я несколько недель поправлялся в Лидо. Правда, мы еще провели вместе два очень приятных отпуска, хотя и не таких мирных.
Осенью 1936 года доктор Геббельс с женой отправлялись с официальным визитом в Грецию и любезно пригласили нас с собой. Мы всегда были очень дружны с маленьким доктором. Иногда у нас бывали мелкие разногласия, как в тот раз, когда он пытался дисциплинировать меня и заставить носить нашивку, и в другой раз, когда я рассказал Гитлеру о том, как попробовал себя в качестве кинопродюсера и сценариста, а он настоял на том, чтобы посмотреть фильм, поскольку у меня осталась копия.
Таким образом, в рейхсканцелярии состоялся показ, при этом Гитлер, Геббельс и я сидели в первом ряду.
Когда парикмахер по фамилии Пинзельвайх, какую я ему придумал, впервые появился на три четверти экрана, Гитлер повернулся к Геббельсу и оценивающе сказал:
– Отличное создание образа.
Но фильм продолжался, и вдруг я чуть со стула не упал. «Боже мой, – подумал я, – как же я мог об этом забыть!» И тут же я услышал резкую отповедь Геббельса.
– Не ожидал от вас такого плохого вкуса, – возмущенно прошипел он, поднялся с места и вышел из зала.
Прошло почти двадцать лет с тех пор, как мы сняли фильм, и у меня совершенно вылетело из головы, что наш парикмахер косолап![6]
Иногда и я становился жертвой язвительного языка доктора Геббельса, хотя он легко обижался, зла не таил и обладал живым чувством юмора. Он был тщеславен, честолюбив и очень чувствителен к своему изъяну; но одновременно он, безусловно, был одним из первейших умов и смельчаков всей нацистской иерархии.
Мы прилетели в Афины на спецсамолете Геббельса и провели в этой прекрасной и древней стране очень приятную неделю, хотя и чересчур обремененную официальными приемами.
Неуклонно увеличивающийся спрос на мои фотографии и постоянные разъезды с Гитлером почти не оставляли мне времени, чтобы осмыслить события, сменявшие друг друга с головокружительной быстротой, или особенно задумываться о том, как и когда всему этому придет конец. Кроме того, в те годы никто из окружения Гитлера не посмел бы выражать личное мнение, пока его об этом не спросили. Ближний круг Гитлера следовал принципу, выраженному в классической присказке старшины британской армии, хотя скорее всего никогда ее не слышал: «Тебе платят не за то, чтоб ты думал, а за то, чтоб ты выполнял приказы!»
Поскольку я был личным другом Гитлера без всякого официального статуса, он часто интересовался моим мнением – разумеется, не о плюсах или минусах того или иного политического хода, но желая услышать непредубежденный и неприкрашенный рассказ о том, что думает народ. Но и при этом Гитлер ужасно не любил выслушивать неприятные вещи (на высказывание которых практически я один имел сомнительную монополию), и, слушая, он постоянно прерывал меня резким замечанием: «Я неприятно удивлен, Гофман, что вы верите каким-то глупым сплетням».
Народные массы противоречиво реагировали на то, как развивались события. Сначала они побаивались, так как Гитлер шел на явно и очень рискованные шаги; но по мере того как один за другим следовали дипломатические успехи, росло и доверие к Гитлеру – и не только доверие, но и энтузиазм, и немецкий народ стал жить под девизом «Гитлер во всем разберется». Точно такую же позицию занял и я без особых раздумий: очевидно, Гитлер знает, что делает, и, если временами я сомневался в мудрости какого-то политического хода, что ж, выходит, я ошибался.
А вот моя жена реагировала совершенно иначе. У нее было много друзей и знакомых в артистических и музыкальных кругах и вообще среди людей, не имевших никакого отношения к партии. Ее политические взгляды были им хорошо известны, и потому друзья были склонны говорить с ней гораздо более свободно и открыто, чем, например, со мной. Когда я приходил в их компанию, она не один раз встречала меня примерно такими словами: «А, ну вот и он! Теперь скажите все это ему лично, чтобы он понял, что не только я тут подрывной элемент!»
Она была убежденной пацифисткой и обладала умом и восприимчивым воображением, которое позволяло ей со всей ясностью видеть надвигающуюся опасность; да и секрета из своих опасений и ужасов она не делала даже перед Гитлером, и меня немало удивляло смирение, с каким он выслушивал ее мнение по некоторым вопросам. Однажды осенью 1938 года, когда мы находились с Гитлером в Бергхофе, зашел разговор о войне.
– Война! – с ужасом воскликнула Эрна. – Спасибо, я прочла одну только книгу о войне – «На Западном фронте без перемен» Ремарка, – и у меня в голове не укладывается, как порядочный человек может даже думать о том, чтобы вести войну, и при этом оставаться таким спокойным и довольным!
Признаюсь, после объявления войны замечания подобного рода были бы невозможны в присутствии Гитлера. Но вновь и вновь у меня появлялись серьезные опасения, что даже моего влияния на Гитлера и его искренней ко мне привязанности не хватит, чтобы спасти мою жену от концентрационного лагеря. И действительно, вскоре после объявления войны ее на довольно долгое время подвергли домашнему аресту за «сопротивление государственной власти» – и ей повезло, что с ней обошлись так снисходительно!
– Сегодня утром шеф в дурном настроении, – как-то раз шепнул мне один из адъютантов Гитлера.
Он шагал взад-вперед по двадцатичетырехметровому залу Оберзальцберга, не произнося ни слова. На его лице ясно читалось, что он не желает, чтобы его отвлекали от этого безмолвного хождения.
В дни политического напряжения в августе 1939-го все взгляды мира обратились к Гитлеру, и мировая пресса только и писала о том, что он сделал или сказал. Я вполне понимал охватившее его возбуждение, но не только оно заставляло его мерить шагами комнату. Я слишком хорошо его знал, и от моих глаз не укрылись некоторые признаки: что-то витало в воздухе! «Руку даю на отсечение, нас ждут новые сюрпризы, – подумал я. – Еще одна неожиданность, которая встряхнет весь мир и посадит в лужу всех дипломатов».
Я понятия не имел о том, что нас ожидает. Конечно, я знал, что после прихода к власти Гитлер не делал секрета из своей убежденности в том, что близится мировой кризис, который можно решить только силой оружия. Он утверждал, что конфликт неизбежен, но считал аксиомой, что это будет борьба между Востоком и Западом, борьба идеологий, и он всей душой надеялся, что получит поддержку западных держав – особенно Великобритании, – но тем не менее готов был, если необходимо, вести ее в одиночку.
Вдруг зазвонил телефон. Трубку снял Шауб и доложил Гитлеру, что на проводе Риббентроп. Быстрым движением Гитлер выхватил трубку у своего адъютанта.
– Превосходно! Поздравляю вас! Да, приезжайте немедленно!
С сияющей улыбкой он повесил трубку и, улыбаясь, повернулся к нам, само воплощение торжества.
– Друзья, – воскликнул он, – Сталин согласился! Мы летим в Москву заключать с ним пакт! Разве это опять не потрясет мир?
И в состоянии полного самозабвения, в котором я видел его еще раз только однажды – но уже позже, когда капитулировала Франция, – он восторженно хлопал себя по колену.
– В какую лужу они сели! – воскликнул он, имея в виду западные державы.
Все мы были невероятно взволнованы и довольны. Канненберг, дворецкий Гитлера, принес шампанское, мы радостно чокнулись и выпили за этот грандиозный дипломатический ход. Гитлер, явно довольный нашим энтузиазмом, ликовал, хотя и не прикасался к спиртному.
Меня с моей политической невинностью этот крутой поворот на сто восемьдесят градусов, мягко сказать, обескуражил. С самого начала тезис Гитлера о том, что «коммунизм – архивраг человечества», был краеугольным камнем всего его политического здания, он убедил в этом массы и повел их за собой тысячей блестящих и захватывающих речей. А теперь?
Чуть позже, когда мы остались вдвоем, я не мог скрыть от него своей растерянности.
– Выше голову, Гофман! – вскричал он, все так же в отличном настроении. – Что не дает покоя вашему мощному разуму?
– Ну, – отвечал я, – по-моему… это как-то неожиданно. Двадцать лет вы проклинали большевиков всех вместе и каждого в отдельности, и тут… ни с того ни с сего… давайте расцелуемся и будем дружить! Я, конечно, не знаю, как отнесется к этому партия, но не могу не думать об этом. Боюсь, что без особой радости.
– Партия будет так же потрясена, как и остальной мир, – возразил Гитлер, – но члены моей партии знают меня и верят мне. Они знают, что я никогда не откажусь от моих коренных принципов, и поймут, что главная цель моего последнего гамбита состоит в том, чтобы устранить восточную угрозу и таким образом способствовать скорейшему объединению всей Европы, конечно под моим руководством.
В конечном итоге Гитлер оказался не совсем прав, когда оценивал реакцию членов партии. На следующее утро в саду Коричневого дома лежала куча из сотен партийных значков, их посрывали с себя разъяренные и разочарованные нацисты. Но, как я подозреваю, многие из них раскаялись в поспешных действиях и очень быстро приобрели себе новые значки.
Вскоре приехал Риббентроп из Фушля, своего замка в Зальцкаммергуте, и они с Гитлером удалились, чтобы переговорить с глазу на глаз. Когда они вышли, я спросил Гитлера, ехать ли мне с Риббентропом.
– Естественно, – ответил он. – Кроме того что вы будете фотографировать, у меня для вас особое задание. Немедленно отправляйтесь к Риббентропу и обеспечьте себе место на самолете.
Риббентроп отреагировал на мою просьбу недовольным жестом. Об этом не может быть и речи, сказал он, все места в салоне уже заняты, да и вообще с ним едет его собственный фотограф Лаукс. Очень жаль, но он не может снять с самолета ни единого человека – это попросту невозможно!
Я и ожидал чего-то в этом роде. У нас с Риббентропом всегда были трения. В его лице, как и в лице Бормана, я имел недоброжелателя, который стремился подорвать дружеский и личный характер наших отношений с Гитлером. Когда он отказывал мне в просьбе, его возражающая улыбка была не вполне лишена злорадства.
Но бедному Риббентропу не повезло. Я пошел прямо к Гитлеру, и вопрос был решен.
– Можете оставить кого-нибудь из своей свиты, – приказал он Риббентропу. – Задачу, которую я поручаю Гофману, нельзя доверить ни одному из ваших людей!
И Риббентроп удалился, сильно покраснев.
После того как Риббентроп покинул Оберзальцберг, Гитлер послал за мной.
– Я сообщил нашему послу в Москве графу фон дер Шуленбергу, что назначил вас своим особым эмиссаром и вам поручено передать мои приветствия и пожелания Сталину. Я сознательно отхожу от официальной и общепринятой процедуры, так как, посылая сообщение не через аккредитованного дипломата, я надеюсь придать личную нотку контакту со Сталиным, в который мы вступаем. Естественно, все это не помешает вашей работе в качестве фотографа. Но я хочу, чтобы, кроме этого, вы помогли мне составить объективное и непредубежденное представление о Сталине и его окружении.
Гитлер замолчал и снова стал мерить шагами огромный зал Бергхофа, время от времени рассеянно посматривая в гигантское окно на необычайно красивую панораму Унтерсберга и его любимых Зальцбургских гор. Потом он снова повернулся ко мне:
– Меня интересуют мелочи, которые часто остаются незамеченными, но порой позволяют гораздо яснее представить характер человека, чем доклады разных болванов из министерства иностранных дел! Так что, Гофман, в Москве смотрите в оба!
В таком же приподнятом настроении Гитлер сердечно попрощался со мной. На его сияющем лице были явно написаны радость и удовлетворение от большого успеха.
Естественно, поездка держалась в большом секрете. Но я все-таки хотел дать знать жене хотя бы то, что в ближайшее время не смогу вернуться в Мюнхен. Как всякая женщина, она умирала от любопытства, что же это за таинственное путешествие.
– Совершенно секретно! Ни о чем не спрашивай меня! – возразил я.
– Хайни, если это то, что я думаю, то я в полном восторге. Думаю, это самая удачная мысль Гитлера!
Моя вторая жена не относилась к страстным поклонницам Гитлера, и я нередко попадал впросак из-за ее колких замечаний, часто в точку. Поэтому на ее последний выпад я вообще не посмел ответить; даже у стен есть уши!
На следующий день мы уже были в воздухе – и мир ничего об этом не знал! Мы приземлились в Кенигсберге, там же и заночевали. Так случилось, что в тот самый вечер в гостинице открывался бар «Немецкий дом». Такую возможность нельзя было упустить, и мы провели веселенькую ночь.
Прямо из бара я отправился в аэропорт, где уже урчали моторы нашего самолета. Через несколько минут мы вылетели – на этот раз в Москву. Убаюканный ритмичным гулом моторов, я уютно устроился в кресле и скоро погрузился в безмятежный сон. Через мгновение – как мне показалось – какой-то надоеда похлопал меня по плечу, и сквозь полусон я услышал голос: «Посадка через три минуты!» Я пять часов проспал как младенец!
Первое, что я увидел при посадке, это нечто такое, что всего несколько дней назад показалось бы мне полной несуразицей, – серп и молот рядом со свастикой! После встречи в аэропорту наш посол граф фон Шуленберг пригласил нас поселиться в немецком посольстве, где в честь нашего прибытия устраивался торжественный вечер.
Нас поразило достойное Лукулла изобилие холодных закусок на фуршете. Мы не ожидали найти подобные вещи в Москве. Но посол объяснил, что все это привезено из-за границы, даже хлеб из Швеции, масло из Дании, а остальное из других стран. Это тоже поразило меня, но совсем в другом роде!
На ужине мы встретили всех аккредитованных в Москве дипломатов, среди них были генерал Кёстринг, немецкий военный атташе, который пробыл там несколько лет. Авторитетное мнение Кёстринга оказалось для нас весьма познавательно и пролило новый свет на Сталина и его политику.
– Ходят слухи, что Сталин при смерти – будто бы он так болен, что его держат для мебели, и прочее.
– Ничего подобного! – сказал он нам. – Этот человек в хорошей форме и отличается невероятной работоспособностью.
Что касается более широких политических вопросов, его взгляды были не менее интересны. В политическом смысле, сказал он, Сталин главным образом смотрит на Дальний Восток, в котором видит просторное поле для расширения власти и влияния Советского Союза.
– А как по-вашему, генерал, что на самом деле он думает насчет Гитлера и нацистской Германии? – спросил я, осмелев.
Кёстринг не имел на этот счет никаких сомнений.
– Нет другого человека, – подчеркнул он, – который был бы столь же искренне дружелюбен и готов помогать мне и графу Шуленбергу, как Сталин. Он много раз повторял нам – и я вполне уверен в серьезности его слов, – что питает глубочайшее уважение к фюреру, его политике и немецкому народу и что, невзирая на принципиальные различия между национал-социализмом и коммунизмом, не видит причин, почему эти две системы не могут уживаться бок о бок в мире и к взаимной выгоде.
О пакте, на заключение которого мы приехали, Кёстринг сказал, что, конечно, это брак не по любви, а по расчету, договоренность, выгодная обеим сторонам, но, несмотря на это, она, вероятно, просуществует многие годы.
Между прочим, впоследствии Гитлер не выкажет особой благодарности своему главному переговорщику графу Шуленбергу за его усилия, и граф закончит свои дни на виселице после раскрытия июльского заговора 1944 года. Генерал Кёстринг, которого я видел в Нюрнберге в 1946 году, недавно умер в горной баварской деревушке, где мирно провел последние годы жизни.
На следующий день посольство отдало в наше распоряжение машину, и мы поехали осматривать город. Огромное впечатление на нас произвел Кремль, как и красивые, широкие улицы и площади, особенно Красная площадь с большим Мавзолеем Ленина. Однако время для осмотра достопримечательностей было неподходящее, так как с нашим визитом в Москву совпала неделя памяти Ленина. Со всех частей России в Москву съезжались люди, чтобы посмотреть на покойного вождя, и длинной вереницей шли мимо большого Мавзолея. Огромная очередь, состоящая из сотен тысяч людей, растянувшаяся на несколько километров, днем и ночью медленно шла, чтобы отдать честь духовному отцу Союза Советских Социалистических Республик.
Фотографировать, в общем, было запрещено, но фон дер Шуленберг считал, что никто не будет против, если я потихоньку сделаю несколько снимков. «Обязательно сходите на кладбище, где похоронена жена Сталина, – сказал он. – Может быть, вам представится возможность сказать ему об этом – я знаю, он будет доволен».
Могила оказалась одной из самых красивых, которые мне доводилось видеть. Может быть, памятник из белого мрамора и не отличался большими художественными достоинствами, но его очарование заключалось в чистых линиях и живой грации прелестной и мастерски изваянной женской фигуры.
На обратном пути мы посетили монастырь, переделанный под жилое здание. Когда машина остановилась, нас тут же окружила стайка детей в лохмотьях, и мы с удивлением увидели, что все они держат огромные разноцветные мячи, с которыми в других странах могут играть только дети богатых родителей. Потом нам сказали, что эти мячи раздают бесплатно от государства для пропаганды и чтобы содействовать развитию государственных фабрик резиновых изделий.
Перед возвращением в посольство мы остановились у большой гостиницы и с балкона верхнего этажа полюбовались прекрасным видом на изысканную панораму Кремля. Огромные серп и молот на центральном куполе – освещаемые ночью ярко-красным светом – производили незабываемое впечатление. А в гостинице за бутылку шампанского и четверть дыни с нас запросили тридцать пять рублей – наши суточные в иностранной валюте!
Мы уже пробыли два дня в Москве, а я все ждал разрешения ГПУ, чтобы попасть в Кремль. Наконец около девяти часов вечера 28 августа я его получил.
Но разрешение на посещение Кремля – это совершенно не то же самое, что и разрешение сфотографировать Сталина. В этом мне пришлось положиться на умение графа фон дер Шуленберга, который вместе с Риббентропом вел переговоры со Сталиным и Молотовым.
Тем не менее мы с фотографом Риббентропа Лауксом, вооруженные пропусками, отправились в посольской машине в Кремль. Не доезжая сотни метров до входных ворот, наша машина остановилась по требованию двух вооруженных часовых, которые внимательно рассмотрели наши пропуска и жестом велели ехать дальше. У самих ворот нас еще раз проверили и разрешили продолжать путь. Со скоростью пешехода машина ехала по темному парку в сторону группы зданий, где располагалась канцелярия Молотова. Пока мы подъезжали, нас сопровождал размеренный колокольный звон: сигнал часовым, патрулирующим парк, что машина имеет официальное разрешение на въезд. Когда машина остановилась перед зданием, прекратился и звон.
По спиральной лестнице мимо многочисленных часовых из ГПУ мы прошли в канцелярию Молотова. Нам пришлось дожидаться в приемной почти полтора часа, так как подготовка к подписанию пакта еще не закончилась. Поэтому у меня с лихвой хватило времени, чтобы хорошенько осмотреться в комнате. Однако в довольно скудной обстановке не было ничего замечательного, и единственное, на чем задержался мой взгляд, это стол, на котором стояло десятка два телефонных аппаратов.
Перед дверью в кабинет Молотова сидел офицер в белом кителе, вооруженный гигантским пистолетом. Он скучающе развалился в кресле, вытянув перед собой ноги и засунув руки в карманы брюк. Появилась горничная в форме, похожей на больничную, с накрытым салфеткой подносом и пронесла его в кабинет Молотова. Когда она открыла дверь, я заметил накуренную комнату. Это была просторная комната с коричневой мебелью, и, перед тем как закрылась дверь, я заметил, что у молотовского стола стоит сам Сталин.
– Смотрите, Сталин! – довольно громко и взволнованно сказал я Лауксу.
Вялого офицера как будто током ударило. По-видимому, он понятия не имел, что Сталин у Молотова (наверно, он вошел через другую дверь), и он поспешно вскочил на ноги и вытянулся по стойке «смирно».
Вскоре после этого эпизода вошел граф фон дер Шуленберг, предложил мне сигарету и сказал, что сообщил Сталину обо мне и моей цели.
Через 10 минут нас пригласили войти. Молотов подошел поздороваться со мной и после краткого официального представления подвел меня к Сталину, который встретил меня дружеской улыбкой и сердечным рукопожатием.
Фактическое подписание пакта отложили, чтобы дать нам возможность сделать несколько фотографий, и мы не упустили этой возможности. Используя специальные чувствительные фотопластинки и отказавшись от вспышек, мы с Лауксом быстро принялись за работу. В кабинете находился и фотограф русской стороны – предполагаю, личный фотограф Сталина. Его фотоаппарат напоминал «лейку», но явно был низкопробной подделкой под оригинал. Поскольку в данных условиях освещенности он не мог сделать своим аппаратом фотографий без вспышки, мы имели перед ним значительное преимущество.
Однако он все-таки вознамерился сделать групповой снимок. Достав допотопный треножник, видимо доставленный с Ноева ковчега, он стал пристраивать на нем здоровенную доисторическую камеру. Потом он насыпал порядочную порцию черного порошка на жестяное блюдечко и поджег с помощью кусочка фитиля. В результате раздался взрыв, от которого затряслись оконные стекла и комната наполнилась густым дымом; а уж какая вышла фотография – если вообще вышла – я и представить себе не могу!
Подписав исторический пакт, Сталин дружеским жестом пригласил меня подойти к своему концу стола, где Молотов уже наполнял бокалы из первой бутылки шампанского. В то же время официальные участники церемонии собрались с другой стороны, и я оказался в центре.
Сталин хлопнул в ладоши, и немедленно воцарилось молчание. Все взгляды были прикованы к русскому диктатору, который повернулся ко мне, поднял бокал и сказал на ломаном немецком:
– Хочу приветствовать… Генриха Гофмана… величайшего фотографа Германии… да здравствует… да здравствует Генрих Гофман!
Потом посол сказал мне, что Сталин очень веселился, пока учил наизусть это приветствие. Тем не менее для меня это был самый лестный комплимент! Сталин снова хлопнул в ладоши.
– Бокалы! Бокалы! – воскликнул он.
Сперва я не понял, что он имеет в виду, но потом меня осенило, что он призывает налить шампанского остальным собравшимся, так как сначала Молотов наполнил только три бокала – для себя, Сталина и меня. Я заметил, что красный тиран пьет из стакана, а не бокала, видимо чтобы никто не мог его подменить.
Теперь наступила моя очередь произнести тост.
– Ваше превосходительство, – начал я, – для меня большая честь передать вам сердечные пожелания моего фюрера и доброго друга Адольфа Гитлера! Позвольте сказать вам, что он от всей души надеется когда-нибудь лично познакомиться с великим вождем русского народа!
Очевидно, мои слова произвели большое впечатление на Сталина. Через переводчика он заявил, что тоже надеется на продолжительную дружбу с Германией и ее великим фюрером.
Потом Риббентроп предложил тост за пакт, Сталина и советский народ, на что Молотов ответил несколькими уместными фразами.
Между тем произошел маленький забавный случай. Когда Сталин говорил свой тост за меня, мой коллега Лаукс сфотографировал его. Я заметил, как Сталин сделал жест, явно показывающий, что он не желает, чтобы его фотографировали, пока он пьет. Я тут же повернулся к Лауксу и попросил его проявить благоразумие и отдать мне пленку. Он сделал это с готовностью, вынул ее из камеры и передал мне, не сходя с места. Тогда я обратился к Сталину.
– Ваше превосходительство, – сказал я, – по вашему жесту я понял, что этот снимок для вас нежелателен. Позвольте мне сразу же заверить вас, что у меня не было и нет намерения его публиковать. Но для меня и моей семьи будет великой честью и удовольствием, если вы позволите мне оставить его на память об этом судьбоносном событии.
С этими словами я протянул пленку ему. Когда переводчик передал ему мои слова, Сталин улыбнулся и сунул пленку мне в руку. Едва ли нужно говорить, что я сдержал слово; и, когда после начала войны с Россией Геббельс хотел опубликовать фотографию в пропагандистских целях, я отказался отдать ее. Геббельс настаивал, но Гитлер поддержал меня, таким образом, эта фотография, по крайней мере при жизни Сталина, так и не увидела света.
Мы стояли вокруг, пока Молотов старательно наполнял бокалы превосходным крымским шампанским, и вскоре вдоль стены уже выстроился славный батальон пустых бутылок, а свеженькие, закупоренные батальоны продолжали появляться на столе.
Вспомнив об особом поручении Гитлера, я стал пристально наблюдать за Сталиным. Я разговаривал с ним и Молотовым через переводчика, а когда я попробовал поговорить с Молотовым по-английски, он заявил, что знает этот язык лишь поверхностно, как и немецкий. Но у меня сложилось твердое впечатление, что оба языка он понимал гораздо лучше, чем делал вид.
Разговор зашел о Мюнхене, и Молотов сказал мне, что он тоже, как и Ленин, в молодости учился там. Когда я сказал Сталину, что побывал на могиле его жены и красота ее надгробия глубоко меня тронула, он был обрадован и растроган.
Разговор становился все оживленнее, и Сталин не уставал поднимать за меня стакан. Потом кто-то тихо похлопал меня по плечу. Это был один из чиновников МИДа.
– Мы уходим через минуту, – шепнул он. – Будьте осторожны, профессор, Сталин обожает пить, пока его гости не начинают лезть под стол!
– Не беспокойтесь, – возразил я, – даже Сталину не под силу меня перепить. В эту игру я научился играть давным-давно!
Когда мы откланялись, Сталин был крепко под мухой – по-другому не скажешь! Я выразил искреннее сожаление тем, что на следующий день нам нужно улетать из Москвы, Молотов подал голос:
– Вот увидите, мы встретимся снова – здесь или в Берлине!
Мы сели на аэродроме Темпльхоф, и Риббентроп тут же поспешил в рейхсканцелярию, чтобы сделать доклад Гитлеру, а я поспешил к себе в фотолабораторию, чтобы лично проявить фотографии, представлявшие историческую важность. Через час с целым набором отличных снимков я был у Гитлера, который ждал меня. Коротко поздоровавшись со мной, что ясно свидетельствовало о его нетерпении, он задал мне первый вопрос:
– Ну, какое же общее впечатление произвел на вас Сталин?
– Честно говоря, глубокое и очень приятное. Несмотря на приземистую фигуру, это прирожденный вождь. Голос у него приятный и мелодичный, а в глазах видны ум, доброжелательность и проницательность. Он оказался замечательным хозяином, обращался с нами без всяких церемоний и притом нисколько не терял достоинства. Я думаю, подчиненные глубоко его уважают.
Гитлера больше всего интересовало, что я скажу о том, как относится Сталин к своему окружению.
– Он приказывает? – спрашивал он. – Или облекает приказы в форму пожеланий?
– Как правило, для выражения своих пожеланий он использует Молотова, – ответил я, – а потом прибавляет несколько вежливых слов от себя. Однако что меня поразило, это как он контролирует всех окружающих одним взглядом или коротким, едва заметным движением руки.
Гитлер улыбнулся.
– Кажется, друг мой, великий Сталин вас совершенно очаровал, – сказал он. Потом нахмурился и неподвижно уставился на лацкан моего пиджака. – А что, позвольте узнать, вы сделали со своим значком компартии? – спросил он.
– Снял – покамест. Кто знает, что нам готовит будущее! – отшутился я.
Гитлер добродушно принял мою шутку, хотя никогда нельзя было знать заранее, как он отреагирует на подобные остроты. На опыте нашей долгой и близкой дружбы с ним я могу сказать, что почти всегда его реакция на разные вещи была противоположной тому, чего от него ожидали.
Я рассказал Гитлеру об эпизоде с офицером у дверей молотовского кабинета.
– А что насчет его здоровья? Говорят, он очень болен, и потому у него целая армия двойников. Или вы думаете, что человек, которого вы видели, это как раз одна из таинственных теней Сталина? – шутливо спросил Гитлер.
– Судя по тому, что он дымил как паровоз, пил как сапожник, а в конце выглядел как огурчик, должен сказать, что это вполне вероятно, – ответил я, смеясь.
– Он действительно так много курит? – Гитлер покачал головой. Он никак не мог понять, почему люди курят.
– Ну, судя по этому эпохальному приему, можно сказать, что он заядлый курильщик.
– Скажите, какое у него рукопожатие?
– Твердое и сердечное, оно очень мне понравилось, – ответил я вполне искренне.
Однажды Гитлер сказал мне, что терпеть не может людей, которые протягивают вялую руку и не отзываются на рукопожатие.
– Когда он велел вам передать мне его пожелания, вы думаете, это был всего лишь ответный жест вежливости или там была доля искренности?
– Я вполне уверен, что это была не простая формальность, герр Гитлер. Я от души верю, что он совершенно искренен в своих дружеских чувствах к вам и немецкому народу.
Гитлер взял подборку фотографий, рассмотрел каждую по очереди, испытующе задавая вопросы по существу каждой из них.
– Как жалко! – печально сказал он наконец, качая головой. – Ни одна не годится!
– Что?! – вскричал я, огорошенный. – Да почему же? Что в них такого?
– На всех фотографиях Сталин с папиросой, – сердито ответил он. – Вы только подумайте, Гофман, представьте, если б я на всех фотографиях появлялся с папиросой в руке! Об этом не может быть и речи.
– Но Сталин с папиросой – это как раз очень типично, – возразил я.
Но Гитлер ни за что не соглашался. Немецкий народ, утверждал он, будет оскорблен.
– Подписание пакта – очень серьезное и торжественное событие, – сказал он, – и к нему нельзя приступать с папироской в зубах. От такой фотографии веет легкомыслием! Прежде чем передать снимки в печать, попробуйте заретушировать папиросы.
Зная его отрицательное отношение к курению, я не сказал больше ни слова; папиросы как следует заретушировали, и во всех газетах Сталин был безупречен, словно никогда не брал в руки табака! Однако я не смог справиться с искушением и похвалил отличное крымское шампанское, отлично зная, что получу резкую отповедь от такого непримиримого трезвенника. К моему удивлению, он не клюнул на приманку. Но все-таки подколол меня!
– В Москве, – сказал он, – в сложившихся обстоятельствах спиртное было существенным условием, и я рад, что послал к непьянеющему Сталину выпивоху ему под стать.
Глава 5 С ГИТЛЕРОМ В ПОЛЬШЕ
Однажды, в драматические дни августа 1939 года, когда мы с Гитлером остались наедине после визита английского посла Хендерсона, я отважился высказать опасение, что Британия вступит в войну.
– Не верьте этому! – резко возразил Гитлер. – Англия блефует! – И потом добавил с той озорной улыбкой, которая так редко появлялась на его лице: – И я тоже!
Фактическое объявление войны со стороны Великобритании вызвало внезапный отток масс от партии – мне ярко помнится разительный контраст между неистовым энтузиазмом 1914 года и глубокой подавленностью 1939-го – и нечто вроде оцепенения в нашем ближайшем кругу.
В то время я находился в рейхсканцелярии и зашел ненадолго к Гитлеру, после того как от него вышел Риббентроп. Гитлер сидел в кресле развалясь, глубоко задумавшись, на его лице застыло выражение неверия, недоумения и огорчения.
Рукой он сделал жест почти безнадежной покорности.
– И за это, друг мой, – проговорил он, – надо сказать спасибо этим болванам, этим так называемым экспертам из министерства иностранных дел.
Я, конечно, знал, о чем он говорит. Я неоднократно лично слышал, как Риббентроп с апломбом и самоуверенностью, несоразмерными его опыту и недостатку здравого смысла, заверял Гитлера, что Британия вырождается, что Британия ни за что не станет сражаться, что Британия никогда не вступит в войну ради чужих интересов и т. д. Нет никаких сомнений, что в политической игре, окончившейся этой катастрофической развязкой, повинны именно и прежде всего подсказки Риббентропа, которые способствовали неверным выводам и ошибочным ходам Гитлера, которые в конечном итоге привели его к гибели, а его страну к краху.
Едва я успел уйти от него, как получил срочный телефонный звонок от жены. Никогда, ни раньше, ни потом, я не видел, чтобы она была в таком отчаянии. Обычно живо на все отзывавшаяся, но умевшая держать себя в руках, она едва могла говорить от обуревавших ее чувств, после только что прослушанной торжественной речи Даладье.
– Генрих! – кричала она с рыданием в голосе. – О, Генрих, сейчас же, сию же минуту иди к Гитлеру, умоляю тебя, используй все свое влияние, чтобы он прекратил этот ужас, пока не будет слишком поздно!
Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Неужели она думает, что я, закадычный друг и придворный шут, как меня иногда и не без оснований звали, способен остановить огромные колеса судьбы, которые запустил Гитлер? «В кои-то веки я оказался прав, а он ошибся, – мрачно подумал я, – только это как-то не утешает!»
1 сентября 1939 года начался блицкриг против Польши. Когда начали приходить донесения об удивительно быстром и успешном продвижении наших войск, мы с Гитлером и его ставкой отправились на фронт в спецпоезде, который впоследствии стал его штаб-квартирой на всю трехнедельную кампанию. Оттуда он мог следовать за наступающей немецкой армией, и каждый день мы приближались к какому-то участку линии фронта на самолете или небольшой моторизованной колонной под огневым прикрытием.
Эти переезды отнюдь не были безопасны, поскольку в лесах по обе стороны от дорог укрывались крупные соединения разбитой польской кавалерии. Если б только они знали, кто едет посреди маленькой колонны, если б они только поняли слабость охранных пикетов – один стрелок на сто метров, – им было бы проще простого разделаться и с самим Гитлером, и со всем его окружением. Было несколько случаев, когда нам едва удалось избежать беды, но нам по-прежнему везло, и мы продолжали путь невредимыми. Что касается меня, то, рискуя показаться несколько непочтительным, должен признаться, мне надоело слышать в сотый раз, как милостиво к нам Провидение!
Впервые в жизни я увидел поле боя. На борах Тухольских по обе стороны дороги, насколько видел глаз, лежала мешанина покореженных и брошенных винтовок, пулеметов, аптечек, всевозможного снаряжения и чудовищно изувеченных тел солдат и лошадей, быстро разлагавшихся под горячим сентябрьским солнцем. Ужасное зловоние стояло над местностью, и я никогда не забуду этого кошмарного и жуткого зрелища, которое лишило в моих глазах превосходно задуманный и осуществленный план Гудериана всего его блеска.
Еженощно мы возвращались в штаб, сплошь перепачканные желтой пылью польских дорог, так что нас не узнала бы родная мама. Однако, к счастью, в спецпоезде были душевые и приличная парикмахерская, и к полуночи мы снова превращались в цивилизованных людей и собирались за чашкой чая на обычное ночное совещание.
Во время кампании я не сделал и доли тех хороших фотографий, каких можно было бы ожидать от опытного фоторепортера. Тем не менее мне все же удалось сделать достаточно снимков, чтобы они составили альбом «С Гитлером в Польше», и тем самым внести ценный вклад в иллюстрирование истории войны.
Между окончанием польской кампании и открытием военных действий на западе Гитлер в основном оставался в Оберзальцберге. Для меня как для фотографа это было очень скучное время. Фотографировать было нечего.
Днем 8 ноября 1939 года мы, как обычно, сидели с Гитлером в мюнхенском кафе «Хек».
– Вы поедете со мной в Берлин после празднования годовщины в «Бюргербройкеллере»? – спросил он.
– Кажется, я не смогу, – ответил я.
– Прошу вас, подумайте – может быть, у вас получится!
Казалось, ему было нужно, чтобы я непременно поехал в Берлин вместе с ним; и в «Бюргербройкеллере», перед тем как взойти на трибуну, чтобы произнести свою речь, он снова спросил меня:
– Ну, Гофман, вы подумали? Едете со мной?
А когда я извинился, сославшись на неотложные дела, он как будто был очень разочарован.
Что-то явно не давало ему покоя. Он закончил речь гораздо раньше обычного и, уходя, не пожал руки своим старым товарищам, как делал каждый год на этом праздновании. Казалось, что-то гнало его вперед, ощущение чего-то срочного и неотложного, и «старая гвардия» разочарованно смотрела ему вслед, когда он резко повернулся и быстро вышел из зала. После его ухода зал вскоре опустел, а через несколько минут я убрал фотоаппарат и тоже вышел. В зале оставалось лишь несколько старых соратников и обслуживающий персонал.
Когда мы ехали через мост Людвига в сторону «Ратскеллера», я услышал звук взрыва.
– Что это? – сказал я шоферу. – Похоже на взрыв!
Шофер пожал плечами.
Когда я приехал в «Ратскеллер», меня немедленно вызвали к телефону. Звонила Гретель Браун, сестра Евы Браун.
– «Бюргербройкеллер» взорван! – сказала она взволнованно.
– Чепуха какая-то! Это дурацкие слухи! – гневно возразил я. – Я сам десять минут как оттуда. Не обращайте внимания на всякий вздор.
Я вернулся к своему столу, как вдруг мне вспомнился грохот, который мы слышали по дороге. «Что это было?» – подумал я. И тут меня снова позвали к телефону. На этот раз на проводе оказалась сама Ева.
– Отец только что вернулся домой весь в мелу и пыли. В «Бюргербройкеллере» взорвалась бомба!
Я бросился назад в «Бюргербройкеллер», чтобы увидеть, насколько он пострадал. Большая часть крыши обрушилась, врачи занимались ранеными, и, к несчастью, многим уже не нужна была никакая медицинская помощь. Бомбу с дистанционным взрывателем заложили в колонну за ораторской трибуной.
Если бы Гитлер благодаря какой-то необъяснимой интуиции не сократил свою речь, он, несомненно, оказался бы жертвой заговора – и большинство собравшихся вместе с ним.
Ходили всевозможные слухи и догадки. Одни говорили, что здесь замешаны британцы, другие утверждали, что это подстроенная провокация, чтобы вызвать народное возмущение и подстегнуть военный энтузиазм. Арестовали часовщика по фамилии Эльзер. Он сознался, что заложил бомбу, но отказался назвать соучастников или заказчиков, нанявших его для этого дела. Через пару дней мы говорили с Гитлером о происшедшем.
– У меня было очень необычное чувство, – сказал он, – я сам не знаю, как или почему, но я почувствовал непреодолимую потребность уйти оттуда как можно скорее.
Политический горизонт был ясен и пуст; состоялось несколько массовых митингов, сборов в фонд зимней помощи и т. д. Фотографировать там я предоставил своим ассистентам. Сам же с большим облегчением наконец-то вернулся в Берлин.
В отеле «Кайзерхоф», где я всегда останавливался, будучи в Берлине, у меня в номере зазвонил телефон. В телефонной трубке я услышал одного из адъютантов фюрера:
– Будьте любезны немедленно явиться в рейхсканцелярию!
Наконец-то что-то происходит, подумал я.
Когда я пришел по вызову, меня принял адъютант.
– Все сведения о предстоящей вам поездке вы должны хранить в строжайшей тайне. Никто не должен видеть ваш фотоаппарат, вам следует взять с собой только абсолютный минимум багажа, чтобы вашего отъезда никто не заметил!
Велев мне вернуться в гостиницу и все приготовить, он добавил, что, уходя из отеля в рейхсканцелярию, я не должен пользоваться лифтом, но выйти через запасной ход.
Прежде чем мы сели в ожидавшие нас машины, мне удалось обменяться с Гитлером несколькими словами.
– Куда мы, Гитлер, в Норвегию? – спросил я.
– Да, – ответил он, – кто вам сказал?
– Никто, просто догадался, – поспешно сказал я.
Гитлер оценивающе глядел на меня с минуту.
– Ладно, только никому ни слова, Гофман!
Эскорт отправился в направлении аэропорта Стаакен, но, ко всеобщему удивлению, там не остановился, а поехал дальше. Остановился только последний автомобиль, чтобы загородить дорогу для всех следующих машин. Мы продолжали путь, как будто собирались проделать все путешествие на колесах. Но вдруг мы остановились у закрытого железнодорожного переезда со шлагбаумом, где стоял спецпоезд фюрера. Нам велели как можно быстрее садиться в поезд, и через несколько минут он двинулся на север. Вся честная компания собралась в вагоне-ресторане и начала обмениваться гипотезами. Мы направлялись в сторону Гамбурга, и все сошлись на том, что мы едем в Норвегию. Гитлер только улыбался и поощрял нас в наших догадках. Он обернулся ко мне.
– Ну, Гофман, вы взяли с собой надувной круг для плавания? – спросил он.
– Нет, герр Гитлер, не взял, – ответил я. – Во-первых, я умею плавать, а во-вторых, я вполне уверен, что он не понадобится, потому что вы плавать не умеете, а свой круг не взяли!
В Седле поезд остановился. Руководитель пресс-группы Дитрих принес последние телефонограммы из Берлина, и ночью поезд продолжил путь. Гитлер просмотрел телефонограммы и затем удалился к себе, пожалуй раньше обычного.
Примерно в полночь, к своему изумлению, я увидел, что мы снова проезжаем Селле. На рассвете, необычно рано для него, Гитлер вышел к завтраку, и тогда стало ясно, что весь ночной переезд был камуфляжем, чтобы скрыть истинный пункт назначения. Пока всходило солнце, Гитлер достал из кармана часы и положил их перед собой. Вскоре он снова взял их в руку, начал отсчитывать секунды и потом торжественно сказал:
– Господа, ровно пять сорок пять – в этот самый миг раздаются первые выстрелы!
Это было 10 мая 1940 года. Началось наступление на запад! Еще один из сюрпризов Гитлера!
Дату наступления, как мне сказали, откладывали несколько раз. Гитлер решил, что она будет зависеть от погоды, и метеопрогноз заставил его выбрать 10 мая. Метеоролога, давшего точный прогноз, позднее наградили прекрасным золотым хронометром с приличествующей случаю надписью.
При ярком солнечном свете мы доехали до Ойскирхена, что под Кельном, где пересели в ожидавшие нас автомобили. Через час мы прибыли в «Фельзеннест»[7], первую из ставок фюрера неподалеку от Мюнстера на Эйфеле.
В июне 1940 года в своей ставке «Вольфсшлюхт» в Брюи-де-Пеш под Брюсселем Гитлер получил известие о капитуляции французов. На мгновение он отбросил достоинство Верховного главнокомандующего вооруженными силами и радостно стал хлопать себя по бедру; и именно тогда Кейтель, охваченный чувствами, сказал пророческую фразу: «Мой фюрер, вы величайший полководец всех времен!»
Неподалеку от штаб-квартиры стоял прелестный домик, из которого по соображениям безопасности выселили жильцов. Размещенные в нем солдаты показали мне маленькое обращение, которое нашли приколотым к двери: «Владелец этого дома – местный учитель немецкого языка. Он просит всех, кто может оказаться в нем, уважать его собственность. Бог да наградит вас!»
– Вы бы посмотрели, герр Гитлер, с какой любовью его соотечественники присматривают за садиком и как заботливо они относятся ко всему, что есть в доме, – сказал я, рассказывая Гитлеру об этом случае.
Он явно был очень доволен.
– Я не хочу, чтобы мои солдаты вели себя во Франции так, как вели себя французы на Рейне после Первой мировой! – Его лицо приобрело суровое выражение, когда он продолжил: – Я приказал всех мародеров расстреливать на месте, хочу добиться с Францией истинного взаимопонимания. Я предложу им очень легкие условия перемирия и заключу с французами самый великодушный мир, хотя это они объявили мне войну.
Потом мы поехали в Компьен. Я не мог удержаться от того, чтобы не сообщить Гитлеру о своих впечатлениях.
– Это место стало для французов чем-то вроде паломнического центра, – сказал я. – Обычно паломники покупают иконы и молитвы. Но здесь все покупают открытки и цветные картинки с подписанием перемирия 1918 года!
– Я не виню французов за это, – сказал Гитлер и сделал приглашающий жест. – Но теперь наша очередь, Гофман! Пойдемте дальше!
Так я запечатлел на фотопленке исторические события в том же самом железнодорожном вагоне в Компьенском лесу; как и у моих французских коллег в 1918 году, мои фотографии 1940 года разошлись до краев земли.
Пока мы ехали от «Вольфсшлюхта» до павшего Парижа, Гитлер сказал:
– Я так рад, что Париж спасен. Какая была бы тяжелая потеря для европейской культуры, если бы этот чудесный город пострадал[8].
Один случай он никак не мог забыть – когда побывал в опере.
– Это моя опера! – вскричал он весело. – С ранней юности я мечтал увидеть этот великолепный образец французского архитектурного гения!
Война, власть, политика – все было забыто, и он ходил по зданию Оперы, как будто собирался навсегда запомнить все его уголки.
Еще он посетил Дом инвалидов, где долго стоял в благоговейном раздумье, будто разговаривая с великим императором.
– Это был величайший и замечательнейший миг моей жизни, – тихо сказал он.
Осенью 1940 года завершилась подготовка к операции «Морской лев» – вторжению в Британию. Откомандированные войска уже сконцентрировались в районах высадки на побережье Ла-Манша, военно-морские и воздушные силы стояли наготове, и Гитлеру оставалось лишь нажать кнопку, чтобы операция началась. Британия тоже находилась в полной боевой готовности, с часу на час ожидая стремительной атаки… Но ничего не произошло.
Отказ от операции породил множество слухов и догадок. Все знали, что, разгромив Францию, Гитлер твердо намеревался сокрушить Великобританию; но в последний момент передумал и решил вместо этого напасть на Россию и, таким образом, повернул ход войны так, что итогами ее историки будут заниматься еще много лет.
Сам я не знал ни о планах, ни о подробностях операции «Морской лев», ибо в этом случае, как и во всех остальных, Гитлер следовал своему неизменному принципу: каждому отдельному человеку заранее нужно сообщать только те подробности, которые необходимы ему для выполнения своей роли в общем замысле. По этой причине события осеннего вечера 1940 года, кажется это было 19 или 20 сентября, не произвели на меня никакого особенного впечатления – в то время.
Я, как обычно, обедал в берлинской рейхсканцелярии и, явившись туда, ощутил какое-то сильное напряжение между приглашенными гостями. Я понял, что в тот день на совещании по положению на фронте участники высказывали диаметрально противоположные взгляды, и вся компания сидела как на иголках, ожидая прихода Гитлера в мучительной неизвестности.
– Если он все-таки отдаст приказ сегодня в десять вечера, – услыхал я слова штабного офицера, – мы принесем глупую и бессмысленную жертву. Нам это будет стоить тысяч жизней, а большая часть флота погибнет.
Пока я раздумывал над этим критическим замечанием, два офицера морского и воздушного штабов отвели меня в сторону.
– Герр Гофман, – сказал один из них, как только мы отошли на достаточное расстояние, чтобы нас не слышали остальные, – очень важно, чтобы в таких погодных условиях Гитлер не приступал к выполнению своего плана, и начальники штабов дали нам указание убедительно попросить вас помочь нам и уговорить Гитлера отказаться от его намерений.
– Каких намерений? – осведомился я.
– Пока я не могу этого сказать. Но если эта колоссальная операция начнется в такое ненастье, она окончится катастрофой для всей страны.
– И что же, господа, вы ждете от меня? Вы не хуже меня знаете, что если Гитлер на что-то решился, ничто и никто, даже Геринг и Ре дер, не могут заставить его передумать, и любая попытка его переубедить только укрепит его решение.
– Пусть так! Именно поэтому мы, военные, не смеем n пытаться с ним спорить. На сегодняшнем совещании штаб сделал все, что мог, но мы добились только отсрочки окончательного решения до десяти вечера сегодняшнего дня.
В голосе офицера звучала настойчивость.
– Ради бога, герр Гофман, придумайте какой-нибудь ваш знаменитый анекдот, постарайтесь увлечь его разговором, пока не пройдет десять часов.
Я, как обычно, сел слева от Гитлера и глубоко задумался. Хотя я по-прежнему не подозревал, о чем идет речь, мне было понятно, что проблема, какова бы она ни была, имеет жизненно важное значение. Затем я поймал себя на другой мысли. А что, если Гитлер прав, а военные советники ошибаются? Известно, что такое уже бывало раньше, и они слишком многого хотели от простого фотографа, прося его вмешаться и повлиять на решение Гитлера. Но военные придерживались столь единодушного мнения, что я решил попробовать выполнить их просьбу.
За столом Гитлер не любил говорить о делах, и, как только мы поднялись, я пустился в болтовню: поговорил о новостях, рассказал несколько последних анекдотов и перешел от сегодняшнего дня к байкам из «старых добрых времен», которые, как я знал, Гитлер очень любил. Я говорил о баварской революции 1918 года и последующих событиях 1919 года. Сначала Гитлер казался рассеянным и невнимательным, но это были увлекательные времена, а так как я сам находился в гуще событий, то история от повторения становилась только интереснее. Постепенно я завладел его вниманием, наконец он полностью погрузился в разговор и стал засыпать меня вопросами. Эти вопросы оказались неожиданной удачей и дали мне возможность и дальше молоть языком, в противном случае я просто не знал бы, что делать, поскольку запас историй подходил к концу. У меня уже начинала кружиться голова, как вдруг Гитлер поднялся.
– Господа, – сказал он, – я устал. Сегодня вечернего совещания не будет.
Я посмотрел на часы – почти полночь!
Когда Гитлер уходил, на его лице играла загадочная улыбка. Напряжение тут же спало. Два моих офицера поспешили ко мне.
– Гофман, когда германский народ узнает, что вы сегодня совершили, он будет вечно вам благодарен.
И лишь намного позже, в 1954 году, я узнал от доктора Курца, который в тот раз тоже находился в ставке, что именно тогда решался вопрос о начале вторжения на Британские острова!
Я так никогда и не узнаю, правильно ли поступил. Но я уверен, что Гитлер уже сам пришел к нерадостному выводу о том, что штабные правы и что он должен отменить первоначальный приказ. И он ухватился за представившуюся возможность, которую я дал ему своей болтовней, чтобы сделать это молча и незаметно и не потерять лица.
После завершения французской кампании и подписания перемирия в Компьене Гитлер с коротким визитом приехал на французский фронт и затем удалился в Оберзальцберг. Хотя в то время он был вполне уверен, что окончательная победа у него в руках, слишком многое тревожило его, чтобы он мог позволить себе успокоиться по-настоящему и надолго. Его ум не покидала мысль, что затишье на фронте ни в коей мере не свидетельствует об окончании войны, и он еще более сосредоточенно взялся за разработку планов, которые могли принести окончательную победу и скорый мир.
По тому, как часто упоминалась Россия на наших вечерних совещаниях, было очевидно, что Гитлер уже обдумывает мысль о военной кампании против русских. В то же время, как бы для того, чтобы заранее оправдать себя, он часто жаловался, что Россия выполняет не все условия советско-германского пакта в том, что касается обмена товарами, и это невыполнение условий он относил за счет недостатков советской системы сообщений.
Узнав, что Россия принимает меры, которые неизбежно должны привести к войне, он решил, что должен вернуться в Берлин и поселиться в рейхсканцелярии. Таким образом, наши мирные деньки в Оберзальцберге подошли к концу и, за исключением очень кратких периодов, больше уже не повторялись. Несмотря на наш отъезд, работа по сооружению в Оберзальцберге обширной системы подземных туннелей продолжалась с той же скоростью. Эти туннели должны были соединить Бергхоф с близлежащими казармами СС, а боковые туннели вели к резиденциям Бормана и Геринга. Кроме того, что они предоставляли полную защиту от нападения с воздуха, в этих туннелях с большими кладовыми, устроенными в нишах через короткие промежутки, содержались запасы провианта и прочих предметов первой необходимости на многие годы, а также приютилось обширное и бесценное собрание произведений искусства и важных государственных документов. Как только мы приехали в Берлин, началось немедленное укрепление бомбоубежищ рейхсканцелярии на основании последнего опыта воздушных бомбардировок.
Когда «все случилось так, как должно было случиться», как сказал Гитлер в начале войны с Россией, мы тут же переехали в ставку фюрера под названием «Вольфшанце», недавно построенную в нескольких милях от провинциального городка Растенбург в Восточной Пруссии. Хотя ставка находилась на самом востоке Восточной Пруссии, это место, ловко замаскированное среди ельника, было идеально с точки зрения безопасности, и на протяжении всей кампании мы не подверглись ни одному воздушному налету. Однако, даже устроившись со всеми удобствами, мы не могли отделаться от ощущения, что сидим «за колючей проволокой», будто в тюрьме; и даже такие удовольствия, как турецкая баня, офицерский клуб, бассейн, кафе и кинотеатры, не могли рассеять чувства тревоги.
Стояло лето 1941 года. Подобно Наполеону, Гитлер завоевал почти всю Европу. Я невольно возвращался мыслями к его первой поездке в Париж годом раньше. Какие замыслы, думалось мне, бродили в его голове в то время, когда распростертая Франция лежала у его ног, а он, торжествующий вождь немецкого народа, благоговейно стоял перед последним приютом великого корсиканца.
А теперь?.. Объявленная война не вызвала никакого энтузиазма у немецкого народа, напротив, большинство охватили мрачные предчувствия. Люди помнили, что даже Наполеону с большим трудом удалось добраться только до Москвы – и какой ценой! В ставке, несмотря на то что все делали вид, будто уверены в успехе, в действительности явно чувствовалась та же скрываемая атмосфера пессимизма.
Сидя наедине с Гитлером в восточнопрусском «Вольфшанце», я осмелился задать ему вопрос.
– Как получилось так, что началась новая война? – спросил я.
Мне показалось, будто он ждал этого вопроса.
– По стечению обстоятельств, – ответил он. – Нам пришлось сделать первый шаг и нанести предупредительный удар – и, подчеркиваю, нужно как можно яснее растолковать немецкому народу, что это действительно превентивная война. Я должен был первым нанести удар, прежде чем это сделают русские! Это было жизненно необходимо. Эти, – он имел в виду британцев, – отнюдь не собираются добиваться мира. Бог знает, я ждал достаточно долго; но у меня нет иного выхода, кроме как рискнуть и открыть войну на два фронта. Нам нужно топливо для самолетов и танков, и мы должны любой ценой прорваться к нефтяным месторождениям русских. – Невидящим взглядом он посмотрел вдаль. – Я не мог поступить иначе, – заключил он.
Глава 6 ГИТЛЕР: РЕЛИГИЯ И ПРЕДРАССУДКИ
В первые годы нашего знакомства мы никогда не обсуждали между собой отношение Гитлера к двум крупнейшим конфессиям христианской религии. Только потом, когда проявились разногласия, он определил свою позицию по этому весьма непростому вопросу.
За двадцать пять лет Гитлер пережил полную духовную метаморфозу, которая изменила сам подход к вопросам религии. Однако, несмотря на это, он никогда не относился к церкви с той яростной агрессией, которой отличалась позиция некоторых его подчиненных и гаулейтеров.
– Я нуждаюсь в христианской церкви точно так же, как монархия и другие прошлые формы правления.
За несколько дней до начала войны закулисная борьба усилилась, и Гитлеру пришлось вмешаться.
– Слишком много злословия с обеих сторон, – сказал он. – И хотя я не могу безропотно мириться с сопротивлением церкви, я должен также осудить и ответные меры, принятые с нашей стороны. Я вполне четко объяснил всем моим соратникам, что в случае войны нам понадобится помощь церкви.
Одним из самых фанатичных противников церкви в партии был Борман, обычно Гитлер закрывал глаза на его поступки, но, когда Борман ввел много репрессивных мер, Гитлер не согласился с ним.
Однажды во время войны, когда я находился в Вене, Бальдур фон Ширах, очаровательный молодой человек частично американского происхождения, стройный, спортивного сложения, проницательного ума и увлеченный современными направлениями искусства, который женился на моей дочери Генриетте в 1933 году и стал вождем гитлерюгенда, упросил меня обратить внимание Гитлера на те меры, которые принимались против католической церкви и дискредитировали Третий рейх в Австрии. Он обратился ко мне, как я объяснил Гитлеру, потому, что письма, которые он писал, были изъяты Борманом, прежде чем успели дойти до фюрера. Однако Гитлер проигнорировал мои возражения и удовлетворился тем, что сказал убитым голосом:
– Я совершенно ничего не знаю об этих случаях в Австрии. Вы хотите наговорить мне еще таких же неприятных вещей?
– К сожалению, да. Герр Гитлер, вам известно, что из баварских школ изымаются распятия? Говорят, что гаулейтер Вагнер приказал изъять их по указанию Бормана.
– Вы в этом вполне уверены?
– Я могу представить доказательства! Кроме того, Борман учинил обыски во всех монастырях, чтобы найти там некоторые книги, которыми он собирается пополнить свою обширную антиклерикальную библиотеку. Несколько монастырей попросту закрыли, а старых монахинь, которые прожили там всю жизнь с самой юности, отправили в богадельни, где большинство из них окончат свои дни. Уверен, герр Гитлер, вы не забыли тот случай, когда мы приехали в мюнхенский госпиталь, где все сестры милосердия были католическими монахинями. Вы помните, какое впечатление на вас произвела их самоотверженность? Вы сказали, что не позволите никому из членов партии чинить препятствия этим сестрам милосердия или вмешиваться в их дела.
Гитлер тут же послал за Борманом и в моем присутствии резко сказал:
– Это нужно немедленно прекратить!
Борман со своим «дипломатом» под мышкой выпрямился по стойке «смирно».
– Хорошо, мой фюрер, я немедленно передам ваш приказ по телетайпу всем соответствующим властям.
Потом, бросив недовольный взгляд в мою сторону, он вышел.
Борман собрал все свидетельства, говорившие против церковников, которые только смог отыскать, и опубликовал их одной книгой. Когда она вышла в свет, к Гитлеру обратился кардинал Фаульхабер и получил приглашение на обед в Оберзальцберг. Состоялась беседа, во время которой архиепископ Мюнхена передал Гитлеру прошение о том, чтобы изъять это весьма сомнительное сочинение. Его доводы убедили фюрера, который немедленно приказал Борману уничтожить весь тираж.
Передавая подробности беседы нескольким близким друзьям, Гитлер проявил сдержанность в отношении церковных дел, – признаться, не без примеси политической целесообразности, – которая совершенно отсутствовала у него в более поздние, военные годы. Кроме того что он признавал ум кардинала Фаульхабера и огромное влияние, которым он обладал, Гитлер напомнил нам, что Бавария – страна набожных католиков и что политик, рискующий попирать глубокие религиозные чувства народа, не может называться политиком.
– Истинный народный вождь, – заявил он, – не подчиняет силой, а убеждает в своей правоте. Только против тех, кто, вопреки мнению общества, по-прежнему противостоят ему и тем наносит вред общему делу, он должен прибегнуть к насилию, и тогда он должен быть абсолютно беспощаден.
Многие высокопоставленные прелаты пользовались особым уважением Гитлера. Аббат Шахляйтнер часто приходил к нему, чтобы обсудить церковные дела. Во время посещения рейнского монастыря Марии-Лаах у Гитлера состоялся долгий и оживленный разговор с настоятелем этого знаменитого центра паломничества.
В 1925 году я решил, что настала пора отправить моего девятилетнего сына в школу-интернат, и посоветовался с Гитлером.
– Очень рекомендую вам отправить его в монастырскую школу, – сказал он. – Для молодых людей монастырь – лучшее учебное заведение. У Зимбахского монастыря на Инне, что напротив Браунау, в дни моей юности была отличная репутация.
Этот совет привел меня в изумление, ибо Гитлер конечно же знал, что я протестант. Но я принял его совет, и он отвез моего сына в монастырь на своем новом «мерседесе» и лично препоручил его заботам матери настоятельницы.
– Вы уж сделайте из него порядочного человека, – предупредил он ее, уезжая.
А по дороге домой сказал мне:
– Вам следует сделать монастырю подарок – какую-нибудь хорошую картину.
Когда я в следующий раз приехал навестить сына, то взял с собой прелестную картину маслом с изображением Святого семейства для монастырской часовни, и ее там приняли с большой радостью и благодарностью.
К сожалению, церковь почти не пыталась перекинуть мост через растущую пропасть между нею и национал-социализмом.
Позиция по отношению к нацизму, которую в Вене в 1938 году кардинал Иннитцер рекомендовал занять всем католикам, по большей части оставалась исключительно теоретической. Вновь и вновь с амвона звучали политические проповеди, но приводили они только к тому, что Борман получил законный предлог вмешаться. И впоследствии немало проповедников угодило в концентрационные лагеря. В лагеря они отправлялись только после приговора суда.
– Я отпущу на волю любого священника, – заявлял Гитлер, – при условии, что он согласится подписать обязательство не вмешиваться в политику и ограничиваться лишь своими духовными обязанностями. Но они отказываются подписывать. По-моему, это доказывает, что для них политические дела важнее духовных. Если эти господа желают строить из себя мучеников – Бог им в помощь!
Но, несмотря на все это, действительно непримиримого конфликта между церковью и государством никогда не существовало. Папский нунций монсеньор Орсениго неизменно присутствовал на новогодних приемах и передавал Гитлеру, как главе немецкого государства, добрые пожелания и благословение папы римского.
Однажды за ужином Гитлер сказал нам, что приказал арестовать пастора Нимёллера – того самого Нимёллера, который в 1935 году говорил о том, что «среди нас начался великий труд по объединению нашего народа»[9]. Борман понимающе кивнул.
– Служба наблюдения подала мне рапорт, где содержалась дословная расшифровка телефонного разговора между Нимёллером и еще каким-то братом во Христе. Там Нимёллер не только с большой злобой высказывался лично обо мне, но и выражал изменнические взгляды. Я приказал привести его ко мне, и когда он с елейным видом стал заверять меня в своем почтении, я сказал ему напрямик, что его преданность одно лишь сплошное лицемерие. Я показал ему рапорт и отказался выслушивать какие-либо объяснения, а потом передал его в гестапо.
Через несколько лет я спросил Гитлера, почему Нимёллер до сих пор в тюрьме.
– Он останется там, где он есть, пока не подпишет обязательство, – категорически заявил Гитлер.
В то же время он приказал Гиммлеру, чтобы к заключенному Нимёллеру относились хорошо.
Гитлеру очень нравилось бывать в церквах. И хотя его интерес ограничивался архитектурой, скульптурами и росписью, он всегда строго придерживался церковных ритуалов.
Во времена нашей дружбы наш общий интерес к искусству заставил нас посетить огромное количество церквей. Среди прочих мы побывали в моряцкой церкви в Вильгельмсхафене. Когда мы выходили, я сфотографировал Гитлера. Гитлер медленно спускался по лестнице, и, когда золотой крест больших ворот оказался ровно у него над головой, я снял его. По-моему, получился интересный и необычный снимок. Но церковные противники в партии придерживались диаметрально противоположного мнения. Когда снимок появился в моей книге «Неизвестный Гитлер», меня обвинили в том, что я пытаюсь представить его набожным христианином. Даже Гесс потребовал изъять фотографию, но я представил вопрос на рассмотрение лично Гитлеру, чтобы он решил сам.
– То, что я был в церкви, это факт. Мои мысли вы сфотографировать не могли, и не вы поставили крест, который на снимке случайно оказался ровно над моей головой. Оставьте как есть, Гофман. Если люди подумают, что я набожен, какой может быть от этого вред!
Гитлер твердо верил, что судьба выбрала его для того, чтобы вывести немецкий народ на такие высоты, о которых он не смел и мечтать. И его приход к власти, огромный успех, которого он добился сразу же, как только взял страну под свое руководство, только укрепили эту веру и в самом Гитлере, и в его сторонниках.
Когда в речах он обращался к провидению, он делал это не просто для риторического эффекта; он действительно верил в то, что говорил, и это убеждение становилось все тверже по мере того, как судьба, казалось, хранила его снова и снова.
Это началось с марша на Фельдхерренхалле в 1923 году. Гитлер шел впереди колонны; со всех сторон вокруг него товарищи падали под пулями, а он вышел из-под обстрела с одним вывихом плеча. Покушение на его жизнь в «Бюргербройкеллере» в ноябре 1939-го было организовано таким образом, что не могло провалиться. Какая же таинственная сила убедила Гитлера против обыкновения уйти раньше? Даже в покушении 20 июля 1944 года он единственный не получил серьезных ранений. Что заставило полковника Штауффенберга в последний момент убрать вторую бомбу из портфеля? Если бы он оставил ее, заговорщики неизбежно достигли бы результата, к которому стремились.
Но не только в этих случаях жизнь Гитлера висела на волоске. В период политической борьбы во время предвыборных поездок он постоянно подвергался самой серьезной опасности. Сколько тяжелых камней летело в его голову – но ни один не попал; я проехал с ним сотни тысяч километров на поезде, автомобиле и самолете и видел собственными глазами, как часто угрожала ему неминуемая смерть.
В принципе Гитлер отвергал астрологию. Он признавал, что расположение звезд вполне может оказывать какое-то влияние на судьбу человечества, но чувствовал, что интерпретация причин и следствий не имеет достаточного научного обоснования. Он любил точные науки, но это не мешало ему быть суеверным. Часто, когда он колебался, принимая какое-то решение, он подбрасывал монету. И, даже посмеиваясь над собственной глупостью, перелагая ответственность на фортуну, он всегда заметно радовался, если монетка падала именно так, как он хотел.
Он твердо верил, что некоторые исторические события повторяются с хронологической точностью. Для него ноябрь был месяцем революций, май благоприятным временем для любых начинаний, даже если конечный успех запаздывал.
В 1922 году он прочитал в астрологическом календаре предсказание, которое точно сбылось в событиях ноябрьского путча 1923 года, и потом много лет любил говорить о нем. Хотя он никогда в этом не признавался, но предсказание, несомненно, произвело на него глубокое впечатление, оставшееся на долгие годы.
За двадцать пять лет дружбы я бессчетное количество раз был свидетелем того, как он поддавался предчувствиям, начиная вдруг тревожиться без оснований и причин, которые мог бы объяснить. Во время покушения в «Бюргербройкеллере» у него опять возникло это таинственное, непреодолимое чувство, будто что-то витает в воздухе, будто что-то идет не так, и он изменил все свои планы, не имея ни малейшего понятия, почему он так поступает.
Незадолго до конца войны в его ближнем круге разгорелся спор о том, кто из трех руководителей союзных держав умрет первым и повлияет ли его смерть на ход войны.
– Я думаю, первым умрет Рузвельт, – сказал Гитлер. – Но его смерть не изменит хода войны.
Спустя две недели Рузвельта не стало.
Гитлер читал много книг по астрологии и оккультизму, но терпеть не мог «штатных астрологов». Уже после 1945 года мне рассказали, причем с многочисленными убедительными подробностями, что у Гитлера был личный астролог, как Сени у Валленштейна. Могу только поздравить рассказчика с таким богатым воображением!
Я никогда не забуду огорченного выражения на лице Гитлера, когда он в 1933 году в Мюнхене закладывал камень в основание Дома немецкого искусства. Во время символического удара серебряный молот в его руках разломился надвое. Это заметили очень немногие, и Гитлер тотчас же приказал, чтобы о злополучном инциденте нигде не упоминалось.
– Люди суеверны, – сказал он, – и вполне могут увидеть в нелепой неудаче зловещее предзнаменование.
Но, глядя на него, я понял, как он растерялся; не о людях, а о самом себе говорил он!
Такие мелкие происшествия неизменно производили на него дурное впечатление. Мы никогда не говорили о них из опасения нагнать на него тоску.
Однажды, уже после прихода Гитлера к власти, кто-то в нашем кругу заговорил о центуриях, знаменитых пророчествах астролога Нострадамуса. Гитлер очень заинтересовался и велел одному из своих чиновников принести ему сочинения Нострадамуса из государственной библиотеки, но ни в коем случае никому не говорить об этом. По правилам, нужно было внести залог в три тысячи марок, чтобы библиотека смогла выдать книги.
В пророчествах упоминается высокая гора, над которой пролетает большой орел, и Гитлер сравнил гору с Германией, а орла с самим собой. Он изучал центурии строчку за строчкой и сказал, что, хотя не может утверждать, будто бы все они имеют к нему непосредственное отношение, все же он видит в них необъяснимый феномен, и процитировал Гамлета: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам…»
Однажды, задолго до 1933 года, когда мы сидели вместе в кафе «Хек», уткнувшись в газеты, произошел один случай.
Гитлер неожиданно поднял глаза от страницы.
– Я только что прочел, что у семнадцатой вехи снова произошла серьезная автомобильная авария. Это уже четвертая с прошлой недели или около того – странно, не правда ли?
Мы увлеченно поговорили об этом, и, так как иного объяснения этим авариям не нашли, мы решили, что, вероятно, их вызывают либо подземные воды, либо какие-то колебания земли – что-то вроде земного излучения. Гитлер импульсивно сказал:
– Поедемте в это таинственное место и посмотрим сами!
Мы поехали по прямой дороге, но с нами ничего не случилось, и мы напрасно искали объяснений. Не было ни подземных течений, ни колебаний земли, ни чего-либо еще.
– Совершенно необъяснимо, – заметил кто-то.
– Когда человек сталкивается с загадкой, которую не может разрешить, он говорит, что она неразрешима, и опускает руки, – возразил Гитлер. – Религиозный человек называет это Провидением или судьбой.
Еще один случай был во время Гражданской войны в Испании, в 1936 году. Гитлер присутствовал в Вильгельмсхафене на торжественном погребении моряков, погибших под красными бомбардировками на борту крейсера «Дойчланд» у испанского побережья. На обратном пути в Берлин он приказал, чтобы специальный поезд ехал ночью, и в салон-вагоне собралось довольно молчаливое общество, только что вернувшееся с печальной церемонии.
Случайно взгляд Гитлера упал на спидометр, которым был оборудован его вагон. Он увидел, что поезд едет невероятно быстро, со скоростью 130 километров в час, и немедленно приказал дежурному офицеру передать машинисту, чтобы он сбавил скорость. Офицер вернулся почти сразу. Начальник поезда, сказал он, объяснил, что спецпоезд подали по первому требованию, и теперь он вынужден поддерживать определенную среднюю скорость, чтобы не слишком нарушать движение на главной магистрали.
Сначала Гитлер ничего не ответил. Потом вдруг произнес:
– В будущем мой поезд будет передвигаться со скоростью 55 километров в час. Много лет я ездил очень быстро на машине и на поезде. Но я ограничил скорость автомобиля пятьюдесятью пятью километрами в час и отныне так же ограничу скорость поезда. Вот, опять… у меня появилось чувство, что если я продолжу ездить на такой большой скорости, то это непременно рано или поздно приведет к аварии, в которой все мы погибнем.
Помолчав, он продолжил, как бы извиняясь:
– Не знаю почему, но сегодня мне очень неспокойно. Погребение меня расстроило, может быть, поэтому, а может быть, я старею и становлюсь нервным.
Он обвел задумчивым взглядом всех собравшихся.
– Обычно, – продолжал он, – я не думаю об опасностях повседневной жизни. Даже когда выступаю с речью – если бы ко мне привязалась мысль, что в толпе маньяк, который может меня убить, я бы не смог связать и двух слов.
Его врач доктор Брандт считал, что вероятная причина этого странного недомогания в нервном перенапряжении. Однако едва он начал говорить, поезд сильно затрясся, и мы повалились с сидений. На минуту все оцепенели. Что же случилось? Поезд сошел с рельсов? Диверсия? Завизжали тормоза, и поезд резко остановился. Мы повыскакивали из вагона в угольно-черную ночь.
При свете фонарика я медленно пошел вдоль вагона. Первым делом я увидел автомобильное колесо. Чуть дальше тело, исковерканное колесами поезда… потом еще одно… и еще одно… Я споткнулся о ведущий вал машины, валявшийся рядом с рельсами, а потом подошел к переезду с погнутым и сломанным стальным шлагбаумом, везде вокруг лежали мертвые и умирающие люди. Личная охрана фюрера поспешила на место происшествия.
Произошла ужасная авария, в которой мы сами уцелели чудом. Гастролирующий театр из двадцати двух человек возвращался домой на автобусе. Водитель, хорошо знакомый с этим участком пути, знал, что в восемь часов вечера здесь не должно быть никакого поезда, и посчитал, что шлагбаум на переезде будет поднят. Разумеется, о спецпоезде он ничего не знал. Слишком поздно он понял, что шлагбаум опущен, затормозить уже было нельзя, и он врезался прямо в голову летевшего навстречу экспресса.
Выходя из вагона, я автоматически взял с собой камеру со вспышкой и смог сделать несколько фотографий, которые впоследствии оказали весьма ценную помощь при расследовании причин аварии.
Никто из злополучного театра не спасся. Гитлера глубоко потрясла катастрофа, которую он предвидел один; с тех пор его особый поезд путешествовал не быстрее пятидесяти пяти километров в час.
Однажды ночью мы ехали из Берлина в Мюнхен в сильную грозу – натуральную бурю, – из-за которой видимость упала практически до нуля. Мы только что проехали через Лохоф, где-то в двадцати четырех километрах от Мюнхена, как вдруг в свете фар посреди дороги показался человек. Он махал руками, требуя, чтобы мы остановились. Шрек резко нажал на тормоза и еле успел затормозить. Гитлер открыл дверцу машины.
– Вы можете показать мне дорогу во Фрайзинг? – спросил человек с какой-то ненормальной интонацией.
В любом случае это был очень странный вопрос, потому что дорога на Фрайзинг лежит с противоположной стороны Мюнхена.
– Мой друг на той стороне дороги, – продолжал человек, – он останавливает машины, которые едут с другой стороны.
Гитлер что-то заподозрил и тут же захлопнул дверцу, приказав Шреку ехать как можно быстрее. Машина едва успела набрать скорость, как позади нас раздались три пистолетных выстрела.
На следующий день газеты сообщили, что в одном месте были обстреляны несколько машин и что в одном из этих случаев пуля прошла через заднее стекло и вышла через лобовое, но никого не задела. Тогда Шрек очень внимательно осмотрел машину и нашел в обивке три входных и выходных отверстия от пуль. Если бы хоть одна из них прошла на несколько сантиметров ниже, инцидент имел бы совсем иной исход!
В ходе расследования полиция обнаружила в окрестностях Лохофа раздетого почти догола и тяжело раненного человека. Выяснилось, что из близлежащего приюта для умалишенных сбежал пациент, которого предположительно переехала какая-то машина и протащила за собой на значительное расстояние.
Адъютант Гитлера Шауб и я пошли в больницу посмотреть, тот ли это человек, который стрелял в нашу машину. Но он был так замотан бинтами и так тяжело ранен, что мы не смогли установить, он ли это.
Когда мы вернулись из больницы, Гитлер сказал:
– Знаете, я просто не понимаю, что заставило меня захлопнуть дверцу. Все то же странное, необъяснимое чувство!
Опять, как много раз до того, шестое чувство предупредило его о нависшей опасности.
Глава 7 ЖЕНЩИНЫ И ГИТЛЕР
«Моя невеста – Германия», – часто говорил Гитлер, и, хотя он шутил, все же в этой шутке была доля правды. Хотя Гитлер наслаждался обществом красивых женщин, он твердо собирался оставаться холостяком и подчеркивал это свое намерение всякий раз, когда возникал вопрос о браке.
После прихода к власти он часто просил фрау Геббельс пригласить на чай кого-нибудь из молодых актрис и с большим удовольствием приходил на эти чаепития, показывая себя обаятельным и галантным гостем. Обычно каждой приглашенной девушке он дарил букет цветов и бонбоньерку.
В один из подобных случаев я как-то сказал ему:
– Герр Гитлер, вам остается только сделать выбор. Я уверен, что ни одна женщина вам не откажет.
– Вы же знаете, Гофман, что я думаю. Да, я люблю цветы, но из-за этого я же не пойду в садовники!
Он не отдавал предпочтения никакому типу внешности. Больше всего его привлекала индивидуальность и родственный склад души. Простушка Гретхен или утонченная светская львица, пышнотелая или по моде стройная – все они по-своему восхищали его. Если б он вообще имел какие-то предпочтения, то я сказал бы, что ему нравились элегантные, тонкие женщины. Кроме того, он ничего не имел против губной помады и лака для ногтей, которые так сурово осуждались в партийных кругах.
В старые времена, когда в партии возникла дискуссия по поводу коротких стрижек, партийные консерваторы призывали «не допускать женщин с короткими стрижками на партийные собрания», но Гитлер решил дело в пользу коротких волос.
Он отверг форму, первоначально разработанную для Союза германских девушек, и заявил, что в вопросе женской униформы мы должны следовать примеру аналогичных союзов за границей. На первом же торжественном параде, который проходил в его присутствии, он обратился к вождю гитлерюгенда моему зятю Бальдуру фон Шираху:
– Что за мешки! На бедных девочек не посмотрит ни один мужчина. Партия не собирается выращивать племя старых дев!
По приказу Гитлера известному берлинскому модельеру поручили сконструировать новую форменную одежду для женских отрядов молодежного движения, и эти модели, куда более привлекательные, тут же вошли в обиход.
Во время борьбы за власть Гитлер хорошо понимал роль женщины как фактора политического влияния и был убежден, что женский энтузиазм, упорство и фанатизм могут иметь решающее значение. На митингах в его поддержку женщинам отводилась особая роль. Задолго до начала митинга, вооружившись спицами и швейными иглами, эти «неподкупные»[10] садились в первых рядах и тем самым не подпускали слишком близко к Гитлеру оппонентов, без которых не обходился ни один митинг.
Их восторженные возгласы и яростные овации, прерывавшие речи Гитлера, обычно определяли успех первых митингов. Эти женщины были лучшими партийными агитаторшами; они убеждали мужей примкнуть к Гитлеру, они жертвовали свободным временем ради политических мероприятий и полностью посвящали себя делу партии.
Хотя они часто приводили Гитлера в смущение, ему не оставалось иного выбора, кроме как принимать восторг и преклонение, которые щедро расточали ему эти преданные сторонницы, – и надо сказать, зачастую весьма надоедливым образом! Это правда, что женщины сыграли решающую роль в партийном строительстве, но нельзя отрицать и того, что их неуемное рвение подняло не одну бурю в политическом стакане.
Однако женщины почти не допускались к управлению партийными делами, и в Третьем рейхе ни одна женщина не занимала важного положения.
– Я никому не дам совать палец в мой политический пирог, – как-то сказал мне Гитлер. – И уж конечно, женщине!
Мы столько раз отмечали Новый год с Гитлером, но никогда у нас не было таких же счастливых и беззаботных праздников, как в первые годы дружбы. Уже в то время Гитлер не пил спиртного, и, хотя его воздержанность в некотором смысле обуздывала компанию, она совсем не портила вечеринку, но удерживала веселье в разумных рамках.
После того как Бергхоф расширили и пристроили к нему несколько гостевых комнат, Гитлер стал приглашать туда членов своего ближайшего круга с женами, чтобы вместе отпраздновать Новый год. Это были по-настоящему веселые праздники, хотя самое буйное веселье обычно начиналось только после ухода Гитлера, то есть вскоре после полуночи. Ему очень нравились традиционные новогодние игры и гадания с помощью расплавленного свинца[11].
Очень соответствовал случаю обычай берхтесгаденских горных егерей, которые ровно в двенадцать часов встречали Новый год выстрелами из огромных охотничьих ружей. Громоподобные отзвуки отражались от окружающих холмов, и, когда стихало последнее эхо, сквозь зимнюю ночь до террас Бергхофа долетал колокольный звон берхтесгаденской церкви. Красота и торжественность этого момента всегда глубоко волновала нас. Новогодний охотничий ритуал уходил в глубь веков, и Гитлер поддерживал его тем, что каждый год делал горным егерям щедрый дар в виде запасов пороха, когда после стрельбы депутация егерей приходила в Бергхоф, чтобы поблагодарить Гитлера и пожелать ему всего наилучшего в наступающем году.
Мои мысли невольно возвращаются к кануну нового 1925 года, который Гитлер провел в моем мюнхенском доме. Мы собрались скромной компанией примерно из двадцати молодых людей и девушек из числа наших близких друзей из творческой среды. Комнаты весело украшали цветы, китайские фонарики и цветные бумажные гирлянды; в эркере столовой стояла ель в своей нетронутой красоте, увенчанная крошечной фигуркой младенца Иисуса, и «снег» на ней сверкал в отсветах множества разноцветных свечей. Праздничный ужин состоял из холодного фуршета, стол ломился под тяжестью всевозможных вкусностей, которые так любят немцы и так искусно готовила моя жена: там были бутерброды с маслом и горами восхитительных колбас и прочих деликатесов, разные салаты, а еще большой поднос с разноцветными желе, кремами, кексами и пирожными, которые только можно себе вообразить. На удобном расстоянии друг от друга стояли большие чаши с крюшоном из белого и красного вина, любовно приготовленные моей собственной умелой рукой, а для тех джентльменов, которые предпочитали что-нибудь более бодрящее или что-нибудь менее сладкое, на маленьких столиках по бокам маняще выстроились бутылки шнапса и пива.
Словом, это была обычная новогодняя вечеринка, беззаботная компания близких друзей, любителей повеселиться, с игрой и музыкой, чуть-чуть флирта, много смеха и хорошего настроения, поцелуи под омелой[12] и добрые пожелания в последний час уходящего года.
Вечеринка едва началась, когда меня спросили, придет ли Адольф Гитлер.
– Нет, – сказал я, – я приглашал его, но, кажется, в этом году он уже не сможет выбраться.
– Ах, Генрих, какая жалость! – воскликнула одна молодая девушка. – Мне так хочется на него посмотреть. Ты не мог бы позвонить ему, ну еще один разочек, и уговорить его прийти?
Компания очень настаивала, и я решил еще раз попытать удачи. К моему удивлению, Гитлер согласился зайти, но «только на полчаса».
Все очень волновались, дожидаясь его прихода. Кроме меня самого, никто лично не был с ним знаком, и, когда он в конце концов появился, его встретили с большим энтузиазмом, особенно дамы.
Я еще раз стал свидетелем того, каким огромным влиянием на женщин он обладал. В визитке он выглядел очень элегантно. Тогда он еще не начал носить спадающую на лоб челку, и выражение скромной сдержанности только увеличивало его притягательность. Его усики очаровали женщин, хотя лично мне они кололи глаза.
Одна из дам прямо-таки потеряла голову из-за Гитлера. Она завела с ним долгий разговор и очень ловко подвела его под омелу. (Мне так нравился этот английский обычай, что я завел его у себя в доме.) Заманив его в нужное место, эта молодая женщина, работавшая у меня в фотоателье и хорошенькая как картинка, обвила шею ни о чем не догадывавшегося Гитлера и крепко его поцеловала. Я никогда не забуду изумления и ужаса, написанного на его лице! Шаловливая сирена тоже почувствовала, что перегнула палку, и в комнате воцарилось неловкое молчание. Ошарашенный и беспомощный, как ребенок, Гитлер стоял, закусив губу и пытаясь справиться с гневом. Атмосфера, которая с его приходом уже приобрела налет официальности, теперь стала просто ледяной.
– Не принимайте слишком всерьез этот старинный обычай, – сказал я, стараясь как-то выйти из неловкой ситуации. – Я рад, что это случилось с такой молодой и прелестной гостьей, а не с кем-нибудь постарше. Но вам же всегда везло с женщинами, герр Гитлер!
Но в этот раз я, видимо, обманулся и не сумел разрядить ситуацию.
Так же сильно Гитлер ненавидел «добрые советы», вероятно, это была одна из причин, почему он редко появлялся в обществе, за исключением лишь нескольких семей. Он терпеть не мог «политических тетушек», как он называл женщин, стремившихся давать ему добрые советы.
Лишь изредка говорил он о своих родственниках. За все двадцать пять лет нашей дружбы он ни разу не заговорил о своем брате Алоисе Гитлере, который владел рестораном на Виттенбергплац в Берлине, и Алоиса Гитлера никогда не видели в рейхсканцелярии. Его младшая сестра Паула, жившая в Вене, поддерживала с ним нерегулярную переписку, но мне вспоминается, что после ее достаточно долгого пребывания в Оберзальцберге Гитлер более чем на три года прервал с ней всякое общение.
В моменты покоя и приятного отдыха он любил непринужденно побеседовать об искусстве и литературе, философии и прочих вещах, приходивших ему в голову. По таким вопросам, как кумовство и наследственность, он придерживался категорического и четкого мнения.
– То, что один из членов семьи достиг величия, – заявлял он, – еще не причина думать, что у всех его братьев и сестер есть талант.
Кумовство он считал не только бесчестно отвратительным, но и в корне опасным и глупым; и в поддержку своего мнения он любил приводить в пример Наполеона.
– Давая высокие посты и сажая на троны завоеванных стран совершенно не пригодных к этому братьев и заурядных родственников, он не только выставлял себя в нелепом виде и терял популярность, но и приближал свое падение. Ибо в трудный час именно эти посредственности обернулись против него в эгоистичной и отчаянной попытке сохранить богатство и власть, которыми они были обязаны его щедрости.
Так он шел по предназначенному судьбой пути, сознательно забывая о семье. Насколько я знаю, Алоис до сих пор живет в Берлине, а его сестра, милая, простая и мягкая женщина, по-прежнему живет в скромной и счастливой безвестности своего баварского дома.
По вопросу наследственности он придерживался столь же твердых убеждений. «История, – говорит он, – дает немало доказательств того, что сын великого человека очень редко сам достигает величия, если такое вообще бывает. И это вполне в природе вещей. С точки зрения евгеники, сын почти всегда наследует материнские черты, а так как большинство великих людей выбирают себе в жены женщин, которые могут дать им отдых от государственных дел, из этого неизбежно следует, что их сыновья редко наследуют качества, жизненно необходимые для того, чтобы наследник мог с честью занять высокое место своего отца».
Убежденность Гитлера в том, что его преемник должен быть человеком, равным ему по умственным способностям, что сам он никогда не сможет зачать сына, обладающего нужными качествами, и что проблема возможной преемственности власти только усугубится, если у него будет сын, и может отрицательно сказаться на будущем Германии, была, несомненно, главной причиной его решения никогда не жениться.
Его сводная сестра фрау Раубаль была старше Гитлера и всецело предана ему и позднее на длительное время стала его экономкой в Оберзальцберге. У нее было две дочери и сын, работавший школьным учителем в Линце. Во время войны он попал в плен под Сталинградом, и, когда к Гитлеру обратились с предложением о том, чтобы содействовать освобождению своего племянника, он резко отказал, сказав, что не имеет права делать исключений. Старшую дочь фрау Раубаль Ангелику все мы звали Гели.
Личный столик Гитлера в кафе «Хек», излюбленном месте мюнхенских кофейных завсегдатаев, оккупировала мужская компания. Женщины очень редко допускались в наш интимный круг, но и тогда им никогда не позволяли оказываться в его центре, и женщина должна была оставаться на виду, но не на слуху. Признаться, Гитлер никогда не скупился на галантные комплименты и любезности, но в остальном дамы должны были считаться с обычаями нашего кружка. Порой они принимали некоторое участие в разговоре, но им никогда не дозволялось разглагольствовать или противоречить Гитлеру.
Однако в 1927 году как-то раз за нашим столиком оказалась прелестная девушка, пленившая всех своей безыскусной и беззаботной манерой. Это была племянница Гитлера Гели Раубаль; и с того момента, когда бы Гели ни оказывалась в нашей компании, она становилась ее центром, и даже Гитлер вполне охотно отходил на второй план.
Гели Раубаль была прелестна. Бесхитростно и без малейшего кокетства ей удавалось одним своим присутствием приводить всех в хорошее настроение. Мы без исключения были преданы ей – особенно ее дядя Адольф Гитлер. Ей даже удалось уговорить его пойти с ней по магазинам – настоящий подвиг! Я хорошо помню, как Гитлер рассказывал мне, что он ненавидит, когда Гели примеряет шляпы или туфли, рассматривает тюки тканей, на полчаса завязывает серьезный разговор с продавщицей и потом, не найдя ничего подходящего, уходит из магазина. И хотя он знал, что так будет всякий раз, как они с Гели пойдут за покупками, он всегда преданно следовал за ней, словно ягненок.
Под ее влиянием Гитлер стал больше бывать в обществе. Они часто вместе ходили в театр и кино, но больше всего Гитлеру нравилось кататься с ней на машине и устраивать пикники в каком-нибудь прелестном лесном уголке недалеко от города.
К тому времени, то есть к 1927 году, Гитлер уже пользовался большой популярностью. Стоило ему появиться в баре или ресторане, как его тут же окружали члены партии и охотники за автографами, поэтому он предпочитал проводить свободное время в узком кругу близких друзей в спокойном уединении под сенью деревьев. Однако и там он оставался сдержанным. Его отношение к Гели всегда было корректным и благопристойным, и только его взгляд, когда он смотрел на нее, нежность в голосе, когда он обращался к ней, выдавали глубину его привязанности.
Когда Гитлер переехал в дом 16 по Принцрегентштрассе, он поселил ее в красивой, подходящей для юной девушки комнате с восхитительной обстановкой, изготовленной на лучших мебельных фабриках Мюнхена. В этом холостяцком доме витал дух какой-то простоты. Гитлер не упускал случая похвалить поварское искусство Гели; и это неудивительно, что Гели добивалась успеха в кулинарии, так как ее мать, которая в течение долгого времени вела хозяйство Гитлера, была исключительной кухаркой.
Дядя относился к Гели с благоговением, можно сказать, преклонялся перед ней, и даже мысль о любовной связи наверняка не приходила ему в голову. Для него она олицетворяла идеал молодой женщины – красивая, свежая и неиспорченная, веселая и умная и такая же чистая и прямодушная, какой сотворил ее Бог. Он наблюдал за ней и любовался ею, словно какой-то ученый муж, открывший редкий и прекрасный цветок, и единственной его заботой было лелеять и защищать ее. Много лет он нанимал известного учителя пения, чтобы он давал ей уроки, но что касается ее личной жизни, то тут он не проявлял такого великодушия и, казалось, был одержим желанием постоянно присматривать за ней.
Но Гели, девушка двадцати лет с непоседливым характером, хотела быть свободной, путешествовать и встречаться с людьми, а не сидеть тихо день за днем за тем же столиком в том же кафе. Она мечтала пойти на масленичный бал, но Гитлер не хотел и слышать об этом. Однако Гели настаивала и не давала ему покоя, пока он в конце концов не согласился – но только на том условии, что вместе с ней пойдем мы с Максом Амманом, владельцем «Фёлькишер беобахтер» и очень старым и доверенным другом Гитлера. Он велел, чтобы мы отвели ее в «Дойчес театер», где проходил знаменитый бал-маскарад, и нам с Амманом пришлось пообещать, что мы уведем Гели с бала ровно в одиннадцать часов!
Мне поручили заказать известному модельеру Инго Шредеру несколько эскизов платьев для Гели на этот случай. Когда я передал их Гитлеру, он выбросил их всем скопом. Он сказал, что эскизы очень красивы, просто великолепны, но слишком вызывающи, и Гели наденет обычное вечернее платье.
Когда Гели и мы по обе стороны от нее, словно два хранителя ее невинности, покинули бал в одиннадцать часов, ее настроение отнюдь нельзя было назвать праздничным, и я должен признаться, что мы ей сочувствовали. На таком балу главное веселье начинается только после полуночи.
Театральный фотограф запечатлел нас троих – разумеется, не веселой кампанией с бокалами пенного шампанского, но строгой официальной группой, где Гели стояла между двумя сторожевыми псами; и это фото Гели своевременно представила дяде на следующий день.
Я напрямик высказал Гитлеру свои мысли.
– Герр Гитлер, – сказал я, – Гели не просто плохо переносит несвободу, в которой живет, она из-за этого совершенно несчастна. Это было очень заметно на балу. Хоть вы и разрешили ей пойти на бал, вы не дали ей никакой возможности повеселиться, наоборот, вы только еще сильнее подчеркнули невыносимо узкие рамки, в которые ее загоняете.
– Знаете, Гофман, – ответил он, – я принимаю будущее Гели так близко к сердцу, что чувствую своим долгом лично присматривать за ней. Да, я люблю Гели, я мог бы на ней жениться! Но вы знаете мое мнение насчет женитьбы, вам хорошо известно, что я твердо решил оставаться холостяком. Поэтому я сохраняю за собой право наблюдать, с какими мужчинами она общается, пока не появится подходящий человек. То, что сейчас Гели кажется несвободой, на самом деле есть разумная предосторожность. Я намерен позаботиться о том, чтобы она не попала в сети какого-нибудь бесчестного авантюриста или мошенника.
Конечно, Гитлеру не приходило в голову, что Гели глубоко влюблена в кого-то другого, в человека, которого знала с давних венских дней.
Кто он, что было между ними, отвечал ли он ей взаимностью, а если да, то почему они не поженились, никто точно не знает. Гели была очень скрытной девушкой. Ее самой близкой подругой была моя жена Эрна, которая любила ее и восхищалась ею, не только как творческая натура, очарованная прекрасным, но и как человек, любующийся многими достоинствами ума и характера Гели. Хотя их связывали очень близкие отношения, лишь однажды несчастная Гели, возможно, уже не в силах выносить свое бремя и ища утешения у более зрелой женщины, приоткрыла завесу, скрывавшую самые затаенные мысли. Но снова, как бы раскаиваясь в своем порыве, остановилась, едва только начав.
– Вот так! И никто не может ничего поделать, ни я, ни ты. Так что поговорим о чем-нибудь другом, – резко сказала она.
Моя жена поняла лишь то, что Гели влюблена в одного венского художника и ужасно несчастна из-за этого. И, несмотря на все свое нежное сочувствие, несмотря на предложенную помощь, если только она может чем-то помочь, Эрна больше не добилась от Гели ни единого слова.
Прекрасное настроение, которое всегда демонстрировала Гели, было не более чем притворство. Конечно, ей льстило, что дядя, всегда такой серьезный и неприступный, скрывавший все свои чувства от остальных, так предан ей и отбрасывает сдержанность в ее присутствии. Она не была бы настоящей женщиной, если бы галантность и щедрость Гитлера не производили на нее впечатления. Но его жесткий контроль за каждым ее шагом, запрещение водить знакомство с мужчинами и бывать в обществе без его присмотра казались невыносимы этому характеру, свободному как ветер.
Возможно, я единственный до конца понимал, что она чувствует. Я изо всех сил старался убедить Гитлера относиться к ней по-другому, но мои усилия ни к чему не привели. Он очень сильно боялся потерять Гели и был уверен, что только теперешними методами может уберечь ее от опасности.
Конечно, Гели знала, что Гитлер влюблен в нее, но она не подозревала о силе его любви, столь глубокой и столь эгоистичной, как любая великая любовь. Она с ужасом осознала правду после одного вполне невинного происшествия.
Однажды мой друг Эмиль Морис, один из старейших членов партии, который много лет был шофером Гитлера, пришел ко мне бледный, взбудораженный, сам не свой от волнения. Дрожа под впечатлением от пережитого, он рассказал, как заехал к Гели с абсолютно невинным визитом. Они шутили, смеялись и болтали о всякой всячине, как это всегда бывало в компании с Гели. Вдруг в комнату вошел Гитлер. «Никогда в жизни я не видел его в таком состоянии», – сказал Морис. Побагровев от гнева и возмущения, Гитлер яростно набросился на него. Последовала столь ужасная сцена, что Морис всерьез испугался, как бы Гитлер не застрелил его на месте.
Прямо скажем, понадобилось немало времени, чтобы к Гитлеру в достаточной мере вернулось хладнокровие и он смог терпеть присутствие Мориса, не впадая в бешенство.
17 сентября 1931 года Гитлер пригласил меня в долгую поездку на север. Когда я приехал к нему в дом, там была Гели, она помогала ему собраться. Когда, уходя, мы спускались по лестнице, Гели перегнулась через перила и крикнула:
– Au re voir, дядя Адольф! Au re voir, герр Гофман!
Гитлер остановился и посмотрел вверх. На мгновение он задержался, потом повернул назад и опять поднялся, пока я дожидался его у передней двери. Очень скоро он вернулся.
Мы молча сели в машину и поехали в направлении Нюрнберга. Когда мы проезжали через Зигестор, он вдруг обернулся.
– Не знаю почему, – сказал он, – но мне очень тревожно.
Я постарался ободрить его. Все дело в погоде, этот фён – южный ветер – всегда нагоняет тоску. Но Гитлер не отзывался, и мы молча проехали всю дорогу до Нюрнберга, где остановились в партийной гостинице «Дойчер хоф».
Потом мы выехали из Нюрнберга и направились в Байройт, когда в зеркале заднего вида Гитлер увидел догонявшую нас машину. Из соображений безопасности мы в те годы, как правило, не давали машинам обгонять нас. Гитлер хотел было сказать Шреку, чтобы он прибавил скорость, но заметил, что ехавший за нами автомобиль – такси, а рядом с водителем сидит посыльный из гостиницы и неистово подает знаки, чтобы мы остановились.
Шрек затормозил у обочины. Мальчик, пыхтя от возбуждения, подбежал к Гитлеру и сказал, что Гесс хочет говорить с ним из Мюнхена по срочному делу и ждет на телефоне. Мы развернулись и поспешили назад в гостиницу.
Автомобиль не успел остановиться, как Гитлер выпрыгнул из него и бросился в гостиницу, а я последовал за ним так быстро, как мог. Бросив шляпу и стек на стул, он ворвался в телефонную будку. Он даже не закрыл за собой дверь, так что мы всё ясно слышали.
– Гитлер у телефона, что случилось? – Он сипел от волнения. – О господи! Это ужасно! – воскликнул он после короткой паузы, и в голосе его прозвучало отчаяние. Потом он произнес твердо, почти крикнул: – Гесс! Отвечай мне прямо, она жива, да или нет?.. Гесс, поклянись честью офицера… скажи мне правду – жива она или нет?.. Гесс!.. Гесс!.. – Он уже кричал.
Казалось, ему не отвечают. Либо связь прервалась, либо Гесс повесил трубку, чтобы не отвечать. Гитлер вылетел из телефонной будки с застывшим, безумным, стеклянным взглядом. Он повернулся к Шреку.
– Что-то случилось с Гели, – сказал он. – Мы возвращаемся в Мюнхен – гоните что есть силы! Я должен увидеть Гели живой!
Из отрывков, которые я слышал, было ясно, что с Гели случилась какая-то беда, но я не знал подробностей и не смел спрашивать.
Безумство Гитлера оказалось заразным. Шрек до предела вжал в пол педаль акселератора, и машина с визгом понеслась в Мюнхен. В зеркале я видел отражение лица Гитлера. Он сидел сжав губы, уставясь невидящими глазами в ветровое стекло. Никто не вымолвил ни слова, все мы погрузились в свои мрачные мысли.
Наконец мы добрались до его дома и услышали ужасную весть. Гели уже сутки была мертва. Она взяла из арсенала Гитлера маленький пистолет калибра 6,35 и выстрелила себе в сердце. Если бы ей вовремя оказали помощь, сказал врач, возможно, ее удалось бы спасти. Но она застрелилась у себя в комнате, выстрела никто не слышал, и она истекла кровью.
Осмотрев ее, врач предположил, что она, вероятно, застрелилась вскоре после нашего отъезда. Тело вернули после дознания, и к нашему приезду оно уже лежало приготовленное для похорон. Ее несчастная мать встретила нас в слезах, с нею были Гесс, государственный казначей Шварц и фрау Винтер, экономка Гитлера.
Фрау Винтер рассказала мне, что произошло в доме после нашего отъезда. Как я уже говорил, Гитлер вернулся, чтобы попрощаться с ней еще раз. Нежно погладив ее по щеке, он прошептал ей на ухо какие-то ласковые слова; но Гели оставалась мрачной и сердитой. «Знаете, – сказала она фрау Винтер, – у нас с дядей нет ничего общего».
На самом деле Гитлер в тот самый день вернулся в Мюнхен из какой-то поездки, и, хотя он знал, что пробудет дома всего несколько часов, он послал за Гели и ее матерью, которые в то время находились в Оберзальцберге. А так как он должен был подготовиться к предстоявшей нам поездке, то не имел возможности уделить ей много внимания.
Гели была подавлена, сказала фрау Винтер, и несчастна, когда жила в доме Гитлера. С этим я согласился, но ее дальнейшие слова только запутали дело. Насколько мне известно, Гели была тайно влюблена в кого-то, но фрау Винтер категорически настаивала, что она любила именно Гитлера и что в этом ее убедили множество мелочей и слов.
Знал ли Гитлер, что у Гели были причины для самоубийства, или он просто предчувствовал дурное? «Мне очень тревожно» – эти слова просто выражали подсознательное беспокойство или его последнее прощание с Гели дало какую-то причину для тревоги? Эти вопросы никогда не получат ответа, и мы никогда не узнаем истинные причины самоубийства этой прелестной девушки.
Гели вовсе не относилась к истерическому, склонному к самоубийству типу. У нее была беззаботная натура, чистый и здоровый взгляд на жизнь, и потому ее мысли покончить с собой казались еще невероятнее.
В ее комнате нашли неоконченное письмо венскому учителю пения, в котором она говорила, что хочет приехать в Вену и брать у него уроки. Неясно, может быть, Гели написала ему из-за того, что случайно нашла в кармане своего дяди письмо от Евы Браун. Но Гели больше нет; она собственной рукой свела счеты с жизнью, а по какой причине и что за этим стояло, навеки останется тайной.
По словам фрау Винтер, вскоре после нашего отъезда Гели сказала ей, что пойдет в кино с подругой, и попросила фрау Винтер ничего не готовить на ужин. Поэтому фрау Винтер нисколько не обеспокоилась, когда в тот вечер не увидела Гели.
Только на следующее утро, когда Гели не появилась, по своему обыкновению, к завтраку, она поднялась и постучала в дверь. Не получив ответа, фрау Винтер попробовала заглянуть в замочную скважину, но в ней торчал ключ, и дверь была заперта изнутри. Сильно встревоженная, она позвала мужа, который выбил дверь. Открылась ужасная картина: мертвая Гели лежала на полу в луже крови, а в углу дивана валялся пистолет. Фрау Винтер немедленно сообщила матери Гели и отправила записку Рудольфу Гессу и Шварцу.
По просьбе матери тело девушки отвезли в Вену, и там она нашла последний приют.
Благоговение Гитлера перед памятью Гели приняло форму чуть ли не религиозного поклонения. Собственной рукой он запер дверь ее комнаты и запретил входить туда кому-либо, кроме фрау Винтер. И много лет по его указанию фрау Винтер ежедневно ставила в комнате букет свежих хризантем, любимых цветов Гели.
Он заказал нескольким знаменитым художникам написать ее портреты с множества фотографий, и эти портреты вместе с бронзовым бюстом, очень похожим на живую Гели, который изваял Фердинанд Либерман, занимали своего рода святилища в рейхсканцелярии и во всех его резиденциях.
Два дня я не видел Гитлера. Хорошо зная его характер и понимая, что в таких ужасных обстоятельствах он предпочтет одиночество, я не пытался связаться с ним. Вдруг в полночь у меня зазвонил телефон. Я сонно встал и снял трубку.
– Гофман, вы еще не спите? Можете заехать ко мне ненадолго? – Я услышал голос Гитлера, хотя странно незнакомый, безнадежно усталый и апатичный.
Через четверть часа я был у него.
Он лично открыл мне дверь. С безутешным видом и серым лицом он молча пожал мне руку.
– Гофман, – сказал он. – Можете оказать мне услугу? Я не могу оставаться в доме, где умерла моя Гели. Мюллер предложил мне свой дом в Санкт-Квирине на берегу Тегернзее. Вы не могли бы поехать со мной? Я хочу провести там несколько дней, пока ее не похоронят, тогда я поеду к ней на могилу. Мюллер обещал мне, что он отошлет всех слуг. Со мной там будете только вы. Можете сделать это для меня? – В его голосе была настойчивая мольба, и, конечно, я без раздумий согласился.
На следующий день мы выехали.
В Санкт-Квирине эконом передал мне ключи от дома и ушел, бросив потрясенный и сочувственный взгляд на Гитлера, который, казалось, был совершенно раздавлен. До места нас довез Шрек, и его тоже отослали. Перед тем как войти, он тайком шепнул мне, что забрал револьвер Гитлера, так как боялся, что Гитлер от отчаяния может покончить с собой. И так мы остались в полном одиночестве. Гитлер занял комнату на втором этаже, а я прямо под ним этажом ниже.
Мы с Гитлером были в доме совершенно одни. Не успел я выйти после того, как проводил его в комнату, как он, сцепив руки за спиной, принялся ходить взад-вперед. Я спросил, чего бы ему хотелось съесть, но он только молча покачал головой. Все же я принес ему стакан молока с печеньем и оставил.
У себя в комнате я стоял у окна, прислушиваясь к монотонному, ритмичному звуку шагов над головой. Это длилось час за часом, без остановки. Спустилась ночь, а я все слышал, как он ходит туда-сюда, туда-сюда. Убаюканный однообразным звуком, я на миг задремал в кресле. Вдруг что-то резко вывело меня из сонного состояния. Шаги прекратились, и воцарилась мертвая тишина. Я вскочил. А вдруг он… Тихо, очень осторожно я проскользнул на второй этаж. Пока я поднимался, подо мной едва поскрипывали деревянные ступени. Я подошел к двери, и, слава богу, из-за нее снова послышались шаги. Чуть успокоившись, я прокрался назад к себе.
Так это и продолжалось, час за часом, бесконечно, всю ночь. Я возвращался в воспоминаниях к нашим прежним приездам в этот идиллический дом, приютившийся на берегу озера Тегернзее. Как все было по-другому!
Смерть Гели потрясла моего друга до глубины души. Чувствовал ли он, что виноват? Мучил ли себя угрызениями совести и упреками? Что он будет делать? Все эти вопросы стучали у меня в висках, но ни на один из них я не находил ответа.
Ночное небо осветилось зарей, и я никогда еще так не радовался наступающему дню. Я снова поднялся на второй этаж и тихо постучал в дверь. Нет ответа. Я вошел, но Гитлер, забыв обо мне, ничего не замечал. Сцепив руки за спиной, невидящим взглядом уставясь вдаль, он все продолжал мерить шагами комнату. Его лицо посерело от муки и вытянулось от усталости. Его портила щетина, темные круги черной тенью залегли под опухшими глазами, а губы вытянулись в горькую, безутешную линию. К молоку и печенью он так и не притронулся.
Я спросил, может быть, он все-таки постарается что-нибудь съесть. Но снова ответом мне было только едва заметное покачивание головы. Ему обязательно нужно поесть, подумал я, или он сломается. Я позвонил к себе в Мюнхен и спросил, как готовить макароны – его любимое блюдо. Четко следуя полученным инструкциям, я попробовал свои силы в кулинарном искусстве. По-моему, результат вышел неплохой. Но мне опять не повезло. Хотя он обожал макароны, хотя я до небес превозносил их чудесный вкус и умолял его съесть хоть немного, казалось, он меня просто не слышит.
День медленно тащился к вечеру, и наступила следующая ночь, еще ужаснее, чем предыдущая. Почти исчерпав терпение, я из последних сил старался не заснуть, надо мной все слышались шаги, они стучали и гремели у меня в голове. Как будто страшное возбуждение не давало ему присесть ни на минуту, и он никак не мог утомить себя. Наступил следующий день. Я сам находился в полуобморочном состоянии. Я двигался и действовал механически, на инстинкте. Но шаги сверху все не прекращались.
Позднее, вечером, мы узнали, что Гели похоронили, и теперь ничто не мешало Гитлеру поехать в Вену. Мы уехали в тот же вечер. Гитлер молча занял место рядом с шофером. Почти непереносимое напряжение, которое удерживало меня, спало, и около часа я, изможденный, проспал в машине. Рано утром мы въехали в Вену, но за весь долгий путь с губ Гитлера не сорвалось ни слова.
Мы поехали через город прямо к центральному кладбищу. Там Гитлер в одиночестве пошел к могиле, где его ожидали Шварц и Шауб, его личный адъютант. Через полчаса он вернулся и дал указание везти его в Оберзальцберг.
Едва он сел в машину, как начал говорить. Его взгляд был неподвижно устремлен в лобовое стекло, казалось, он думает вслух.
– Итак, – произнес он. – Пусть начнется борьба. Борьба, которая увенчается победой.
Все мы почувствовали огромное и радостное облегчение.
Через два дня он выступал в Гамбурге, и с тех пор он стремительно носился из города в город, с митинга на митинг. Его речи захватывали и завораживали, как никогда раньше, и в тот миг, когда он поднимался на трибуну, казалось, что от него исходит почти сверхчеловеческая сила убеждения.
Если в его жизни и существовала женщина, на которой он искренне хотел бы жениться, это была его племянница Гели. Его любовь к этой красивой и умной девушке была столь же велика, сколь и владевшие им политические страсти. И хотя она не помешала бы грандиозному труду по возрождению страны, безусловно, совершенному им, вполне возможно, что в семейных узах, в блаженстве домашнего очага, вкупе со сдерживающим влиянием Гели он не так стремился бы к международным авантюрам, которые в конечном итоге привели его к гибели.
Ни одну женщину в наше время не окружает столько сенсаций, сколько любовницу и позднее жену Гитлера Еву Браун. Лишь несколько человек знали о ее существовании, но и они хранили молчание.
Быть может, мы с женой лучше кого-либо другого изнутри знали историю Гитлера и Евы Браун. Позвольте мне сразу же заметить, что тех, кто возьмется за эту главу, страстно предвкушая сенсационную и блестящую любовную историю, ждет сильное разочарование. Гитлер в личной жизни был скромен и очень застенчив, и, насколько мы знали или замечали, никакой любовной истории вообще не существовало. Средняя из трех дочерей преподавателя ремесленного училища Фрица Брауна, Ева получила образование в женском католическом институте в Зимбахе, городе на берегу Инна напротив Браунау, где родился Гитлер. Закончив коммерческий курс, в 1930 году она стала работать продавщицей при моей фотостудии и, несмотря на свои девятнадцать лет, сохраняла некоторую детскую наивность.
Все ее мысли были заняты своей стройной, изящной фигурой. Ее голубые глаза и круглое лицо в обрамлении темно-русых волос позволяли назвать ее хорошенькой – этакая безличная миловидность, будто сошедшая с коробки шоколадных конфет. Она обожала рассказывать всем моим работникам, что почти всю свою одежду шила сама, и ее платья были и со вкусом придуманы, и умело сшиты, а о губной помаде и лаке для ногтей она в то время и не мечтала.
Она проявляла некоторый интерес к музыке и предпочитала песенки в дансинге. Лишь позднее она стала немного интересоваться театром, но больше кинематографом.
За исключением нескольких небольших перерывов, Ева Браун проработала у меня до 1945 года. Начиная с 1943-го, когда все женщины трудились для фронта, она вернулась ко мне по просьбе Гитлера и работала в моей художественной типографии.
Ее младшая сестра Гретель, гораздо более утонченная девушка, тоже работала у меня. В 1944 году она вышла замуж за адъютанта Гиммлера Германа Фегелейна, который после падения Германии был расстрелян по приказу Мартина Бормана как изменник.
Гитлер знал всех моих работников, именно в моем ателье он впервые познакомился с Евой Браун, с которой иногда перебрасывался парой слов в самой обычной, ничего не значащей манере. Порой он немного выходил из своей раковины и делал ей комплименты. Ни я сам, ни мои работники не замечали, чтобы он уделял ей какое-то особое внимание. Но не Ева. Она сказала всем своим подружкам, что Гитлер в нее влюбился и что она добьется, чтобы он на ней женился.
Гитлер, со своей стороны, и не подозревал о том, что творится в голове у Евы, и, разумеется, ни в малейшей степени не собирался связывать себя какими-то отношениями с нею ни тогда, ни позже. Для него она была просто привлекательной девушкой, рядом с которой, несмотря на ее легкомысленные взгляды – или благодаря им, – он мог успокоиться и отдохнуть, в чем так нуждался.
Часто, когда он собирался зайти к нам на часок, он как бы невзначай говорил: «Попросите зайти эту вашу Еву Браун, она меня забавляет». Бывало, что он вставал и говорил: «Пожалуй, загляну к Еве на полчаса; позвоните ей, друг мой, спросите, можно ли мне зайти». И очень часто мы все вместе, как он любил, ехали на пикник в один из красивых уголков, которыми изобилуют окрестности Мюнхена. Но никогда, ни словом, ни взглядом, ни жестом, он не показывал, что испытывает к ней какой-то более глубокий интерес.
Он часто дарил ей мелкие подарки, но это были цветы, шоколад, недорогие безделушки и пустяки, обычные проявления галантности, на которые он никогда не скупился. Однажды летом 1932 года она не явилась на работу. Я не волновался насчет этого, но где-то около полудня пришел мой шурин доктор Плате, и вид у него был очень серьезный.
– Плохие новости, – сказал он. – Прошлой ночью мне позвонила Ева. Она говорила тихо и с большим трудом и, очевидно, испытывая сильную боль. Она стреляла себе в сердце из пистолета. Она сказала, что чувствовала себя такой одинокой, потому что Гитлер пренебрегает ею, и хотела покончить с этим.
Шурин тут же вернулся в больницу. Чуть позже пришел Гитлер, и я рассказал ему о случившемся.
– Этот врач умеет держать язык за зубами? – первым делом спросил он, и я сказал ему, что он может положиться на скромность Плате.
Гитлер настаивал на том, что ему нужно переговорить с моим шурином, и из его слов я понял, что он получил прощальное письмо от Евы. В тот день они с Плате встретились у меня в доме.
– Доктор, прошу вас сказать правду. Вы не думаете, что фрейлейн Браун стрелялась только для того, чтобы покрасоваться в качестве пациентки и привлечь к себе мое внимание?
Мой шурин покачал головой.
– Выстрел был направлен прямо в сердце, – сказал он и сделал еще несколько замечаний, по которым было ясно, что он считает выстрел настоящей попыткой самоубийства.
Когда мой шурин ушел, Гитлер стал ходить взад-вперед по комнате. Вдруг он остановился и посмотрел на меня.
– Вы слышали, Гофман, – сказал он взволнованно. – Девочка сделала это из любви ко мне. Но я не давал ей никаких оснований для такого поступка.
Он повернулся и продолжил мерить шагами комнату.
– Очевидно, – продолжал он, больше обращаясь к самому себе, чем ко мне, – теперь мне придется за ней присматривать.
– По-моему, вы ничего не обязаны, – возразил я. – Никто не упрекнет вас за то, что натворила Ева.
– По-вашему, в это кто-то поверит? А во-вторых, кто поручится, что подобное не повторится?
Я не смог ему ответить.
– Если я возьму на себя обязательство присматривать за ней, – сказал он, – это не значит, что я на ней женюсь. Вам прекрасно известно мое мнение. Мне нравится в Еве то, что она не лезет в политику, как какой-нибудь «синий чулок». Ненавижу женщин, которые суются в политику. У государственного деятеля должна быть тихая и скромная подруга.
Таким образом Ева Браун добилась своего и стала подругой Гитлера.
Но и при всем при том между ними пока не было любовной связи в общепринятом смысле этого слова. Ева переехала к нему в дом, стала постоянной его спутницей в часы досуга, и, насколько мне известно, этим их отношения и ограничились. На самом деле я могу лишь еще раз уподобить Гитлера страстному коллекционеру, предпочитающему в одиночестве любоваться на свое последнее драгоценное приобретение. Более удачного сравнения мне в голову не приходит.
Ева категорически не допускалась ни на какие официальные приемы, ни государственного, ни международного уровня. Даже если в ближнем кругу Гитлера присутствовал какой-нибудь генерал или высокопоставленный чиновник, она не выходила к гостям и не садилась с нами за стол. Она никогда не сопровождала Гитлера в поездках и не приезжала к нему ни в одну из его ставок, но оставалась в его мюнхенском доме на Принцрегентштрассе, где Гитлер виделся с ней, когда представлялся случай, или приезжала в Бергхоф, когда Гитлер перебирался в Берхтесгаден. Она появлялась перед посторонними только в Бергхофе, где у нее были роскошные апартаменты, исключительно в компании Гитлера, его адъютантов и личного окружения, как будто была его родственницей.
Конечно, в какой-то момент до наступления краха Ева стала его любовницей, но когда именно, неизвестно ни мне, ни, я думаю, кому-то еще. Ни разу я не замечал каких-то перемен в его отношении к ней, которые могли бы указывать на то, что их связь стала более близкой. И я помню то глубокое изумление, которое охватило всех нас, его ближайших друзей, когда незадолго до своей гибели он объявил о намерении жениться.
Трудно сказать, действительно ли Ева любила его. Это была заурядная, миловидная продавщица со всем присущим ей легкомыслием и суетностью. Безусловно, ей несказанно льстило внимание и комплименты, которыми одаривал ее набирающий силу властитель.
В фантазиях, свойственных ее романтическому воображению, она, как мне кажется, видела себя в роли, решительно ей не свойственной: в роли будущей роковой женщины, некой современной мадам Помпадур, «богини из машины», закулисно влияющей на судьбы и участи народов рука об руку с Человеком, Который Ее Любит. Что может быть дальше от реального положения дел! Подобно тому как другие мужчины, закончив дневной труд, надевают домашние тапочки и садятся у камина с книгой и трубкой, так Гитлер в часы досуга прибегал к обществу привлекательных молодых женщин – и я намеренно подчеркиваю множественное число, именно женщин, а не женщины.
Позднее, под влиянием грандиознейших событий, среди которых проходила ее жизнь, пока военные годы шли к своему мрачному концу, Ева умственно развивалась, становилась зрелой женщиной, и своим последним поступком, когда она решила до самого конца оставаться рядом со своим покровителем, Ева поднялась на такую высоту, которая с лихвой искупает всю тщету и легкомыслие прежних лет.
Долгое время весь мир интересовался дружбой Гитлера с фрау Винифред Вагнер. Он познакомился с ней еще в 1922 году, и искренность его чувств в основном отражала его глубокое почтение к Рихарду Вагнеру и его музыке. Гитлер интересовался не одной фрау Винифред, а всей семьей Вагнера и байройтским «Храмом искусства», которому оказывал щедрую поддержку. Эти счастливые отношения ничуть не испортились, когда Фриделинд, старшая дочь Вагнеров, уехала в Англию и там критически отзывалась о том, с каким восхищением ее мать относилась к фюреру.
Несколько лет подряд он посещал Байройтский фестиваль и своим присутствием показал пример для всей партийной плеяды и дипломатической элиты.
На фестивале 1932 года, к большому неудовольствию Евы Браун, на сцену вышла женщина, к которой Гитлер проявил особый интерес, – Юнити Валькирия Митфорд, дочь лорда Ридздейла.
Финансово независимая Юнити Митфорд вела жизнь путешественницы и с большим энтузиазмом относилась к Гитлеру и его идеям. В Мюнхене она вращалась в одном кругу с семействами Брукман и Ганфштенгль и особенно подружилась с женой Путци Ганфштенгля, американкой по рождению. Гитлер восторгался Митфорд как олицетворением идеала германской женщины, что вызывало со стороны Евы Браун множество колких замечаний, которые старательно запоминались и дословно передавались Гитлеру.
Когда Юнити Митфорд лично познакомилась с Гитлером, то ее горячее, но до тех пор безличное и теоретическое восхищение его идеями и разумом, породившим эти идеи, быстро превратилось в страстную и ревностную преданность самому человеку и всему тому, что он пропагандировал. В машине, украшенной британским флагом и свастикой, она объехала всю Европу, везде выступая в защиту объекта своего поклонения и агитируя за его идеи.
Гитлер безмерно восхищался ею как воплощением своего идеала женственности, но еще более отчетливо сознавал ценность ее слепой преданности ему с точки зрения пропаганды. Когда Юнити приезжала в Германию, а это случалось не раз, она часто бывала в окружении Гитлера в «Остерии», швабском винном погребке, иногда вместе со своей сестрой, которая впоследствии вышла замуж за Мозли, вождя британских фашистов.
Разговаривая с Юнити и ее сестрой, Гитлер всегда подчеркивал свою безответную любовь к Великобритании. И все намеки и реплики подобного рода, которые он отпускал как бы невзначай, часто в легкой разговорной манере, имели одну цель: сделать так, чтобы они обязательно дошли до нужного места через этот канал. Все это вызывало множество предположений в политических сферах.
Я часто встречался с Юнити Митфорд на разных мероприятиях и в разных обстоятельствах: в Байройте, Нюрнберге и прочих местах. Это была эксцентричная женщина – эксцентричная почти до истерии. С большой личной преданностью Гитлеру в ней соединялась еще более страстная и огромная преданность своему заветному желанию: всеми фибрами души она мечтала увидеть, как Великобритания и Германия объединяются в тесный союз. Она часто говорила мне, что мечтает о непоколебимом и непобедимом союзе между Королевой морей и Господином земли. По ее глубокому убеждению, ее родина в сотрудничестве с родиной ее героя могли достичь мирового господства, столь могущественного, что никто не мог бы ему противостоять, и одновременно столь справедливого и великодушного, что все встретили бы его с радостью. «Лишь нескольким женщинам, – говорила она, – была дарована великая возможность трудиться ради великого дела». И ради этой идеи она была готова отдать себя целиком и, если понадобится, без колебаний пожертвовать жизнью.
Она понимала, что Гитлер восхищается ею с чисто эстетической точки зрения и его интерес к ней имеет сильный привкус политического эгоизма и целесообразности, но, жертвуя своими чисто личными женскими желаниями, она платила очень малую цену по сравнению с важностью поставленного на карту дела.
Возможно, она вдобавок лелеяла тайную надежду, может быть, даже не признаваясь самой себе, что, когда великий союз, которого она желала всем сердцем, будет достигнут и впереди появится перспектива мирного, утопического господства, за ним последует другой, более интимный союз, в котором она найдет свое личное счастье.
Однако яркий свет ее прекрасных видений неуклонно заслоняли надвигавшиеся грозовые тучи и наполняли ее безумным отчаянием, а объявление войны стало окончательным и катастрофическим взрывом, навсегда и безвозвратно погубившим все, на что она надеялась и ради чего жила. Этого она не могла вынести, жизнь потеряла для нее и смысл, и привлекательность.
Юнити осталась глуха и невосприимчива к любезному и сделанному из лучших побуждений предложению мюнхенского гаулейтера Адольфа Вагнера – состоятельного владельца эльзасских шахт и бывшего министра баварского правительства – оставить Германию и вернуться на родину. Вскоре после этого ее нашли в Английском саду, одном из известных мюнхенских парков, с серьезным огнестрельным ранением. Юнити выстрелила себе в голову!
Гитлер сразу же послал за лучшими докторами, которых только смогли отыскать, и окружил ее всяческим вниманием. Каждый день он посылал ей цветы, и на столике рядом с ее кроватью стояла его фотография с личным автографом.
Когда она достаточно поправилась, Гитлер отправил ее в Швейцарию под присмотром своего личного врача профессора Морелля. Оттуда она вернулась в Англию, где умерла в 1948 году.
Неудавшееся самоубийство Юнити произвело глубочайшее впечатление на Гитлера. Вскоре после этого трагического происшествия он сказал мне несчастным тоном:
– Знаете, Гофман, я начинаю бояться женщин! Как только я проявляю к ним хоть какой-то личный интерес – посмотрю или сделаю комплимент, – его тут же неправильно истолковывают. Я приношу женщинам несчастье! И это факт, который повторяется самым необычайным и зловещим образом на протяжении всей моей жизни!
Невольно мои мысли возвратились к его матери, умершей слишком рано, самоубийству Гели, попытке Евы покончить с жизнью, потом Юнити…
Есть и еще одна женщина, о которой мир ничего не знает и которая пыталась наложить на себя руки из-за безответной любви к Гитлеру. В 1921 году, когда Гитлер был еще малоизвестен, эта женщина хотела повеситься в гостиничном номере, но, к счастью, ее вовремя обнаружили.
Много лет спустя, когда она уже счастливо вышла замуж, Гитлер привел ее ко мне в фотоателье, чтобы сфотографироваться.
Поразительно, как он умел очаровывать женщин. Во время борьбы за власть зрелые матроны сходили по нему с ума, точно девчонки. А письма, которые он получал позднее! В одних ему писали добродетельные замужние дамы, умоляя его стать отцом их детей, в других вообще было что-то вопиющее, написанное явно ненормальными людьми. В личном кабинете Гитлера лежали стопки толстенных папок под общим заголовком «Полоумные»!
Глава 8 ГИТЛЕР И ИСКУССТВО
Страсть Гитлера к искусству не была позой. Он тонко чувствовал его и обладал острым глазом, да и сам был отнюдь не плохим акварелистом. Некоторые его картины превосходны и по композиции, и по исполнению, и, если бы он посвятил себя живописи, как мечтал, я думаю, он завоевал бы себе почетное место среди художников-акварелистов нашего времени.
В первые, ранние годы нашей дружбы он очень интересовался моей скромной коллекцией картин, среди которых его особенно привлекали картины кисти Грюцнера.
– Еще молодым человеком в Вене я однажды увидел картину Грюцнера в окне картинной галереи – очень похожую на эту, – сказал Гитлер, показывая на картину с изображением старого монаха. – Я робко вошел и спросил, сколько она стоит. Оказалось, что намного больше, чем я мог себе позволить. Господи, подумал я, удастся ли мне добиться такого успеха в жизни, чтобы я смог купить себе Грюцнера!
Через двадцать пять лет Гитлер владел коллекцией примерно из тридцати шедевров Грюцнера.
Вот еще одна история из его венской жизни, которую он мне рассказал.
– Меня как художника рекомендовали одной даме, которая жила в прелестном особняке в фешенебельном районе Хофбурга. Пожилая и очаровательная венка встретила меня очень дружелюбно. Она сказала мне, что вскоре у нее могла бы быть золотая свадьба, если бы ее муж не умер, и, чтобы отметить этот юбилей, ей очень хотелось получить акварельную картину с капуцинской церковью, где они обвенчались.
Я сразу же принялся за работу по ее заказу. Работа приносила мне бесконечное наслаждение, я любовно воспроизводил все мельчайшие детали интерьера прекрасной барочной церкви. Наконец я закончил картину и по дороге к заказчице, когда нес ее отдавать, решился попросить за нее двести крон. Я медленно поднимался по лестнице, переступая со ступеньки на ступеньку. Двести крон, пожалуй, многовато, подумал я, потому что в то время я обычно получал за рисунки около пятнадцати крон. Чем выше я поднимался, тем неспокойнее становилось у меня на душе. Я передал картину старушке, и она была в полном восторге. Наконец встал вопрос об оплате, которого я боялся. «Сколько же вы хотите за нее?» – спросила дама. Последние остатки смелости покинули меня. «На ваше усмотрение, мадам», – пробормотал я и больше ничего выговорить не мог.
С ласковой улыбкой она скрылась в соседней комнате и через несколько минут появилась с запечатанным конвертом. Я еще не успел дойти до лестницы, как уже пытливо ощупывал свой драгоценный конверт. Господи, почему же я не потребовал двести крон? Я умирал от желания заглянуть в конверт и сразу же, как только вышел за дверь, разорвал его и не поверил своим глазам: там лежало пять банкнот по сто крон!
– Выходит, как художник вы тогда стоили гораздо меньше, чем теперь как модель для фотографа, – рассмеялся я.
– Для меня в то время пятьсот крон были целым состоянием. А для партии тридцать тысяч долларов – не более чем капля в океане. Вы должны научиться различать между мною лично и партией, герр Гофман!
После пожара в Стеклянном дворце, знаменитой мюнхенской художественной галерее, в июне 1931 года, в котором погибло множество выдающихся работ немецких художников-романтиков, в Мюнхене в течение многих лет не было представительного здания, подходящего для проведения художественных выставок. И только в 1937 году на Принцрегентштрассе построили Дом немецкого искусства по проекту профессора Трооста, и мюнхенские художники снова получили вместилище для своих произведений, достойное их таланта.
Первая выставка в Доме немецкого искусства должна была открыться 18 июля 1937 года. Была назначена комиссия из двенадцати профессоров, дабы они выбрали достойные работы из восьми тысяч представленных произведений. За несколько дней до открытия выставки Гитлер решил пройтись по галерее и попросил меня сопровождать его. Нашим глазам представилось не очень красивое зрелище. Картины еще не успели развесить, повсюду господствовал дух «организованного хаоса», который, как видно, является неотъемлемой стадией при подготовке любой выставки.
Гитлер ходил по залам, и я заметил, что его не особенно вдохновляет увиденное. Кроме того, ему стало известно, что двенадцать профессоров из комиссии намерены развесить свои картины на лучших местах. Разочарованный и сердитый, он вдруг заявил:
– В этом году выставки не будет! Присланные нам работы ясно показывают, что у нас в Германии пока нет художников, чьи картины достойны висеть в этом великолепном здании. Итак, я распускаю комиссию!
Все оцепенели!
– Это будет ужасный удар для мюнхенских художников, герр Гитлер, – подал голос я. – Подумайте, сколько будет разбито надежд, – продолжил я уговоры. – Герр Гитлер, не может быть, чтобы вы говорили серьезно. Подано около восьми тысяч полотен, из такого количества наверняка мы сможем выбрать для выставки пятьсот – семьсот стоящих работ.
Минуту он колебался и раздумывал, потом согласился.
– Если вы думаете, что сможете найти достаточно картин, достойных участвовать в такой выставке, которую мы задумали, и заполнить эти галереи, позвоните мне в Оберзальцберг, когда закончите, и я приду проверить ваш выбор. Но не позволяйте себе поддаваться чьему-то влиянию!
Таким образом на меня совершенно неожиданно свалилась ответственность за выставку. Это была нелегкая задача, на которую я сам напросился своим выступлением в защиту мюнхенских художников. Но я знал взгляды Гитлера и хорошо представлял себе, что вызовет его благосклонность.
– Терпеть не могу, когда картины пишут кое-как, – довольно часто говорил он, – такие картины, по которым никак не скажешь, то ли они вверх ногами, то ли шиворот-навыворот, и несчастный багетчик должен приделывать к ним крючки со всех четырех сторон, потому что не может угадать, где верх, где низ!
Итак, чтобы не поставить под угрозу успех выставки, я решился твердо придерживаться его вкуса и из восьми тысяч представленных работ выбрал около тысячи семисот, против которых, как мне казалось, он не будет возражать.
Каждый год мы могли бы целый зал увешивать «портретами фюрера» – обычно их было около ста пятидесяти, всевозможных размеров, во всевозможных позах, большинство скопировано с фотографий, сделанных мною собственноручно. В конце концов Гитлер приказал, чтобы каждый год выставляли только один его портрет по его личному выбору. В 1938 году он выбрал портрет тирольского художника Ланцингера «Гитлер в рыцарских доспехах». Этот портрет купил город Мюнхен и затем рекомендовал Гитлеру для выставки; и, хотя «рыцаря Адольфа» часто критиковали, он нашел немало почитателей.
Мне всегда хотелось дать современной школе живописи возможность показать свои работы на выставке, и поэтому при потворстве директора Дома немецкого искусства я приготовил сюрприз для Гитлера, оставив одну галерею под модерн.
Когда мы вместе вошли туда, признаюсь, сердце у меня екало. Гитлер посмотрел на картину известного мюнхенского художника. Потом обернулся ко мне.
– Кто это здесь повесил? – спросил он, и тон его был не слишком доброжелателен.
– Я, герр Гитлер!
– А это?
– Тоже я, герр Гитлер, я сам это все выбрал!
– Снять всю эту ерунду, – отрывисто бросил он и сердито вышел из зала.
На том и закончилась моя попытка привить Гитлеру вкус к современному искусству.
В 1938 году среди представленных полотен была одна картина кисти художника П.М. Падуа под названием «Леда и лебедь». Я посчитал, что будет интересно выставить это произведение современного художника на тему, которая пользовалась популярностью в искусстве на протяжении многих веков. В техническом смысле она была написана великолепно, но дерзость авторского замысла была выражена, пожалуй, слишком откровенно, так что я отложил ее в сторону, чтобы спросить мнения у Гитлера.
Эта картина и на него произвела глубокое впечатление, но он опасался, что она покажется оскорбительной некоторым посетителям выставки, и колебался, не решаясь дать окончательное распоряжение. Потом у него возникла одна идея.
– Такую картину может как следует оценить только женщина. Спросим фрау Троост, жену профессора!
Фрау Троост довольно долго рассматривала картину и заявила, что не видит причин не допускать ее к выставке.
– Вот видите, Гофман! Оказывается, вы стыдливее женщины! Эта черта вашего характера для меня новость, – пошутил Гитлер.
Вердикт фрау Троост отмел все его опасения, и он велел мне выставить картину, что я и сделал, повесив ее на видном месте.
Той же ночью меня разбудил телефонный звонок. Это была фрау Троост.
– Я не могу сомкнуть глаз, профессор! Эта картина не дает мне покоя! Я все думала и думала о ней и пришла к твердому убеждению, что картину Падуа нельзя выставлять на публике. Пожалуйста, поговорите с фюрером, пусть он передумает!
– Я знаю Гитлера, вряд ли он изменит уже принятое решение, – ответил я.
Когда на следующий день я сказал Гитлеру об этом ночном звонке, он наполовину рассердился, наполовину развеселился.
– Как это похоже на женщин! На них совершенно нельзя положиться! Фрау Троост должна была заранее продумать все свои возражения. Теперь, когда я принял решение, я от него не откажусь!
Как я и ожидал, «Леда» Падуа вызвала много споров – кто-то был за нее, кто-то против, она долго привлекала всеобщий интерес, и многие из ведущих членов партии, включая женское отделение, требовали ее убрать. Но нашлось столько же меценатов, у которых она вызвала такой восторг, что они хотели ее приобрести. Однако Мартин Борман опередил всех.
Когда Дом немецкого искусства закрыл свои двери в 1945 году, я вздохнул с облегчением, избавившись от почетной должности, которой совсем не добивался.
Летом 1937 года с подачи доктора Геббельса начался новый процесс очистки музеев и художественных галерей. И под лозунгом «Долой дегенеративное искусство!» он выбросил оттуда все работы, которые, по его мнению, были «противны» немецкому народу.
Кульминацией кампании стала организованная доктором Геббельсом выставка «дегенеративного искусства». Это отнюдь не было встречено единодушным одобрением, многие даже весьма консервативные члены партии считали, что он зашел слишком далеко. Я не колеблясь честно высказал свое мнение Гитлеру и сказал ему, что, по-моему, Геббельса понесло куда-то не туда.
Когда Гитлер решил посетить выставку, я сопровождал его, и, к большому неудовольствию Геббельса, Гитлер обратил внимание на несколько картин, которые, на мой взгляд, определенно не заслуживали позорного клейма и изгнания. И я с огромным удовлетворением сумел-таки уговорить Гитлера, чтобы он дал Геббельсу указание немедленно вычеркнуть из списка «дегенератов» значительное число произведений. Среди них, как я помню, были работы Ловиса Коринта, Рихарда Дикса, несколько рисунков Лембрука и прочие.
– Если уж Геббельсу так хотелось устроить выставку «дегенеративного искусства», лучше бы он обратил свой гнев на художественный мусор, особенно на тот, который мы сами производим, – сказал я Гитлеру. – Из картин, представленных на выставку в Доме немецкого искусства, по меньшей мере треть вполне укладывается в эту категорию. Такое впечатление, будто многие художники считают, что если картина забита государственными флагами, свастиками, партийной символикой, знаменами, массами марширующих штурмовиков, эсэсовцев и гитлерюгенда, то это само по себе дает им право требовать участия в выставке!
Я вел постоянную войну с защитниками таких «художников». Всякий раз, как я отвергал картину, художник жаловался гаулейтеру, который, в свою очередь, приходил к Гитлеру и просил включить ее в выставку. Однако, как правило, Гитлер давал мне свободу действий и не вмешивался.
Выставка имела такой успех, судя по количеству посетивших ее, что доктор Геббельс решил отправить ее в тур по Германии.
Для Гитлера Вена была городом разочарований. Он не любил ее, она ассоциировалась у него с днями бедности, голода и отчаянной борьбы за выживание. Но, несмотря на это, Вена, столица империи, с ее величественными зданиями, великолепными картинными галереями и учреждениями культуры была источником, из которого молодой восторженный художник Адольф Гитлер черпал все свои познания и вдохновение.
Величайшим разочарованием его жизни было то, что он не смог сдать вступительные экзамены в Венскую художественную академию, а нужно признать, что, за исключением самых первых работ, его акварели, продавая которые он хоть как-то сводил концы с концами, были намного выше среднего уровня. Лишь однажды он получил за картину «царский» гонорар, о чем я рассказывал чуть выше, а по большей части продавал свои работы за двадцать – тридцать крон.
Конечно, впоследствии цена на его картины взлетела на фантастическую высоту. В 1944 году, например, одну из его акварелей купили за тридцать тысяч марок – я думаю, это была дань Гитлеру как государственному деятелю, а не как художнику. Я сам опубликовал альбом с репродукциями его картин, и в 1936 году известный американский журнал «Эсквайр» напечатал статью о Гитлере-художнике с цветными репродукциями его картин.
Даже после падения Германии американцы продолжали проявлять огромный интерес к картинам Гитлера. Две его акварели – «Раценштадль в Вене» и «Старый двор», – принадлежавшие мне, были отправлены в Америку 29 июня 1950 года и, насколько я знаю, до сих пор находятся в вашингтонском музее.
Когда Гитлер переехал в Мюнхен, он был в восторге оттого, что получил доступ в художественные круги. Он мечтал о том дне, когда будет владеть собственной картинной галереей, а когда публикация «Майн кампф» стала приносить ему неплохой доход, он начал превращать свою мечту в реальность.
Однако он коллекционировал бессистемно, приобретая без разбора все, что ему почему-то нравилось. В своей мюнхенской резиденции он предпочитал хранить картины мюнхенских авторов, среди которых были знаменитые «Бисмарк в форме кирасира» Ленбаха, «Грех» Франца фон Штука, «Сцена в парке» Ансельма Фейербаха, много работ Грюцнера, которого он особенно любил, картина Генриха Цюгеля и полотна Шпицвега в большом количестве.
У мюнхенского торговца живописью Гитлер приобрел картину «Мысль свободна от пошлины», одну из самых известных работ Шпицвега, где изображен пункт пограничного контроля. Приобретая ценную картину, он всегда стремился заручиться гарантией ее подлинности, прежде чем заключить сделку, так было и в этот раз. Картину передали на рассмотрение трем экспертам: Альту из мюнхенской галереи «Хельбинг», который каталогизировал все работы Шпицвега, Уде-Барнайсу, историку искусства и автору множества книг о Шпицвеге, и внучатому племяннику самого Шпицвега.
Гитлер хотел подарить картину на день рождения министру Ялмару Шахту, президенту Рейхсбанка, и к раме прикрепили приличествующую случаю медную табличку с поздравлением и факсимильным воспроизведением подписи Гитлера. Адъютант Гитлера Видеман подарил картину имениннику и рассказал Гитлеру, в какой восторг она его привела. Но как-то раз к нему в гости зашел эксперт по живописи и выразил сомнение в ее подлинности.
Гитлер пришел в ярость. Он приказал мне расследовать дело и выяснить, подделка это или нет. Кроме того, он хотел знать, по чистой ли совести эксперты высказали свое мнение и если да, то готовы ли упомянутые эксперты вновь поручиться за ее подлинность.
Мое расследование привело к противоречивым результатам. Знаменитый Дернеровский институт художественных технологий заявил, что картина поддельная, а другие эксперты с той же уверенностью настаивали на ее подлинности. У меня самого была коллекция из шестнадцати Шпицвегов, и я немного сомневался. Когда я представил эти противоречивые мнения Гитлеру, он сказал:
– Ну, поддельная она или подлинная, на самом деле не важно. Факт остается фактом: это такой шедевр, что и сам Шпицвег не мог бы написать лучше.
Так для Гитлера картина осталась подлинным Шпицвегом.
Вскоре после этого в Штутгарте состоялось громкое дело о подделке полотен Шпицвега. Спорную картину отправили туда и представили в качестве доказательства. Но эксперты опять не могли сойтись во мнении.
В ходе процесса была раскрыта личность художника, считавшегося автором якобы подделок, и адвокат предложил мне поинтересоваться у этого человека, не он ли написал нашу картину.
Этот совершенно неизвестный художник по имени Тони Штефген жил в Траунштейне и посвятил себя копированию картин Шпицвега. Но Штефген не подделывал картин, он честно подписывал каждую своим полным именем и делал приписку: «Копия с картины Шпицвега».
Однажды в траунштейнскую аптеку зашли двое мужчин, чтобы купить какой-то пустяк, и, к своему удивлению, заметили на стене картину якобы Шпицвега.
– Какая ценная у вас картина, – сказал один из них.
Но аптекарь покачал головой:
– Нет, господа, это просто копия. Художник живет здесь, в Траунштейне, и я купил ее у него за несколько марок. Он сейчас в очень стесненных обстоятельствах, и, если вы купите у него несколько картин, он будет счастлив, уж вы поверьте.
Этим двоим не понадобилось второго приглашения, и через несколько минут они уже знакомились со Штефгеном. Вскоре они ударили по рукам. Отныне Штефген обязался работать только для двух своих новых друзей.
Неожиданный поворот судьбы придал Штефгену новую смелость. Его техника настолько выросла и в конечном итоге приобрела ту гладкость, которая является отличительной чертой Шпицвега, что даже художественные эксперты не могли отличить его работы от полотен Шпицвега.
Два мошенника тоже не пострадали от сделки. Они продавали картины примерно по десять тысяч марок за штуку, а Штефгену платили двадцать или тридцать!
Итак, к этому Штефгену я и отправился вместе с адвокатом и картиной под мышкой.
Когда мы вошли в «студию» – комнатушку, которая служила ему и мастерской, и гостиной, и кухней в одном лице, – художник сидел у единственного окна. Его больная жена, со впалыми щеками, мучимая сильным кашлем, лежала на диване, покрытом клеенкой. Даже два антикварных предмета мебели не могли скрыть чрезвычайную бедность обстановки.
Я доброжелательно объяснил ему цель нашего прихода.
– Герр Штефген, – сказал я, – мы принесли картину и хотим знать, не вы ли ее написали. Как вам уже сказал защитник в суде, если какая-то картина написана вами, вы можете заявить об этом открыто, не боясь последствий. Прошу вас осмотреть эту картину очень внимательно; не торопитесь, но, когда будете готовы ответить, пусть это будет окончательный ответ.
Штефген долго рассматривал картину. Наконец он решил.
– Да, – сказал он, – определенно эту картину написал я.
Для адвоката дело о картине «Мысль свободна от пошлины» на этом закончилось.
Чтобы хоть ненадолго помочь семье художника остаться на плаву и дать им возможность удовлетворить хотя бы самые насущные нужды, мы с адвокатом заказали ему картины по триста марок и дали по сто марок авансом. Но своих картин мы так и не получили.
Дело было закрыто, мошенники понесли суровое наказание в виде тюремного заключения. Общественный прокурор отправил картину мне, так как личность рейхсканцлера нельзя было вмешивать в судебное разбирательство, и много лет она провисела, никем не замеченная, в углу моего кабинета.
В мае 1945 года, когда все мое имущество и собрание картин конфисковали американцы, эта копия картины «Мысль свободна от пошлин» вместе с остальными очутилась на сборном пункте – складе всех конфискованных произведений искусства. Многие сотни картин были украдены из хранилищ сборного пункта, среди них и спорный Шпицвег, который оттуда отправился в Швейцарию и был куплен богатым промышленником за приличную сумму в твердых швейцарских франках.
Потом американцы увидели в этой картине сенсацию; они искали ее повсюду и наконец отследили до нового швейцарского владельца. Они потребовали вернуть полотно на том основании, что оно было украдено, но успеха не добились.
– Я гражданин Швейцарии, и я заплатил за картину значительную сумму, – не сдавался швейцарец, – мне и в страшном сне не приснится, что я кому-то ее отдам – ни вам, ни кому другому!
Американцы выложили свой последний козырь.
– Картина поддельная! – сказали ему.
На что получили лаконичный ответ:
– Мне наплевать, подделка это или нет. Она интересна мне тем, что когда-то принадлежала Гитлеру!
Однажды Геббельс пришел к Гитлеру, и доктор заметил среди картин одно полотно кисти Левита, которое, как сказал ему Гитлер, подарил ему я.
Геббельс очень внимательно рассмотрел картину.
– Великолепное произведение, мой фюрер, – сказал он, бросив злобный взгляд в мою сторону. – И неудивительно, ведь Левит, конечно, один из самых талантливых еврейских художников!
– Именно! – сказал Гитлер, смеясь. – Поэтому я его и повесил!
Больше всего Гитлер любил дарить на дни рождения, юбилеи и другие торжественные даты ближайшим соратникам и ведущим функционерам партии, правительства и вооруженных сил ценные картины. Из своей весьма обширной коллекции он выбирал работу, которая по сюжету каким-то образом подходила к характеру, привычкам и профессии получателя.
Дорпмюллер, тогдашний министр транспорта и связи, получил на свой семидесятилетний юбилей пейзаж Шпицвега с железной дорогой; Онезорге, министр почты, «Старую почтовую карету» Пауля Хея. Адмиралу Редеру Гитлер подарил «Битву на море» Виллема ван де Вельде; Герингу, страстному охотнику, «Сокольничего» венского художника Ганса Макарта. Доктор Лей получил в награду «Бражничающего монаха» Грюцнера, а для Геббельса в качестве свадебного подарка Гитлер выбрал «Вечный медовый месяц» Шпицвега.
Гитлер проводил четкую границу между теми картинами, которые приобретал в частном порядке в основном у мюнхенских и берлинских торговцев живописью или на аукционах, и теми, которые были конфискованы в ходе кампании по «охране» принадлежавших евреям предметов искусства, проводимой Розенбергом и его подручными. Последние он отказывался принимать в свою частную коллекцию.
Альфред Розенберг, у которого была штаб-квартира в Париже, посчитал, что доставит Гитлеру огромное удовольствие, презентовав ему два чрезвычайно ценных произведения; одно из них – знаменитый «Астроном» Вермера из галереи Ротшильда, а другой – не менее известная «Мадам Помпадур» Буше из собрания Лувра.
Каждый раз, когда Гитлер приезжал в Мюнхен из Берлина или из ставки, первым делом он посещал «Фюрербау», чтобы осмотреть картины, которые недавно приобрел или которые предложили ему продавцы. В один такой визит дворецкий передал ему две картины, присланные Розенбергом. Гитлер, прекрасно понимая, что им нет цены, был, однако же, чрезвычайно недоволен. Сделав презрительный жест, он повернулся к растерянному дворецкому.
– Скажите Розенбергу, – сухо сказал он, – что я не привык получать подобные подарки. Эти картины должны находиться в галерее, и судьба их будет решена, когда окончится война!
Гитлер считал, что искусство должно занимать исключительное место в жизни Третьего рейха. Живущим художникам нужно дать все возможности для развития таланта – разумеется, тем из них, кто разделяет здоровые и признанные академические принципы. Но он так же твердо был намерен вести беспощадную войну с дегенератами. Однако Геббельс, которому Гитлер доверил управлять Имперской палатой изобразительного искусства, старался сделать искусство прислужницей своей политической деятельности.
Он дал указание президенту академии Адольфу Циглеру изъять из всех немецких галерей все картины, неприемлемые для национал-социалистического режима, и собирался их сжечь!
Когда я услышал об этой безумной идее, то тут же бросился в рейхсканцелярию.
– Этого просто нельзя допустить, герр Гитлер! – воззвал я к нему. – Даже с точки зрения вашей собственной культурной политики уничтожать эти творения было бы актом безответственного вандализма! Да ведь на них обязательно найдутся покупатели за границей, и с их продажи можно получить уйму денег в иностранной валюте! Вы могли бы даже организовать обмен картинами с иностранными галереями, потому что среди приговоренных полотен есть картины Франца Марка, Ловиса Коринта, Либермана, Гогена, Ренуара и Ван Гога!
Я продолжал доказывать, и мне таки удалось убедить его в том, что такое огульное уничтожение картин – чудовищная глупость. Гитлер приказал Геббельсу назначить комиссию для рассмотрения вопроса. В большинстве в нее вошли торговцы произведениями искусства, и от Гитлера я получил указание посещать заседания комиссии.
– Мне доставит огромное удовольствие, – сказал он, – если вам удастся сменять Пикассо или Пехштейна на Дюрера и Рембрандта!
Восторженное отношение Гитлера к искусству сообщилось и другим лидерам Третьего рейха с Герингом в первых рядах. Однако Геббельс и Риббентроп не собирались отставать и тоже отправляли своих агентов на все крупные художественные аукционы. Они так яростно повышали ставки, стараясь обскакать друг друга, что большинство картин продавались гораздо дороже, чем того заслуживали, и это соперничество несколько раз оканчивалось весьма забавными эпизодами.
Однажды Гитлер отказался покупать картину Ленбаха «Бисмарк», потому что считал, что цена слишком высока: за нее просили тридцать тысяч марок. Вскоре после этого картину выставили на аукцион у Ланге в Берлине.
– Она мне нужна! – приказал Геринг.
И когда аукционист в третий раз ударил молоточком, Герингу пришлось выложить за нее семьдесят пять тысяч марок!
Мне случилось присутствовать в момент, когда Геринг презентовал картину Гитлеру на день рождения. Тот был поражен, когда получил в подарок картину, которую сам отказался покупать; но, услышав ее цену, он впал в настоящую ярость.
В итоге он установил «преимущественное право фюрера» на покупку картин.
В соответствии с этим указом ни одну картину, представлявшую большую историческую и художественную ценность, нельзя было продавать или покупать без согласования с фюрером. Если Гитлер интересовался какой-то картиной, он приказывал генеральному директору Дрезденской галереи Поссе, а после смерти Поссе его преемнику определить ее цену.
Однако Геринг не считал себя связанным приказом фюрера, и одна картина едва не стала яблоком раздора между ним и Гитлером.
Амстердамский торговец живописью предложил картину Вермера «Христос и грешница» Гитлеру, и тот сразу же дал ему понять, что очень заинтересован в покупке. Когда Геринг услышал об этом и узнал, какую цену предлагает Гитлер, он ловко его обошел; он заплатил полтора миллиона гульденов, и картина перешла во владение Геринга, а не Гитлера.
Гитлер очень рассердился, но утешился той мыслью, что Геринг подарит картину ему для галереи, которую он планировал учредить в Линце. Однако Гитлеру пришлось пережить разочарование, ибо Геринг ничего подобного не сделал!
– Хорошо, что картина останется в Германии, – сказал Гитлер, – гарантия этому – мой указ о «преимущественном праве фюрера».
Одной из картин, на которые он распространил эту прерогативу, был знаменитый «Художник в его студии» Вермера Дельфтского из венской коллекции графа Чернина. Он утверждал, что подобную работу нельзя держать в частной коллекции, где ее увидит лишь ограниченное число привилегированных лиц, но она должна войти в художественное достояние нации.
Таким образом картину предназначили для линцской галереи, и средства на ее покупку выделила почтовая служба рейха из денег, вырученных от продаж особого выпуска «гитлеровских почтовых марок», которые принесли много миллионов рейхсмарок. Я сам однажды присутствовал при том, как Онезорге, министр почты, передал Гитлеру чек на пятьдесят миллионов марок, полученных из этого источника.
В целом для галереи в Линце планировалось приобрести около десяти тысяч картин. Среди них было самое значительное произведение Морица фон Швинга «Золушка», а также самая удивительная картина Макарта «Чума во Флоренции», которую Гитлеру подарил Муссолини. А на деньги из тех миллионов, которые он получил от продажи книги «Майн кампф», Гитлер, среди прочего, приобрел «Леду с лебедем» Леонардо да Винчи, «Автопортрет» Рембрандта, «Медового вора» Кранаха Старшего, знаменитых «Танцующих детей» Ватто и работу Адольфа Менцеля под названием «Строительство в Силезии». Знаменитая статуя Мирона «Дискобол» была приобретена у итальянского княжеского дома при посредничестве Муссолини и также предназначалась для линцской галереи. Однако в 1945 году она вернулась в Италию.
Однажды я спросил Гитлера, почему он относится к Линцу с таким предпочтением.
– Возможно, на меня повлияли воспоминания о том времени, которое я провел там молодым человеком, – ответил он, – но главная причина в том, что я считаю, что у величайших столиц мира не должно быть монополии на сокровища искусства.
Гитлер очень любил показывать мне свои архитектурные проекты, и, должен сказать, меня поражало то, что я видел. Я не был одинок в своем восхищении, эти проекты производили глубокое впечатление и на многих знаменитых архитекторов. Очень интересны были проекты триумфальных арок, которые он сделал в возрасте двадцати лет.
– Они, друг мой, – сказал он мне, – однажды будут воздвигнуты в Германии!
Впервые план и внутренняя архитектура зала Сената в Коричневом доме были начерно набросаны на обороте меню в кафе «Хек», а позднее с очень незначительными поправками были воплощены в здании. За несколько лет он сделал эскизы ко многим сотням проектов.
Во время строительства Коричневого дома Гитлер следил за каждой мелочью, и все, что ему не нравилось, безжалостно сносилось.
Размышляя об этом, я не мог удержаться и не спросить:
– Герр Гитлер, почему вы не стали архитектором? Вы бы добились большого успеха!
– Потому, – возразил он, – что вместо этого я решил стать архитектором Третьего рейха!
Глава 9 С ГИТЛЕРОМ ДОМА
Бергхоф в Оберзальцберге был похож на золотую клетку. В противоположность рейхсканцелярии, где все имело очень формальный и официальный оттенок, жизнь в Оберзальцберге была гораздо уютнее и задушевнее по характеру.
Стены обеденного зала с его огромным столом на восемнадцать человек были обшиты сосновыми панелями. Общий дизайн интерьера, решенный в современном стиле, производил приятное впечатление, гармоничный ансамбль довершался умело расположенными зеркалами и освещением. Отделку комнат нельзя было назвать чрезмерной, но в то же время они и не смотрелись голыми.
Но самым чудесным был великолепный вид из окон на дикий массив Унтерсберга, где, по легенде, когда-то жил император Фридрих Барбаросса.
На обед в этом зале очень редко приглашали посторонних. Гитлер любил обедать там с Евой Браун, своими адъютантами, врачами и ближайшими соратниками; в небольшом интимном кружке иногда появлялись подруги Евы с детьми.
Слуги приезжали с нами из Берлина. Повар и горничные были родом из Берхтесгаденского района, а сама кухня была обставлена в баварском стиле. Гитлер придерживался вегетарианской диеты, и блюда для него готовила первоклассная повариха из Вены, пока Борман не выяснил, что ее арийское происхождение оставляет желать лучшего, и, к несчастью, ее уволили. И в старом доме, «Вахенфельде», и после перестройки много лет в роли домоправительницы хозяйством заправляла старшая сестра Гитлера фрау Раубаль, мать Гели. Однако после смерти ее дочери они так часто ссорились с Евой Браун, которая почти всегда приезжала с Гитлером в Оберзальцберг, что фрау Раубаль ушла.
Фрау Раубаль всегда относилась к Еве Браун с холодным неодобрением – неодобрением респектабельной матери семейства, которая насквозь видит все хитрости какой-то мелкой вертихвостки и золотоискательницы и только удивляется моральной слабости и легковерию мужчин, даже самых умных из них.
После смерти дочери чувства фрау Раубаль к Еве переросли в глубокую неприязнь, почти ненависть. Она была уверена, и никакие наши уговоры не могли поколебать ее уверенности, что ее Гели глубоко любила Гитлера и что присутствие и влияние Евы Браун было источником большого несчастья для ее дочери и одной из главных причин ее преждевременной кончины. Фрау Раубаль раздирали противоречивые чувства: с одной стороны, глубочайшее отвращение к женщине, которая, по ее мнению, нанесла ее дочери чудовищную обиду, и с другой – безграничная преданность сводному брату, которого с самого начала она считала будущим спасителем и вождем страны.
Как все женщины этой семьи, фрау Раубаль была прекрасной хозяйкой. Она чувствовала, что может внести свой вклад в дело Гитлера тем, чтобы его хозяйство во всех отношениях работало с размеренным ритмом идеально отлаженного механизма, без сучка без задоринки. И для исполнения этой принятой на себя обязанности она была готова смирить собственные чувства и сильную антипатию, которую вызывало в ней присутствие Евы Браун, и оставаться на своем посту.
Однако атмосфера в Оберзальцберге стала невыносима даже для фрау Раубаль с ее твердой решимостью и преданностью долгу. Здесь, в мнимом одиночестве гор, Ева гораздо больше походила на жену хозяина, чем в более публичной обстановке Мюнхена. Прежде чем Борману удалось превратить Оберзальцберг в подобие берлинской канцелярии, Ева была хозяйкой дома, и, кроме официальных случаев, как, например, визит герцога Виндзорского с супругой, она и вела себя как хозяйка. Если бы она довольствовалась тем, что держалась поодаль от фрау Раубаль, их отношения вполне могли бы продолжаться в виде пускай непримиримой, но все-таки подспудной вражды. Но когда Ева начала напускать на себя важность и не просто вмешиваться в управление хозяйством, но вмешиваться капризно, высокомерно и неумело, для фрау Раубаль это было уже слишком. Строгое, молчаливое неодобрение одной и снисходительное высокомерие второй, часто довольно глупое, нередко прорывались едкими и злобными взаимными упреками, пока у фрау Раубаль окончательно не лопнуло терпение. По причинам, которые она отказалась обсуждать, она попросила Гитлера освободить ее от обязанностей домоправительницы.
Конечно, Гитлер прекрасно знал о трениях между женщинами. Но, как большинство мужчин, он терпеть не мог семейные скандалы, особенно женские скандалы, и был готов пойти на что угодно, лишь бы его не втягивали в выяснение отношений. В данном случае он пошел по линии наименьшего сопротивления и без проволочек отпустил фрау Раубаль. Она вернулась домой в Мюнхен, где мирно жила до самой смерти в 1948 году.
В поздние годы весь Бергхоф закрыли для посторонних, и туда можно было попасть только по специальному разрешению. Внутри ограды, примерно в двух с половиной километрах от дома, построили маленький чайный домик. Это был круглый павильон с толстыми стенами, единственную комнату которого согревал большой открытый камин. Там, у огня, Гитлер часто засыпал после почти ежедневной прогулки до павильона; тогда тихое журчание разговора стихало, мы ждали, пока он проснется, и потом возвращались все вместе в Бергхоф.
Эта ежедневная прогулка была не слишком интересна для всех, кроме волкодава Гитлера и терьера Евы, для которых она была главным событием дня. После обеда обычно показывали фильм, разговоры у камина затягивались далеко за полночь. Мы говорили обо всем, что только приходило на ум, но обычно в первую очередь об искусстве, театре и архитектуре. Сам Гитлер часто готов был часами рассуждать об астрологии, астрономии и вообще на любую тему от ледникового периода до открытия урана – да так подробно, что порой очень трудно было подавить зевоту.
Он обладал феноменальной памятью. Он помнил не только все исторические даты, но и названия и тоннаж кораблей всех флотов мира. Он знал наизусть «Немецкий военно-морской календарь» и частенько сажал в калошу своих морских офицеров вопросами, на которые они либо не могли ответить, либо отвечали неправильно. Едва ли в мире существовал автомобиль, чье название, модель, количество цилиндров, вес и бог знает что еще он не мог бы верно назвать, и, когда кто-то ставил его слова под сомнение, он охотно заключал пари – и чаще всего выигрывал!
Беседы о гуманитарных науках мало интересовали его. Технические предметы, с другой стороны, его завораживали; не знаю, сколько раз я слушал, как он разглагольствует о теории и практике строительства мостов. Особенно его впечатляли американские мосты, и он собирал все фотографии и книги по этому предмету, какие только попадали ему в руки. Позднее он хотел построить мост в Гамбурге, который бы превзошел американские мосты по размеру и всем остальным качествам и которому он хотел дать гордое имя «Врата мира».
Конструкция и детали гигантского публичного зала, способного вмещать триста тысяч людей, были еще одним предметом, о котором он мог разговаривать часами.
И хотя я изо всех сил старался казаться заинтересованным и одобрительно кивал головой через регулярные интервалы, должен признаться, что единственное, что я запомнил об этом колоссальном здании, это то, что его предполагалось построить в Берлине.
Однажды, довольно давно, когда мы разговаривали о ядерном делении, я сказал Гитлеру:
– Я читал, что американцы много лет проводят эксперименты в этой области. А мы занимаемся чем-то подобным?
– Разумеется! – ответил он. – Но эти эксперименты – величайшая опасность, которой подвергается человечество. Только подумайте, если какой-нибудь чертов профакс (так он называл профессоров, занимающихся наукой) сделает бомбу, он, наверно, весь мир разнесет в щепки! Во всяком случае, пока что все это в теории. Слава богу, до практики мы еще не дошли!
И в те дни мы смеялись и думали, что это отличная шутка!
По вечерам, и летом и зимой, Гитлер любил, когда в очаге горит огонь. Он всегда садился как можно ближе и обожал помешивать угли кочергой и подбрасывать свежие поленья в ревущее пламя. На таких сборищах всегда подавали чай и кофе, так как даже те гости, кто был не прочь выпить, старались продемонстрировать, что в глубине души они трезвенники. Но Гитлер прекрасно знал о моих пристрастиях, и для меня всегда приносили капельку чего-нибудь «по моему вкусу», и отражение танцующих языков пламени мило поблескивало на моем бокале.
В этой уютной обстановке Гитлер любил отвлечься под музыку. Он владел огромной коллекцией граммофонных пластинок, и в громадном шкафу на каминной доске хранились сотни записей песен и хоров на всех диалектах немецкого языка, которые изготовлялись специально для него. Однако большинство из них никогда не звучали.
Больше всего он любил слушать отрывки из вагнеровских опер. За ними почти сразу шли симфонии Бетховена и музыка Рихарда Штрауса, а легкий жанр представляли «Летучая мышь» и «Веселая вдова». Во время непринужденной беседы под музыку Борман, которого он прозвал хозяином архивов, доказывал свой музыкальный вкус тем, что ставил пластинки.
Величественная музыка «Тристана» и «Мейстерзингера» неизбежно уносила Гитлера в старые венские дни.
– Я экономил каждый грош, чтобы купить билет на галерку в Императорской опере, – рассказывал он нам, глядя вдаль на пляшущее пламя. – А гала-конце рты! Какое великолепное зрелище, какая пышность и блеск, когда прибывали члены императорской фамилии, когда эрцгерцоги в блестящих золотом мундирах и высокородные дамы, украшенные сверкающими диадемами, выходили из экипажей!
Гитлер получал большое удовольствие, постоянно прокручивая свои любимые музыкальные произведения, но этого удовольствия я с ним не мог разделить. Я остро чувствовал, что, если бы время от времени в программу вносили мелкие изменения, они могли бы решительно улучшить ситуацию! Моя дочь Генриетта фон Ширах как будто бы разделяла мое мнение, так как однажды, гостя в Оберзальцберге, она принесла пластинки с записью «Патетической симфонии» Чайковского. Но Гитлер довольно бесцеремонно велел их убрать. Очевидно, Чайковскому не стоило и мечтать о том, чтобы занять место рядом со священной троицей Вагнер – Штраус – Легар!
В другой раз Гитлер пришел чуть ли не в ужас, когда моя жена стала играть ему Стравинского и Прокофьева. А об одной классической симфонии, написанной Стравинским, отозвался так: «Даже слепая курица может когда-нибудь найти зерно!»
Еще он обожал медицинские дискуссии между врачами и с поистине изумительным терпением не просто слушал их, но и непрестанно засыпал участников вопросами на темы, которые на самом деле никаким боком его не касались. Что до меня, то меня одолевала уверенность, что я заразился по крайней мере одной, если не всеми сразу, болезнью из тех, чьи симптомы столь ясно и подробно описывали в этих беседах! После одной из таких дискуссий Гитлер влился в ряды восторженных сторонников «системы Цабеля» – диеты, изобретенной доктором Цабелем из Берхтесгадена.
Порой в разговоре возникали не слишком для него приятные темы, и я заметил, что женщины выказывали гораздо больше смелости внутри нашего тесного кружка, обращая внимание Гитлера на тот или иной недостаток, и таким образом решалось немало довольно деликатных вопросов. Однако порой Гитлеру это категорически не нравилось, и однажды подобный случай произошел с моей дочерью.
Генриетта недавно вернулась из Голландии и описывала свои впечатления от Амстердама. Рассказывая о том, как из окна гостиницы она смотрела, как евреек угоняют в Германию, она употребила слово «жестоко». Гитлер грубо ее прервал, и в нашем кругу воцарилось ледяное молчание.
Чуть позже Борман отвел меня в сторону и посоветовал сказать Шираху, чтобы он увез жену, так как Гитлер настолько рассердился, что даже мое вмешательство ни к чему не приведет. Таким образом, фон Ширахи уехали из Оберзальцберга, даже не попытавшись попрощаться!
Гитлер бесконечное количество раз пересматривал любимые фильмы, так же как переслушивал любимые пластинки. Фильм о Нибелунгах с Паулем Рихтером в роли Зигфрида я видел раз двадцать и почти столько же «Жженый пунш».
Сначала Геббельс пытался организовывать в Оберзальцберге предварительный просмотр новых фильмов перед их выпуском на широкий экран. Конечно, в таких случаях кинопродукцию рассматривали особенно критическим взглядом. Ева Браун придиралась к какой-нибудь сцене или роли какого-нибудь актера, Борману или кому-то еще не нравилось что-то другое и т. д. Кончалось все тем, что Гитлер отдавал распоряжение вырезать или переснять тот или иной кусок, совершенно забывая о том, сколько это потребует сил и средств.
Геббельс с ума сходил от злости и вскоре вообще прекратил присылать новые фильмы. Как-то раз я сказал ему, что мне до смерти надоело в сотый раз пересматривать старье, но он возразил: «А мне, друг мой, нисколько не интересно выслушивать, как мои фильмы критикует какая-то дурочка и вертихвостка [Ева Браун] или возвеличенный мясник [Борман]!»
Гитлер редко оставался в Оберзальцберге надолго, но, если уж он решал подзадержаться, жизнь там становилась совершенно лихорадочной, постоянно приходили и уходили дипломаты, чиновники, партийные функционеры, министры и генералы, устраивались всевозможные приемы и банкеты, но дамы на них не допускались.
Постепенно Борману удалось превратить идиллический Оберзальцберг в образец политического предприятия «для своих», где Гитлер был отрезан от всего внешнего мира и где Борман создал для себя прекрасную возможность добиваться согласия шефа на выполнение своих планов и намерений. Со временем весь район окружили высокой проволочной оградой длиной в несколько миль. Для СС построили огромные казармы, а на вершине Келыитейна, на высоте более 1800 метров, воздвигли дом из гигантских гранитных блоков, который позднее американцы назвали «Орлиный выступ». Якобы его предполагалось использовать в качестве шале для экскурсий. Он имел удивительную конструкцию и внешний вид. Подходная галерея длиной более ста восьмидесяти метров подводила к лифту, шахта которого, высеченная в скале, поднималась на шестьдесят с лишним метров. Из его похожих на бойницы окон открывался грандиозный вид на весь берхтесгаденский район вплоть до австрийской границы. Его строительство заняло много лет и стоило огромных денег. Но Гитлеру дом не нравился, и он бывал там не более пяти раз.
Геринг, у которого была своя резиденция в Оберзальцберге, очень редко бывал гостем в Бергхофе, куда наведывался только по необходимости. Один за другим в Оберзальцберге появились отделы рейхсканцелярии и других государственных департаментов, и спустя некоторое время он превратился в некий филиал берлинского правительства.
Как и у Геринга, у Бормана тоже был там свой дом, но, в отличие от рейхсмаршала, он все свое время проводил с Гитлером в Бергхофе и даже обедал там.
Прежде чем влияние Бормана одержало победу, доступ в Оберзальцберг был открыт для всех, и, как только распространялась весть о том, что приехал Гитлер, Берхтесгаденский район наводнял настоящий поток паломников. Со временем этот поток вырос до такой величины, что пришлось предпринять официальные действия, чтобы как-то с ним совладать. Иногда более пяти тысяч человек, многие из них австрийцы, проходили мимо Гитлера, подняв руки в нацистском приветствии.
Такой «парад» часто продолжался часа два и больше, а поскольку то место, где стоял Гитлер, принимая восторженные приветствия, никак не было защищено от солнца, там посадили дерево, чтобы оно давало ему хоть немного тени.
В 1945 году все, что было хоть как-то связано с бывшим владельцем Бергхофа, разрушили, а чуть позже просто стерли с лица земли. Уцелело только это дерево, и я от души надеюсь, что после моего рассказа его не постигнет та же печальная судьба.
Когда Гитлер был в хорошем настроении, он подзывал детей из толпы и устраивал для них чаепитие с пирожными на террасах Бергхофа. Разумеется, иногда среди маленьких гостей оказывались те, кто не мог похвастаться безупречной чистотой арийского происхождения. В числе множества фотографий, сделанных мною во время таких детских «приемов», оказалась одна, на которой был ясно виден этот изъян, и она, после опубликования во всей своей невинности в моем альбоме «Гитлер и дети», вызвала много шума.
Однажды внимание Гитлера привлекла одна прелестная и бойкая девочка, он долго разговаривал с ней и предложил ее матери почаще приводить ребенка к нему в гости. Маленькая Бернели, так звали девочку, стала любимицей Гитлера, и я много раз фотографировал их вместе на террасе. Как нам стало известно, ее отец был отставным офицером, награжденным Железным крестом 1-го класса.
Но потом один из многих чересчур услужливых членов партии, сующих нос в чужие дела, который знал эту семью, но не знал, чем бы еще заняться, естественно, побежал к Борману и наговорил ему, что девочка не чисто арийского происхождения. Борман тут же запретил матери и ребенку показываться на глаза Гитлеру, но – и это было типично для него – не поставил Гитлера в известность. В дальнейшем, когда Гитлер интересовался, куда делась его маленькая подружка, Борман попросту уклонялся от ответа.
Однако настоящий скандал разразился, когда Борман увидел фотографию Гитлера вместе с этой девочкой у меня в книге. Придя в сильное возбуждение, он потребовал немедленно убрать оттуда фотографию, а когда я сказал ему, что это технически невозможно, он потребовал изъять весь тираж. Это было уж слишком! Недолго думая, я пошел прямо к Гитлеру, рассказал ему обо всем и попросил его решить этот вопрос.
Гитлер не выносил, когда ему приходилось сталкиваться с чем-то таким, что раздражало его или ставило в затруднительное положение, и на этот раз он направил свое презрение против того, кто донес на ребенка. Если бы он придержал свой глупый язык, никто бы от этого не пострадал. Но раз уж так вышло, то, хотя Гитлер и не стал чинить препятствия моей книге, он все-таки решил, что должен быть последовательным и больше не видеться с девочкой.
– У некоторых людей, – сказал он мне, – настоящий талант портить мне все удовольствие!
Выходя по утрам из спальни в Бергхофе, Гитлер первым делом шел прямо на великолепную террасу первого этажа. Там в определенное время он наблюдал чудесное, вдохновляющее зрелище – два гигантских орла парили в небе; в полевой бинокль он жадно следил за величественным полетом этих редких красивых птиц. Потом, однажды, к своему ужасу, он увидел только одного орла. Что же случилось с другим, в тревоге подумал он.
Целыми днями мы мучились этим вопросом, потому что все мы видели, в какой ужас пришел Гитлер после того, как исчез второй орел.
Некоторое время спустя он решил снова поехать в Оберзальцберг на свой день рождения, и за несколько дней до этого мы на нескольких машинах выехали из Мюнхена. Отъехав примерно на пятьдесят километров от города, мы увидели, что к нам быстро приближается встречный автомобиль, и, несмотря на большую скорость, с которой он проехал мимо, Гитлер заметил, что на заднем сиденье лежала какая-то большая птица с распростертыми крыльями. Он тут же остановил нашу автоколонну.
– Я уверен, там мой орел! – сказал он.
И он немедленно приказал машине сопровождения под командованием штандартенфюрера Раттенхубера повернуть назад и догнать автомобиль.
– Если я прав, клянусь вам, господа, что примерно накажу этих мерзавцев! И не только их, но и того, кому они везут птицу! – сказал он, и мрачное его лицо не предвещало ничего хорошего тем несчастным, что вызвали его гнев.
Примерно через полчаса мы увидели, что машина сопровождения возвращается на полной скорости. Мы остановились, к нам подбежал Раттенхубер.
– Вы были совершенно правы, мой фюрер, – доложил он. – Это орел с гор.
– И кому же его везли? – угрожающим тоном спросил Гитлер.
Раттенхубер нерешительно продолжил:
– Орла собирались доставить в вашу мюнхенскую резиденцию на Принцрегентштрассе. Он установлен на мраморном постаменте с надписью: «Нашему любимому фюреру от его гор. 20 апреля. От местной партийной организации НСДАП, Берхтесгаден».
По дороге в Оберзальцберг Гитлер часто предпочитал ехать не по шоссе, а по старой дороге, вившейся вокруг озера Химзее. На этой дороге находилась гостиница «Дамбах», которую он особенно любил и часто останавливался там пообедать или выпить чашку кофе. Конечно, вскоре об этом узнали, и Дамбах стал излюбленным местом для экскурсантов, с большим интересом глазевших на «комнату Гитлера» и гостевую книгу.
Если Гитлер собирался надолго остановиться в Оберзальцберге, он часто переносил важные совещания в Дамбах.
Однажды мы остановились там, чтобы передохнуть, и потом неторопливо поехали в Берхтесгаден, когда Гитлер внезапно заметил человека, лежащего посреди дороги. Водитель Шрек затормозил, охрана вышла из машины сопровождения и подошла к человеку. Когда он пришел в себя, то слабым голосом сказал, что ничего не ел уже два дня. Мы тут же дали ему бутербродов, а Гитлер достал свой бумажник и дал ему пятьдесят марок.
Когда мы продолжили путь, Гитлер прочел нам лекцию о значении Национал-социалистической народной благотворительности[13].
– Один этот мелкий инцидент доказывает, какую важную роль она играет, – сказал он, – необходимо увеличить размах ее деятельности.
Позднее в тот же день в Оберзальцберг прибыл рейхc-министр Ламмерс и за ужином рассказал нам о любопытном происшествии.
– По пути сюда, – сказал он, – я увидел человека, лежавшего без чувств посреди дороги. Я остановился, чтобы узнать, как ему можно помочь, и бедняга сказал, что голодает уже два дня. К счастью, у меня с собой было достаточно еды.
– А денег вы ему дали? – спросил Гитлер.
– О да, мой фюрер! Я дал ему двадцать марок.
Гитлер рассмеялся:
– Выходит, из нас двоих он вытянул семьдесят марок. Значит, он их заслужил! Интересно, кто попадется на удочку третьим.
Сам Гитлер до ужаса боялся оказаться в смешном положении. Он всегда был очень осторожен в отношении любого нового костюма или новой шляпы, если собирался их надеть. Сначала он хотел убедиться, что цилиндр, или шляпа, или что там еще действительно ему идет, и для этого он всегда просил меня сфотографировать его в новой одежде. Только если получившаяся фотография полностью его удовлетворяла, он позволял себе появиться в этой одежде на публике.
После 1933 года он перестал носить свои любимые баварские кожаные шорты и даже просил меня больше никогда не печатать фотографий, на которых он в шортах, и изъять из продажи те, что еще остались.
Он был очень застенчив в том, что касалось наготы. Не в сфере искусства, где он ее приветствовал, но в отношении собственной персоны. У него была навязчивая идея, что, если кто-то увидит или сфотографирует его в плавках, он потеряет лицо в глазах народа, и он часто приводил в пример случаи, когда опубликование каких-то личных фотографий ставило под угрозу популярность государственного деятеля.
– Помню одну фотографию на первой странице «Берлинер иллюстрирте», – сказал он, – где президент Эберт и военный министр Носке были в плавках. И хотя это случилось при демократической республике, их престиж явно снизился. Муссолини также часто выставляет себя в таком же нелепом виде. Меня всегда выводит из себя, когда я вижу в печати фотографии его с семьей в купальных костюмах на озере Лид о. Истинно великий деятель не стал бы этого делать.
Помолчав, он продолжил:
– Стали бы мы уважать Наполеона, если бы до нас дошли его снимки в таком несообразном виде? Вот поэтому я ни за что не буду купаться на публике.
– Но у вас же может быть частный бассейн для купания, мой фюрер, где вас никто не увидит, – сказал один из его секретарей.
– В таком случае мне пришлось бы брать с собой камердинера, а я не желаю, чтобы ко мне относилась старая пословица: «Никто не бывает героем для своего слуги». – Он с шутливым видом повернулся ко мне: – В любом случае Гофман не будет знать покоя, пока не сфотографирует меня! Да и вообще, я и так постоянно опасаюсь, что какой-нибудь ловкий мошенник приделает мою голову на чье-нибудь туловище в трусах!
Позднее Морелль рассказывал мне, что фюрер был очень трудным пациентом и его было почти невозможно уговорить сделать рентген. Всякий раз, когда Мореллю приходилось осматривать его или делать ему укол, Гитлер сначала отсылал из комнаты камердинера и раздевался лишь в той степени, в какой это требовалось для процедуры.
Мне случилось присутствовать еще при одном примере его страха попасть в глупое положение, когда я сфотографировал его с шотландским терьером Евы по кличке Бурли.
– Не печатайте этот снимок, – сказал он. – Государственный деятель не может позволить себе фотографироваться с маленькой собачкой, какой бы она ни была забавной и милой. Немецкая овчарка – вот единственная собака, достойная настоящего мужчины. Хотя, прямо скажем, бульдог графа Бисмарка очень неплохо смотрелся рядом с массивной фигурой своего хозяина!
Сразу после прихода к власти Гитлер приказал полностью перестроить старую рейхсканцелярию. Кроме одного из больших залов для приемов, он построил музыкальную комнату и обеденный зал, спроектированные архитектором Троостом. Их интерьером и обстановкой занимались Объединенные мюнхенские мастерские.
Обеденный зал с высоким потолком имел почти идеально квадратную форму. На задней стене зала, три стеклянные двери которого открывались на исторические сады канцелярии, висел «Вход богини солнца» – огромное полотно Ф.А. Каульбаха в шесть метров шириной; в нишах стояли две бронзовые статуи в человеческий рост «Кровь и земля» мюнхенского скульптора профессора Вакерле; обстановку довершали большой стол, способный в полностью разложенном состоянии уместить шестьдесят человек, несколько столов меньшего размера для персонала, сопровождающего главных гостей, и буфетная стойка. Первоначально этот зал задумывался как личная столовая, но впоследствии превратился в настоящий зал круглого стола, где приезжающие с визитом главы государств и иностранные дипломаты могли отобедать с Гитлером в официальной, но вместе с тем интимной обстановке.
Обслуживали зал специально обученные эсэсовцы. Они носили короткие белые куртки и черные брюки, обслуживали ловко и незаметно. Поскольку это не прием государственного значения, а обычная трапеза, то, как правило, она была довольно непритязательна и состояла из супа, мясного блюда с овощами и легкого десерта. Если бы кто-то из присутствующих гостей предпочел, как Гитлер, вегетарианское блюдо, его желание тут же исполнилось бы. Лишь однажды я видел того, кто воспользовался этой привилегией, и это был Мартин Борман. Из гостей обычно присутствовали важные чиновники, знаменитые художники и гауляйтеры, находившиеся в Берлине по делу, и компания всегда была разнообразной и оживленной.
Во время войны там стали появляться одни мундиры. Кроме меня, никто не носил гражданскую одежду, но и я потом надевал на официальные мероприятия форменный китель без знаков различия, чтобы не выбиваться из общей картины. А Гитлер, принимая какого-то высокопоставленного гостя, обычно ставил меня слева, чтобы не обидеть никого из многочисленных фельдмаршалов и генералов, которые обязательно присутствовали в таких случаях.
На первых порах Гитлеру нравилось, когда все принимали участие в разговоре. Но позднее он, так сказать, стал монополизировать разговор. У Геббельса как собеседника был один весьма специфический конек. Он обожал едкими и злобными репликами выставлять кого-то в глупом виде, особенно если гость ему не нравился, и, что бы вы ни чувствовали к Геббельсу, нельзя было отрицать, что он обладал и остроумием, и сарказмом.
Всякий раз, когда Геббельс начинал свою пикировку со мной, что случалось нередко, все сидевшие за столом, включая Гитлера, откидывались на спинки стульев, готовясь повеселиться. Вот пример, типичный из бесчисленных мелких стычек, которые мы себе позволяли. Это было во время войны, только что окончился ночной налет британцев на Берлин. Гитлер, который в тот день приехал из своей ставки, спросил:
– Бомбардировка как-то помешала ночной жизни в Берлине?
Воцарилось общее молчание. Геббельс уставился на меня долгим, ироническим взглядом, что меня задело.
– Что это вы так зловеще смотрите на меня, доктор? – сердито спросил я.
– Разве непонятно, мой дорогой друг? Вы здесь единственный специалист по берлинской ночной жизни, который может ответить на вопрос!
Все глаза обратились ко мне; Гитлер едва сдерживал смех, а Геббельс принял самодовольный вид.
– Интересно, что вы знаете о специалистах, герр доктор? Каждый ребенок в Берлине знает, что в вашем министерстве специалистов нет!
Гитлер закрыл лицо руками и расхохотался, остальная компания последовала его примеру. Геббельс хотел было ответить, но я его перебил:
– Бросьте, герр доктор, от меня вы ничего не добьетесь!
А Гитлер, опасаясь, что наша перепалка выйдет из-под контроля, встал и удалился вместе с Геббельсом на официальное совещание. Оставшееся общество поздравило меня; все были довольны, что я поставил на место «великого очковтирателя».
Однако Геббельс не успокоился на своей неудаче и один раз бросился в бой, желая отомстить, когда меня не было за столом и Гитлер спросил о причине моего отсутствия.
– Гофман сам себе устанавливает правила, – кротко сказал Геббельс. – Ему не по вкусу сотрудничать с моим министерством, он тщательно избегает всего, что касается пропаганды, и ему совершенно чуждо всякое чувство политической ответственности. Он думает только о том, как бы заработать!
Но Гитлер резко ему возразил:
– Оставьте Гофмана в покое, он начал жизнь частным предпринимателем и всегда оставался собой. А кое-кто подался в министры, герр министр!
Ввиду того, каким признанием пользовался Гитлер, неудивительно, что в день его рождения или другие годовщины его прямо-таки засыпали подарками, которыми уставляли целый ряд столов в рейхсканцелярии. Ему дарили все, что только можно было себе вообразить: от деревянной фигурки, вырезанной каким-нибудь мальчишкой из гитлерюгенда, до вязаного свитера, от превосходно выполненной модели Бергхофа до новинок известных фирм, от велосипедов до последней модели роскошного автомобиля. Музыканты, писатели и поэты посвящали ему свои сочинения, художники дарили свои картины, некоторые совсем дилетантские, другие настоящие шедевры. В таком же изобилии ему дарили съестные продукты и напитки, и в погребах трезвенника Гитлера чахли – увы! – без внимания отборнейшие вина Рейна, Мозеля и Пфальца, от которых возрадовалось бы сердце любителя выпить.
Многие домохозяйки присылали ему домашние кексы, они и не задумывались о том, что Гитлер никогда, ни в коем случае не попробует их кулинарных творений. Приношения такого рода даже не выставляли на столы для подарков, а тихо убирали, так как Гитлер считал, что это очень легкий способ его отравить. И его подозрения насчет этого подкрепились, когда его шофер Шрек опасно заболел по дороге в Штеттин, отведав блюда, предназначенного лично для Гитлера.
Однажды в Берлин прибыла турецкая делегация, и Гитлер ее принял. После того как делегация вернулась в Турцию, в Германию прибыла гигантская посылка, набитая самыми расчудесными сладостями: засахаренными фруктами, шоколадом, марципанами, леденцами и медом, упакованными в прелестные разноцветные фантики и коробочки. Гитлер пришел в восторг от подарка, он до невозможности им восхищался, но не принял его. Он приказал снова запаковать ящик и вместе с его замечательным содержимым закопать в саду при канцелярии. Я спросил, как ему не жалко это делать, но он возразил:
– Я не готов отдать моим друзьям то, к чему сам не желаю прикасаться!
Некоторое время спустя я увидел, как рабочие, которые занимались чем-то неподалеку от этого «захоронения», с удовольствием лакомились марципановыми полумесяцами и конфетами в золотых и серебряных обертках. Я спросил одного из них, где они нашли эти чудесные сладости. Ответивший мне оказался коренным берлинцем.
– Ну как же, господин хороший, – сказал он, – вы что ж, не слыхали о Большом Изничтожении? Ну, мы взяли да и откопали все втихомолку! Ну и вкуснятина, скажу я вам, и женки наши с детками довольны!
В другой раз по дороге в Фельдафинг на берегу Штернбергер-Зее мы нагнали какой-то старомодный автомобиль. Он сломался, и водитель не знал, за что взяться. Гитлер велел притормозить и узнать, нельзя ли чем ему помочь. Шрек очень быстро обнаружил неисправность, и вскоре мы уже продолжали путь. Но владелец машины записал наш номер, и на следующий день Гитлер получил посылку с тремя банками превосходной икры в сопровождении чрезвычайно изящного благодарственного письма от румынского министра.
Несмотря на свою слабость к икре, Гитлер тем не менее вернул посылку отправителю, приложив столь же любезное письмо, где говорилось, что помогать собрату в беде – долг каждого автомобилиста и что такая мелкая услуга ни в коей мере не заслуживает столь щедрой награды.
Но мне он сказал:
– Бог его знает, Гофман, что это за банки!
В последние годы в противоположность обычаю, заведенному в Оберзальцберге, на обеды и ужины в рейхсканцелярии женщин приглашали очень редко. Геринг тоже был нечастым гостем. Кулинарные пристрастия Гитлера, заявил он, ему не по вкусу. Но подлиза Борман послушно поедал сырую морковь и зелень в обществе своего хозяина, а потом удалялся к себе в кабинет, где набрасывался на свиные отбивные или превосходные шницели по-венски.
«Наш баварский людоед» – так прозвал меня Гитлер. Ему страшно хотелось обратить меня в вегетарианство, но он не добился успеха, как, впрочем, и я, когда пытался убедить его в прелести спиртных напитков.
– Вино – прекрасное средство против бессонницы, герр Гитлер, – говорил я ему. – Почему бы вам не попробовать выпить стаканчик вина перед сном?
– Я не люблю вино. Мне все время кажется, что я пью уксус, – ответил он, качая головой и морщась от одной мысли. – По молодости я пытался пить вино, но оно мне в горло не лезло без сахара!
Вино с сахаром! Господи, какая гадость! Я посмотрел на него с явным возмущением.
– Класть сахар в вино! Нельзя класть сахар в благородный напиток, герр Гитлер! Если бы это сделал виноторговец, его посадили бы в тюрьму! К тому же у вас достаточный выбор сладких вин, которые вам бы наверняка понравились, и не надо никакого сахара!
– Пожалуй, вы правы. Да и в моих погребах вы разбираетесь куда лучше меня!
С этими словами он послал за бутылкой по моему выбору. Осушив бокал за пару глотков, он облизал губы.
– Превосходно! – воскликнул он. – Ей-богу, это вино мне понравилось!
Мне было очень приятно, что я добился видимого успеха, а когда чуть позже Гитлер сказал, что его клонит в сон и он пойдет спать, мой восторг не знал границ. На следующий день я спросил его, как сработало мое «лекарство».
– Я спал как бревно, – ответил он. – И все равно, я пить вино не собираюсь. Знаете, Гофман, под действием вина начинаешь видеть мир в розовом свете; но бесстрастно мыслить можно только на холодную и трезвую голову! Сначала человек пьет вино как лекарство, потом ежедневный стакан входит в привычку. Может быть, для вас это нормально, мой дорогой друг, но для меня – нет!
Так в итоге я потерпел неудачу.
– Конечно, если в моем возрасте отказаться от любимой привычки, это может весьма отрицательно сказаться на здоровье, – только и нашелся я.
На этом я оставил свои попытки.
Однако один раз я хватил через край. В узком дружеском кругу Гитлер назвал меня «представителем богемы, который крепко запутался в тенетах всех дурных привычек» – под чем он понимал чревоугодие, пристрастие к спиртным напиткам и курение.
– Что ж, я могу сказать только то, что эти дурные привычки меня вполне устраивают, – возразил я. – Я чувствую себя в отличном здравии и настроении, а вы с Гессом, хоть всю жизнь жуете сырые листья, глотаете пилюли, и вам постоянно делают уколы, все время недомогаете. И ни дня не можете обойтись без врача!
Это было весьма неразумно с моей стороны, так как Гитлер терпеть не мог, когда его называли больным. И несколько дней после этого меня против обыкновения не приглашали к столу фюрера.
Гитлер ненавидел охоту и обожал об этом рассуждать; и, если при разговоре присутствовал Геринг, главный специалист рейха по охоте, Гитлер пускался в пространные разглагольствования в ироническом духе.
– Я ничего не имею против охоты как профессии, – говорил он, – и ничего не имею против тех, кто по своему рождению и воспитанию с самой юности занимался убийством животных. Но сейчас это вошло в моду; каждый партийный чиновник считает, что надо быть членом какого-нибудь охотничьего общества и без разбору убивать безответных тварей!
– Мой фюрер, вы к нам несправедливы! – возражал Геринг. – Немецкий охотник-спортсмен – защитник и хранитель наших лесов!
Гитлер засмеялся:
– Да уж, хранитель! Охраняет и защищает несчастных зверей, пока они не подрастут достаточно, чтобы их убивать! Егерь точно расскажет своему хозяину, где и когда появится зверь, и тот, удобно устроившись с биноклем, выслеживает жертву и убивает ее. А потом с легкой душой охотник гордо возвращается домой.
– Но наши новые законы о дичи запрещают браконьерство, – возразил Геринг. – А настоящий спортсмен находит удовольствие в наблюдении за дикими животными.
– Тогда почему вам не последовать примеру герцога Виндзорского? Когда я спросил его, увлекается ли он охотой, он сказал – да, но только охотится он с фотоаппаратом!
– Но, мой фюрер, охота имеет и политическое значение. Иностранные дипломаты всегда с радостью принимают приглашение пострелять. И часто, когда крадешься по лесу, проблемы кажутся не такими опасными и щекотливыми, чем когда сидишь за столом переговоров.
– Понимаю. Значит, вы думаете, что это что-то вроде лесной масонской ложи? Ну что же, я ничего не понимаю в охоте, но если убийство животных действительно влияет на политические связи, я охотно предоставлю живодерни в полное распоряжение наших иностранных гостей! – Гитлер говорил с сарказмом, но все более презрительно. – Вот почему мне милее браконьер. Клянусь богом, он о природе знает больше, чем все ваши воскресные охотники, вместе взятые. Он храбр и отчаян, и только отсутствие денег мешает ему купить себе охотничью лицензию.
– Вы шутите, мой фюрер!
Вот когда разразился гром!
– Черт побери, шучу?! Если вы зовете себя спортсменом, почему вы не встретитесь со зверем в поединке на равных? Если вы, господин опытный охотник, подниметесь против вепря и убьете его копьем, тогда я выражу вам свое восхищение. Если этот толстый старик, издатель Мюллер, побежит за зайцем и поймает его собственными руками, я похвалю его за отличную спортивную сноровку. Я готов глубоко уважать человека, который смотрит в глаза тигру, напавшему на него в джунглях, но презираю притворного Нимрода[14], который, пользуясь сезоном спаривания, стреляет из-за дерева в какого-нибудь ничего не подозревающего зверя, пришедшего к своей самке! – К этому времени он успел рассердиться не на шутку. – С этой минуты я запрещаю всем ведущим членам партии приглашать или принимать любые приглашения на охоту, если это не входит в его профессиональные обязанности! Я дам указание министру юстиции изменить наказание за браконьерство! Я прикажу Гиммлеру освободить всех браконьеров и сформировать из них войска стрелков-егерей для защиты диких животных!
Выпустив пар, он благополучно обо всем забыл.
Глава 10 СТАВКА ГИТЛЕРА – И МОЯ
За исключением «Фельзеннеста» в Эйфеле, все ставки Гитлера носили названия, так или иначе связанные с волком – «Вольфшанце», «Вервольф», «Вольфсшлухт»[15], – по той причине, что в начале политической карьеры Гитлер пользовался псевдонимом Вольф – «волк».
В этих ставках приглашение на «вечернюю» чашку чая обычно приходило часа в три ночи, после того, как заканчивалось обсуждение донесений о последних событиях. Как правило, присутствовало очень немного народу: адъютанты и секретари Гитлера, врач и офицер связи от Риббентропа или Гиммлера, который в тот момент оказывался в ставке. Гитлер об этом не знал, но офицеры получали задание от своих шефов сообщать обо всех подробностях того, что происходило в ближайшем окружении фюрера.
Простые, но удобные и снабженные всем необходимым апартаменты, в которых помещался я, состояли из гостиной, спальни и ванной, а чтобы мне не так скучно было коротать многие свободные часы, мне также предоставили радиоприемник. В подобных помещениях рядом со мной жили профессор Морелль, адмирал Фосс, адъютант Геринга генерал Боденшатц и обергруппенфюрер Вольф, адъютант Гиммлера и человек, который позднее в Италии сделал первую попытку к заключению мира. Что касается работы, то в ставке я занимался исключительно тем, что фотографировал офицеров и награждаемых.
Личные апартаменты Гитлера находились глубоко под землей под цементной крышей толщиной восемь метров, темные, лишенные окон и свежего воздуха; круглые сутки они освещались электричеством, и воздушный насос изо всех сил старался поддерживать здоровую атмосферу.
Я просто сидел и ждал, пока Гитлер пошлет за мной, чтобы пообедать или поговорить. Мы разговаривали по большей части среди ночи, и часто к тому времени, как я выходил из убежища фюрера, солнце уже высоко стояло в небе, и я бросался на кровать сонный, измотанный и в жутком настроении.
Жизнь в этом внутреннем кольце была и скучной, и изматывающей. Пока мы продолжали ужинать вместе с Гитлером, всегда была возможность услышать что-то интересное, но, как только он решил ужинать в одиночку, скука достигла своего зенита.
Мы жили в полной изоляции, за исключением редких появлений тех, кто приезжал, чтобы лично из рук Гитлера получить Рыцарский крест с алмазами, мечами и дубовыми листьями. Хотя в большинстве своем эти герои рисовали ситуацию на фронте самыми розовыми красками, все же некоторые из них, к большой досаде Гитлера, рассказывали обо всем откровенно. После их ухода он говорил, что любой человек видит положение только на своем маленьком участке фронта и, конечно, ему не стоит и пытаться рассуждать о положении на фронте в целом.
Часто в ставке бывал фельдмаршал Роммель, о котором Гитлер сначала был самого высокого мнения. Я помню, как сфотографировал Роммеля, когда он явился, чтобы доложить о провалившемся наступлении на Египет летом 1942 года. Между прочим, Роммель был единственным, кому Гитлер разрешил говорить с иностранными журналистами в Берлине. После сокрушительного поражения в Эль-Аламейне, которое Роммель понес от генерала Монтгомери, он понял, что его положение в Северной Африке невыгодно для обороны, и тут же полетел в ставку фюрера – и на этот раз получил очень холодный прием.
Много раз в ставку являлись ведущие военачальники – фон Браухич, фон Рундштедт, фон Лееб, Маннергейм, Гудериан, отстраненный от командования, и Хепнер, отставленный из армии лично Гитлером, но я только фотографировал их, а больше никак с ними не соприкасался.
Когда зимой 1941 года немецкие армии стали увязать в снегу и страшном морозе у врат Тулы и Москвы, разразился скандал из-за того, что зимняя форма войск не соответствовала реальным условиям. Гитлер немедленно принялся за дело и лично спроектировал одежду, которую нужно было запустить в производство, но к тому времени, как она пошла в серию, было уже слишком поздно, и много тысяч солдат умерли от обморожения.
Гитлер нисколько не сомневался в способности германских армий быстро и решительно разгромить Россию. Я помню, что еще на первых порах я осмелился выразить надежду, что мы избежим ошибок, допущенных Наполеоном.
Гитлер засмеялся.
– Вы рассуждаете как западный пропагандист, мой друг, – ответил он. – Раз Наполеон не смог, не сможет и Гитлер! Это избитый лозунг, которым они пытаются себя успокоить. Не волнуйтесь. С нами не может случиться ничего подобного: я слишком хорошо изучил историю!
Однажды в 1943 году на Украине я ужинал наедине с Гитлером в ставке «Вервольф» как раз в то время, когда туда начали поступать первые весьма тревожные донесения о Сталинграде.
– Мои офицеры – кучка мятежников и трусов. Я больше не допущу их в свой ближний круг и никогда не приглашу за стол!
Яростное презрение и гнев в голосе Гитлера поразили меня; никогда раньше я не слышал, чтобы он говорил таким тоном.
– Сначала они трусливо пытаются заставить меня отказаться от той или иной операции, а потом, когда я с успехом выполняю ее, они ставят победу себе в заслугу, прибегают и просят орденов и наград. Если бы я слушал этих… господ, мы еще давным-давно проиграли бы войну!
К моему величайшему изумлению, за обедом он повторил эти резкие слова перед всем обществом.
Чуть позже, когда не осталось никаких шансов на выход из окружения и поражение войск под Сталинградом было неминуемо, мы находились в ставке «Вольфшанце» в Восточной Пруссии. Царила атмосфера глубокого уныния, и я изо всех сил старался не попадаться на глаза Гитлеру. Однажды я сидел в уголке столовой, когда в нее вошли генерал Йодль и адъютант Гитлера полковник Шмундт. Они не заметили меня, и я невольно подслушал их разговор.
Шмундт сказал Йодлю, что Борман поручил ему особое задание: по указанию фюрера он должен лететь в Сталинград и передать фельдмаршалу Паулюсу пистолет, чтобы он сделал то, что логически следует после поражения на Сталинградском фронте. Глубоко взволнованный, Шмундт заявил, что при всем уважении к фюреру он не согласится на это задание.
– Оно оскорбляет мою солдатскую честь, – воскликнул он. – Я знаю Паулюса как примерного офицера, который за все тридцать пять лет службы всегда был безупречен. Я убежден, что, какое решение он ни примет, он примет его в интересах своих людей. Командующему армией нужно иметь определенную свободу действий. Если Паулюс застрелится, он больше ничего не сможет сделать для солдат.
В конечном итоге Шмундт не полетел в Сталинград. Отказался ли он, или Гитлер отменил распоряжение, я не знаю.
Когда в ставке появились первые иностранные газеты с фотографиями переговоров о сдаче, Гитлер никак не мог заставить себя поверить, что Паулюс попал в руки русских. Он послал за мной и дал мне фотографию.
– Мне нужно ваше мнение как специалиста, – сказал он, указывая на снимок. – Это настоящая фотография или фотомонтаж, в который вклеили фигуру Паулюса в пропагандистских целях?
Я видел, с каким напряжением он ожидал моего вердикта. Но мне не осталось иного выбора, кроме как заверить его в том, что фотография подлинная и никакого монтажа там нет.
Однажды со мной произошел случай, который мог закончиться для меня очень плохо. Я слонялся по «Вольфшанце», не имея особого занятия, включил радио и вдруг понял, что слушаю Лондон. Хотя я знал, что это строго запрещено, мне было очень любопытно узнать, что говорят на другой стороне, так что я немного послушал.
«Мистер Черчилль прибыл в Каир, – сказал диктор, – где принял парад британских войск».
Чуть позже мне позвонил Линге, камердинер Гитлера, и попросил зайти к фюреру. Была уже поздняя ночь, а место, где я жил, находилось среди высоких деревьев примерно в девяноста метрах от бункера Гитлера. Гитлер встретил меня обычным вопросом:
– Ну, что нового?
Слова британского диктора все еще крутились у меня в голове, и я легкомысленно сказал:
– Похоже, у этого Черчилля девять жизней! Представьте, он приехал в Каир!
– Кто вам сказал? – заинтересовавшись, спросил Гитлер.
Я весь похолодел! По очевидным причинам я не посмел сказать ему, что слушал вражеское радио.
– А-а… м-м… э-э… да мне сказали двое эсэсовцев, которых я встретил по дороге, – ничего лучше этого я не смог выдумать на скорую руку.
– Вероятно, с телефонной станции, – сказал он. – Позвоните на станцию и спросите, когда пришло известие.
Я прилежно выполнил указание.
– Говорят, что им ничего об этом не известно, – сказал я.
– Скажите, чтобы сейчас же позвали мне Риббентропа!
Было уже три часа ночи, но в конце концов Риббентроп взял трубку.
– Мне только что сообщили, что Черчилль в Каире и проводит смотр британским войскам! Мне сказал фотограф! А вы со всем вашим министерством, разумеется, ни сном ни духом!
В ярости Гитлер швырнул трубку на рычаг, а меня раздирали противоречивые чувства. Я представлял себе, как, должно быть, злится сейчас Риббентроп. (В 1945 году я нашел книгу о министерстве иностранных дел, где упоминается эта ночь и рассказывается о том, как весь остаток ночи министерство в полном составе лихорадочно искало источник зловещего сообщения!)
Гитлер никак не мог успокоиться; прошел час, по-прежнему никто ничего не докладывал. Он резко повернулся и послал за Гиммлером, который жил километрах в пятидесяти от ставки. Приехав, он тут же отдал приказ об общем построении, на которое также должны были явиться все караульные СС и персонал телефонной станции. В сопровождении Гиммлера мне пришлось пройти вдоль ряда, пристально вглядываясь в лица. Естественно, я никак не мог опознать моих «информантов», и я без особой находчивости приписал свою неудачу ночной темноте. Поистине, ситуация становилась все более тягостной!
Я заметил, что Гиммлер смотрит на меня подозрительно. Вдруг он повернулся к строю и сказал, что, если двое упомянутых офицеров сделают шаг вперед, они не понесут никакого наказания. Никто не двинулся с места, и мы молча вернулись в бункер Гитлера. Чуть позже из Берлина доложили: «Ваша информация верна!» В остаток ночи Гитлер был гораздо менее дружелюбен со мной, чем обычно, и в серых проблесках рассвета я со вздохом облегчения отправился к себе. Спустя некоторое время, утром, ко мне зашел Борман.
– Я лишь хотел напомнить вам, мой дорогой друг, что ни министры, ни вы, ни кто другой не должны слушать вражеское радио! Фюрер ожидает, что его приказ будет строго соблюдаться – даже вами!
Гитлер хотел, чтобы его постоянно держали в курсе событий, но всегда ненавидел, если ему докладывали о какой-нибудь неприятности.
Он не любил ситуаций, когда ему приходилось проявлять мягкость, ибо он считал это ослаблением существующих законов. В его личной канцелярии был отдел под началом рейхсляйтера Боулера, который разбирался с прошениями по семейным обстоятельствам. Очень немногие прошения подавались лично Гитлеру, большинство из них отклонялись в кабинете Боулера.
Так как после прихода Гитлера к власти я не занимал никакой официальной должности, но оставался частным лицом, я имел доступ к Гитлеру совсем с другой стороны. Другие люди являлись к Гитлеру с докладами, я же приходил с ним поговорить. Очень часто в разговоре я как бы невзначай бросал какую-нибудь фразу, которая имела скрытый смысл, поскольку мне бы никогда не дали обратиться к нему непосредственно с этой темой; но всякий раз, когда мне таким манером удавалось ненавязчиво вложить в его голову какую-то мысль и он сам поднимал этот вопрос, обычно я добивался чего хотел. Много раз Гитлер отменял распоряжения после того, как соглашался с тем, о чем я окольными путями отваживался ему намекнуть.
И Борман, и Геббельс считали меня «доносчиком», так как в основном то, что мне удавалось сказать Гитлеру, рикошетом ударяло по ним. К тому же однажды он сказал мне в присутствии Бормана:
– Гофман, вы мост, связывающий меня с народом!
Быстро распространились слухи о том, что я «имею подход» к Гитлеру, и меня стали заваливать всевозможными прошениями и ходатайствами.
В числе прочих, обратившихся ко мне за помощью, был актер Ганс Мозер, которого по приказу Геббельса не допускали ни до сцены, ни до экрана на том основании, что его жена была неарийского происхождения! В Вене Мозер умолял меня вмешаться и поговорить с Гитлером, и я обещал ему выполнить просьбу. Первая удобная возможность представилась после того, как в рейхсканцелярии прошел показ одного из фильмов Мозера, который Гитлеру явно очень понравился.
– Публика очень любит Мозера, – сказал я, – ей не понравится, если ему запретят играть только из-за жены. Да вам же самому всегда нравились его фильмы!
Я ковал железо, пока горячо. После фильма Гитлер еще пребывал в хорошем настроении и от души согласился со мной. Так запрет на Мозера был снят.
Едва ли проходил один день без того, чтобы я не получал какую-нибудь петицию. Одна из них глубоко меня тронула. Обезумевшая от горя мать написала мне, что ее сын, очень талантливый молодой художник, оказался замешанным в деле о государственной измене и был приговорен к смертной казни.
Замешан в государственной измене? Приговорен к смертной казни? Мне казалось, его положение безнадежно. И все же я велел ей как можно быстрее прислать мне несколько фотографий с работами ее сына; и через пару дней с папкой под мышкой я отправился в восточнопрусскую ставку «Вольфшанце».
Гитлеру всегда докладывали о моем приезде, а затем меня приглашали на обед, за которым мы обычно бывали одни. На этот раз Гитлер встретил меня очень дружелюбно.
– Как поживаете, Гофман? Что нового?
Я передал ему письмо от Евы Браун, которое привез с собой, и Гитлер с явным удовольствием сунул его в карман, не читая. За столом он был в приподнятом настроении.
– Уплетаете трупы животных за обе щеки, – сказал он мне.
– Насчет меня не волнуйтесь!
Подобные реплики о моем «антивегетарианстве» всегда были у Гитлера знаком хорошего настроения.
– Как там искусство?
Слава богу, он предоставил мне нужную возможность.
– Я привез с собой несколько работ одного молодого художника. Можно их вам показать?
Не дожидаясь ответа, я открыл папку и положил фотографии работ перед ним.
Он тут же заинтересовался увиденным. Я с тревогой наблюдал за его лицом. Несомненно, картины ему понравились. Он показал на один набросок.
– Посмотрите, Гофман! – сказал он оценивающе. – У этого юноши талант, возможно, он гений! А еще говорят, что у нас нет талантливой молодежи! Что за чепуха! Но их нужно находить – и поддерживать! – Он поднял глаза. – Сколько ему лет? – спросил он.
– Лет двадцать.
– Он хочет жалованье? Или мы можем помочь ему иным способом?
Итак, в бой!
– Безусловно, ему нужно помочь, герр Гитлер.
– Что вы хотите сказать? Он болен… или ранен?
– Нет, он был приговорен к смерти за оскорбление в ваш адрес!
Лицо Гитлера посуровело.
– Не говорите ерунды, Гофман! Проклятие! За это нельзя казнить!
Я не стал возражать.
– Вы не хотите прочитать письмо от его матери? – спросил я, протягивая ему листок.
Гитлер наскоро пробежал глазами письмо и сунул его в карман вместе с письмом от Евы, ничего не говоря. В возбуждении он стал ходить по комнате; очевидно, история его тронула. Он не сказал о ней ни слова, но у меня появилось чувство, что Гитлер каким-то образом поможет юноше.
И предчувствие меня не обмануло. Молодого художника призвали в армию. Позднее, увы, он пропал без вести – скорее всего, погиб. С этой трагедией я уже ничего не мог поделать; но я хотя бы спас его от смерти в руках палача.
Глава 11 НАМ ОБОИМ КОНЕЦ
Чем дольше длилась война, тем страшнее становились воздушные налеты и тем невыносимее была атмосфера в ставке фюрера, где воцарился глубочайший пессимизм. Однако, вопреки всему, жизнь в «Кольце заграждения-1» – ближайшем внутреннем круге фюрера – и в особенности ежевечерние собрания по-прежнему несли на себе печать искусственно поддерживаемого оптимизма. Эти собрания превратились для нас в истинную пытку, и нам казалось, что мы живем не в золотой клетке, как раньше, а скорее в тюрьме за железной решеткой. Гитлер дал Борману абсолютную и непререкаемую власть и сам покорно смирялся со многими его решениями.
Однажды в 1944 году, когда я вернулся в ставку из Вены, я обедал с Гитлером и передал ему письмо от Бальдура фон Шираха.
– Ширах, – сказал я, – протестует против обвинений Бормана. Он обвинил Шираха в том, что теперь уже слишком поздно думать об организации противовоздушной обороны в Вене. Ширах сказал мне, что еще в первые недели после начала войны разработал план противовоздушной обороны, но Борман приказал ему ничего не предпринимать, так как преждевременные действия только напрасно обеспокоят население города.
В письме Гитлеру почудилась скрытая критика Бормана, и он резко оборвал меня.
– Зарубите себе на носу, Гофман, и скажите вашему зятю, – закричал он. – Чтобы победить в этой войне, мне нужен Борман! Да, он беспощаден и жесток. Это бык, и не зря он прозвал сына «бычком». Но факт остается фактом: один за другим все перестали безоговорочно подчиняться моим приказам – все, кроме Бормана!
Его голос поднялся до крика; он испытующе смотрел мне в лицо, как будто его слова имели какое-то отношение ко мне лично.
– Все, кто бы это ни был, все должны уяснить себе один факт: тот, кто идет против Бормана, идет против государства! Я расстреляю их, даже если их будут десятки тысяч, и я расстреляю всех, кто лепечет о мире! Гораздо лучше ликвидировать несколько тысяч жалких безмозглых нытиков, чем довести до краха семидесятимиллионный народ!
Никогда еще я не слышал, чтобы Гитлер говорил таким тоном, и никогда в жизни я не видел у него таких безумных, наполненных ненавистью глаз!
Весной 1944 года всего за несколько коротких недель Гитлер поразительно изменился. И мне сразу же пришел на ум случай с Адольфом Циглером, президентом Имперской палаты изобразительного искусства.
За некоторое время до того Циглер и два промышленника, Пич и Рехберг, обсуждали возможность заключения сепаратного мира при посредничестве Рэндольфа Черчилля, сына британского премьер-министра. Гитлер узнал об этой беседе и тут же приказал бросить всех троих в концлагерь.
Когда по просьбе жены я попытался сказать несколько слов в защиту Циглера, Гитлер повернулся ко мне и произнес:
– Пусть Циглер поблагодарит свою счастливую звезду за то, что он находится под моей защитой! В гестапо его расстреляли бы давным-давно!
Через несколько недель он действительно выпустил Циглера, которого спас золотой значок НСДАП.
Но если бы это случилось на несколько месяцев позже, для Циглера дело кончилось бы совсем по-другому, гораздо страшнее!
Я был напуган. Впервые в жизни мне было не по себе в ставке. Одна мысль так и крутилась у меня в голове: после Сталинграда Гитлер стал другим человеком; это не тот Гитлер, которого я знал с давних дней, это Гитлер лицом к лицу с неизбежным поражением, крахом и гибелью!
Понятно, что с такими мыслями в голове я старался как можно реже бывать в ставке. Но из-за моих долгих отлучек Гитлер то и дело горестно восклицал: «Когда здесь нет Гофмана, мне чего-то не хватает!» или «Без Гофмана я не живу!».
И меня вызывали из Мюнхена, отрывали от семьи, работы или других дел, которыми я занимался. «Фюрер просит вас немедленно приехать!» – снова и снова слышал я одни и те же слова, и мне приходилось в тот же вечер или рано утром на следующий день садиться на поезд или самолет и мчаться за полторы тысячи километров в ставку фюрера.
– Что случилось? – спрашивал я.
– Ничего, мой дорогой друг, – отвечал Гитлер. – Просто я так счастлив видеть вас!
Реакция Бормана на эти мои внезапные возвращения была прямо противоположной, ибо я разрушал стену изоляции, которой он намеренно окружал Гитлера. Я приносил с собой несколько прошений или ходатайств, заслуживавших его внимания, рассказывал, что говорят и думают люди, и таким образом более-менее держал его в курсе общественного мнения.
По этой причине я был как бельмо на глазу у Бормана, но даже он не смел показывать свою личную неприязнь перед фюрером и потому придумал дьявольский план.
Осенью 1944 года он пришел в мои апартаменты в ставке.
– В последнее время у вас плохой вид, – сказал он мне, избегая фамильярно называть меня на «ты», как это было у него в обыкновении в официальных разговорах, – фюрера волнует ваше самочувствие. Надо, чтобы вас осмотрел Морелль.
– Я чувствую себя прекрасно, – возразил я, – но, если Гитлеру так хочется, конечно, я зайду к Мореллю.
Морелль не нашел у меня никакой скрытой болезни, но для окончательного ответа он ждал результатов бактериологического анализа, которые должны были прислать ему из Института здоровья СС.
Некоторое время я не получал известий, и это совершенно вылетело у меня из головы. Недели через две, когда я находился в Мюнхене и как раз собирался выйти из дому, из канцелярии Бормана пришло сообщение: «Немедленно позвоните Мореллю». Сделав ему официальный звонок, я через несколько минут услышал Морелля.
– По распоряжению Бормана, – сказал он, – должен сообщить вам, что Гитлер просит вас пока не приближаться к нему и вообще не приезжать в ставку. Ваше присутствие представляет большую опасность как для него, так и для всех нас!
Меня словно громом поразило.
– О чем вы говорите? – спросил я.
– Бактериологический институт СС нашел следы тифозных бацилл в анализе крови, который я им отправил. Боюсь, у вас паратиф В – самая опасная форма болезни! Мой долг как врача довести этот факт до сведения медицинских властей. Я сказал Борману, что в вашем случае это, разумеется, совсем не обязательно, но он даже не стал меня слушать.
Морелль помолчал, а я от шока вообще не мог вымолвить ни слова.
– Мне очень жаль, но у меня нет выбора, так как я получил указание от Бормана. Завтра утром, по распоряжению Гитлера, за вами заедут из мюнхенского департамента общественного здравоохранения и отвезут в особое здание, что-то вроде виллы, где за вами будет уход, однако вам придется оставаться в изоляции и под наблюдением.
В первые минуты после потрясения я даже не вспомнил об источнике или зачинщике всех этих событий – Бормане! Я подошел к книжному шкафу и достал соответствующий том медицинской энциклопедии; вот он – паратиф В, самая опасная форма заболевания!
Но я чувствовал себя совершенно здоровым! Я прочел дальше: «Есть также «носители бацилл» – лица, которые носят в себе бациллы тифа, не зная об этом и не являясь больными. Эти лица представляют угрозу для общества и ни в коем случае не должны допускаться к какой-либо деятельности, непосредственно связанной с продовольственными продуктами».
Я знал, что Гитлер панически боится микробов. И вдруг пелена упала с моих глаз, и я понял план Бормана во всей его дьявольской полноте! Все стало ясно, в том числе и то, что Морелль ни в чем не виноват. Морелль спас мне жизнь в 1936-м. Сразу же после возвращения из долгой поездки, в которой мы были вместе с Гитлером, его шофер Шрек и я серьезно заболели. Через неделю Шрек умер, и Гитлер потерял старого и доверенного сторонника. Я отказался лечь в больницу и висел между жизнью и смертью в собственном доме.
Обеспокоенный, Гитлер послал за знаменитым хирургом профессором Магнусом, чтобы он меня осмотрел, но в своем лихорадочном бреду я не подпускал к себе незнакомых врачей. Тогда жена предложила позвать нашего друга доктора Морелля, чтобы он приехал из Берлина и осмотрел меня, и тот, услышав о моей опасной болезни, тем же вечером поспешил в Мюнхен.
Когда он понял, что мне потребуется его постоянное внимание в течение длительного времени, долгие недели, не считаясь ни с какими жертвами и неудобствами, он почти не отходил от меня, за исключением коротких перерывов, щедро изливая на меня свою заботу.
Каждый день приходил Гитлер справиться о моем самочувствии и, пока я выздоравливал, много времени провел у моей постели; как раз тогда он и познакомился с доктором Мореллем и составил очень высокое мнение о нем. Гитлер мучился болями в животе, оставшимися ему в наследство от Первой мировой после отравления газом, и решил отдаться в руки доктора Морелля. Противники доктора прозвали его «укольщиком», но Гитлер чуть ли не молился на него.
– До сих пор ни одному врачу не удавалось облегчить мои боли; но доктор Морелль нашел средство.
Гитлер в каком-то смысле имел пристрастие к таблеткам, он пил то одни, то другие после каждого приема пищи и постепенно увеличивал дозы. Однако как-то раз он серьезно заболел и впервые в жизни слег в постель и пролежал три дня.
Морелль сказал мне, что у Гитлера спазмы – типичные симптомы отравления. Между тем профессор Брандт отправил на анализ несколько пилюль, прописанных Гитлеру предшественником Морелля, и оказалось, что в них содержится небольшая доля стрихнина. Если принимать их по рецепту и недолго, то таблетки совершенно безвредны. Но Гитлер принимал их в большом количестве несколько месяцев подряд, и яд накопился в его организме.
Брандт сообщил об этом Гитлеру, но посмел упрекнуть Морелля в том, что он не выполнил своей обязанности и не предупредил фюрера о том, что его привычка опасна, однако его упрек был встречен весьма неодобрительно.
Вскоре после этого профессор Брандт навестил нас, когда мы находились в нашем доме под Алтеттингом, и с удрученной миной рассказал о том, чем кончилась история с «антигазовыми пилюлями».
– Несколько дней назад, – сказал он, – Гитлер послал за мной и холодным тоном сообщил, что в ставке больше не нуждаются в моих услугах. Он разрешил моей жене с детьми приезжать в Оберзальцберг, но сказал, что больше не желает меня видеть! И это благодарность за семь лет преданной службы!
Дружеские намерения Бормана в отношении меня были слишком ясны, поэтому я должен был действовать, причем действовать быстро.
Первым делом я отправился прямо на Вассенбургерштрассе, дом 12, который находился в нескольких минутах ходьбы и где жила Ева Браун с младшей сестрой Гретель.
– Входите, герр Гофман. Боже мой, что с вами стряслось?
Прежде чем я смог ответить, Ева быстро сбегала за бутылкой коньяка и налила нам по рюмке. Я сделал большой глоток и рассказал ей о моем телефонном разговоре со ставкой фюрера.
– Ну вот что, успокойтесь, вам не о чем волноваться! Во-первых, совершенно ясно, что вы не больны, а во-вторых, я, как обычно, буду в десять часов звонить фюреру и поговорю с ним об этом. Очевидно, произошла какая-то глупая ошибка. С другой стороны, господин Борман вполне способен на любую грязную интригу, если она отвечает его интересам!
– Когда будете говорить с фюрером, прошу вас, объясните ему все и скажите, что сегодня я еду в Вену, чтобы навестить жену, которая меня ждет. Прошу вас подчеркнуть это – иначе будет похоже, что я сбежал!
– Не надо так беспокоиться! Я все объясню, можете позвонить мне завтра утром из Вены; уверена, я уже смогу сказать вам, что все в порядке. А теперь давайте выпьем шампанского за встречу! За ваше здоровье, герр Гофман!
На следующее утро жена ждала меня в гостинице «Империал» в большом волнении.
– Кажется, дома все сошли с ума! – сказала она. – Вчера я позвонила и спросила, когда ты приедешь, и мне ответили, что ты серьезно болен, но «сверху» пришел приказ, что нужно соблюдать строжайшую секретность и мне ничего нельзя сказать по телефону! Я чуть было не бросилась в Мюнхен, когда мне это сообщили. Кто же сошел с ума – я или все остальные?
– Тебе хотели сказать, что у меня паратиф и мне запрещено появляться в ставке фюрера!
Я в двух словах рассказал жене о том, что случилось.
– Борман! – выразительно сказала моя жена. – Это все его проделки!
Она сразу же пошла к телефону, позвонила нашему другу доктору Деммеру и попросила его немедленно прийти.
Когда Деммер услышал о произошедшем, он многозначительно постучал себя по лбу.
– Разве вы не видите, друг мой, что от вас пытаются избавиться? Тем не менее я попрошу фрау профессора Кортини из инфекционного отделения нашей Лайнцской больницы осмотреть вас, она является авторитетом в этих вопросах. И чтобы сразу же вас успокоить, я могу здесь и сейчас уверить вас, что у вас нет никакого паратифа.
Тем временем моя жена запросила срочный разговор с Мюнхеном. Зазвенел звонок, и я схватил трубку.
– Ева?.. Вы говорили с ним вчера?
– Да, герр Гофман, но это было ужасно! Гитлер совершенно убежден, что у вас тиф, он бушевал, как сумасшедший, когда я сказала, что вы заходили ко мне перед отъездом в Вену. Он кричал, что с вашей стороны безответственно отказываться от карантина, потому что от вас заразятся все: и ваша семья, и зять, и все остальные, кто в Вене вступит с вами в контакт. Такое впечатление, что Борман буквально заколдовал его, я так ему и сказала! «Посмотрим, – вот что он мне ответил, – клянусь богом, я доберусь до сути этого дела!» Мне ужасно жаль, герр Гофман, но для вас у меня нет хороших новостей, – заключила она.
– Спасибо, Ева! Простите, что заставил вас пережить неприятные минуты.
Потом мы телефонировали в наш мюнхенский дом и получили такие известия:
– Только что были два господина из департамента общественного здравоохранения и сказали, что приходили за господином профессором.
После этого я пошел прямо в инфекционное отделение больницы и в течение недели, как и ожидал, получил не менее трех справок об отрицательном результате анализов: «Признаков паратифа не обнаружено». Но я еще не был полностью удовлетворен. Меня ужасно беспокоила вероятность другого исхода. Быть может, у меня таки найдут какие-нибудь микробы и я таки заболею – и в том и в другом случае я погиб. А что, если окажется, что я действительно бациллоноситель? Эта последняя мысль так меня напугала, что превратилась в навязчивую идею, и ни моя жена, ни врачи ничего не могли поделать.
В конце концов моя жена подвела общий итог одной фразой.
– У тебя не паратиф, – решительно сказала она, – а обострение паранойи!
Ожидание было выше моих сил, я хотел было тут же послать фотокопию результатов в ставку фюрера.
– Ради бога, прояви хоть немного терпения, – увещевала меня жена. – Подожди с месяц, пусть все успокоится; если прибежишь к ним с этим сейчас, они только придумают новую интригу!
Но я не соглашался.
– Здесь достаточно доказательств! – кричал я, размахивая фотокопиями, и немедленно написал Мореллю о том, что наверняка произошла ошибка, и попросил его сразу же передать фотокопии Гитлеру.
Я долго ждал ответа. Потом наконец он пришел – в лице комиссара Хёгля из управления по расследованию преступлений из ставки фюрера, самого доверенного человека Гитлера.
– Герр профессор, на меня возложена прискорбная обязанность. Мне приказали расспросить всех, кто был с вами в контакте, и, если необходимо, арестовать их!
Что же произошло? На фотокопиях, которые я отправил в ставку, стояла пометка: «Генрих Гофман, гренадер, возраст двадцать шесть лет». Так как больницу в Лайнце на время войны переделали в военный госпиталь, доктор Деммер решил, что эта пометка облегчит дело, и, что более важно, он подумал, что таким образом он сумеет предотвратить появление слухов о том, что в ставке фюрера зафиксирован случай паратифа.
Комиссар Хёгль добросовестно выполнил свои обязанности, в ходе чего случайно выяснилось, что моему сыну Генриху ровно двадцать шесть лет, таким образом, результат приписали ему.
Тогда Борман набросился на медицинские власти в Вене, и только благодаря их категорической позиции никого не арестовали.
После этого я был вынужден пройти через крайне мучительное для меня обследование в двух официальных учреждениях под наблюдением двух эсэсовцев. Это длилось до тех пор, пока наконец директор медицинской службы СС не отказался продолжать это дело. За долгие недели у меня скопилась целая кипа медицинских документов, и все они подтверждали, что я абсолютно здоров. Мне же до смерти надоели постоянные осмотры, а бактериологи, которые ничего не знали о «приказах сверху», считали меня ненормальным.
В конце концов после более чем полугодового отсутствия в ставке, во время которого я ни слова не получил от фюрера, я вполне убедился не только в своей полной инфекционной безопасности, но и в подлом предательстве Бормана; и я решил, что сам поеду к Гитлеру и представлю ему мои доказательства.
За эти месяцы ставка «Вольфсшанце» переехала в берлинскую канцелярию, и в начале апреля 1945 года я отправился в Берлин. Хотя рейхсканцелярия уже сильно пострадала от воздушных налетов, тамошние порядки почти не изменились, и меня встретили те же два эсэсовца, которые всегда охраняли вход и, конечно, ничего не знали о причине моего долгого отсутствия. Бомбардировки стерли с лица земли отель «Кайзерхоф», где я всегда останавливался последние двенадцать лет, когда приезжал в Берлин, и потому мне отвели комнату в самой канцелярии на первом этаже.
Было около полудня, когда я приехал, и меня встретили там тепло.
– Где вы пропадали столько времени? – спрашивали меня.
Я занял обычное место рядом с Кейтелем и Йодлем. Они сказали мне, что во всем здании невредимой осталась только эта комната, бывшая гостиная Гинденбурга. За столом место Гитлера пустовало. Все посчитали вполне естественным, что я снова вошел в их круг.
– Слава богу, вы вернулись, Гофман. Может быть, вам удастся хоть немного подбодрить фюрера, – подобными замечаниями встретили мой приход.
Вдруг дверь отворилась, и адъютант объявил:
– Фюрер идет, чтобы осмотреть новый архитектурный макет. Прошу вас оставаться на местах, господа!
Вошел Гитлер, и я решил, что будет правильным сообщить ему о моем приезде. Когда я направился к нему, он выставил перед собой обе руки, как бы защищаясь, и шагнул назад.
– Как вы сюда попали, Гофман? Вы больны, вы смертельно больны, вы всех нас заразите!
Я больше не мог сдерживаться.
– Герр Гитлер, – закричал я. – Я не болен и никогда не болел! Вот доказательства. Я стал жертвой бесчестных происков и пришел сказать вам правду!
Но Гитлер, не говоря ни слова, быстро прошел мимо меня и вышел из комнаты. Я занял свое место. Вошел Борман и подошел к месту, где обычно сидел Гитлер. Но, заметив меня, он резко остановился и так сверкнул взглядом, будто хотел меня ударить. В тот миг завыла сирена воздушной тревоги.
Борман набросился на меня, как безумный.
– Какого черта вы сюда явились? – заревел он. – От вас было бы куда больше толку, если б вы изобрели какой-нибудь луч, чтобы сбивать самолеты!
– Чертов сумасшедший дом! – крикнул я и выскочил из-за стола, бросив нож и вилку.
По дороге в комнату я думал: прочь отсюда, как можно быстрее! Пока я лихорадочно закидывал вещи в дорожный саквояж, вошла Иоганна Вольф, которая в течение многих лет была секретарем Гитлера.
– Успокойтесь, – тихо сказала она. – Начался налет, вам надо спуститься в бомбоубежище. Во всяком случае, вы не можете так просто уйти, не попрощавшись с фюрером. Сразу же после отбоя тревоги я с ним поговорю. Знаете, он постоянно спрашивал о вас и вашем здоровье.
Позднее, ближе к вечеру, фрейлейн Вольф сказала, что Гитлер примет меня вечером – но при одном условии, что мы не будем упоминать о моей болезни.
К полуночи воздушный налет прекратился, и я спустился в бункер Гитлера.
– Гофман, мой дорогой друг, – сказал он, не переведя духа после приветствия, – прошу вас, окажите мне услугу, не говорите ни слова о вашей болезни!
Я безмолвно протянул ему бумаги, которые держал в руке.
– Нет, нет, – сказал он, – отдайте их Мореллю.
Он долго смотрел на меня и молчал.
– Когда я смотрю на вас, я вижу само воплощение здоровья, – наконец сказал он, – и даже мне приходится поверить, что вы стали жертвой происков! А теперь… ни слова об этом!
В бункере они были вдвоем с Евой. Он позвонил в колокольчик, и, когда появился слуга, я попросил принести чаю.
– Почему же чаю? – удивленно спросил Гитлер.
– Фрейлейн Вольф сказала мне, герр Гитлер, что вы велели Борману намекнуть мне о том, чтобы я воздерживался от алкоголя!
– Пейте что хотите! Вы всегда любили пропустить бокальчик вина, с какой же стати вам вдруг становиться трезвенником, когда события заставляют всех искать утешения в алкоголе!
Я попросил стакан горячего вина с пряностями.
– Разве вы простужены? Нет-нет, принесите герру профессору бутылку шампанского! Как же много прошло времени, с тех пор как мы в последний раз мирно сидели втроем!
Когда мы с Евой подняли за него свои бокалы, он чуть повеселел, и вскоре мы вернулись к доброй старой теме – искусству. Чуть погодя Ева покинула нас, и я остался наедине с Гитлером.
– Насколько вы приехали? – спросил он.
– Я уезжаю завтра, герр Гитлер.
– Неужели вы не останетесь хоть на денек? Я хотел бы о многом с вами поговорить.
– Конечно, мы поговорим. У меня есть кое-какие важные и личные дела, мне нужно ими заняться – и, кстати сказать, написать завещание. Но я в любом случае собираюсь вернуться, потому что двадцатого апреля у вас день рождения.
– Завещание? Вам еще слишком рано беспокоиться о завещании!
«Неужели он все еще верит в возможность победы?» – подумал я.
По мере приближения войны к неизбежному и катастрофическому концу Гитлер становился все менее общительным. Легкий разговор, анекдоты, которыми мы раньше любили потешить себя, казались совершенно неуместны, да мы бы и не отважились на анекдот. Изредка какое-нибудь случайное замечание об искусстве вызывало в Гитлере искру интереса, но она быстро потухала, и Гитлер снова погружался в мрачное молчание.
Чудовищное напряжение двадцати пяти лет, проведенных в постоянных сверхчеловеческих усилиях, гибель всего, на что он возлагал надежды, крах мечты, провал планов на будущее и последствия июльского взрыва – все это соединилось, нанеся тяжелый урон этому человеку. Постоянно пребывая в тоске, в умственном оцепенении, доходя до состояния психического расстройства, физически изможденный, Гитлер превратился в дрожащую тень прежнего себя, напоминал выброшенный на берег остов корабля, откуда давно ушла жизнь, ее порывы и стремления.
Лишь однажды, когда последние сообщения из армий Шернера и Венка, на которые мы возлагали отчаянные надежды, во всей неприкрытой правде показали нам безнадежность ситуации, Гитлер не выдержал и разразился гневом и яростью, страхом, отчаянием и раздражением, которые вызывал в нем кошмар о господстве русских.
– Мои враги сошли с ума! – кричал он с истерическими нотами в голосе. – Бог оставил и ослепил западные державы! Да, может быть, они насладятся плодами победы – ненадолго! Неужели они не понимают, неужели ничто их не убедит, что каждый шаг, сделанный русскими ордами, – это новый гвоздь, забитый в крышку их собственного гроба! Если бы только они дали мне снять армии с западных фронтов, я бы еще мог спасти и Германию, и их самих, и всю Европу!
Но никто из немецких переговорщиков, даже сам Гитлер, не мог убедить союзников в искренности его слов.
На следующую ночь Гитлер тоже, как обычно, лежал на диване. Разрушительное действие многих бессонных ночей и невыносимого бремени ясно читалось на его изможденном лице. Его левая рука дрожала, движения были медленными и вялыми. Мне было очень тяжело видеть его в таком состоянии.
– Гофман, у меня к вам есть одна просьба, – сказал он, когда мы остались наедине.
– Конечно, герр Гитлер, все, что в моих силах.
– Это насчет Евы. Гофман, прошу вас, постарайтесь уговорить ее уехать с вами, когда вы соберетесь. Я не могу предоставить ей государственную машину, в теперешних обстоятельствах это было бы слишком опасно. Как вы намерены добираться до Мюнхена?
– Мне предложили ехать в машине министра почты. Там полно места, машина едет почти пустой. Я обещаю вам, герр Гитлер, что всеми силами постараюсь уговорить Еву поехать со мной.
Хотя Ева неоднократно заявляла, что ничто не заставит ее покинуть Берлин, я снова попытался переубедить ее.
– Вы лучше всех знаете, Гофман, какие тесные узы связывают меня с Гитлером. Что скажут люди, если я брошу его сейчас, в час великой беды? Нет, мой друг! Если это касается фюрера, я буду стоять до конца!
На следующий день я рассказал Гитлеру о своей неудаче. Он молча выслушал меня. Потом зазвучал сигнал воздушной тревоги.
– Пока вы не можете уехать, – сказал он.
Очевидно, да, поэтому мы вместе сидели в бункере, слушая, как вокруг свистят бомбы. При всем том мне было необходимо как можно быстрее убраться оттуда. В любую минуту мог войти Борман; и, если бы он вошел, боюсь, мне суждено было бы остаться в рейхсканцелярии навечно.
Тревожные мысли продолжали вертеться у меня в голове, когда прозвучал отбой воздушной тревоги. Я торопливо попрощался с Гитлером, Евой и всеми остальными, схватил уже собранный саквояж и был готов покинуть рейхсканцелярию. Любой ценой я должен был избежать встречи с Борманом.
Когда я увидел разрушенную Вильгельмштрассе, я понял, что это будет не обычный отъезд, а настоящее бегство! Но я бежал не от Гитлера или хаоса, а от Бормана!
Я охотно подверг себя опасности, которую представляла поездка по шоссе, рейды низко летящих бомбардировщиков не прекращались, и через каждый километр с небольшим мы проезжали мимо обгорелых автомобилей, в некоторых из них остались мертвые пассажиры. Налеты продолжались очень долго, и скрыться от них было невозможно, поэтому мы приехали к месту назначения только на следующее утро.
Вопреки всему, я твердо был намерен вернуться в Берлин к 20 апреля, дню рождения фюрера. Но этому не суждено было случиться. Из-за военной ситуации любая поездка в Берлин стала немыслима.
Когда наступил окончательный крах, я услышал об этом по радио. По крайней мере, судьба освободила меня от обязанности фотографировать эти роковые события.
До сих пор мне часто задают вопрос: что случилось с Борманом? Действительно ли он погиб? Он действительно погиб, и мне достоверно известно об этом от очевидца его смерти Аксмана, который в конце войны был вождем гитлерюгенда.
После смерти Гитлера, когда русские уже подступали к рейхсканцелярии, горстка людей, включая Бормана, доктора Штумпфеггера, который был преемником профессора Морелля в качестве личного врача Гитлера, шофера Гитлера Кемку, который был очевидцем сожжения тела фюрера, и самого Аксмана, решила вырваться на свободу под прикрытием немецкого танка.
Однако оказалось, что русские уже перешли Шпрее, и у них почти не осталось надежды на спасение. Группа решила разбиться, Борман и Штумпфеггер пошли налево вдоль реки, а остальные направо. Аксман и его спутники очень быстро обнаружили, что дальше хода нет, вернулись и пошли в том же направлении, в котором ушли Борман и Штумпфеггер. Когда добрались до одного из мостов через Шпрее, у ближайшего конца они увидели два тела, распростертые на спине.
Аксман прокрался поближе, чтобы их рассмотреть, и, как и ожидал, увидел, что тела принадлежат Борману и Штумпфеггеру. Нигде не было видно следов ран, но Аксману было довольно того, что они действительно мертвы. Он предположил, что, видя полную безнадежность своего положения, они приняли яд, чтобы не попасть к русским. Рука Бормана сжимала портфель, и Аксман попытался забрать его, считая, что там могут находиться важные документы. Но в эту минуту русские заметили его и открыли огонь из пулемета, так что ему пришлось бросить портфель. Аксману удалось невредимым отползти обратно, спрятаться в воронке от снаряда среди окружающих руин и в конечном итоге спастись.
Эпилог
Последние дни перед падением Германии я провел в нашем деревенском домике «Генрихсхоф» неподалеку от Альтеттинга, куда съезжались паломники со всей Верхней Баварии. По совету соседей моя жена уехала из дома за неделю до моего приезда и отправилась в сторону Тироля.
Сразу после моего приезда в деревню вошел отряд примерно из двухсот немецких офицеров и рядовых и расквартировался в домах. Некоторые тут же раздобыли себе штатскую одежду в надежде таким образом избежать плена.
Так как я не играл роли ни в политических, ни в военных событиях прошлого, я был вполне уверен, что со мной ничего не случится, и потому не собирался покидать своего дома. Но одна женщина из множества беженцев, приютившихся у меня в доме, уговаривала меня уйти. Мое присутствие, заявила она, только усугубляет опасность, которой и без того подвергаются мои работники и их семьи. Позднее выяснилось, что у просительницы были свои интересы, она надеялась избавиться от меня и предъявить права на часть имущества, прежде чем оно рано или поздно будет конфисковано и реквизировано.
Однако в тот момент, убежденный ее настойчивыми уговорами, я согласился уехать, и 28 апреля, в тот день, когда Гитлер и Ева покончили с жизнью, я тронулся в путь. Сквозь потоки отступающих войск я добрался до друзей в Обервессене, деревушке между Марквартштейном и Рейт-им-Винкелем, примерно в пятидесяти километрах на запад от «Генрихсхофа».
Сразу за деревней Рейт-им-Винкель дорога переходит в узкое ущелье, окруженное с обеих сторон высокими утесами. Там на укрепленных позициях обосновался большой отряд СС, собираясь держаться до последнего. Когда через несколько дней прибыли американские войска, во всех домах Обервессена и Рейт-им-Винкеля развевались белые флаги; но эсэсовцы не намеревались уходить с сильной позиции, которую успешно удерживали, и сдавать собранные там большие запасы провизии. Только после длительных переговоров, когда им пообещали гарантии безопасности, они согласились выйти и таким образом положить конец военным действиям в этой части Баварии. И около недели все было спокойно.
Однако рано утром 15 мая прибыли два американца в сопровождении моего старого друга немецко-американского происхождения, чья деятельность в отделе безопасности немецкой секретной службы была мне хорошо известна. Каково же было мое презрение и негодование, когда я узнал, что меня выдали американцам, и они потребовали моего ареста! Делать было нечего, схватив пожитки, я запрыгнул в американский джип, и меня отвезли в Мюнхен на допрос в центр войсковой разведки.
То, как меня встретили в разведке, оказалось для меня приятным сюрпризом. Мне отвели хорошую комнату, гостеприимно накормили, напоили, не жалели сигарет. Нигде не было видно вооруженных охранников в форме – лишь несколько немцев в гражданской одежде, видимо члены так называемой подпольной группы немецкого Сопротивления.
Я с любопытством бродил по зданию, никто мне не препятствовал, и, только когда у главного входа меня остановил американский солдат и вежливо сказал, что мне нельзя покидать помещение, я впервые почувствовал, что принудительно задержан.
Вскоре после того, как я вернулся в комнату, ко мне в дверь постучались, и вошел американский офицер.
– Вам что-нибудь нужно, герр Гофман? – спросил он. – Если да, прошу вас об этом сказать. – Он дружески улыбнулся.
– Мы, знаете ли, довольно хорошо осведомлены о ваших привычках. Скажите, вы предпочитаете ходить на допрос днем или ночью?
Союзники явно знали о том, что ближний круг Гитлера обыкновенно собирался на «вечернюю» выпивку часа в три ночи.
На первый допрос меня вызвали примерно через неделю. Он был коротким, формальным и нисколько не враждебным.
– Герр Гофман, – обратился ко мне старший офицер, – должен сказать вам, что русские дали нам список людей, которых они просят им передать, и ваше имя стоит во главе этого списка.
Он сделал многозначительную паузу.
– В Вене, – тихо продолжал он, – русские вздергивают всех пойманных эсэсовцев и вывешивают их в витринах.
Он помолчал и предложил мне сигарету.
– У меня к вам всего три вопроса, герр Гофман, и, если вы правдиво на них ответите, вам не придется волноваться насчет русских.
Я опасливо ждал.
– Вы знаете профессора Хана?
– Я знаю нескольких профессоров Ханов. Вы имеете в виду знаменитого нью-йоркского профессора, который…
– Нет, не его.
– Тогда еще есть мой старый друг Хан, выдающийся профессор анатомии из Мюнхена, но он уже умер.
– Слушайте, Гофман. Мне наплевать на мертвых Ханов. Что вы знаете о живом профессоре Хане, который столько времени проводил в ставке Гитлера?
С минуту я находился в недоумении, потом вспомнил. Верно, там был один тип по фамилии Хан, какой-то ученый, но больше я о нем ничего не знал. Так я и сказал.
– Хорошо! А что вы знаете об атомной бомбе?
Вспомните, это было в мае 1945 года, задолго до того, как обычный человек с улицы впервые услышал, что это за штука.
– Простите, – ответил я, – я ничего даже не слышал о ней.
– А о другом секретном оружии?
– Однажды я действительно присутствовал на техническом предварительном просмотре фильма о сверхмалой подводной лодке, до того как его показали Гитлеру.
– Ну и теперь третий вопрос: вы знаете инженера Курца?
– Курца? Ну да, конечно, знаменитого физика. Но я знаю о нем только то, что недавно он предложил Гитлеру купить у него очень большую и ценную фарфоровую вазу, а Гитлер отказался, потому что, как он мне сказал, какой смысл тратить кучу денег на то, что через пару дней отправится в тартарары!
Американец усмехнулся:
– О'кей, герр Гофман. Кажется, я узнал все, что хотел. Итак, есть ли что-нибудь такое… что-нибудь, о чем бы вы хотели сказать?
Ободренный его дружелюбным и исключительно справедливым приемом, я без колебаний заговорил.
– Я был бы очень благодарен вам за помощь в одном деле, сэр, – сказал я. – К сожалению, мой мюнхенский дом разграбили; все мои картины, личные вещи, среди них акварели моего друга Гитлера, которые я высоко це…
Продолжить я не смог. Один из присутствовавших немцев схватил со стола большую стеклянную вазу для фруктов и с оглушительным звоном огрел меня ею по голове!
– Прекратите! – резко вмешался американский офицер. – Здесь я этого не потерплю! Если не можете вести себя как следует, выметайтесь!
На этом мой допрос кончился, но было еще маленькое продолжение.
Через несколько дней, около полуночи, раздался робкий стук в мою дверь. Поспешно и крадучись вошел человек и выложил на стол хлеб, масло, бутылку «Нирштайнера» и пачку сигарет.
– В знак примирения, я страшно извиняюсь, – буркнул он и ушел так же быстро, как вошел.
Это был тот малый, кто бросил в меня вазу.
Я уже долго не курил и не пил спиртного – и у меня не было штопора! Только те, кто хорошо меня знает, может представить себе, с каким нетерпением я ковырял ногтями проклятую пробку, пока мне не удалось протолкнуть ее в горлышко бутылки!
На следующий день меня перевезли в мюнхенскую тюрьму Штадльхайм, которая пользовалась дурной славой. Там мне сказали, что меня подозревают в краже нескольких шедевров из различных галерей и музеев Европы, совершенной от имени Геринга и Гитлера. Три недели спустя меня для дальнейших допросов перевезли в Австрию, в Альтаузее, в заброшенные шахты которого свезли сокровища немецких галерей и личных коллекций, чтобы спасти их от бомбардировок.
За недели, проведенные в тюрьме Штадльхайм, я так ослабел от строгих порядков и голодного пайка, что без посторонней помощи еле передвигался. Благодаря старательным и очень доброжелательным заботам чернокожего американского солдата я немного поправился. Но все-таки прошла целая неделя, прежде чем я достаточно окреп, чтобы выдержать допрос.
Допрос вел капитан Россоу из нью-йоркского музея «Метрополитен», он проявил большое понимание того, в каком трудном положении я очутился. Я мало что мог сказать в свою защиту, кроме того, что полностью отрицал предъявленные мне обвинения. Но Россоу тщательно навел справки у руководства некоторых галерей, сокровища которых были разграблены, и при помощи местных торговцев живописью подтвердил мое заявление о том, что я действовал в качестве эксперта и советника Гитлера и приобрел для него множество картин. Но я всегда платил за них, как это было принято. Таким образом, Россоу очень скоро убедился в моей полной невиновности и снял обвинение против меня.
В середине июля 1945 года меня перевели в лагерь в Аугсбурге, где содержалась нацистская верхушка. Там я заметил Геринга и своего зятя Бальдура фон Шираха, но нам не позволили находиться там вместе, и мы могли только помахать друг другу рукой, когда нас выводили на прогулку. Там мы провели лишь несколько недель, а затем нас перевезли в Зеккенхейм в окрестностях Гейдельберга.
В Зеккенхейме нас разместили в трех массивных старых бараках – вероятно, бывших солдатских казармах. Сам я находился в блоке А, мы удобно устроились и получали щедрый паек американских солдат. Среди других известных людей в моем бараке было несколько ученых и промышленников, например Мессершмитт и Тиссен, фон Бломберг и Шмидт, главный переводчик министерства иностранных дел Германии. Многих из них я потом встретил в помещении для свидетелей в нюрнбергской военной тюрьме. Однако в тот раз я остался в Зеккенхейме на несколько дней, а потом меня отправили к свидетелям, размещенным в пригороде Нюрнберга Эрленштегене, который находился в американской зоне.
После всех неудобств и множества утомительных переездов из лагеря в лагерь, из тюрьмы в тюрьму маленькая вилла в Эрленштегене с ее прелестным садиком показалась мне райским уголком. Меня попросили дать слово – и я его дал, – что я не покину Нюрнберг, но в самом городе я мог ходить куда вздумается. Американцы захватили мои обширные архивы в Мюнхене, но между делом картотека погибла или потерялась, и мне приказали все рассортировать и составить новый список. Хотя в моей мюнхенской конторе содержалась только часть архивов, тем не менее они насчитывали тысячи фотографий, сделанных за тридцать с лишним лет. Все они пришли в безнадежный беспорядок, так что сортировка и составление списка оказались долгим и утомительным занятием. Каждое утро за мной приезжал джип, и мне приходилось отчитываться перед Международным военным трибуналом, который разместил свой штаб в министерстве юстиции, а как только официальная часть заканчивалась, мне разрешали заниматься своими делами.
Целый год продолжалось разбирательство Международного военного трибунала, в ходе которого на слушания вызывали огромное количество свидетелей. Разумеется, на период пребывания в Нюрнберге им нужно было предоставлять жилье, и с этой целью союзники реквизировали две большие виллы в Эрленштегене на северной окраине города.
Начиная с октября 1945 года и потом обе виллы с вереницей приезжающих и отъезжающих напоминали бурлящие пчелами ульи. Свидетели, в основном со стороны обвинения, шли бесконечным потоком, они поселялись на вилле и, сыграв свою роль, снова уезжали. Там впервые я соприкоснулся с людьми, которые в течение многих лет были оппонентами и врагами Гитлера, – дипломатами, генералами, участниками июльского заговора 1944 года и т. д., причем с некоторыми из них мне уже доводилось встречаться, не имея ни малейшего понятия об их политических убеждениях или деятельности.
В начале 1946 года моя жена сумела нелегально пробраться из Тироля в Баварию (поездки частных лиц в то время были запрещены). Когда она приехала, баварские власти разрешили ей остаться, чтобы она могла присматривать за своим больным отцом в Эпфахе, что в Верхней Баварии. Она пользовалась каждой возможностью, чтобы ненадолго приехать ко мне, где бы я ни находился в тот момент. Наконец ей удалось снять крохотную комнатушку в самом Мюнхене, и с тех пор вся моя жизнь переменилась.
В Мюнхене ей разрешили навещать меня сколько угодно, и, когда вторая кровать в моей комнате не требовалась для кого-то из многих свидетелей, постоянно сменявших друг друга, ей даже позволяли провести ночь со мной. Ее смелость, верность и, что, может быть, важнее всего, чувство юмора были неоценимой поддержкой для меня и тогда, и еще больше потом, когда меня передали для «денацификации» баварским властям, гораздо менее заботливым. В то время я мог ответить ей только тем, что отдавал ей добрую долю моего американского пайка и таким образом в некоторой степени помогал решить материальные затруднения. Но я никогда не забуду, скольким я ей обязан, и моя благодарность останется со мной, пока я жив.
Все мы питались вместе и после ужина собирались в передней на чашку кофе. По немецкому радио передавали комментарии к дневному слушанию в суде, которые читал Гастон Ульман, назначенный оккупационными властями единственным комментатором. В отличие от независимого иностранного радио, особенно швейцарской радиосети, комментарии Ульмана были гораздо менее объективными и вызывали много споров. А еще было очень странно сидеть там и слушать запись свидетельских показаний, которые раньше в тот же день давал кое-кто из тех, кто теперь тихонько попивал свой кофе вместе с остальными.
Некоторые свидетели требовались на день или два, а другие оставались на недели и даже месяцы. Среди них были представители стран разных уровней развития, общественного положения и всевозможных оттенков политических мнений, и, хотя мы вели коммунальное существование, одна тема считалась совершенно запретной по всеобщему молчаливому согласию: никогда, ни при каких обстоятельствах мы не обсуждали политику. Например, я три недели чуть ли не каждый день сидел бок о бок с Зеверингом, известным министром внутренних дел из социал-демократов, но слово «политика» ни разу не сорвалось с наших губ.
Чем дольше шел Нюрнбергский процесс, тем более разношерстной и пестрой становилась компания свидетелей. Галицийские евреи в кафтанах и странных балахонах, диковатые и смуглые чешские и венгерские цыгане вперемешку с такими выдающимися личностями, бывшими заключенными концлагерей, как доктор Ойген Когон, автор «Государства СС», доктор Ганс Лютер, бывший рейхсканцлер, доктор Пельцер, знаменитый олимпийский бегун, полковник Фридрих Арене, которого русские обвинили в том, что он совершил ужасные убийства польских офицеров в Катынском лагере, генерал Эрих фон Лахоузен, один из главных офицеров адмирала Канариса, и многие другие, перечислять которых было бы слишком утомительно.
Генерал Лахоузен особенно яростно обвинял Геринга и вновь и вновь подвергался допросам и перекрестным допросам. Он производил впечатление человека, живущего в состоянии страшного нервного напряжения, особенно в последний день, когда он явился под конвоем для последнего перекрестного допроса. Вечером, когда мы были вместе с генералом, мы услышали этот перекрестный допрос, стенографическую запись которого передавали по радио, и он вызвал оживленное обсуждение всего процесса.
Из-за долгой и вынужденной близости, в которой нам приходилось жить, мы волей-неволей дружески общались между собой. Среди нас было много людей, интересовавшихся искусством и музыкой, и мы могли коротать время в оживленных и интересных беседах. Доктор Михаэль Шкубль, начальник венской полиции до аншлюса, чрезвычайно обаятельный и воспитанный господин, часто читал нам некоторые из своих превосходных стихов и устраивал поэтические конкурсы. Когда он нас покинул, особенно расстроилась моя жена, потому что с ним она могла разговаривать о Вене, где провела счастливое детство и юность, и эти разговоры были для нее как глоток благоуханного свежего воздуха.
Другим свидетелям была суждена трагическая участь. Профессор Карл Хаусхофер, выдающийся географ, был близким другом Рудольфа Гесса и единственным человеком, кому позволили навестить Гесса в камере. Этой привилегией он был обязан тому глубокому уважению, которое питали к нему американцы как к ученому и человеку. Его рассказ о том, как он посетил Гесса, переданный с идеальной до жути точностью ученого, произвел на нас глубокое и страшное впечатление. Гесс не узнал своего друга и бывшего учителя, который увидел лишь дикую и ужасающую картину безумия. Лишь на краткий миг к Гессу, казалось, вернулся рассудок, когда Хаусхофер вынул из кармана фотографию сына Гесса и показал ему. Долгое заключение, нервирующие перекрестные допросы, конфискация собственности оказались слишком тяжелой ношей для профессора Хаусхофера. Он принял смертельную дозу яда, а жена его повесилась.
Однажды приехал Николаус Хорти-младший, он был в пиджаке из грубого твида и шарфе из яркого цветного шелка, который придавал ему весьма презентабельный и элегантный вид. Он прибыл из Рима, чтобы дать показания о венгерских событиях, и оказался живым собеседником и образцом галантности по отношению к дамам. Его отец, венгерский регент, в то время находился в крыле свидетелей нюрнбергской тюрьмы, где содержались в заключении все старшие офицеры, дипломаты и чиновники.
В числе свидетелей хватало и женщин. Среди них была фрау Элизабет Штрюнк, ее мужа повесили гестаповцы за участие в заговоре июля 1944 года. Тихая, хрупкая женщина средних лет, всегда одетая в темное, фрау Штрюнк была единственной женщиной, которой в свое время доверили подробности июльского заговоpa, и на ее лице остался жуткий и неизгладимый след гестаповского гостеприимства, которым она была вынуждена воспользоваться.
Однажды в самый разгар ночи американцы привезли какую-то женщину, которая оставалась для всех нас загадкой. День за днем, неделю за неделей она молча сидела в сторонке и постоянно читала или вязала. Сначала мы думали, что она, наверно, шпионка, которую довольно неуклюже внедрили к нам; но страдания, которые явно причиняла ей ситуация, и постоянное выражение горя и растерянности на ее лице, казалось, отметали эту возможность, если только она не была законченной актрисой. И вдруг она пропала так же тихо, как и появилась; позднее мы узнали, что это жертва ошибочного опознания – ее арестовали вместо однофамилицы.
В другой раз к нам приехал молодой человек в поношенном костюме и с потрепанным чемоданчиком. Он представился Штрайхером-младшим и пробыл с нами всего одну ночь, чтобы на следующее утро попрощаться с отцом, прежде чем того казнили.
Тех, кто свидетельствовал в защиту, было совсем немного. Среди них был шведский промышленник Бингер Балерус, который давал показания в пользу Геринга. Этот культурный и доброжелательный швед категорически возражал против того, чтобы его помещали под охрану, но, когда ему объяснили, что его будут охранять ради его же безопасности и что охрану предоставляют свидетелям из нейтральных стран, он побрюзжал, но согласился. На суде он сделал долгое и обстоятельное заявление, в котором сказал, что Геринг приезжал в его загородный дом в августе 1939 года, чтобы встретиться с шестью британскими политиками, и заверил их, что сделает все возможное, чтобы сохранить мир, и в особенности постарается не допустить войны между Британией и Германией.
Как я сказал, свидетели приезжали и уезжали, но Гофман оставался. Больше года я невольно находился в центре событий, последовавших сразу же за падением Германии. Очаровательная молодая графиня – беженка из Венгрии, которую американцы назначили экономкой, звала меня старшим из ее постояльцев, и мне приятно думать, что многие выдающиеся люди, прощаясь со мной, были так добры, что благодарили меня за неизменно хорошее настроение и говорили, что, несмотря ни на какие политические убеждения, Гофман и его шутки навсегда останутся для них радостной передышкой в череде мрачных и трагических событий.
Был один драматический эпизод, которого я никогда не забуду. Это случилось 20 октября 1946 года, когда мы с дочерью сидели у меня в комнате и слушали радио, ожидая, когда будут передавать приговоры Нюрнбергского трибунала. Никогда за всю мою жизнь, в течение которой я был очевидцем драматических и судьбоносных событий, я еще не испытывал такого напряжения и тревоги, как в эти минуты. Мы с дочерью сидели перед тихо потрескивавшим радиоприемником, не шевелясь, не произнося ни слова, с до предела натянутыми нервами.
«Суд возвращается в зал, – сказал диктор, – чтобы председатель зачитал постановления и приговоры».
«…Виновен… приговорен к смерти через повешение…» – холодный, бесстрастный и торжественный голос один за другим произносил роковой приговор, и нервное напряжение стало нестерпимым.
«Бальдур фон Ширах… – прошло несколько невыносимых секунд, будто внимание председателя отвлекло какое-то шевеление в суде, он помолчал и продолжил: – Бальдур фон Ширах, – повторил он, – приговорен к тюремному заключению сроком на двадцать лет!»
– Слава богу, – выдохнула моя дочь, дойдя до предела. – Слава богу, он хотя бы останется жив!
Последний эпизод моего годового пребывания в доме свидетелей тоже был не очень приятным. Однажды вечером к нам за столом присоединился некий новоприбывший, который представился доктором Шмидтом. За чашкой кофе я обменялся с ним какими-то пустяковыми фразами, как обычно бывает с новичком. Сразу же после кофе этот молчаливый, мрачно одетый в черное господин покинул нас, дав уклончивый ответ на вопрос, вернется ли он. На следующий день ко мне пришла жена.
– Говорят, что это знаменитый доктор Шмидт, – сказала она, показывая мне фотографию в газете, которую принесла с собой. – Ты его знаешь?
Тогда все мы его узнали. «Доктор Шмидт» оказался не кем иным, как премьер-министром Баварии доктором Вильгельмом Хегнером, потребовалось его присутствие как представителя баварского правительства: он должен был засвидетельствовать казнь военных преступников, которых предали смерти накануне.
На следующий день я, по обыкновению, отчитывался перед американскими властями. Меня ждал весьма неприятный сюрприз. Мне сказали, что премьер-министр Баварии неоднократно требовал, чтобы меня отправили на разбирательство в баварский суд по денацификации. Американцы считали, что теперь, когда я закончил работу с архивами, они не могут ни содержать меня под стражей, ни предоставлять мне приют в помещении, отведенном для свидетелей. Меня отпустили на все четыре стороны и тут же арестовали по приказу баварского правительства, и только тогда начались мои настоящие муки в тюрьме. Несправедливость от врага переносится легче, чем несправедливость от своих же соотечественников; от первых я почти не пострадал, а от вторых страдаю по сей день.
Как только американцы отправили меня восвояси, мне, конечно, пришлось уйти из комнаты в помещениях для свидетелей. Один добрый друг из Мюнхена предложил мне свое гостеприимство, но баварские власти отказали мне в праве принять его приглашение и вместо этого бросили в местную тюрьму. Первые несколько ночей я провел в ледяной камере, дрожа от холода, а потом благодаря стараниям охранника, по-доброму ко мне расположенного, меня перевели в камеру поменьше, где хотя бы была печка. За счет одной силы характера моя жена добилась разрешения на короткое свидание со мной. Затем, перед самым Рождеством, меня перевезли в Мюнхен. Видимо, власти считали меня отъявленным злодеем, так как из тюрьмы на вокзал меня доставляли трамваем в тяжелых кандалах, к большому возмущению многих пассажиров, которые выражались по поводу этого варварства вполне определенными словами. В Мюнхен меня везли в прикрепленном к поезду специальном вагоне для заключенных, где я ехал один с двумя охранниками. В Мюнхене меня поместили в отделение предварительного заключения тюрьмы Нойдек, пользовавшейся дурной славой, там я провел несколько недель в одной камере с двумя другими арестантами, обвиненными в преступлениях, которые были далеки от моих мнимых проступков.
Баварские власти решили сделать на моем примере громкое дело, показательный процесс. Херф, правительственный прокурор и обвинитель по делу, отказался предоставить моей жене какие-либо сведения. Она знала, что меня перевезли из Нюрнберга, но куда, а также когда и где будет проходить разбирательство, какие шаги она может предпринять, чтобы помочь мне защититься, ей упорно не говорили. Наконец через сокамерника, который вышел из тюрьмы, мне удалось сообщить ей, где я нахожусь, и она немедленно поехала за мной в Мюнхен. Несмотря на строжайшие меры по обеспечению моей изоляции, Эрна, проявив свою всегдашнюю ловкость и храбрость, сумела связаться со мной и умоляла меня не падать духом. «Даже величайшие преступники имеют право подготовиться к защите», – заявила она и потребовала немедленно допустить ко мне адвоката, нанятого ею от моего имени. Но все было бесполезно; власти остались глухи к ее требованиям, и адвокату позволили увидеться со мной лишь за два дня до того, как состоялось слушание по моему делу – слишком короткий срок, чтобы заручиться свидетелями или документальными доказательствами. Однако это вообще не имело особого значения, потому что исход дела был предрешен еще до того, как началось разбирательство.
Судебный фарс продолжался три часа. Свидетелей не было ни у обвинения, ни у защиты. Большую часть времени заняло чтение длинного обвинительного заключения, пересыпанного комментариями, предположениями, намеками и допущениями прокурора. Мой адвокат потребовал предоставить ему отсрочку для того, чтобы собрать материал и свидетелей для опровержения выдвинутых против меня обвинений, но ему отказали без лишних слов, и 31 января 1947 года мне вынесли приговор: «Десять лет в трудовом лагере с конфискацией всего имущества, лишением всех гражданских прав и запретом заниматься какой-либо деятельностью после выхода на свободу».
Я пробыл в Нойдекской тюрьме до начала марта, потом меня отправили в лагерь в Моозбурге.
Там нас было около десяти тысяч, мы жили в больших хибарах барачного типа. Еда была хуже некуда. Раз в месяц нам разрешали сорокапятиминутное свидание; но комната для свиданий представляла собой один большой барак, по всей длине которого шел стол. Через весь стол тянулась проволочная сетка до самого потолка, делившая стол пополам, и заключенные сидели бок о бок с одной стороны, а наши посетители с другой. Стоял такой шум и гам, что вести разговор было практически невозможно; как-то раз моя жена села на стол, чтобы чуть ближе придвинуться ко мне, но ей тут же сказали, что это запрещено.
Позволю себе сделать небольшое отступление и отдать должное самоотверженности женщин, которые навещали своих заключенных мужчин. Хотя они с детьми часто сами голодали, они всегда приносили с собой какую-нибудь передачу – пусть даже картофельные очистки.
Многие заключенные занимались в лагере тем, что мастерили игрушки и обувь из любого попадавшегося под руку хлама; их они передавали своим близким в надежде, что те смогут продать немудрящие изделия и прокормиться.
Хотя для нас свидания с родными были даром с небес, для наших любимых они часто означали суровые лишения. В дни посещений люди набивались в поезда так, что яблоку негде было упасть, от вокзала к лагерю вела длинная и утомительная дорога, а потом посетителям приходилось часами стоять в очереди, пока охранники проверяли разрешения и досматривали посылки, прежде чем впустить их в барак. Все это, не считая горестного характера самой поездки, тяжким бременем ложилось на плечи наших верных жен.
Впоследствии условия чуть-чуть улучшились, посещения перестали ограничивать предписанными сорока пятью минутами. Местные жители тоже относились к нам с большой добротой и делали все, что могли, чтобы помочь заключенным, приносили нехитрую еду, которую могли урвать от себя, а иногда и каплю чего-нибудь крепкого. Я знаю, о чем говорю, поверьте мне, во всем мире не найдется более чудесного шнапса, чем глоток, сделанный тайком! Так я прожил целый год, и за это время моя жена была для меня во всех отношениях надежной опорой. Лишь намного позже, окончательно выйдя на свободу, я хоть в какой-то степени сумел действительно понять, через какие трудности она прошла; но пока я оставался за колючей проволокой, ни слова жалобы не слетало с ее губ.
В то время я держался на плаву, а заодно и развлекался тем, что рисовал картинки и шаржи, многие из которых я обменивал у их «героев» на пару сигарет. Но больше всего мне нравилось сидеть и писать длинные письма жене – на эту роскошь у меня никогда не хватало времени при нацистах, и по большей части моя корреспонденция ограничивалась открыткой с загадочными буквами: ДЭ, ЛЦ, Г (что означало «Дорогая Эрна, люблю, целую, Генрих»).
В конце года меня перевели в печально известный лагерь Дахау, где я продвинулся вверх по лагерной иерархии: меня послали работать в рентгеновское отделение лагерной лаборатории, а так как мое здоровье ухудшилось, мне разрешили и жить в лаборатории. К тому же мне удалось заполучить электрическую печку, и бог знает, сколько чашек кофе (!) мы с женой сварили на ней и выпили вместе.
Полгода, за которые большинство других заключенных выпустили на свободу, все шло хорошо – если в таких обстоятельствах вообще что-то может идти хорошо. Потом, в конце июня 1948 года, лагерь перестроили под лагерь для беженцев, и меня перевели в Мюнхен, в здание, где раньше располагалась гауптвахта для чернокожих солдат американской армии. Здесь условия были примитивны до крайности, мы жили в бараках с трехъярусными деревянными нарами и какими-то старыми, заплесневелыми соломенными матрасами. Но были и большие преимущества: родным разрешали навещать нас каждый день после обеда и оставаться до темноты, нам позволяли выходить во двор на открытый воздух – изумительное чувство, пускай даже нас окружала колючая проволока! И очень скоро не только родственники, но и некоторые друзья смогли иногда нас навещать. Все это казалось слишком хорошо, чтобы длиться долго.
Так и вышло. Незадолго до Рождества заключенных без предупреждения загнали в грузовики и отвезли в лагерь Лангвассер под Нюрнбергом. Постоянные переезды и разлука с женой не прошли для меня даром, и это оказалось последней каплей. У меня случился нервный срыв: когда мне велели собирать вещи, я попытался разрезать вены бритвой и отчаянно сопротивлялся, когда меня хотели засунуть в грузовик. В результате меня отправили не в Лангвассер, а в палату психиатрической больницы. В тот же день моя верная жена приехала ко мне, и ей удалось успокоить меня. Но мысль о том, чтобы провести ночь в сумасшедшем доме, показалась мне еще хуже, чем мысль оказаться в лагере, и очень скоро меня выпустили из-под наблюдения и отправили в Лангвассер.
Первые недели в лагере я провел в лазарете, и эти недели оказались отнюдь не такими страшными, как я боялся. Моя добрая жена преданно последовала за мной в Нюрнберг, где часто навещала, приносила еду, книги и цветы и во всем старалась помочь мне справиться с обуявшей меня фобией колючей проволоки.
Итак, мы подходим к моему следующему и последнему узилищу, лагерю для интернированных в Эйхштетте. Теперь мы уже считались не заключенными, а интернированными и вследствие этого пользовались многими привилегиями, правда, от тюремной атмосферы мы не избавились, так как здание, в котором нас держали, на самом деле было Эйхштеттской тюрьмой. И хотя двери наших камер постоянно оставались открытыми и мы могли собираться где хотели, окошки камер, расположенные под самым потолком, не пропускали ни единого солнечного лучика и не давали даже мельком увидеть внешний мир. А это, как мне казалось, было еще хуже, чем приводившая меня в ужас колючая проволока.
Во время пребывания в лагерях и тюрьмах я не переставал подавать апелляции. Первая инстанция подтвердила приговор; но по дальнейшей апелляции наказание смягчили до четырех лет в трудовом лагере, конфискации восьмидесяти процентов собственности и возвращения гражданских прав. К вердикту присовокупили особую поправку о том, что звания официального фотографа, профессора, члена городского совета, обладателя золотого партийного значка ни в коей мере не вменяются мне в вину при решении моего дела. Во время слушания по этой второй апелляции в мою защиту вызвали тридцать пять свидетелей и представили более сотни документов, в основном данные под присягой показания людей, подвергавшихся в Третьем рейхе преследованию по политическим или расовым основаниям, жизни которых я спас или которые были освобождены из концлагерей благодаря моему вмешательству.
Благодаря предусмотрительности моей дорогой жены, которая принесла мне крохотную наряженную елочку, Рождество 1949 года и Новый год я встретил почти с ощущением счастья, и 4 февраля 1950 года меня наконец-то выпустили, и я снова стал свободным человеком.
Долгое время после освобождения мне не нужно было ничего другого, кроме как сидеть на месте и всем существом наслаждаться тем единственным важнейшим фактом, что я снова на свободе. Страшный темп, в котором я прожил более двадцати лет, страхи и тревоги, лишения и бедствия, физические и моральные, арест, потрясение не только от конфискации всего, что я имел, но и от запрета на занятие любой деятельностью, которая даже в моем возрасте могла бы дать мне надежду начать с начала и зарабатывать себе на хлеб, – все это соединилось, чтобы нанести мне тяжелый урон. Но тут мне сослужила хорошую службу крепкая порода баварских крестьян, из которых я происходил. Долгое время я страдал от сильных головных болей и бессонницы, и мое сердце было уже не так здорово, как могло быть. Постепенно благодаря заботам моей жены ко мне стали возвращаться физические силы. Сейчас мне кажется, я настолько здоров и крепок, насколько можно ожидать от человека моих лет. Признаюсь, что в моральном смысле с меня достаточно; я не хочу новых переживаний, не нуждаюсь в новых побудительных мотивах и довольствуюсь тем, что сижу в мире и покое.
Хотя суд по второй апелляции постановил вернуть мне двадцать процентов собственности и имущества, власти пока еще раздумывают, сколько же это – двадцать процентов. Когда-нибудь – скоро, я надеюсь, – решение будет принято, и мне вернут эти проценты, чему бы они ни равнялись. Тем временем баварское правительство выплатило мне некоторую сумму авансом, и ее достаточно для удовлетворения наших скромных нужд, пока финансовый вопрос не будет окончательно утрясен.
В таких обстоятельствах неизбежно начинаешь философски задумываться о прошлом. В числе прочего меня глубоко потрясла истинность пословицы о том, что друзья познаются в беде. Только после освобождения я понемногу добился, чтобы моя жена рассказала мне обо всех жертвах и лишениях, которые она пережила из-за меня. Она продала скромную коллекцию ювелирных украшений, меха, одежду и все остальное, что представляло хоть какую-то ценность, в непрестанной борьбе за то, чтобы добыть деньги на бесконечные поездки, когда она навещала меня во всех лагерях и тюрьмах; деньги на несколько гостинцев и сигарет, которые она покупала часто по жестоко завышенным ценам черного рынка, чтобы немного меня поддержать; деньги на крышу над головой и хотя бы минимум вещей первой необходимости, чтобы как-то свести концы с концами. С другой стороны, у меня было множество «друзей», которые в прежние времена всегда с большой охотой пользовались нашей благосклонностью и имели все основания быть нам благодарными. Но в час нужды ни один сам не пришел на помощь, но, подобно евангельскому фарисею, переходил на другую сторону дороги. А моя жена, и я рад был об этом знать, не унизилась до обращения с просьбами к тем, кто не испытывал ни благодарности, ни угрызений совести.
Оглядываясь на прошлое, я вижу позади наполненную и увлекательную жизнь. Я неуклонно и уверенно поднимался вверх в своей профессии, когда моя страна находилась в зените своего величия; я пережил ее крах в первой войне, ее возрождение между двумя войнами и находился в штормовом центре событий, которые привели к ее окончательному крушению и распаду. В свое время я скопил большое состояние, жил беззаботно и приятно и потерял все, чем владел. Моя профессия дала мне возможность объездить всю Европу – я побывал в Англии, Франции, Нидерландах, в Италии, Греции и России, во всех уголках Германии и старой Австро-Венгерской империи. За тридцать с лишним лет на самолете, поезде и автомобиле я проехал и пролетел больше полутора миллионов километров. Многие знаменитые монархи, принцы и простые люди, мои современники, стояли перед моей камерой, и, если сосчитать все фотографии, сделанные мной и моими помощниками в филиалах, разбросанных по всей Европе, их должно получиться где-то около двух с половиной миллионов. Словом, я жил, и жил хорошо, и выжил лишь с небольшими потерями.
Есть многое, за что я могу быть благодарен судьбе. Прошло десять лет. Мой сын Генрих идет по стопам отца и добивается успеха как фоторепортер и издатель. Моя дочь, которая развелась со своим первым мужем Бальдуром фон Ширахом, теперь с радостью участвует в кинопроизводстве, а ее дети заканчивают учиться тем профессиям, которые они выбрали.
А я? Я не строю планов. Мне более чем достаточно просто сидеть в мире и покое рядом с моей женой в кругу друзей-художников, с бокалом хорошего вина, которое согревает наши сердца.
Я давно перестал заниматься фотографией, а последний из моих фотоаппаратов сразу же после войны выменяли у какого-то крестьянина на еду. Человек, рядом с которым я провел почти четверть века, по-прежнему живет в моей памяти. История, несколько фрагментов которой судьба позволила мне запечатлеть на фотопленках и фотопластинках, все дальше уходит в прошлое.
Но если будущие поколения захотят узнать о том времени больше, они могут извлечь старые фотографии, среди которых окажется несколько поистине исторических картин, призрачно зафиксированных осколков истории, запечатленных человеком по имени Генрих Гофман.
Примечания
1
Население Эльзаса, аннексированного Германией в 1871 году, было резко недовольно политикой насильственного онемечивания. (Примеч. пер.)
(обратно)2
На границе Италии и Австрии. (Примеч. пер.)
(обратно)3
Продолжение цитаты: «Однако мне жаль, что его не смягчил большой успех, сопутствующий ему». Раньше, высказывая эту мысль, Черчилль сделал такую оговорку: «Можно отрицательно относиться к гитлеровской системе и все-таки восхищаться его патриотическими достижениями. Если бы наша страна потерпела поражение, надеюсь, мы нашли бы защитника со столь же неукротимой энергией, который возродил бы наше мужество и вернул бы нам законное место среди народов» (журнал «Стрэнд», ноябрь 1935 года). Черчилль последовательно выступал против политики умиротворения Гитлера и одним из первых увидел в нацизме угрозу для всей Европы. (Примеч. пер.)
(обратно)4
«Сумерками богов» принято называть последние дни Гитлера и его ближайшего окружения в конце апреля 1945-го. Название заимствовано из финала оперы Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» – любимой оперы Гитлера, которая заканчивается сценой всеобщего краха. (Примеч. пер.)
(обратно)5
НСНБ – Национал-социалистическая народная благотворительность, БНП – Баварская народная партия, ГЮ – гитлерюгенд. (Примеч. пер.)
(обратно)6
Геббельс хромал на правую ногу, вывернутую стопой внутрь. (Примеч. пер.)
(обратно)7
«Гнездо на скале» (нем.).
(обратно)8
Тем не менее 23 августа, за два дня до освобождения оккупированного Парижа, Гитлер приказал взорвать все парижские мосты, даже если при этом могут быть уничтожены памятники искусства, а после сдачи Парижа – стереть его с лица земли тяжелой артиллерией и снарядами «Фау-1». К счастью, оба приказа не были выполнены. (Примеч. пер.)
(обратно)9
Мартин Нимёллер, пастор евангелической церкви, в 1937 году был арестован за выступления против нацизма, находился в лагерях Заксенхаузен и Дахау, освобожден в 1945 году. (Примеч. пер.)
(обратно)10
Неподкупный – прозвище Робеспьера. (Примеч. пер.)
(обратно)11
На свинце гадают так же, как на воске: вливают расправленный свинец в холодную воду и толкуют образовавшиеся фигуры. (Примеч. пер.)
(обратно)12
По старинному поверью, поцелуй под висящей веткой омелы считался приносящим вечную любовь и неизбежно вел к браку. (Примеч. пер.)
(обратно)13
В 1933 году было зарегистрировано национал-социалистическое общество «Народная благотворительность» в качестве организации партии. В ее компетенцию входили все вопросы благотворительности, резиденция находилась в Берлине. (Примеч. пер.)
(обратно)14
Hимрод – в Ветхом Завете богатырь и охотник. (Примеч. пер.)
(обратно)15
«Волчье логово», «Волк-оборотень», «Волчье ущелье» (нем.).
(обратно)


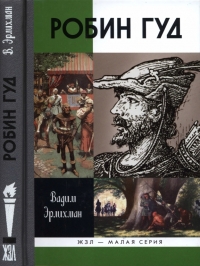
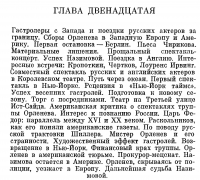
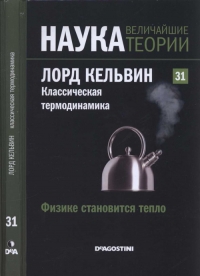

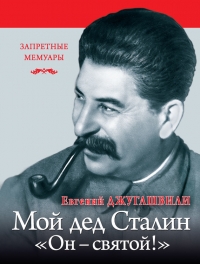
Комментарии к книге «Гитлер был моим другом», Автор неизвестен
Всего 0 комментариев