Анри Сансон «Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции» Книга 2
ТОМ IV
Глава I Ауто-да-фе
В 1788 году в последний раз состоялся приговор к казни колесованием, и вот при каких обстоятельствах.
В Версале, на улице де Монтрель, жил кузнец Матурин Лушар. Это был человек старого века, типичный представитель доброго старого времени, со всеми его предрассудками, со всеми его антипатиями, ненавистью к обществу и презрением ко всем прочим занятиям, кроме своего ремесла. Убежденный в превосходстве своего мастерства над всеми прочими, он бы не променял своей наковальни и кожаного фартука ни на судейскую мантию, ни на рясу аббата. Было что-то величественное в его осанке и жестах, когда он поворачивал на наковальне железо. С необыкновенною ловкостью подставлял он под молот то ту часть, которую нужно было выпрямить, то ту, которую следовало проковать, согнуть, или округлить. Он от души ненавидел все новые идеи. Все Монморанси, все Роганы этой эпохи далеко не питали такого презрения к равенству, какое было у него. Он называл все это химерами и говорил: что ему могут обрезать уши, а все-таки из осла никогда не сделают лошади. За исключением этих странностей, Матурин Лушар, или просто мастер Матурин, как его называли во всем околотке, был честным и добрым малым. Честность его доходила даже до педантизма. Крепко держался он однажды данного слова, был человеколюбив и услужлив. Его строгий и важный вид исчезал чаще всего тогда, когда он сидел с единственным сыном, которого ему оставила жена его. Матурину более чем кому-либо было знакомо самое возвышенное чувство — чувство родительской любви.
Мастер Матурин обожал своего сына, и эта привязанность была очень понятна. Сын его Луи как нельзя больше льстил главным слабостям добряка: его тщеславию и гордости.
Луи Лушар был хорош собою. В нем не было нежной, изысканной красоты щеголя, но лицо его отличалось строгой и резкой правильностью, и вместе с тем на нем заметны были благородные следы усердного труда. Тип подобной красоты можно встретить только в одном классе — в классе ремесленников.
Луи Лушар был высокий двадцатилетний молодой человек; он был немного худощав для своего роста, но по гибкости его стана, по длине его мускулистых рук, по ширине его кистей, как будто созданных для того, чтобы ворочать и ковать железо, по смелому положению его головы на широком и крепком туловище легко было догадаться, что гибкость и проворство у этого молодого человека обусловливалась необыкновенной силою. Голова его была сформирована необыкновенно хорошо. Более же всего бросались в глаза правильные черты его лица.
Все в нем гармонировало: орлиный нос, большие и полные огня глаза, красивый рот, лоб, драпированный черными, курчавыми волосами с синим оттенком, похожим на металлический блеск.
В то же самое время доброе и скромное выражение лица смягчало резкость и проницательность взгляда. Видно было, что в этом молодом человеке кротость и уступчивость уживаются с силой и энергией; кроткая улыбка, постоянно оживлявшая его лицо, ясно говорила, что его душевные качества вполне соответствуют его внешности.
Если бы кто-нибудь спросил у мастера Матурина, чем он больше гордится: тем, что произвел на свет такого сына, или тем, что не имеет себе соперника в искусстве подковать лошадь, тот поставил бы бедняка в очень затруднительное положение. Главный недостаток, который находили в Матурине, заключался именно в том энтузиазме, с которым он смотрел на лучшее свое произведение — на своего сына.
Однажды молодой Луи во время работы с отцом держал за копыто лошадь, оказавшуюся очень беспокойной. Когда мастер Матурин явился с подковой, которую держал своими клещами, и положил ее на конское копыто, то шипение горящего рога, клубы дыма, разносимые ветром, все это испугало животное, которое, оборвав узду, опрокинуло Луи. Работники поспешили было на помощь, но Луи дал им понять жестом, что может обойтись без их помощи. Он схватил ногу животного, положил ее к себе на колено и, упершись ногами и наклонившись назад, удержал лошадь и сделал бесполезными все бешеные усилия, которые делала она, чтобы вырваться у него из рук. Наконец животное, изнуренное страшной борьбой, в которой, несмотря на страшный перевес силы, выгоды были не на его стороне, склонило голову и как бы признало разумное превосходство своего победителя. В эту минуту взор мастера Матурина остановился на сыне. Лицо молодого человека, еще неуспокоившееся после выдержанной борьбы, разгорелось; на лбу выступило несколько капель пота; в глазах и в чертах лица легко можно было прочесть чувство благородной гордости, внушаемой человеку его могуществом. В это время добряку Матурину казалось, что сын его очень похож на тех древних атлетов, мраморные статуи которых он видел в дворцовом саду.
Луи Лушар, который, как мы видели, исполнял скромные обязанности кузнечного подмастерья, получил очень хорошее образование, вовсе не соответствовавшее его званию.
Мастер Матурин был богат; ему казалось, что не воспользоваться своим состоянием для образования сына значило бы не исполнить своих обязанностей.
Поэтому он отдал его для воспитания в коллегию в Плесси, куда обыкновенно поступали дети зажиточных граждан.
В то же самое время, вследствие своих оригинальных убеждений относительно социальной иерархии и пристрастия к своей профессии, Матурин считал решительно невозможным, чтобы молодой человек мог избрать себе какую-нибудь другую дорогу, кроме той, по которой шли его отцы и деды.
— С тех пор как существует свет, — говорил он, — все Лушары были кузнецами; когда кто-нибудь из них станет торговать сукном или сделается нотариусом, это будет верным признаком того, что близок день страшного суда.
Трудно было молодому воспитаннику коллегии в Плесси покинуть свои спокойные занятия, своих школьных товарищей, свои мечты о веселой и беззаботной жизни и надеть куртку из грубого старого сукна и кожаный фартук, начать ворочать и ковать раскаленное железо, дышать испарениями кузницы и жить в той среде, где тяжелый труд и грубое веселье так плохо мирились с привычками, усвоенными Луи Лушаром. С другой стороны, молодой человек с детства привык к слепому повиновению воле отца; к тому же радость, которую получал мастер Матурин, видя, что воспитал для себя такого умного преемника, была так чистосердечна; в энтузиазме, с которым он проповедовал о высоком значении своего ремесла, было столько искренности, что из боязни опечалить старого отца Жан-Луи не обнаружил ни малейшего отвращения к новым своим занятиям.
По целым дням ковал он железо, отделывал подковы, подстригал и подпиливал лошадям копыта, а по вечерам скромно садился рядом с прочими работниками за ужин, на котором патриархально председательствовал его отец. При этом Луи постоянно казался равнодушным и не высказывал своей грусти.
Хотя мастер Матурин и уверял, что наука вовсе не вредна, а напротив очень полезна кузнечному мастеру, несмотря на то, любознательность Жана-Луи и его страсть к чтению мало-помалу расстроили дружелюбные отношения между отцом и сыном.
Пока сын, уступая весьма естественному в его годах желанию высказаться, толковал только о впечатлении, производимом на него греческими и латинскими классиками, все шло хорошо.
Старику Матурину даже нравилось многое. К несчастью для молодого человека, любознательность его не имела пределов. Ознакомившись с литературою древних, Жан-Луи захотел познакомиться и с новейшими писателями. Больше всего интересовался он теми писателями, которые приводили в восторг одних и в то же время заслуживали порицание других. В числе этих писателей были Вольтер, Руссо, Монтескье и Дидро.
Еще к большему несчастью молодой человек не сообразил того, что занятия философией должны поставить его в явное противоречие с теми началами, которые старый отец его отстаивал чуть ли не упорнее всех корифеев литературы XVIII века. С юношеским энтузиазмом начал Луи знакомить своего отца с парадоксами энциклопедистов. Но с первого шага довольная физиономия, с которой его обыкновенно слушал мастер Матурин, вдруг изменилась.
Неосторожная фраза, вырвавшаяся у Жана-Луи, произвела на старого кузнеца потрясающее действие; как будто прозвучала труба архангела в час страшного суда. Он слышит фразу, но не верит, что она имеет какой-нибудь смысл; по крайней мере, по его понятию в ней если и есть, то какой-то бестолковый, нелепый и ужасный смысл. Сначала кузнецу показалось даже, что сын говорит с ним на каком-то незнакомом ему языке. Матурин попросил сына повторить сказанное, и, убедившись, что ему говорят чистым французским языком, нахмурил брови, произнес страшное проклятие и так сильно стукнул кулаком по столу, что задрожали все стоявшие на нем горшки и чашки. Затем он велел сыну замолчать таким строгим и разгневанным тоном, каким он никогда не говорил с ним. Видно было, что он с трудом сдерживает негодование, закипевшее в его сердце, но которого ему не хотелось высказать в присутствии своих работников.
Жан-Луи имел неосторожность возразить, что приказание молчать еще не ответ. При этом сдержанный до сих пор гнев мастера Матурина разразился с полной силой. Старик уже не говорил, а кричал на сына; в одну минуту исчезла вся его нежность, вся снисходительность к молодости, забылась даже обычная покорность сына. Раздраженный отец обвинил его в том, что он думает, как негодяи и вольнодумцы, у которых нет ни средств, ни умения заниматься своим делом. Эти люди, продолжал он, желают разрушить общество, подорвав веру к тем началам, которые служат ему основанием и опорою. Он объявил сыну, что подобные чувства бесчестят то имя, которое он носит, и если он еще раз осмелится высказать в его присутствии подобное мнение, то он сам подаст королю спасительный пример строгости, с которой следует наказывать врагов самодержавия, и собственноручно размозжит недостойному сыну череп своим молотом.
Пораженный таким неожиданным взрывом, Жан-Луи потупил голову и умолк, чтобы дать стихнуть буре.
Молодой человек был горд не менее своего отца. Но гордость мастера Матурина походила на пустое тщеславие, у сына же, вследствие воспитания, она развилась в благородное чувство собственного достоинства. Много пришлось перестрадать ему, чтобы перенести эту сцену и забыть нанесенное ему оскорбление. Однако любовь его к отцу была так сильна, что эта ссора не могла совершенно оттолкнуть Луи от отца. Он был более опечален, чем раздражен, и стал менее думать об ударе, нанесенном его самолюбию, и только удивлялся резкому переходу отца от нежности к самым грубым выходкам. Стоило мастеру Матурину сказать одно нежное слово, чтобы мир и согласие снова возвратились в дом его.
Но старому кузнецу не суждено было произнести это слово. Выходка против начал, казавшихся ему священными и указанными самим Богом, была, по его мнению, святотатством. Она совершенно его оттолкнула от сына, и при этом он забыл все достоинства своего Жана-Луи; вряд ли бы даже простил ему, если бы сын, раскаявшись, униженно сознался в своих заблуждениях и в нелепости своих мечтаний.
Эти отношения отца к сыну имели свое влияние и на Жана-Луи. В душе его заговорило все то, что до сих пор гнездилось в нем только в виде смутных желаний.
При первом сопротивлении идеям, проникнувшим в душу Луи, им стала овладевать та революционная лихорадка, которая в то время была болезнью века.
Нет сомнения, что из уважения к своему отцу молодой человек сумел бы скрывать свои убеждения и упорно хранить молчание, но после первой выходки сына кузнец стал необыкновенно подозрительным. Каждое движение, каждая улыбка, даже само молчание сына он считал сопротивлением себе.
Покорность сына уже не могла его обезоружить. Он видел в нем скорее противника, чем друга и сына, и находил удовольствие в спорах, сопровождавшихся грубыми и оскорбительными выходками. Борьба началась, и старик уже не щадил врага, который, не признавая себя побежденным, преклонялся перед ним и обнимал его колени.
Дело доходило даже до того, что когда все эти выходки не действовали на Жана-Луи, то отец начинал угрожать ему прибегнуть к таким крайностям, одна мысль о которых должна была заставить его покраснеть, если бы он был в своем уме.
Мало-помалу жилище Матурина Лушара действительно стало казаться похожим на ад, особенно когда яркий огонь из горна бросал свои фантастические отливы на черные стены кузницы и освещал мрачную фигуру грозного старика.
В это время одно неожиданное обстоятельство усилило гнев мастера Матурина на Жана-Луи и еще более расстроило и без того неприязненные отношения между отцом и сыном.
Французское правительство, стесняемое постоянно возрастающим дефицитом, пополнить который можно было только новыми налогами, решилось созвать первое собрание нотаблей.
Нотабли толковали очень много, но никто из них не захотел принять мер, которые могли бы спасти монархию от падения. Нотабли разошлись, оставив короля Людовика XVI еще в большем затруднении. Кроме дефицита и истощенных финансов, у него была сильная оппозиция в Парламенте по случаю требования новых налогов.
Вынужденный жалким состоянием финансов в государстве, король сделал важные реформы при дворе.
Он уменьшил наполовину расходы на гардероб и содержание двора. Большая и малая конюшни были соединены в одну. Жандармы, легкая кавалерия и дворцовая стража были распущены и собственная Его величества кавалерия ограничена одним отрядом телохранителей.
Эти преобразования возмутили всех тех, чьи интересы они задели и в то же время не удовлетворили народа, который роптал и требовал коренных реформ.
Мастер Матурин был очень недоволен королевским распоряжением, потому что с уменьшением конюшен и кавалерии уменьшился его доход. Почти никто из пострадавших от этих перемен не высказывал такого неудовольствия, как старый кузнец.
Трудно решить, побуждали ли его к этому заботы о своих выгодах или он просто уступал своему чувству ненависти к нововведениям. Как бы там ни было, но он встретил известие об этой новости со страшным отчаянием и ожесточением.
По его мнению, величие государства измерялось количеством лошадей, которое оно содержало. По его мнению, кавалерия должна быть атрибутом монархии, которым государь должен дорожить более всего на свете. Он думал, что королю скорее следовало бы рискнуть своей властью, чем отказаться хоть от одного верхового коня. Он говорил, что ждет только времени, когда будет возможность собственноручно проучить бунтовщиков, и в то же время проклинал все новые идеи и посылал к черту всех тех, кто их разделяет.
В этом числе в первом ряду, без сомнения, стоял сын его. Проклиная нарушителей общественного порядка, он постоянно видел одного из них в лице своего сына. С тех пор как революционные идеи заразили его родного сына, ему стало казаться, что ненавистная революция олицетворилась в личности Жана-Луи, когда-то пользовавшегося такой нежной любовью старика. С наивной подозрительностью он сваливал на сына всю вину совершавшихся событий и обвинял его в том необузданном стремлении к свободе, которое овладело в это время всеми сословиями. Его ослепление дошло до того, что чуть-чуть не обвинил своего сына в том, что это Жан-Луи, а не Лафейет, произнес в первый раз неслыханное доселе слово — «национальное собрание»; что сын его в ответ графу д’Артуа, удивлявшемуся, что член от дворянства требует созыва генеральных штатов, сказал известную фразу: «Да, милостивый государь, и даже больше этого!» Часто кузнец, усевшись на свою наковальню и опустив голову на грудь, бросал злобные взоры на сына и тихим голосом бормотал свои ожесточенные речи.
Это положение жестоко огорчало Жана-Луи. Он не боялся за самого себя, но он видел, что старик, отец становился все угрюмее, и с каждым днем он замечал новую морщину на его лице; он замечал, что глаза старика вваливались все более и более, и блистали каким-то лихорадочным огнем. Он понимал, что грусть его, несмотря на свою неосновательность, принимает характер очень серьезной болезни, которая могла повлечь за собой сухотку, и должна была иметь страшные последствия для его здоровья. Не раз горько упрекал он себя в том, что если он и не был причиной, то, по крайней мере, послужил поводом к раздорам, заставлявшим его опасаться за жизнь отца. Жан-Луи решился употребить все усилия, чтобы вымолить себе прощение.
Однажды в воскресенье кузница была заперта, и в печи огня не было. Из окна своей комнаты Жан-Луи увидел отца, возвращавшегося вместе со служанкой с обедни. Жана-Луи страшно поразила перемена в чертах лица старика, и он решился тотчас же исполнить свое тайное намерение. Поэтому молодой человек поспешно сошел вниз по лестнице с твердым намерением приступить к объяснению, которое должно было возвратить мир и согласие в дом его отца. К сожалению, Жан-Луи выбрал самое неблагоприятное время для этого.
Мастер Матурин служил при королевских конюшнях и каждый год носил к главному конюшему книгу, в которой записывал свои счета с придворным ведомством. Конюший проверял эти счета и скреплял их подписью, после чего немедленно следовала уплата денег дворцовым казначеем.
Накануне старик Матурин, по обыкновению, был у г. конюшего. Конюший просмотрел счет и, как казалось, нашел его совершенно в порядке; несмотря на то казначей отказался выдать деньги, следовавшие ремесленнику, и сказал ему с грустной улыбкой.
— В этом году я буду иметь удовольствие видеть вас, г. Лушар, два раза вместо одного; заимодавцы так завалили своими требованиями королевское казначейство, так рвут по клочкам все имеющиеся на счету деньги, что я не могу даже располагать той безделицей, которую следует выдать вам.
При этих словах лицо мастера Матурина нахмурилось, и он сделал гримасу, в значении которой казначею трудно было ошибиться.
— Милостивый государь, — сказал наконец он, — убедились ли вы, что итог этого счета верен?
— Что и говорить! Мы уже давно знаем вас, г. Лушар, и нам хорошо известно, что вы отличаетесь примерной честностью.
— Этого только мне и нужно было, милостивый государь, — возразил кузнец, и в то же время вырвал из своей книги листы счета, заключавшие его требование, скомкал их в своих руках и бросил в огонь.
— Черт возьми, что вы делаете? — воскликнул казначей.
— Милостивый государь, — возразил хладнокровно кузнец, — я не принадлежу к числу воронов, которые рады броситься на руку, кормившую их, когда эта рука опустела. Король должен мне пять тысяч восемьсот тридцать два ливра и шесть су, вот и все. Его королевское величество заплатит мне их, когда ему будет угодно. И если когда-нибудь в моей жизни я жалел, что я не больше как кузнец Матурин Лушар, то это сегодня, милостивый государь. Будь я кто-нибудь познатнее, я бы сказал королю: Ваше величество, вот двести двадцать тысяч ливров, большая часть которых приобретена на службе, вам; примите их и будьте уверены, что ваш слуга будет гордиться честью иметь своим должником короля Франции.
Не обращая внимания на льстивые фразы казначея, мастер Матурин удалился с грустью на сердце при виде нищеты короля.
В церкви, из которой он выходил в ту минуту, когда к нему подошел Жан-Луи, представился новый повод вспомнить вчерашнюю сцену.
Несмотря на торжественное богослужение по случаю Дня крещения, церковь была почти пуста. В церковь явились только одни старики, женщины и дети. Большинство отшатнулось не от одного только земного владыки; увлеченное поклонением новым идеям, оно забыло и Господа Бога.
Мастер Матурин возвратился домой с грустью на сердце, проклиная вольнодумцев и отступников. Присутствие сына только растравило раны и усилило ожесточение старого кузнеца.
При первых словах молодого человека, когда он стал высказывать свое пламенное желание, чтоб отец возвратил ему прежнее расположение, когда он стал изъявлять раскаяние и с отчаянием говорить о своем раздоре с отцом, мастер Матурин подумал, что Господь сотворил чудо и, вняв его мольбам, возвращает ему блудного сына; старик уже готов был протянуть руки, чтобы прижать сына к груди своей.
Но он имел слишком высокое мнение о своей отцовской власти и придавал чересчур большое значение проступку своего сына. Старик Матурин, прежде чем даровать прощение сыну, потребовал, чтоб он отказался от того, что на языке старика называлось гордыней и наущением сатаны, то есть от философских идей и принципов свободы и равенства.
Жан-Луи твердо решился на все, чтобы снова приобрести любовь своего отца; но ему не приходило даже в голову, что отец мог потребовать от него притворства, которое, как нельзя более, противоречило его прямодушию, и потому не знал, на что решиться. Поэтому, не отвечая прямо на вопрос старика-отца, он как можно осторожнее заметил, что ему прискорбно, что отец его приписывает такое преувеличенное значение несходству в образе мыслей. Вслед за тем Жан-Луи прибавил, что это нисколько не препятствует им уважать и любить друг друга.
Старик не дал ему договорить. Он возразил сурово своему сыну, что Легкомыслие, с которым он говорит обо всем, что заслуживает на земле уважения, обнаруживает его образ мыслей; что отцу даже приятнее бы было видеть своего сына мертвым, чем изменником и клятвопреступником. Напрасно старался Жан-Луи успокоить старика, мастер Матурин не слушал его более. Он объявил своему сыну, что не хочет жить под одной кровлей с ренегатом, и приказал ему в ту же минуту оставить дом его. Жан-Луи пытался было склонить и умилостивить отца, напомнив ему о покойной матери; но и в этих мольбах Матурин подозревал злой умысел. Наконец старик схватил свой молот, грозно взмахнул им около своей головы и поклялся, что размозжит череп сыну, если он в ту же минуту не оставит его дом.
Поступки отца Жан-Луи дали полную свободу действий; он имел слишком сильное отвращение к тому ремеслу, в которое был посвящен волей мастера Матурина, и потому вовсе не был расположен заниматься им; он искал должности, которая бы более согласовалась с его наклонностями и полученным им образованием.
Он был знаком с несколькими клерками и приказчиками, образ жизни которых резко отличался от грубого разгула прежних его товарищей по ремеслу. Эти молодые люди вызвались помочь ему; один из них, приказчик г. Лекуантра, придворного поставщика полотен, передал своему хозяину те невзгоды, которым подвергался Жан-Луи Лушар за свои демократические убеждения в доме аристократа с кожаным передником. Г. Лекуантр хотел видеть молодого человека, и был поражен его внешним видом и искренностью, с которой он рассказывал о своем несчастьи, и согласился принять его к себе в дом с жалованьем в восемьсот ливров в год.
Г. Лекуантр, несмотря на то, что был придворным поставщиком, считался приверженцем новых идей. Отречение от отцовского ремесла, покровительство человека, считавшегося революционером, — все это никак не могло смягчить гнева мастера Матурина. В его глазах эти поступки были новым оскорблением, довершавшим тот удар, который, по его мнению, был нанесен ему. Словом, после этого шага отец и сын были разлучены навеки.
С этого времени старик стал стараться не произносить больше имени своего сына и, если ему приходилось осведомляться о его положении, то он принимал вид, что разорвал всякую связь с ним и отказался от всех отцовских обязанностей. В скором времени он объявил своим соседям, что женится вторично, и выбор, сделанный им, послужил новым доказательством его ненависти к сыну.
Глава II Ауто-да-фе (продолжение)
Около пяти лет тому назад одна из двоюродных сестер мастера Матурина поселилась в его доме.
Эта двоюродная сестра была Елизавета Вердье; муж ее был конюхом при главной конюшне, а она заведовала бельем при дворе. Муж ее умер, и слабость зрения заставила вдову отказаться от своей скромной должности. Тетки короля, тронутые тем, что им рассказали о положении этой женщины, назначили ей пенсию в двести ливров; но у Елизаветы Вердье была дочь, и эта помощь была слишком недостаточной для существования ее с дочерью.
У мастера Матурина были свои недостатки, но были также и свои достоинства; если он и делал иногда зло своею приверженностью к старине, то равным образом считал священными семейные обязанности и не щадил для них никаких сил. Лишь только вдова его двоюродного брата Николая Вердье открыла ему свое стесненное положение, он решился помочь ей и предложил маленькую комнату на верхнем этаже своего дома.
Это случилось в то время, когда Жан-Луи оканчивал курс своего учения. Я уже рассказал, как тягостен показался ему переход из скромного и образованного общества, в котором он был воспитан, к грубому разгулу, найденному им в отцовской кузнице. Его наклонности и воспоминания о прошлом сделали его почти одиноким в отцовском доме; потому он считал за счастье, что мог сблизиться с двумя существами — матерью и дочерью, беспомощность и несчастье которых возбуждали его сострадание. Он проводил в их обществе большую часть своих вечеров.
Елене, так звали маленькую дочь Екатерины Вердье, было тогда около девяти лет; это был ребенок, правильные и нежные черты лица которого уже предсказывали ее будущую красоту. Она отличалась простотой, скромностью и умом. Жан-Луи тотчас же сблизился и подружился с ней. Впрочем, в этой дружбе было многое, очень льстившее самолюбию молодого человека. Он, как большая часть молодых людей, только что сошедших со школьной скамьи, гордился своими познаниями и ему казалось весьма приятным с кем-нибудь поделиться ими. Поэтому он взялся за воспитание Елены и начал учить ее читать и писать.
Он не замечал и не подозревал того, что вместе с обязанностями педагога появилось расположение к ребенку, которое постепенно росло и изменялось в форме выражения. Долгое время Жан-Луи объяснял свое чувство весьма естественной привязанностью к прилежной и послушной ученице, понятливость и успехи которой делали честь учителю; он и не думал препятствовать развитию этого чувства, которое казалось ему совершенно безопасным. Только тогда, когда изгнание из отцовского дома насильно разлучило его с Еленой, он понял, что это не так. Горько и тяжело стало у него на сердце, которое, как видно, не поддавалось наивной иллюзии молодого педагога; он стал догадываться, что привязанность его к молодой девушке вовсе не расположение учителя к ученице.
К немалому его удивлению он убедился, что легче перенести и несправедливую ненависть к нему отца, и последствия, которые она должна была иметь для него, чем примириться с мыслью о разлуке с молодой ученицей.
Молодой человек решился во что бы то ни стало повидаться с нею. Он поджидал ее в продолжение двух дней на углу переулка, мимо которого она обыкновенно проходила по дороге на рынок; но молодая девушка не показывалась. Он начал сильно беспокоиться и осведомился об Елене у служанки, которая объявила ему, что Елена уже некоторое время не отходит от матери и что, по приказанию мастера Матурина, служанка сама делает все необходимые покупки.
Потерпев на первый раз неудачу, Жан-Луи переменил способ действия. Выждав минуту, когда работа отозвала отца из дому, и, закрыв лицо шляпой, он быстро пробрался по аллее сада, вошел в дом и поднялся на второй этаж.
Он постучался. Долго никто не отвечал ему; наконец послышался глухой шум отворяемых дверей, на пороге появилась г-жа Вердье и ввела его в комнату.
Елены не было; обращение вдовы с молодым человеком было холодно и сухо; она едва пригласила Жана-Луи сесть.
Наконец Жану-Луи удалось подавить свое смущение, но он все еще не мог вполне оправиться и освободиться от того волнения, с которым вошел в дом. Поэтому первыми словами его была просьба повидаться с Еленой.
Г-жа Вердье ответила ему, что дочь ее занята и что ее нельзя беспокоить.
Жан-Луи вздохнул; он при своем прямодушии даже не заметил перемены в обращении с ним его двоюродной тети. Поэтому в ответ на слова г-жи Вердье он, покраснев, заметил, что, быть может, это даже к лучшему, потому что он может свободно объясниться с самой г-жей Вердье.
Затем, без предисловий, он рассказал г-же Вердье, каким образом он узнал про любовь свою к молодой кузине, изобразил с обыкновенным своим энтузиазмом всю силу этой привязанности и закончил просьбой выдать Елену за него замуж.
При этих словах госпожа Вердье хмурилась все более и более. Когда он закончил, она ему напрямик ответила, что теперь, когда он заслужил справедливый гнев своего отца и испортил все свое будущее, не время думать о подобных вещах.
Жан-Луи был поражен этими словами. Он до сих пор был вполне уверен, что предложение его будет принято вдовой, которая, хотя и была его родственницей, но никак не могла надеяться на такую блистательную партию для своей дочери.
Напрасно он унижался перед этой женщиной и умолял ее не приводить его в отчаяние. До сих пор мать Елены была только несговорчива и холодна с ним, но при первом признаке слабости, при первой уступке молодого человека она стала грубой и заносчивой. Гордо приказала она ему оставить ее и стала угрожать гневом отца, если он осмелится еще раз показаться в ее комнате.
Несколько дней спустя после этой сцены служанка сообщила Жану-Луи, что вдова Вердье взяла такую власть в доме, что все удивляются, и что даже она сама начинает беспокоиться. В скором времени причины этого влияния уже не были ни для кого тайной, и до Жана-Луи дошел слух, что отец его женится на дочери бедной, облагодетельствованной им вдовы.
Этот слух, как громом, поразил молодого человека. Кровь застыла в жилах его; безмолвно и неподвижно стоял он на одном месте. Можно было подумать, что он лишился рассудка, и горе его не нашло средств вылиться наружу. Наконец грудь его заволновалась, вырвался какой-то хриплый звук, похожий на стон и на вздох вместе. Вслед за тем из глаз брызнули слезы, и Жан-Луи зарыдал.
Жан-Луи, шатаясь, удалился в коморку, которую занимал в доме г. Лекуантра; он бросился на кровать и провел всю ночь в горе и отчаянии.
На другой день, когда молодой человек вошел в магазин, его расстройство и перемена в лице поразили его хозяина, который спросил его, не случилось ли с ним чего-нибудь особенного. Сначала Жан-Луи мог отвечать ему только слезами; но когда г. Лекуантр, выйдя из терпения, пожурил его за слабость, то молодому человеку удалось подавить свое горе настолько, чтобы быть в состоянии передать хозяину то, о чем мы только что сообщили.
Он с сочувствием выслушал рассказ своего приказчика, и на глазах его показались слезы. Сначала он стал было утешать его и при этом не упустил случая заявить свое негодование против всякого рода тиранства и строго осуждал безрассудное упрямство старого ремесленника-аристократа. В заключение Лекуантр объявил, что с завтрашнего дня он доставит молодому человеку средство избавиться от этой любви и пошлет его на несколько месяцев во Фландрию для необходимых покупок.
Если сказать правду, то Жану-Луи показалось это средство против его болезни хуже самой болезни, и перспектива внезапного отъезда так ужаснула его, что он позабыл даже поблагодарить своего хозяина за участие, которое он принимал в нем. Неблагодарность и недобросовестность легко уживаются с любовью.
К несчастью, Лекуантр как большая часть настоящих демократов, был очень решителен во всем, что казалось его семейных дел; если он сказал что-нибудь, то дело было кончено, и стараться изменить его решение значило то же, что просить немедленного увольнения. Жан-Луи понял это и, преодолев свое горе, начал готовиться к отъезду.
В девять часов вечера он вышел от г. Лекуантра, который только что отдал ему свои последние приказания. Жану-Луи не сиделось дома.
Около десяти часов один из работников его отца, Перле, возвращаясь домой, заметил Жана-Луи, спрятавшегося под навесом фруктовой лавочки, которая находилась напротив дома старого кузнеца. Перле подошел и заговорил с ним. По словам его, Жан-Луи казался смущенным и беспокойным, как человек, которому помешали во время любовного свидания. Перле не хотел быть нескромным и тотчас же оставил сына своего хозяина.
Между тем Жан-Луи никого не поджидал. Не имея возможности проститься с Еленой, он хотел насладиться единственным доступным ему удовольствием — еще раз взглянуть на почерневшие и перетрескавшиеся стены дома, в котором умерла его мать, в котором он провел свое детство и познакомился с чувством любви, где будет жить та, которую так горячо любил он.
Жан-Луи простоял около дома до полуночи. В четыре часа утра ему нужно было отправиться в путь, и потому он почувствовал, что пора возвращаться домой.
В ту минуту, когда молодой человек поворачивал на улицу Оранжери, он увидел в тени женщину, которая стояла, опершись о высокий столб, поставленный на углу этой улицы. При приближении его, эта женщина приподнялась, с секунду стояла как бы в нерешительности и затем бросилась к нему навстречу, громко призывая его к себе.
Жан-Луи узнал Елену. Будучи не в силах совладать с собой, он заключил ее в свои объятья и прижал к сердцу; но почти в ту же минуту мелькнула у него мысль, что выбор отца сделал неприкосновенной для него эту девушку; он оттолкнул ее и спросил, по какому случаю она не дома в такой поздний час.
Елена дрожала и бормотала несвязные слова; ей хотелось сказать что-то, но голос ее замер; она ответила одними рыданиями и закрыла лицо руками. Только после настоятельных просьб Жана-Луи Елена решилась рассказать ему, каким образом она, слышав из-за двери разговор его с матерью, поняла, что этот союз был бы величайшим счастьем, какого она только может ожидать на земле; как потом, после ухода его, она вышла из своей комнаты, бросилась к ногам матери и старалась убедить ее согласиться; но мать отвечала, что нечего и задумываться в выборе между бедняком сыном и богатым отцом, которому так хочется жениться на ней.
Совершенно несостоятельными оказываются все обвинения Жана-Луи в том, что отношения его с Еленой были не совсем безукоризненны, и что встреча их была вовсе не случайная, а заранее условленная, и что это было уже не первое свидание у них. Показание это совершенно противоречит актам, составленным при допросе Жана-Луи Лушара, которым я обязан подробностями этой встречи. Все эти показания молодого человека были вполне подтверждены объяснениями, данными Еленой. Из документов, сохранившихся после этого дела, не видно, каким образом мастеру Матурину пришло в голову стать соперником своего собственного сына; необходимо пополнить этот пробел. Это сватовство было делом г-жи Вердье.
Она ясно понимала все выгоды, которые можно было извлечь из разрыва отца с сыном. Вероятно, она умела подзадорить Матурина и имела сильное влияние на твердую решимость его расстаться с сыном. Г-жа Вердье сначала думала только о том, как бы улучшить свое положение и играть в семействе ту роль, которая принадлежала Жану-Луи. С этой целью эта хитрая женщина понемногу стала овладевать доверием добряка Матурина, льстила самолюбию и образу мыслей его. Но когда Матурин сообщил ей, что не видит другого средства наказать неблагодарного сына, как вступить во второй брак, чтобы иметь новых наследников, то из страха лишиться всех выгод своего предприятия она сначала сама думала выйти замуж за старого кузнеца. Но потом, зрело обдумав все обстоятельства дела, она решилась завладеть этим седовласым искателем невест для своей дочери. Она была очень хитра и легко довела престарелого кузнеца до того, что он сам изъявил желание вступить в этот странный и неравный брак.
Что касается страданий и отчаяния Елены, то об этом меньше всего заботилась чадолюбивая г-жа Вердье.
Глава III Ауто-да-фе (продолжение)
Я уже сказал как-то, что недобросовестность легко уживается с любовью; я должен прибавить, что экзальтированные люди под влиянием этого чувства в одно и то же время почти одинаково способны и к величайшей слабости, и к необыкновенному героизму. Не беру на себя труда объяснять причины этого странного явления и возвращаюсь к продолжению моего рассказа.
Несколько часов тому назад Жан-Луи Лушар трепетал при одной мысли о разлуке с Еленой. Что же было ему делать теперь, когда она находилась возле него и с трепетом устремила на него свои глаза, в которых видна была и нежность и мольба? Что же ему делать теперь, когда она призналась ему, что разделяет его чувства к ней, когда она сама предлагает ему бежать и сама отдается ему в руки? Трудно было ему решиться… Наконец чувство долга взяло верх: он решился пожертвовать собой, и у него хватило сил отказаться от этого неожиданного счастья. Впоследствии молодой человек высказал все это перед лицом правосудия и, по моему мнению, сам ход дела служит доказательством правдивости его слов. Вероятно, в эту минуту у него была только одна мысль: объяснить своей подруге всю важность обязанностей, вытекавших для них обоих из такого двусмысленного положения, убедить ее быть подобно ему покорной своей судьбе и, главное, поскорее проводить ее обратно к матери.
Елена показала себя вполне достойной Жана-Луи и сумела оценить этот возвышенный образ мыслей. Около первого часа утра они оба направились к дому Матурина.
Жан-Луи проводил ее до дверей прохода, но ни у него, ни у нее не доставало сил, чтобы прошептать последнее «прости». Они молча глядели в глаза друг другу и крепко пожимали руки. Наконец дверь тихо повернулась на своих петлях; молодой человек судорожно сжал руку Елены и поспешно удалился; он чувствовал, что мужество и силы оставляют его.
Он думал перейти через улицу и стать под навесом фруктовой лавки, чтобы проследить за Еленой и убедиться, что ей не угрожает никакая опасность.
Но не успел он пройти десяти шагов, как раздался пронзительный крик, и Жан-Луи узнал голос молодой девушки, которая звала на помощь.
Жан-Луи бросился вне себя в дом. Мрачный проход, в котором исчезла Елена, был освещен слабым светом, выходившим из комнаты мастера Матурина, дверь в которую была отворена настежь.
На пороге рисовался силуэт старика, который стоял, скрестив на груди руки и потупив голову.
Но Жан-Луи не заметил своего отца; он видел одну только Елену, лежавшую без чувств на каменных плитах пола, и около нее ее мать, которая, как фурия, вцепилась в волосы и била голову дочери о каменные плиты.
Жан-Луи кинулся, чтобы вырвать Елену из рук этой мегеры; но старый Лушар сделал шаг вперед, загородил ему дорогу и остановился перед ним безмолвно и неподвижно.
— Батюшка, — вскричал Жан-Луи, пораженный этим явлением, — Елена ни в чем не виновата. Памятью моей матери, клянусь вам в том! Неужели вы потерпите, чтобы ее убили на глазах ваших?
— Кто сильно любит, тот умеет и строго наказывать, Жан-Луи! Мне также хочется проучить тебя в свою очередь, хотя я и не люблю тебя более.
— Батюшка! Именем Бога умоляю вас, успокойтесь!
— Бога? Ты призываешь имя Бога и не веришь в него; точно так же ты только что призывал имя своей матери, память которой уже два года оскорбляешь своим поведением.
— Не говорите этого, батюшка! Елена невинна, еще раз клянусь в том вам! Позвольте мне, я все расскажу вам.
— Невинна? — вскрикнула визгливым голосом г-жа Вердье, — да, она была бы невинной, когда бы ты, бездельник, не погубил ее.
Старик Лушар повторил мрачным голосом:
— Бездельник!
Жана-Луи задели за живое оскорбления и упреки, которых, как ему казалось, он нисколько не заслуживал; он гордо поднял голову, и его глаза смело встретили злобный взгляд отца.
— Да, бездельник! — сказал в третий раз Матурин, заметивший негодование, которое проявлялось при этом эпитете в его сыне.
— Бездельник! Этим именем мы, честные люди, имеем право называть предателей, — отвечал Жан-Луи. — Кого же я предал, батюшка?
— Меня, меня! Ты отказался от того, кто должен был быть твоей верой, твоим Богом, если даже ты перестал верить во все.
— Ах! — продолжал он, как бы разговаривая с самим собой. — Он отказался от меня, а как был я счастлив в тот день, когда младенцем принял его на свои руки. С какой радостью и гордостью в сердце воспитывал я его! Я любил его, как любят свое единственное сокровище! Я говорил самому себе: скоро и я стану для сына единственным сокровищем. Ах я старый дурак, старый дурак!
Жан-Луи хотел прервать его, но раздраженный старик, не дал ему говорить.
— Да! — продолжал он, — лошадь, которую я подковываю, признательнее моего сына; она не лягается, когда я ее случайно раню, а сын, которого я так лелеял, как змея ужалил меня. Было чем мне гордиться, когда я узнал, что сын мой Лушар стал другом одного из самых низких злодеев, которые готовят нам несчастье и разорение.
— Батюшка, — вскричал Жан-Луи, — наносите мне оскорбление, но не обижайте честного человека.
— Обидеть Лекуантра, — вскричал старик, разразившись смехом, — все равно, что обидеть Иуду!
— Г. Лекуантр — честный и благородный человек, — сказал Жан-Луи твердым голосом.
— Такой же честный человек, как ты; он также старается укусить ту руку, которая его питает. Будь твой Лекуантр здесь, я плюнул бы ему в лицо, как и тебе.
И старый Лушар плюнул в лицо своему сыну. С самого начала этой ужасной сцены г-жа Вердье оставила свою дочь; Елена мало-помалу пришла в себя. Она была еще так слаба, что не могла встать и сидела, прислонившись к стене прохода; она закрыла свое лицо руками, и слышно было, как горькие вздохи вырывались у нее.
Между тем ее мать подошла в Матурину и, подбоченившись, старалась по возможности раззадорить и без того рассерженного старика.
Когда отец нанес последнюю обиду своему сыну, она оскалила зубы и злобно захохотала. Пораженный выходкой отца, Жан-Луи остолбенел; но хохот г-жи Вердье привел его в себя, и он кинулся ко вдове.
— Отцу моему я позволяю безнаказанно оскорблять и даже бить меня, — вскричал он, — но от вас, нежная матушка, я ничего не снесу.
— Да, — сказал старик, — ты никогда не простишь того, что она так круто обошлась с твоей развратной подругой.
— Батюшка, — закричал прерывающимся голосом Жан-Луи, — батюшка, не говорите таким образом…
— Ты грозишь мне… ты грозишь своему отцу? Я не искал тебя, Жан-Луи, я послал тебе проклятие и ждал, пока Господу Богу угодно будет отомстить за меня. Но ты пришел сюда, чтобы оскорблять меня в моем доме. Жан-Луи! Богу угодно, чтобы я наказал тебя.
При этих словах старый Лушар схватил один из железных шестов, лежавших в проходе, и нанес им страшный удар молодому человеку.
Проход был так узок, что конец шеста при взмахе ударился о стену; тысячи искр посыпались из стены. Жан-Луи уклонился, но тотчас увидел, что отец собирается повторить удар.
— Спасайтесь! Спасайтесь! — крикнула ему Елена.
И точно, Жан-Луи действительно думал только о бегстве.
Он бросился к дверям, ведущим на улицу. Из какого-то дикого желания кровавой развязки, г-жа Вердье предупредила его и смело загородила ему дорогу.
Бороться с нею, значило бы дать своему отцу время нанести новый удар, а Жан-Луи уже и так с большим трудом избежал второго удара, который хотел нанести ему старик в припадке бешенства.
Воспользовавшись минутой, когда Матурин поднимал свой шест. Жан-Луи быстро бросился в комнату старика и оттуда пробрался в кузницу, из которой был ход на улицу.
Жан-Луи слышал за собой шаги отца и голос Елены, звавшей на помощь.
Дверь кузницы была заперта. Жан-Луи повернул уже ключ, отодвинул задвижку, уже повеяло с улицы свежим воздухом, и показался слабый свет наступавшего дня сквозь полуотворенную дверь. Вдруг тяжелая масса железа просвистела над головой Жана-Луи и, ударившись в одну из половинок двери, пробила ее насквозь.
Старый Лушар швырнул в сына железным шестом и схватил свой огромный молот.
Чересчур раздраженное состояние старика Матурина спасло в третий раз жизнь несчастного молодого человека.
Он хотел было броситься на улицу, но сильная рука, как железные клещи, ухватила его и оттащила назад в кузницу.
Молодой человек понял, что он погиб, и что ему осталось только одно: вступить в борьбу с отцом, в борьбу, которая внушала ему столько ужаса.
Он схватил отца за руку в ту минуту, когда тот в четвертый раз замахнулся на него. Жан-Луи стал силиться вырвать молот у отца.
Но кузнец был еще очень силен, и овладевшая им ярость удвоила его силы.
Началась страшная борьба. Чтобы сделать невозможным новое нападение, Жан-Луи обхватил отца поперек тела.
Отец и сын боролись таким образом с минуту: один — чтобы спасти свою жизнь, другой — чтобы повалить своего противника и наверняка убить его.
Наконец колени старика Лушара подкосились; он зашатался, и упал навзничь, повалив за собой и сына.
При падении пальцы его разжались, и Жан-Луи завладел молотом. Вслед за тем он освободился от объятия своего отца, который с бешенством сжимал его, встал и бросился на улицу.
Переступая порог комнаты, он машинально кинул назад тяжелый молот, который держал в своих руках и пустился бежать из кузницы.
Волнение его в это время было так сильно, что он не слыхал крика, раздавшегося в кузнице в ту минуту, когда он бросил туда молот.
В то время когда мастер Матурин приподнимался с пола, тяжелый молот ударил его в голову выше правой брови и раздробил ему череп.
Глава IV Ауто-да-фе (продолжение и окончание)
Г-жа Вердье прибежала на крик мастера Матурина. Она старалась приподнять его, но все усилия ее оказались тщетными. Старый кузнец уже не дышал. Соседи, разбуженные криками Елены, являлись одни за другими на место происшествия. Г-жа Вердье на все вопросы отвечала, что Жан-Луи убил своего отца. Несмотря на некоторые странности мастера Матурина, все в квартале любили его; негодование было всеобщее. Рассвело, и улица наполнялась ремесленниками, шедшими на работу. Все останавливались перед кузницей, и весть об отцеубийстве с быстротой молнии распространилась по Версалю.
Это преступление, возможности которого Солон не хотел даже допустить в законах, данных им Афинам, казалось всем таким чудовищным преступлением, что как в высших слоях общества, так и в простонародье проявилось страшное негодование.
О происшествии этом доложили королю, и в то же время г. де ла Парт рассказал о благородном поступке мастера Матурина, когда казначейство не уплатило ему по счету.
Людовик XVI, тронутый преданностью своего старого слуги и важностью преступления, приказал г. де Ламуаньон исследовать как можно строже это дело.
Полиция уже успела явиться в дом мастера Матурина. Освидетельствовали его тело и сняли показания г-жи Вердье, которая утверждала, что видела, как Жан-Луи Лушар нанес смертельный удар своему отцу.
Под влиянием впечатлений, перенесенных в эту роковую ночь, Елена так ослабела, что едва могла отвечать на вопросы следователей; однако из слов ее можно было убедиться, что она не была свидетельницей развязки этой драмы, и обвинение матери подкреплялось тем, что дочь не опровергала его.
Жан-Луи был арестован жандармами в Севре и привезен в Версаль. Многочисленные толпы народа преследовали его проклятиями.
Когда его взяли под стражу, то он выразил удивление; в это время ему сообщили и о смерти отца, и об обвинениях, жертвой которых он стал.
Страшный вопль вырвался у него. Потеря отца, о которой ему сообщили, страшно потрясла его, и он не обратил даже внимание на обвинения, предъявленные ему.
Но вскоре мысль об отцеубийстве во всем своем ужасе предстала перед ним. Молодой человек понял, что его обвиняют в умерщвлении того, кого он так горько оплакивал, и он сказал с сильным негодованием:
— Да разве можно убить родного отца?
Его заключили в Версальскую тюрьму. К вечеру его взяли оттуда и посадили в карету. Его уныние было так сильно, что он даже не спросил, куда его везут. Когда экипаж остановился на улице де Монтрель, он машинально пошел за сопровождавшим его чиновником и, казалось, не узнал дома, в который его ввели.
Вдруг он увидел труп, лежавший на постели, и узнал в нем своего отца.
Не слушая вопросов, задаваемых ему чиновником, Жан-Луи кинулся к бездыханному телу, сжал его в своих объятиях, покрыл поцелуями и смочил слезами холодное тело старого кузнеца.
Когда его спросили, знает ли он его, он ответил.
— Неужели вы сомневаетесь в этом, милостивый государь? Неужели вы думаете, что я был бы в состоянии в эту минуту целовать его, если бы я сам убил его.
Но показания вдовы Вердье были так формальны и неточны, что чиновник видел в этом ответе одну только очень ловкую хитрость: он приказал обвиняемому рассказать со всеми подробностями все, что происходило между Матурином Лушаром и ним в продолжение предыдущей ночи.
Жан-Луи повиновался; он снова стал уверять, что он только защищал свою жизнь и сопротивлялся раздраженному отцу, но не поднимал своей руки на виновника своих несчастий. В это время чиновник указал ему на рану, которая виднелась на виске старца, и в то же время он показал молот, на котором были следы черной и запекшейся крови.
Жан-Луи упал на колени. При виде этого молота он вспомнил, что второпях бросил его назад в кузницу. Возможность убийства, в котором его обвиняли, ясно представилась его уму… Хотя это убийство и было совершено им невольно, тем не менее, он горько стал упрекать себя в нем и в то же время убедился, что ему никогда не удастся уверить судей в своей невиновности.
Он объяснил обстоятельства, вследствие которых мог стать отцеубийцей и прибавил:
— С этой минуты, милостивый государь, я не стану ни защищаться, ни сетовать; я виноват в смерти человека, даровавшего мне жизнь, и перенесу как справедливую кару за свои преступления, всякую казнь, как бы жестока она не была.
Процесс был передан суду Шателе, который приступил к исследованию дела.
Во мнении народа произошел важный переворот. Всеобщий ужас, возбужденный смертью Матурина Лушара, уменьшался мало-помалу, вследствие зрелого размышления и разбора предшествовавших обстоятельств.
В то же самое время друзья Жана-Луи не оставались в бездействии. Они выставляли его жертвой несправедливости тиранства отца; ссылались на терпение и покорность, с которыми он так долго переносил его угнетение; старались, указывая на убеждения Жана-Луи, послужившие поводом к отцовским преследованиям, возбудить симпатию народа к обвиненному. Их усилия имели такой успех, что это уголовное дело вскоре приняло размеры политического процесса для жителей Версаля.
Верный своему слову, Жан-Луи не защищался, и, несмотря на настоятельные убеждения данного ему адвоката, не хотел даже опровергать показания г-жи Вердье. При виде этого безмолвного создания, суд применил к нему во всей строгости наказание, указанное уголовными законами того времени. 31 июля 1788 года был произнесен приговор, присуждавший Жана-Луи-Огюста Лушара к раздроблению заживо ног, бедер, плеч и поясницы на эшафоте, построенном на площади города Версаля, где совершено преступление. Затем, сказано было в приговоре, тело преступника будет положено на колесо, с обращенным к нему лицом; по смерти его, труп должен быть сожжен на костре.
Против обыкновения, обвиненного избавили от всенародного раскаяния в преступлении, что повлекло бы за собою отнятие кисти. Несмотря на незначительность этого смягчения, это уже был шаг вперед к уничтожению бесполезных жестокостей. Кроме того, в приговоре было помещено дополнение следующего содержания: «Предписывается вышеупомянутому Жану-Луи Огюсту Лушару ни одного удара заживо и повелевается удавить его до раздробления членов».
Никто не знал еще об этом милосердии судей, и новость об осуждении сына Лушара, невинность которого все провозглашали, произвела волнение умов в городе.
Казнь Жана-Луи была назначена на 3 августа. Утром 2-го числа, Шарль-Генрих Сансон отправил в Версаль телеги со строевым лесом, а после обеда того же дня отправился и сам в этот город.
Волнение, возникшее вследствие процесса Жана-Луи Лушара, не распространилось за пределы его родного города. Шарль-Генрих Сансон видел в нем только очень неинтересного преступника. Поэтому, как ни привык он к гнусному любопытству черни, ему все-таки показалось странным, что площадь Святого Людовика покрыта такой многолюдной толпой, что его помощникам стоило немалого труда очистить пространство, на котором плотники приступили к построению эшафота.
Впрочем эта толпа не вызывала никаких враждебных намерений: она шумела и волновалась, но скорее казалась веселой, чем раздраженной.
Народ не произносил, по крайней мере, вслух, имени обвиненного и выражал свои чувства только язвительными шутками и красными словцами, которыми он осыпал работников, занимавшихся постройкой эшафота.
Однако скоро настроение народа переменилось. Один из плотников обругал какого-то повесу, надоедавшего ему своими насмешками, и в толпе раздалось несколько криков негодования. В одно мгновение насмешливые и веселые лица стали угрюмыми и угрожающими; народ, волнуясь, столпился. Стоявшие позади, теснили передних, и скоро шум толпы превратился в грозные вопли; рогатка, которой думали удержать народ, была изломана; плотники и помощники исполнителя вступили в рукопашную схватку с народом.
Но почти в ту же минуту около ста человек, в силе которых по атлетическому телосложению, почерневшим от дыма рукам и лицам, легко можно было узнать кузнецов, а также несколько молодых людей, судя по их одежде, принадлежавших к многочисленной корпорации клерков, бросились навстречу нападавшим, и, то убеждениями, то силой принудили толпу отступить и не допустили ее совершить преступление.
Дед мой довольно равнодушно смотрел на это выражение народного мнения. Но скоро он задумался не на шутку. Он предчувствовал, что толпа успокоилась по приказанию своих предводителей; что если он сам и его помощники не были изорваны в куски, то это только потому, что у народа была своя цель, от которой он не хотел отказаться, и ждал только удобного случая. Деду моему стала понятна причина этого веселого и беззаботного вида толпы: ясно было, что под этим наружным спокойствием скрывалось сознание силы и могущества.
Поэтому Шарль-Генрих Сансон приказал помощникам поспешить окончить приготовления для казни, а сам возвратился в Париж, чтобы сообщить свои наблюдения генерал-прокурору.
Политические смуты того времени подняли уже много бурь в провинциях. Нормандия и Бретань волновались и требовали восстановления нарушенных прав парламента.
Между тем правительство, обманутое равнодушием, с которым парижане встретили предписание парламента о взятии под стражу двух его членов, д’Эстремениля и Монзабера, вовсе не предполагало, чтобы волнение могло перейти в открытый мятеж. Еще менее предполагалось, что восстание против правительства могло возникнуть в городе, где находился двор, и жил сам король. Наконец никто не думал, что поводом к возмущению могла послужить казнь справедливо осужденного преступника.
Поэтому решено было ограничиться тем, что послали в Версаль небольшой отряд солдат для подкрепления жандармам. По заведенному порядку из королевского дворца нельзя было подавать никакой помощи исполнителям уголовных приговоров.
В городе распространился слух, что Елена Вердье была представлена королеве госпожой Аделаидой, что она упала к ее ногам, умоляя о помиловании осужденного, и что, тронутая ее настоятельными просьбами, Мария-Антуанетта, выпросила это помилование у короля.
Эта новость без сомнения повлияла на удаление народа; остались, очевидно, только неверующие в этот слух.
Шарль-Генрих Сансон воспользовался этим временем, чтобы устроить, с позволения комиссаров, ограду эшафота из кольев и досок, эта ограда напоминала те частоколы, за которыми на Гревской площади казнили важных преступников. В то же время чиновники, уведомленные полицией о настроении народа, взяли на себя ускорить час казни.
Было уже около двух часов утра, когда мой дед оставил площадь Святого Людовика и отправился в темницу. Уходя, он заметил, что люди, бродившие всю ночь вокруг эшафота, рассеялись в различных направлениях.
Жан-Луи Лушар был заключен в одну из комнат нижнего этажа и лежал на кровати. При шуме отворявшейся двери он приподнялся и спокойно взглянул на людей, вошедших в его темницу.
Актуариус парламента прочел ему смертный приговор, который осужденный выслушал с большим вниманием. Когда актуариус окончил чтение, то Жан-Луи прошептал несколько невнятных слов, из которых можно было понять только следующее: — «Бедный отец!», — он сказал это вслух:
— Через два часа я оправдаюсь перед ним. Нет! — прибавил он дрожащим голосом, обращаясь к священнику Святого Людовика, — он не может даже подумать, чтобы сын умышленно поднял на него руку. Не правда ли?
Священник подошел к нему и обнял его. Все должностные лица удалились и оставили их одних. Через несколько минут комиссары прервали эту благочестивую беседу. Шарль-Генрих Сансон просунул свою голову в отверстие двери и сделал знак осужденному, который в ту минуту, преклонив колени перед священником, принимал его пастырское благословение.
Жан-Луи Лушар понял жест исполнителя и, обернувшись к нему, произнес с горькой улыбкой:
— Я сам спешу не меньше вашего, г. исполнитель. В половине пятого утра осужденный и исполнитель сели в тележку, комиссары надеялись, что, благодаря дополнению, все будет окончено прежде, чем проснутся жители Версаля. Но когда поезд выехал из темницы, то легко можно было убедиться, как мало принесли пользы все предосторожности.
Несмотря на ранний час, все выходы из тюрьмы кипели народом; стечение было удивительное. На тех малолюдных улицах Версаля, по которым прежде двигались только придворные кареты и коляски, теперь бушевало целое море народа, становившееся все грознее и грознее.
Осужденный, казалось, не подозревал, что это волнение возбуждено сочувствием к нему. Быть может, ему казалось даже, что тут проявляется чувство отвращения, выказанное народом во время взятия его под стражу. Набожно слушал он наставления своего духовника и даже не поднимал глаз на тех, которые его окружали.
Между тем, при повороте на улицу Сатори, раздирающий вопль и крик отчаяния заглушили на минуту шум и волнение народа.
В толпе показалась молодая, бледная, как мертвец, девушка; она махала своим платком.
При звуке ее голоса Жан-Луи Лушар поднял голову и в ту же минуту, несмотря на то, что руки и ноги его были связаны веревками, приподнялся и взглянул в ту сторону, где стояла она. Глаза его наполнились слезами; он сделал усилие улыбнуться и прошептал:
— Прощай, Елена, прощай!
В эту минуту кузнец колоссального роста, все время шедший около тележки, подошел еще ближе, ухватился за край экипажа и сказал вслух.
— Скажи лучше до свидания, Жан-Луи. Разве можно позволить колесовать таких честных людей, как ты.
Один из всадников оттолкнул было его, но раздавшиеся рукоплескания ясно доказывали, что это мнение разделяли почти все присутствовавшие, и даже не считали уже нужными скрывать свое убеждение.
По изменившимся лицам актуариуса, урядников и солдат, окружавших тележку, видно было, что они испугались гораздо больше, чем испугался накануне мой дед.
Несмотря на это, поезд без препятствий доехал до эшафота. На площади Святого Людовика стечение народа было необыкновенное, потому что все находившиеся на улицах последовали за поездом.
В ту минуту, когда тележка остановилась, Жан-Луи Лушар обратился с каким-то вопросом к священнику Святого Людовика, и мой дед слышал, как священник отвечал ему:
— Вы спасены.
— Нет, отец мой, — сказал осужденный лихорадочным голосом и с каким-то нетерпением. — Правда, у меня не было злого умысла, составляющего преступление, но все-таки руки мои запятнаны ужасным убийством. Я должен, я хочу искупить свое преступление смертью. Г. исполнитель, поторопитесь, — прибавил он, — обращаясь к моему деду.
Дед мой указал ему на разъяренные толпы народа, и промолвил:
— Поглядите и убедитесь, что если кому-нибудь и грозит смерть, то никак не вам.
Шарль-Генрих не успел еще договорить, как раздались страшные вопли и крики. Ограда разлетелась вдребезги, и толпа бросилась одновременно со всех сторон на эшафот.
Кузнец, говоривший во время переезда с Жаном-Луи Лушаром, находился в первом ряду; он схватил своими сильными руками осужденного, перерезал связывавшие его веревки и поднял его к себе на плечо, чтобы с триумфом удалиться.
Тогда началась небывалая до сих пор сцена. Осужденный начал бороться со своими освободителями, отталкивал их, упрекал их в том, что они освобождают его от казни, которую он считал заслуженною, обращался к палачам, звал их к себе и просил смерти, которую считал необходимой для искупления своего преступления. Все это было так глубоко прочувствовано и говорилось таким тоном, каким обыкновенно умоляют о жизни.
Но друзья окружили его; их общие усилия взяли верх над его сопротивлением, и им удалось унести молодого человека.
Между тем положение моего деда было далеко небезопасно. Он стоял один, без помощников, среди толпы, ослепленной своей легкой победой, и слишком хорошо знавшей его. Все присутствовавшие знали в лицо парижского исполнителя, и ничего не стоило уничтожить моего деда, так что он не мог и думать о сопротивлении.
Вероятно, на его лице были ясно видны мрачные мысли, занимавшие его в эти минуты, потому что скоро подошел к нему высокий кузнец, освободивший осужденного, и сказал моему деду, схватив его за руку.
— Не бойся, Шарло, нам не тебя нужно, а только твои инструменты. Слушай только, Шарло, когда тебе придется казнить кого-нибудь, то помни, что казнят для того, чтобы лишить жизни, а не для того, чтобы мучить.
Затем, обратившись к толпе, он сказал:
— Пропустите его, господа. Кто что-нибудь скажет против нашего Шарло, того мы сочтем заклейменным, который вздумал мстить.
При этой энергичной выходке толпа расступилась, и дед мой удалился.
Эшафот и все его принадлежности были разбиты вдребезги в самое короткое время. Все обломки были свалены на костер, приготовленный для сожжения трупа осужденного. На эту кучу эшафотных осколков было взвалено то страшное колесо, на котором погибло столько мучеников. Под костер подложили огонь, и вся толпа, мужчины и женщины, взявшись за руки, образовали огромный круг, который длинной лентой вился вокруг этого ауто-да-фе, пока сверкал огонь и дымился костер. На площади раздавались песни до самой полночи.
Я нарочно рассказал с такими подробностями это происшествие, мало известное и оставленное без всякого внимания историками. Мне всегда казалось, что это событие послужило поводом к первому народному революционному беспорядку.
Глава V Мария-Анна Жюжье, моя бабушка
Таким образом, после казни Дерю, само колесо было осуждено и предано торжественному ауто-да-фе.
Как бы то ни было, но после этого, это орудие казни не появлялось более на площадях, и колесование было исключено из списка казней. Интересно было бы знать историю происхождения этого варварского истязания преступников. Мнения об этом различны, но вероятнее всего, что первую мысль о колесовании дал миф об Иксионе. Это наказание вошло в уголовное право христианских обществ, потому что им было заменено распятие на кресте. Распятие же было исключено из списков казней из боязни совершить святотатство.
Я уже упоминал выше, как охотно приговаривали к этой казни парламенты. Нельзя не содрогнуться при мысли, что наше прежнее законодательство наказывало смертной казнью сто пятнадцать различных родов преступлений. Франция была обязана этим варварством, облеченным в законную форму, королю Франциску I и его министру кардиналу Дюпре. Одним указом предписывалось присуждать к колесованию даже грабителей на больших дорогах и грабителей со взломом замков, а убийцы приговаривались только к виселице. По-видимому, в эту эпоху собственность уважалась более человеческой жизни, и за воровство наказывали строже, чем за убийство. Впрочем, эта несоответственность не могла долго продолжаться; и уже во время следующего царствования воры и убийцы, отцеубийцы, все без исключения, присуждались к колесованию то с некоторыми осложнениями, то со смягчениями казни, смотря по роду преступления. Виселица была уже второстепенной казнью, утратившая свое прежнее значение. Тайны Плесси-ле-Тур и подвиги знаменитого нашего предшественника, Тристана Ермита заставили мало обращать на нее внимание.
С 1770 до 1780 года я нахожу в заметках моего деда, что число колесованных гораздо значительнее числа погибших на виселице.
Пробегая приговоры тогдашнего уголовного суда, видишь, что прежде почти все преступления наказывались нещадно смертной казнью, сопровождавшейся почти всегда неслыханными жестокостями. Как-то невольно становится легче на душе, когда вспомнишь, что не прошло еще и 100 лет с того времени; а уже как гуманно стало наше современное законодательство! Суд присяжных, уголовный суд, новые формы судопроизводства, гласность парламентских прений, свобода защищаться кажутся нам такими великими успехами цивилизации, что удивляешься, как успело человечество дойти до них в такой короткий срок. Поневоле с благоговением вспоминаются те благодеяния, которые сделала Франции революция. И, несмотря на все это, великое народное движение до сих пор подвергается безрассудным и пристрастным обвинениям.
По мере того как я приближаюсь к эпохе этого переворота, я все более убеждаюсь, что объем моего труда увеличивается. На мне, более чем на ком другом, лежит обязанность обнародовать успехи гуманности и цивилизации, совершенные в эти дни бурных смут. Я прямой наследник того человека, у которого могут потребовать отчет о пролитой в то время крови. К сожалению, я убежден, что вовсе не нужно было проливать столько крови, чтобы добиться торжества новых идей. Но что же делать? Страданиями матери сопровождается появление человека на свете, и точно так же страданиями человечества часто искупается каждый шаг вперед на пути цивилизации и прогресса. Казнь колесованием уже давно возмущала народ, уже давно депутаты генеральных штатов требовали уничтожения этого вида казни. И только национальное собрание совершенно отменило ее.
Здесь я считаю нужным сделать небольшое отступление и прежде чем перейду к эпохе революции и к описанию народных смут и волнений, я скажу еще несколько слов о моем деде и о быте нашего семейства. Понятно, что после смерти Марты Дюбю и после отъезда Жана-Баптиста Сансона дом наш значительно опустел. Хотя Шарль-Генрих отличался твердым и решительным характером, был умен, хорошо образован и рано начал жить, но роль главы дома была ему не по силам. Тяжело было ему отказаться от всех удовольствий жизни и завалить себя семейными заботами. Поэтому он хотел, по крайней мере, разделить с кем-нибудь это бремя и стал серьезно подумывать о выборе подруги, в руки которой он мог бы отдать половину мелочных домашних забот. Намерение жениться поддерживалось между прочим и тем, что мой дед любил комфорт и был страстным охотником. Страсть к охоте заставляла его часто отлучаться из дому, а без него некому было подумать о домашних заботах и потребностях семейства.
В это время окрестности Монмартра были еще заняты огородами и служили главными источниками снабжения наших рынков овощами. Вся полоса земли у Монмартра, в настоящее время застроенная и составляющая значительную часть Парижа, в половине прошлого столетия была длинным рядом пустырей, занятых огородами. Только несколько арендаторов аббатства Святого Петра Монмартрского имели здесь домики очень скромной наружности. Шарль-Генрих Сансон как охотник часто приходил в эти места. Он познакомился с семейством одного из огородников, который своим трудом умел обеспечить себя несколько лучше своих товарищей. Старшая дочь его, Мария-Анна Жюжье, была очень достойная девушка и отличалась своим умом и ровностью своего характера. Дед мой часто удивлялся той находчивости, с которой она занимала в своем семействе место матери. Роль хозяйки очень часто доставалась молодой девушке, потому что мать ее очень часто с раннего утра должна была быть на рынке и продавать там овощи и фрукты.
Мария-Анна Жюжье была уже не первой молодости; она дожила в доме своего отца до тридцати двух лет, не имея никакого понятия о какой-нибудь другой деятельности, кроме своих ежедневных занятий. Спокойствие и однообразие такого образа жизни отразились в ее характере и даже в чертах лица. На ней постоянно лежала печать какой-то безусловной покорности и безотчетной грусти. Этот грустно-задумчивый вид необыкновенно шел к бледному лицу и бедному костюму девушки, так что нежность кротость ее бросались с первого раза в глаза. Несмотря на свои тридцать два года, Мария Жюжье была еще очень свежа и казалась гораздо моложе своих лет. Этим она, вероятно, была обязана своей тихой, безмятежной жизни.
Шарль-Генрих Сансон провел свою молодость довольно шумно, и личность Марии-Жанны, резко отличавшаяся от всего, что ему удалось видеть, произвела на него очень сильное впечатление. Он находил необыкновенное удовольствие, возвращаясь вечером с охоты, заходить к семейству Жюжье и проводить там несколько часов с молодой девушкой. Звание Шарля-Генриха было известно семейству Жюжье и, казалось, не внушало того чувства отвращения и ужаса, которое обыкновенно внушает оно неразвитым людям; напротив, Шарль Генрих не раз замечал в глазах Марии-Жанны что-то очень похожее на сочувствие и сострадание.
Мысль жениться на этой девушке давно уже появилась в уме Шарля-Генриха. Но как будет принято его предложение? Этот вопрос он несколько раз задавал самому себе. По некоторым признакам он мог предполагать, что не очень трудно будет получить согласие отца и матери. Небольшое состояние моего деда должно было казаться огромным богатством бедному семейству Жюжье, и с этой стороны нечего было бояться затруднений; кроме того, в эту эпоху женщины среднего сословия обращали слишком немного внимания на материальное благосостояние. Благодаря скрытности и скромности Марии-Жанны, Шарлю-Генриху Сансону трудно было знать ее сокровенные мысли. Поэтому он решился, прежде чем заявить о своем намерении отцу невесты, переговорить сначала с нею, и поведать ей свои надежды и предложения.
Скоро представился к тому удобный случай. Однажды вечером, возвращаясь с охоты с пустой сумой и мыслью о будущей невесте, он остановился, как обыкновенно, отдохнуть в доме Жюжье. Мария-Жанна была одна, но наивность ее была так велика, что это свидание с глазу на глаз, казалось, нисколько не тревожило ее, и она приняла Шарля-Генриха по обыкновению своему совершенно спокойно.
Дед мой сел около нее на скамью и после нескольких незначительных слов решился воспользоваться удобной минутой и сказал ей:
— Скажите мне, пожалуйста, Мария, думаете ли вы выйти замуж?
— На то воля Господня, — возразила она, покраснев. — Я довольна пока своею участью и не желаю другой.
— У ваших родителей есть еще дети, которые уже в состоянии заменить вас и исполнять ваши обязанности в доме. Зачем же вы хотите добровольно лишать себя тех семейных радостей, которых вы вполне достойны?
— Вы говорите со мною о таком деле, о котором мне нечего и мечтать. Что и думать о том, чему не суждено осуществиться; право, не стоит останавливаться на несбыточных мечтах.
— Что бы вы сказали, Мария, если бы между вашими знакомыми оказался человек, который был к вам искренне привязан, любил бы вас так, как вы того заслуживаете; если бы этот человек, которого я не осмеливаюсь назвать, но имя которого вы без сомнения угадываете, полагал все свое счастье в том, чтобы получить вашу руку и соединить свою участь с вашей? Скажите мне, могут ли предрассудки и предубеждения против звания этого человека помешать исполнению его заветной мечты.
Мария-Жанна была сильно взволнована этими словами; с минуту она не могла сказать ни слова; наконец, подавив свое волнение, она ответила:
— Нет, с этой стороны нет никакого препятствия, Я надеюсь даже, что мне удалось бы изгнать из этого человека эту безотвязную мысль, возмущающую его существование. Я бы сумела вовремя и ободрить, и поддержать, и утешить его. Я слишком часто входила в положение этого человека, и мне кажется, что у меня хватило бы сил быть достойной подругой его жизни. Но подумали ли вы о том, что я старше этого человека почти на шесть лет, что я буду почти старухой, когда он будет еще в полном расцвете лет. Мне кажется, что это и есть главное препятствие для осуществления этого плана. Впрочем, в этом деле все зависит от согласия моих родителей; свой взгляд на это я вам уже высказала.
— Ах, Мария, не говорите мне о неравенстве лет; я старее вас, потому что больше вашего жил на свете. Вы выросли и жили в уединении, среди вашего семейства, и ни одна сильная страсть не потрясала вашего организма. Мало того, что я вас люблю, я вас глубоко и беспредельно уважаю… Может утихнуть страсть, может пройти пора любви, но это чувство уважения никогда не может исчезнуть. Я всегда буду смотреть на вас, как на старшую сестру, которая помогает мне в работе и делит со мной и горе, и радости в жизни.
Через несколько дней после этого разговора Шарль-Генрих Сансон официально просил у г. Жюжье руки его дочери, и 20 января 1765 года Шарль-Генрих и Мария-Жанна были уже обвенчаны в церкви Сен-Пьер де Монмартр.
Несмотря на то, что моя бабушка была, как мы видели, на шесть лет старше своего мужа, она пережила его почти на двенадцать лет. Я помню ее гораздо лучше, чем покойного деда, и ее поучительным и увлекательным рассказам я обязан множеством подробностей, которыми пополнил записки, оставленные об этой замечательной эпохе моим дедом.
Шарль-Генрих Сансон был очень доволен сделанным им выбором. Жена его оказалась отличной хозяйкой; она с изумительной находчивостью умела держать себя при самых трудных обстоятельствах. Вместе с энергией, напоминавшей Марту Дюбю, она соединяла кротость и благодаря этому пользовалась всеобщей любовью и уважением.
Через год, после того как она сделалась хозяйкой нашего дома в Пуассоньерском предместьи, туда приехал Жан-Баптист Сансон со своей женой. Причиной его приезда была казнь графа Лалли Толлендаля.
Я уже сообщал читателям подробности этой ужасной драмы. Бедная Мария-Анна впервые испытала при этом те потрясения, которые не раз приходилось ей переносить впоследствии. Она делила поровну свои заботы между тестем и мужем и насколько могла, старалась рассеять тяжелое впечатление, произведенное этой кровавой сценой.
Немного успокоившись, Жан-Баптист поспешил возвратиться в Бри-Конт-Роберт; ему хотелось поскорее удалиться от всего, что могло напоминать ему случай, заставивший его еще раз вновь взяться за ремесло палача. Но видно предназначено было несчастному старику постоянно страдать и нигде не находить продолжительного спокойствия. Несколько лет спустя, по возвращении его в деревню, он имел несчастье лишиться единственного своего утешения, своей жены Марии Тронсон, которая после смерти Марты Дюбю одна ухаживала за ним и лелеяла больного старика.
Это обстоятельство заставило его снова возвратиться в Париж и отдать себя попечению своим детям. Врожденная доброта и преданность Марии-Анны как нельзя лучше проявились при этом. Она почти не отходила от кресла старика, ухаживала за ним и окружила его той предупредительностью и заботами, которые так дороги для каждого страдальца. Она угадывала по глазам его малейшее желание и в ту же минуту спешила исполнить его. В продолжение тех долгих и мучительных для страдальца годов, которые он провел в доме сына, Анна-Мария была его ангелом-хранителем. Благодаря ей, больной старик продолжал пользоваться прежней любовью и уважением всех окружающих. Однажды утром, в августе 1778 года, он спокойно скончался, пожимая руку своей падчерицы, принявшей его последний вздох и закрывшей ему глаза.
По случаю чьей-то казни дед мой был в это время на площади Шателе. Он возвратился домой уже через четверть часа после смерти отца своего и застал всех в доме за молитвою. Бабушка моя не хотела отойти даже от трупа Жана-Баптиста Сансона; она сама надела на него саван и провела всю ночь с двумя монахинями в комнате покойного, читая молитвы за усопших.
Аббат Гомар вскрыл духовную покойника; в духовной этой заключалось только несколько распоряжений на счет некоторых бедных семейств и двух-трех служителей в доме; вместе с этим Жан-Баптист Сансон изъявлял желание быть погребенным подле отца своего в церкви Святого Лаврентия. Шарль Сансон II, отец Жана Баптиста, за пожертвования свои в пользу бедных и церкви получил разрешение быть похороненным внутри храма. Так как добрые дела Шарля-Жана Баптиста были всем известны, то аббату Гомару было не трудно получить такое же разрешение и для прадеда моего.
Таким образом, исполнена была его последняя воля, и после службы, на которой присутствовали облагодетельствованные им бедные и больные, его смертные останки были погребены подле праха его отца.
Огородники, торговавшие в ограде церкви Святого Лаврентия, накануне погребения пожертвовали в свой приход четыре новых колокола. В эти колокола зазвонили в первый раз при похоронах исполнителя уголовных приговоров.
Как к месту был в это время погребальный звон! Старик пономарь показывал мне в детстве плиты без надписей, покрывающие прах моего прадеда и прапрадеда. Это место знают очень немногие. Народ, проникавший в своем безумии в священные склепы королей, к счастью, никогда не посещал последней обители палачей.
Глава VI Охранная грамота
По смерти Жана-Баптиста Сансона осталось много наследников. Чтобы облегчить раздел наследства, Шарль-Генрих был вынужден продать свой отель в Пуассонерском предместье. Я уже рассказывал, как два спекулянта, Папильон и Рибутте, приобрели в свое владение это здание со всеми его принадлежностями. Они провели на этом месте две улицы, до сих пор носящие их имена, и сделали, без сомнения, очень выгодную операцию, хотя дед мой и другие наследники Жана-Баптиста остались также в выигрыше по случаю увеличения ценности на землю с того времени, когда Шарль Сансон II купил это здание.
Дед мой не хотел удаляться из того квартала, где его предки своей достойной и примерной жизнью заслужили уважение, и заставили забыть о своих обязанностях, возбуждавших всеобщее отвращение. Потому он решился выбрать для себя место жительства недалеко от прежнего местопребывания нашего семейства. Дом этот находился на улице Нев-Сен-Жан (теперь улица дю Шато д’О, № 16). Дед мой купил этот дом и поселился в нем.
Этот дом, хотя и был много меньше нашего прежнего, был очень удобен. Главное его удобство состояло в том, что комнаты, в которых мой дед принимал посетителей, были совершенно отделены от тех, которые занимало его семейство. При доме находился большой продолговатый четырехугольный двор. У одного из углов двора находилась решетка, дверь которой вела в дом. Все строения были расположены на правой стороне двора. Собственно, дом наш состоял из двух этажей: в нижнем этаже находились комнаты для семейства, сени, большая столовая и кухни; тут же находилось помещение моего деда, состоявшее из прихожей, кабинета для приема посетителей, превосходной комнаты для аптеки и лаборатории; в верхнем этаже находились спальни. За этим следовали прочие строения, помещавшиеся на дворе вдоль наружной стены. Строения эти состояли из ряда служб, конюшен, сараев для дров, прачечной, и т. д. Вдоль этих строений был разведен цветник. Сзади двора, кроме того, находился огород. Замечательно, что привычки очень часто передаются по наследству. Вероятно, поэтому моя бабушка не могла отказаться от занятий своей юности и с особенной любовью ухаживала за нашим цветником и огородом.
Правда, все это даже не напоминало нашего дома и парка в Пуассоньерском предместье; но на этом клочке земли удалось довольно удачно соединить все необходимое для быта нашего семейства. Впрочем, Шарль-Генрих Сансон и не мог желать большего. Состояние, доставшееся на его долю после раздела, было гораздо меньше того, чем владел его отец и дед.
С 1778 по 1779 год спокойно, тихо и патриархально текла жизнь в этом доме, в который не проникали извне беспокойства и смуты. Все домашние невольно подчинялись влиянию доброй и кроткой Марии-Жанны. В домашней жизни никто не позволял себе даже сделать намек на кровавые занятия хозяина дома и его помощников. Если иногда и случалось кому-нибудь из помощников, обедавших за одним столом с моим дедом, сказать какое-нибудь неосторожное слово или завести речь о своем ремесле, то тотчас же строгий взгляд моего деда останавливал эту выходку, и разговор переходил на другой предмет.
Распределение дня и время для обеда осталось то же, как и при Жане-Баптисте Сансоне; но моя бабушка, кроме того, ввела обычай два раза в день собирать всех домашних для утренней и вечерней молитвы. Дед мой не пропускал ни одного дня и всегда с благоговением присутствовал при этом. Обыкновенно начиналось с того, что Мария-Жанна становилась в столовой на колени перед налоем, над которым висело распятие из слоновой кости, и начинала читать вслух молитвы. Все присутствовавшие повторяли за ней те слова, которые должны были произноситься хором.
Мне особенно памятен этот трогательный обычай, до сих пор еще сохранившийся в моем семействе.
Этот обычай строго соблюдался в нашем семействе даже во время революции, несмотря на то, что в то время было не совсем безопасно совершать подобные обряды. Церкви были заперты, и только несколько священников решались украдкой, совершать религиозные обряды. Только изгнанники и палачи молились в это время за Францию.
Шарль-Генрих Сансон следил за ходом событий и за успехами революции с зоркостью и спокойствием постороннего и беспристрастного наблюдателя. Борьба двора с парламентом; ход дел в Верховном суде, собрания нотаблей, все средства, употребленные для поддержания потрясенной монархии, все это ясно показывало ему всю опасность положения. Единогласие всех трех сословий в национальном собрании убедило его в том, что общество накануне страшного переворота.
Из боязни навлечь незаслуженный упрек на моего деда спешу заявить, что он с сочувствием встретил новые идеи. Но я должен оговориться, что, несмотря на приверженность к принципам 1789 года и к новому порядку вещей, обусловливаемому этими принципами, дед мой оставался роялистом. Он питал глубокое уважение к особе короля, прямодушие и благородство которого, ясно проявившееся вначале его царствования, доставили ему немало приверженцев. Таким образом, дед мой принадлежал к той многочисленной партии, которая ограничивала свои желания установлением конституционно-монархического правительства. К сожалению, впоследствии эта партия дала увлечь себя фанатикам и поклонникам анархии.
Еще задолго до роковой встречи палача с королем на эшафоте, дед мой два раза имел случай говорить с королем Людовиком XVI. В первый раз это было в начале того же 1789 года. Государственное казначейство, вследствие недостатка в деньгах, уже давно приостановило платеж жалованья, приходившегося Шарлю-Генриху Сансону. Благодаря этому дед мой, особенно после раздела отцовского наследства, находился в крайне затруднительном положении и был обременен долгами. Он изложил свое стесненное положение в прошении на имя короля и через несколько дней был вызван в Версаль. Людовик XVI принял его в собственных покоях и говорил с ним очень недолго. Малейшие подробности этого свидания врезались в память моего предка, и он часто передавал их своим домашним.
При входе Шарля-Генриха Сансона король стоял около окна, выходившего в парк; он время от времени оборачивался и рассеянно поглядывал на террасу. Шарль-Генрих Сансон при виде короля немного смешался и не осмеливался войти в комнату, покрытую сверху донизу позолотой, мрамором и хрусталем; он остановился почти на пороге, так что король и он обменялись друг с другом несколькими словами на довольно значительном расстоянии; дед мой заметил даже, что роскошные ковры, устилавшие комнату, заглушали тихо произносимые слова.
На Людовике XVI в этот вечер был надет сюртук из лиловой тафты, вышитый золотом и украшенный звездою ордена Святого Духа; короткие брюки, шелковые чулки и башмаки с пряжками дополняли его верхний костюм. Две орденские ленты св. Людовика, синяя и красная, виднелись на его жилете из белой шелковой материи, вытканной золотом. Таким образом, в эту минуту на короле случайно соединились те три цвета, которые были атрибутом революции и причинили столько бедствий королю и его семейству. Кружевные воротники, во вкусе того времени, были обхвачены легким галстуком, из-под которого резко выдавались мускулы шеи. Король был сильного, но не атлетического телосложения. Изящней всего в нем были его стройные и красивые ноги. Его напудренные и завитые волосы висели буклями на висках, а сзади на затылке по тогдашнему обычаю были заплетены в косу.
— Вы обратились с просьбой о выдаче следуемого вам жалованья, — сказал король, не оборачиваясь и даже не взглянув на моего деда. — Я приказал проверить ваши счета и без всякого замедления выдать вам предписание об уплате этой суммы; но в казначействе в настоящее время почти нет денег, а вы, кажется, требуете себе сто тридцать шесть тысяч ливров; это сумма довольно значительная.
— Благодарю вас, ваше величество, за ваше милостивое расположение и доброту, — отвечал Шарль-Генрих Сансон, — но умоляю вас позволить мне заметить, что эти деньги накопились понемногу, и жалованье не уплачивается мне так давно, что заимодавцы мои потеряли всякое терпение и даже угрожают мне тюрьмой.
При этих словах король обернулся и окинул быстрым взором Шарля-Генриха. Робкий, почти умоляющий вид его не допускал никакого сомнения в искренности его слов. При взгляде на моего деда Людовик XVI не мог удержаться от невольного трепета. Было ли это предчувствие или просто невольный ужас, овладевающий при виде палача? Я думаю, что последнее предположение правдоподобнее.
— Подождите, — сказал он, — я сделаю распоряжение.
Затем он позвонил в колокольчик, и в комнату вошел один из камер-юнкеров.
— Господин де Вилледель, — сказал ему король, — потрудитесь принести охранную грамоту и выставить на ней имя, которое я вам продиктую.
Когда принесли бумагу, король, обладавший превосходною памятью, сам продиктовал имя и фамилию моего предка, которые он, вероятно, прочел под прошением.
Эта охранная грамота до сих пор еще находится у меня. Вот ее содержание:
«Именем короля.
Его королевское величество, желая дать возможность Шарлю-Генриху Сансону привести в порядок дела свои, соблаговолил выдать ему охранную грамоту сроком на три месяца. В продолжение этого времени Его королевское величество не дозволяет кредиторам Шарля-Генриха Сансона делать какое-либо насилие над упомянутым Сансоном. Вследствие этого воспрещается приставам, городовым сержантам и другим лицам брать под арест или чем-либо беспокоить его: всем тюремным смотрителям и сторожам также не дозволяется принимать его в тюрьмы под страхом наказания за неповиновение, отставления от должности и уплаты всех убытков. Если же, несмотря на это запрещение, упомянутый Шарль-Генрих будет кем-либо арестован, то Его королевское величество повелевает тотчас же освободить его. За это освобождение ни в каком случае не должны отвечать сторожа и тюремные смотрители. При этом Его королевское величество повелевает, чтобы эта охранная грамота вошла в законную силу только по предъявлении ее в коммерческом суде.
Дано в Версале, девятнадцатого апреля тысяча семьсот восемьдесят девятого года.
(Подписал) Людовик. (Скрепил) Лоран де Вилледель».Когда было проставлено в документе имя моего деда, король подписал и передал бумагу Шарлю-Генриху, который принял ее, почтительно преклонив одно колено по обычаю того времени. Таким образом, защитником свободы Шарля-Генриха сделался человек, которого он впоследствии должен был лишить жизни.
Выходя из дворца, у самого подъезда, Шарль-Генрих встретил роскошно одетую женщину с величественною осанкой. За ней шли две придворные дамы и камер-юнкер. Все склонились при виде ее. Швейцар, растворив обе половинки главных дверей, произнес громким голосом:
— Ее величество!
В то же самое время из маленькой потайной двери, ведущей на хоры часовни, вышла молодая женщина, одетая в скромное шелковое платье. Нежные и правильные черты ее выражали необыкновенную доброту. Увидев ее, королева, обратилась к ней с ласковым выражением на лице:
— Ах, как я рада! Мы, кажется, еще не виделись с вами сегодня?
— Это Их величество королева и сестра ее, принцесса Елизавета, — сказал Шарлю-Генриху Сансону швейцар, провожавший его из дворца.
— Не знаю, которая из них производит более сильное впечатление, — с живостью отвечал мой дед. — Королева имеет вид величайшей венценосной особы на земле, зато сестра ее кажется неземным существом.
С этими словами дед мой прошел переднюю и вышел на главный двор. Перейдя поперек весь двор, он подошел, наконец, к решетке и здесь вздохнул свободнее. С особенным удовольствием простился он с громадным зданием дворца и с его знатными обитателями. Во все время пребывания во дворце Шарль-Генрих ощущал какую-то неловкость, какое-то особенное беспокойство, в котором даже сам не мог дать себе отчета. Я не думаю, чтобы это чувство было следствием смущения при первой встрече с повелителем Франции и его супругой. Шарль-Генрих. Сансон, как я не раз говорил, отличался смелым энергичным характером и необыкновенной силой воли: подобное смущение было бы совершенно не в его духе. Поневоле приходится согласиться, что в человеке появляется иногда какое-то смутное и таинственное предчувствие будущего. Мы не можем себе дать отчета в этом предчувствии и, несмотря на то невольно ему подчиняемся. Подобное предчувствие, вероятно, родилось в это время и у моего деда. По странному стечению обстоятельств, во время своего пребывания во дворце, он почти одновременно увидел трех венценосных особ, которым, к несчастию, суждено было под его рукою пасть на эшафоте.
Глава VII Процесс с журналистикой
В конце знаменательного 1789 года поднят был вопрос об изменении уголовного законодательства. Вопрос этот разрабатывался в тогдашнем национальном собрании, которое по обширности и важности своих трудов навсегда останется образцом для представительных учреждений. Еще в октябре этого года доктор Гийотен, депутат от среднего сословия города Парижа, предложил: чтобы смертная казнь производилась одинаковым образом над всеми, без различия сословий; чтобы казнь эта состоявшая в обезглавливании совершалась быстро и наименее мучительно. Это предложение, сначала отсроченное до более удобного времени, было возобновлено Гийотеном, 28 ноября и, наконец, предложено на обсуждение в заседании 1 декабря. Первое предложение было принято с энтузиазмом. Равенство сословий было одним из основных начал национального собрания; кроме того, почти все депутаты имели от своих избирателей поручение требовать отмены прежних жестоких казней. Но не так легко было помирить депутатов со второй частью предложения. Прошло еще более двух лет, прежде чем это предложение было принято и вошло в силу. Это время было употреблено на обсуждение различных родов казней вообще и способов обезглавить обвиняемого в частности. Впрочем, я еще возвращусь к этому предмету и постараюсь представить точный и верный исторический очерк всех изысканий, которые навели на мысль о гильотине и заставили сделать этот снаряд единственным орудием смертной казни.
Между тем Национальное собрание довершило начатое им великое дело: за заявлением о правах человека вообще последовало объявление о политических и гражданских правах гражданина. Это обстоятельство дало возможность моему деду снова поднять вопрос о правах своего сословия. Я не могу умолчать об этом обстоятельстве и потому сообщаю здесь ход этого дела. Читатели, вероятно, не забыли еще энергичной речи Сансона во время процесса его с маркизой де X… после их случайной встречи и ужина в деревенской гостинице. В этой речи проявился взгляд моего деда на свои обязанности. Энтузиазм, с которым он говорил о высоком значении своего звания, можно объяснить только привычкой и влиянием полученного им воспитания. Впоследствии совершившиеся события и собственный опыт значительно изменили его образ мыслей. Но в то время, нужно сознаться, Шарль-Генрих Сансон был убежден или, по крайней мере, хотел казаться убежденным в высоком значении своего звания и энергично восставал против предрассудка, покрывавшего его позором. Поэтому он со свойственной ему настойчивостью решился пустить в ход все, что только могло содействовать к восстановлению его прав.
Национальное собрание, на своем заседании 24 декабря 1789 года, издало указ, который, определяя права граждан, казалось, обращал особенное внимание на религиозную сторону вопроса о равенстве и старался уравнять права граждан без различия их вероисповеданий. Поэтому в этом указе предоставлялись не католикам полные права на выборах и допущение ко всем гражданским и военным должностям. Только в одном последнем постановлении были употреблены следующие выражения: «Между прочим постановляется, что никто не может быть лишен прав на звание гражданина иначе, как на основании существующих государственных узаконений».
Это уже значило косвенным образом признать законность притязаний моего деда, потому что не существовало ни одного закона, который исключал бы исполнителя из числа граждан. Всякий другой ограничился бы этим успехом, но мы увидим впоследствии, что дед мой пошел далее и старался добиться более блистательного признания прав своих.
Но прежде чем сообщать об этом, я считаю необходимым рассказать об одном происшествии, случившемся через несколько дней после обсуждения вопроса о правах гражданина и вышеупомянутого Декрета Национального собрания. Я уже прежде упомянул, что дом наш на улице Нев-Сен-Жан состоял из нескольких отдельных строений. Дед мой не нуждался в таком большом помещении и потому решился отдать внаем часть своего дома. В числе его жильцов находился некто г. Розе, типографщик, издававший различные сочинения о поднятых в то время вопросах. Нам известно, до какой степени были возбуждены умы всех в эту эпоху. Поэтому неудивительно, что Розе, принадлежавший к умеренной партии защитников конституционной монархии и постепенного развития путем мирных реформ, подвергся нападениям партии демагогов, которые, хотя и скрывали еще свои намерения ниспровергнуть существующую власть, но уже носили в себе эту мысль и время от времени, против своей воли, высказывали ее. Г. Розе владел хорошо языком и умел очень язвительно отвечать на всевозможные нападки. Следствием этого была полемика, которая не замедлила породить озлобление в его противниках и возбудить страсти буйной толпы народа.
Вдруг одновременно все периодические издания самых разнородных направлений и самых разнохарактерных взглядов единогласно восстали против типографии Розе. Особенно странно было то, что все эти нападки были обращены не на г. Розе, а на моего деда, как будто он был хозяином типографии. Этим путем, без сомнения, враги Сансона хотели противодействовать требованиям, которые он заявил Национальному собранию.
Дед мой не мог более переносить эти оскорбления. Если бы он потребовал от своих оскорбителей удовлетворения с оружием в руках, то заранее мог быть уверен, что благодаря существующему предрассудку требования его будут отвергнуты с негодованием, и никто не согласится драться с ним. Поэтому ему осталось одно средство — искать удовлетворения судебным порядком. Вследствие этого, Шарль-Генрих Сансон решился изложить все эти оскорбительные выходки в суде исправительной полиции при парижской ратуше, обсуждению которой подлежали такого рода личные оскорбления.
На этот раз он был счастливее, чем в 1766 году и нашел себе адвоката, взявшего на себя хлопоты по этому делу. Таким образом, он избавился от труда являться в суд и, главное, говорить публично. Этот адвокат был г. Матон де ла Варенн, который добросовестно взялся за это дело и с этой минуты стал истинным другом нашего семейства.
Дело было начато 15 января 1700 года; но по прочтении обвинительных пунктов, дальнейшее рассмотрение его было отложено до 27 того же месяца.
На этот раз явились все обвиненные, кроме г. Горса, редактора журнала. Моему деду было очень легко доказать, что он никогда не был арестован, и что печатные станки находились не у него, а у его жильца г. Розе, которому он отдал квартиру внаем, наведя предварительно все необходимые справки. Кроме того, г. Матон де ла Варенн доказал, что статьи г. Розе не содержали в себе ничего, чтобы могло оскорбить самый яростный патриотизм, тем более, что все отобранные у него издания были возвращены ему на третий же день с позволением продолжать работы в типографии. Мне кажется не лишним привести здесь несколько отрывков из защитной речи г. Матона. Речь эта была напечатана моим дедом, и несколько экземпляров ее сохранилось у меня до настоящего времени. Предоставляю читателям самим обсудить этот любопытный образчик юридического красноречия того времени. Несмотря на высокопарный тон этой речи, в ней можно встретить очень здравые мысли и глубоко прочувствованные места. Все-таки я думаю, что эта речь гораздо выше моих разглагольствований, которыми я, вероятно, уже давно надоел моим читателям.
Вот вступление к этой речи, и некоторые места, отличающиеся особенною смелостью.
«Милостивые государи!
Обязанность адвоката, как толкователя законов — быть беспристрастным, как сам закон. Адвокат должен стоять выше всяких предрассудков и не имеет права бояться, падать духом и уступать в виду уродливых предубеждений, укоренившихся в обществе. На помощь адвоката имеют право рассчитывать все, без исключения, а не те только лица, звание которых пользуется уважением в обществе. Адвокат не имеет даже права разбирать звания и положение в обществе своих клиентов. Все это неопровержимые истины и, не приняв в расчет всего этого, я, быть может, никогда бы не решился взять на себя обязанность защищать перед судом дело г. Сансона.
Мне кажется, милостивые государи, что более всего делает честь нашему званию то, что мы с особенным рвением защищаем и покровительствуем слабым и угнетенным. Адвокат всегда должен быть готов явиться на помощь ко всякому невинно оскорбленному человеку, к беспомощной вдове и сиротам, которых лишают последнего достояния, словом, ко всякому, кто только попросит у нас помощи. Всякое убеждение, всякая мысль, которая может помешать нам добросовестно исполнять свои обязанности, есть уже преступление. Поэтому в настоящее время я являюсь здесь защитником г. Сансона от бесстыдной клеветы, бессовестной лжи и самых гнусных пасквилей, опубликованных против него некоторыми из наших дерзких публицистов. Эти господа не задумались оскорбить Сансона, которого смело можно назвать безупречно-добросовестным гражданином, и принудили его искать себе защиты у правосудия. В заседании 16 числа этого месяца я уже имел честь, милостивые государи, представлять вам ряд журнальных пасквилей, в которых в самом отвратительном виде выставлено защищаемое мною лицо. По словам этих пасквилей клиент мой — один из главных предводителей партии аристократов и вместе с ними составил заговор с целью противодействовать совершающемуся в настоящее время возрождению нашего отечества.
Вы видели, господа, что в этих пасквилях на дом г. Сансона указывают, как на главный притон, в котором собираются враги народа, где составляют план подавить нашу свободу и откуда выходят возмутительные статьи и прокламации, распространяющиеся в Париже и в провинциях; в ваших руках все сведения о небывалых допросах, на которых мой клиент будто бы сознался в возводимых на него обвинениях. Вероятно вы, милостивые государи, вполне разделяете то негодование, которое должен чувствовать каждый гражданин в этом случае. Вероятно, и вас возмущают оскорбительные выходки и ожесточенные нападки писателей-памфлетистов, которые по своим дарованиям могли бы быть полезными своему отечеству, если бы пошли по другой дороге и стали употреблять свои способности для того, чтобы вразумлять и просвещать народ. Поэтому прошу вас, милостивые государи, вторично выслушать чтение этих наглых памфлетов; вы еще раз убедитесь, что никогда еще клевета и злоба людей не выражались с такой смелостью, как в настоящем случае; вы почувствуете, как необходимо преследовать подобные беспорядки, угрожающие личной безопасности многих граждан и в том числе моего клиента».
Тут г. Матон де ла Варенн прочел вторично известные уже выдержки, обращая особенное внимание судей на те выражения, которые по существующим законам должны считаться преступлением. По окончании чтения он продолжал речь свою следующим образом.
Я спрашиваю теперь вас, милостивые государи, спрашиваю присутствующую публику, спрашиваю самих господ Прюдомма, Горса, де Болье, Дессантиса и Демулена, а также издателей и распространителей их статей. Может ли что сильнее уязвить человека, чем клевета и оскорбление? Нет, уверяю вас, нет. Кровь закипает от негодования при чтении этих наглых выходок. Только та воздержанность и умеренность, которые, по словам бессмертного д’Агессо, должны составлять существеннейшую обязанность оратора, только уважение к вам и к тому месту, где я нахожусь, могут сдерживать порывы этого негодования.
Неужели мой клиент после всего этого не имеет права на удовлетворение своих требований? Я не смею даже сомневаться в этом, милостивые государи. Подобное сомнение с моей стороны было бы доказательством очень нелестного мнения о ваших взглядах на вещи и вашей справедливости.
«Клевета», — говорит г. Даро, в своем трактате об оскорблениях, — есть такое опасное зло общества, которое никогда не следует оставлять безнаказанным. В клевете заключается все, что только может быть гадкого и низкого в преступлении. Один из знаменитых наших писателей, прославившийся своими дарованиями и перенесенными им несчастьями, говорит, что клевета действует на душу, как яд действует на тело. Против клеветника, почти невозможно защищаться. В тысячу раз легче распустить слух, пятнающий честное имя гражданина, чем отравить его каким-нибудь ядовитым составом. Поэтому наказание за клевету должно соответствовать трудности защищаться от нее. Против клеветы нет таких противоядий, которые существуют против отравлений обыкновенными ядами. Далее тот же автор говорит следующее. Все, что не встречает противоречия, обыкновенно считается неопровержимо истинным. Поэтому часто в самое короткое время самая возмутительная клевета, без дальнейшего разбора, принимается за истину… Проходит немного времени, и общий голос произносит уже приговор над несчастной жертвой клеветы. Наконец дело доходит до того, что даже самые благоразумные люди вынуждены бывают поверить и согласиться с голосом толпы.
Из всего сказанного нами очевидно, что никогда нельзя упрекнуть суд в излишней строгости, как бы ни было сильно наказание, к которому приговаривают клеветника и оскорбителя чести. Из всех родов оскорблений, которые можно нанести гражданину, клевета, без сомнения, заслуживает самое строгое наказание, потому что к ней способны только низкие и безнравственные люди.
Если правосудие самым строгим образом преследует за клевету, распространяемую словесно, то какому же наказанию должно подвергнуть за клевету печатную и опубликованную для всеобщего сведения. Не правда ли, что такая клевета должна навлечь на себя самую страшную кару правосудия?
Затем адвокат моего деда начал разбирать все постановления, которые единогласно говорят о справедливости строгого возмездия за клевету и оскорбления. Он начал с самых древних законов. Так он привел 13 статью положения 17 января 1561 года, 11 статью из постановлений де Мулена, статью из положения 1571 года, и 14 статью указа, изданного в сентябре 1577 года. Во всех этих законоположениях предписывалось подвергать телесному наказанию авторов, составителей и издателей всевозможных оскорбительных пасквилей. Тому же наказанию повелевается подвергать всех тех, кто распространяет подобные пасквили и вообще злословит и клевещет на своего ближнего.
Потом г. Матон упомянул о так называемых драконовых постановлениях от января 1626 и августа 1686 года, тем более что эти постановления были применены во всей своей силе при осуждении несчастного Ларше, как мы уже видели это в деле Скаррона. В первом из этих постановлений было сказано, что всякий, кто будет обличен в соучастии или распространении оскорбительных пасквилей, будет казнен смертью; а в другом, что эти преступления должны быть наказываемы по всей силе существующих законоположений. Это выражение, как видите, нисколько не смягчает чудовищной жестокости наказания за клевету, а даже подтверждает предыдущий закон.
Затем г. Матон де ла Варенн перешел к новейшим узаконениям. Хотя в них и не назначалось таких жестоких наказаний клеветникам, тем не менее, все они единогласно стремятся уничтожать и карать клевету. Наконец адвокат моего деда закончил свою речь следующим образом:
«Журнальные статьи, на которые жалуется гражданин, доверивший мне защиту своего дела, наносят тяжкое оскорбление его чести. Эти статьи произвели и до сих пор еще производят сильнейшее брожение умов в столице и в провинциях. На основании их одни распространяют слухи, что г. Сансон, не видя исхода из этого дела, застрелился в темнице; другие говорят, что его скоро повесят, а тело его разрежут на куски, которые прикрепят к воротам Парижа; наконец, третьи утверждают, что его должны помиловать, принимая во внимание те важные показания, которые он обещает сделать о замыслах врагов революции. Принимая все это во внимание, кажется, нет никаких препятствий удовлетворить требования моего клиента и постановить, чтобы авторы клеветы, на которых он жалуется, удовлетворили его, отказались от своих слов и уплатили убытки, в которые он был вовлечен этим делом.
Вы выслушали, милостивые государи, главные основания моего иска. Иску этому должен сочувствовать весь народ, потому что дело идет о личной безопасности гражданина и его семейства. Мой клиент требует себе прав человека; он требует удовлетворения за те оскорбления, которые сыпались со всех сторон на его честное имя. Я знаю вашу справедливость и уверен, что вы не откажете ему. Как велико бы ни было удовлетворение, оно все-таки не будет в состоянии загладить все обиды, нанесенные ему. Дело сделано; клевета и поношение честного имени, которые, я имел честь изложить вам, достигли своей цели и опозорили имя моего клиента. В настоящее время нет уже средств обратить позор на самих клеветников.
Я от души желал бы, чтобы мой клиент имел возможность публично высказать вам те чувства, которые он высказывал мне, когда просил меня о помощи. Если бы ему было позволено в вашем присутствии высказать свои убеждения и доказать свой патриотизм, то он бы повторил вам, милостивые государи, следующие слова, сказанные им мне: „Скажите мне, в чем виноват я перед теми господами, которые так бессовестно и немилосердно позорят меня в статьях своих? Чем докажут они ту клевету, которую печатают против меня? Какую пользу находят они, оскорбляя без причины человека и гражданина, который и без того несчастлив, потому что ему на долю выпала очень грустная обязанность, и душа его почти ежедневно потрясается самыми возмутительными сценами. Сограждане, прибавил бы мой клиент, неужели я могу изменить родине и народу в ту минуту, когда совершается возрождение нашего отечества, когда уничтожается гнусный предрассудок, покрывавший имя мое позором; наконец, в ту минуту, когда нация решилась восстановить мои права как человека и гражданина? Нет, это невозможно. Клянусь вам, что я не только не могу принимать участия во всех этих заговорах и покушениях, но уже одна мысль о них ужасает меня. Мало этого, я торжественно проклинаю всех тех безумцев, которые хотят разрушить здание свободы, воздвигнутое патриотизмом отцов нашего отечества; я проклинаю всех тех злодеев, у которых мог родиться святотатственный замысел посягнуть на жизнь великих основателей и защитников свободы“.
На одном из предыдущих заседаний господин прокурор в вашем присутствии, со свойственной ему энергией и красноречием, выставил вам все опасные последствия тех пасквилей, которые ежедневно рождаются вследствие так называемой свободы книгопечатания. Свобода эта сделалась некоторым образом правом клеветать на ближнего; благодаря этой свободе, забыты все приличия и законы; наконец, свобода эта, едва только успела возникнуть, как уже обратилась в самовольство и попирает строгость наших нравов и мудрость наших постановлений. Предоставляю народному суду дальнейшее обсуждение этого дела. В заключение замечу только, что для успокоения жителей столицы и провинций в клевете, на которую приносит жалобу мой клиент необходимо издание и обнародование, по крайней мере, трех тысяч экземпляров вашего приговора. Зная ваше правосудие, клиент мой ждет от вас такого решения, которое доказало бы всей Франции, что соблюдение порядка составляет постоянный предмет ваших попечений, что вам равно драгоценны права всех граждан без исключения и что вы ко всем одинаково беспристрастны».
Таким образом окончил свою защитную речь г. Матон де ла Варенн. Все обвиненные присутствовавшие на заседании, кроме неявившегося Горса, изъявили согласие отказаться от своих слов, и суд относительно каждого из них дал свое решение. Впрочем, сущность этих решений была почти одна и та же. Прюдомму, де Болье, Дессанти и Камилу Демулен было предписано поместить опровержение на слова свои в первых номерах своих журналов и заплатить за судебные издержки. Вместе с этим их обязывали быть впредь осторожнее и избегать подобной клеветы. Против отсутствовавшего Горса трибунал вынес следующий приговор.
По выслушанной защитной речи г. Матона де ла Варенна, в полном заседании суда и в присутствии г. прокурора, решено следующее:
«Трибунал, признавая виновным господина Горса, определяет, чтобы статья его, помещенная в 19 номере журнала, начинающаяся словами: „…много было толков об исполнителе уголовных приговоров“, и оканчивающаяся фразами: „…с таким красноречием, с каким доказали в Национальном собрании, что он должен быть избран, должна быть уничтожена, как ложь и клевета. Вместе с этим суд повелевает, чтобы вышеупомянутый Горса отказался от своих слов в следующем же номере своего журнала, присуждает его к пени в сто ливров за убытки клиента г. Матона де ла Варення. Пеня эта, с согласия истца, обращается в пользу бедных округа Святого Лаврентия. Кроме того, под страхом строгого наказания воспрещается впредь печатать и распространять что-либо подобное этой клевете“.
„Суд повелевает также, чтобы настоящее решение его было отпечатано в числе трехсот экземпляров и разослано в шестьдесят разных округов за счет вышеупомянутого Горса. При этом суд возвращает прошение обеим сторонам и присуждает Горса как виновного к уплате всех судебных издержек, и т. д.“»
Горса, был человек очень сомнительной нравственности. Менее чем за два года до этого, он был заключен в Бисетре, за безнравственность и злоупотребление властью над учениками пансиона, в котором он был директором; поэтому неудивительно, что он один только захотел продолжать это дело. Он подал апелляцию на решение суда, и дело было предложено для пересмотра на заседании 3 февраля. В то же время Горса, очертя голову, нагло продолжал свои нападки на моего деда.
Это обстоятельство послужило г. Матону де ла Варенну поводом к новой речи, которую на этот раз я мог привести целиком:
«Милостивые государи!
Очень умеренный и справедливый приговор против г. Горса, произнесенный вами на заседании 27 числа прошедшего месяца, заставил нас было предполагать, что г. Горса не замедлит подчиниться ему и загладить свой проступок, вполне заслуживающий самого строгого наказания. Но теперь мы должны сознаться, что, предполагая это, мы имели слишком лестное мнение о г. Горса и, к сожалению, ошиблись.
Господин Горса, увлеченный, без сомнения, чьими-нибудь неблагонамеренными советами, решился не подчиняться вашему приговору. Неужели он думает, что можно безнаказанно клеветать на честных людей потому только, что они, по-видимому, не имеют сильных защитников и покровителей? Неужели ему неизвестно, что суд открыт для всех, без исключения, и что авторы пасквилей всегда находят тут наказание, установленное для врагов и нарушителей общественного порядка.
Вы знакомы уже, милостивые государи, со статьей, помещенной в 19 номере журнала и прочитанной мною на прошедшей неделе. Вы видели, что противник обвиняет моего клиента в том, что он будто бы имел у себя типографские станки, на которых печатались возмутительные пасквили, рассылаемые по провинциям, с целью подстрекать народ к мятежу и убийствам; все это — подлинные слова г. памфлетиста. Далее он говорит, что на гадкой и извилистой улице Сен-Жан, в доме презренного палача, происходили собрания, достопочтенные члены которых успешно приводили в исполнение свои замыслы; из этого-то вертепа исходили те возмутительные прокламации, которые злоумышленники осмелились распространять за печатью Национального собрания».
Я сообщил уже вам, что г. Горса публично заявил об аресте и заключении в тюрьму моего клиента; вам известны также все рассуждения г. памфлетиста по этому случаю.
Распространяя по всей Европе такого рода клевету против гражданина, известного своим патриотизмом, г. Горса еще смеет надеяться найти у вас помилование и добиться уничтожения того приговора, который вы произнесли против него в одно из последних заседаний. Позвольте надеяться, милостивые государи, что г. памфлетист ошибается в расчете. Мне кажется, что питаемая им надежда избегнуть заслуженного наказана только оскорбляет и ваше правосудие, и ваш безукоризненный взгляд на совершающиеся события, и даже те законы, на которые вы опираетесь.
Господин Горса не ограничился одним распространением тех обвинений, которые мы вам уже изложили. С тех пор как мой клиент стал требовать удовлетворения судебным порядком, г. Горса осмелился поместить его в числе тех лиц, которых он величает тунеядцами и наемными убийцами и удивляется, как еще мог исполнитель уголовных приговоров найти себе и помощников в среде наших гражданских чиновников, и адвокатов в суде.
Принимая во внимание все эти выходки, кажется, что г. памфлетисту хочется вынудить нас поглядеть построже на его поведение. Быть может, он желает, чтобы мы объявили то мнение, которое составили о нем жители округа Кордельер, где он жил когда-то? Быть может, ему угодно, чтобы мы заявили те предложения, которые делались относительно его по другому случаю, впрочем также за клевету, помещенную в одном из номеров его журнала? Нет, милостивые государи, мой клиент снисходительнее своего противника и не сделает этого. Но пусть же и противник этот образумится, пусть он побоится той минуты, когда мой клиент перестанет щадить его и будет вынужден предоставить некоторые факты, пока скрываемые им из скромности. Пусть он вспомнит, что не клиент мой тунеядец и наемный убийца… Наконец, пусть Горса примет к сведению и то, что не следует являться в суд с требованием правосудия человеку, уличенному в небезукоризненном образе жизни и известному своими антипатриотическими чувствами.
Что же касается удивления, с которым господин Горса отказывается относительно нашей смелости при защите г. Сансона, то мы ограничимся следующим ответом, который, я думаю, разделяют все лучшие представители нации. Все люди должны пользоваться предоставленными им правами в гражданской жизни. Мы же, со своей стороны, считаем самой прямой, самой святой обязанностью своей, защищать от притеснений угнетенного, кто бы он ни был. При этом не обращаем внимания на то, что думают о нас все низкие и бессовестные люди, все негодяи и клеветники.
На одном из предыдущих ваших заседаний, мы уже высказали наши сожаления о тех пагубных последствиях, которые вызвала свобода книгопечатания. Что же заставило нас, милостивые государи, так резко отозваться об этой свободе? Мы вполне убеждены, что эта свобода была новым шагом вперед на пути разумного прогресса и цивилизации; мы верим, что со свободой книгопечатания рухнули те преграды, которыми некогда думали ограничить деятельность человеческой мысли. Но зачем же свободное слово, это великое право свободного народа, так быстро стало орудием клеветы в руках недобросовестных людей. Это право, эта свобода, больше всех стеснений, должны были напоминать нам о наших обязанностях. Пусть господин Горса, вместо того чтобы клеветать на порядочных людей, посвятит себя тому, чтобы защищать их. Пусть он станет трудиться для честного и разумного обсуждения поднятых вопросов, для разъяснения современных начал общественной жизни, для вразумления и поучения народа, — и мы первые сделаемся поклонниками г. Горса и энергичными защитниками свободы книгопечатания.
Но, милостивые государи, пора прекратить смуты, производимые пасквилями в столице и в провинциях, пора наказывать за клевету, имевшую уже такие ужасные последствия в некоторых местах государства! Клиент мой поручает вам свое дело и просит вас отомстить за него. Уплата убытков, обнародование вашего решения, одним словом, подтверждение того приговора, против которого протестует господин Горса, может только отчасти вознаградить за то зло, которое причинено его пасквилями.
Горе ему, если он и на этот раз будет упорствовать и не признает справедливости произнесенного над ним приговора, если он сам не признает себя виновным. В таком случае, с ним следует поступить по всей строгости законов; придется перестать щадить его и оставить его на произвол судьбы; пусть он сделается предметом всеобщего презрения, вполне заслуженного им.
Я прошу решения суда и повторяю те требования, которые высказаны мною в первой моей речи.
Суд почти полностью подтвердил свой прежний приговор; но Горса, который на втором заседании, наконец, раскаялся, обещал немедленно отказаться от своих слов и умолял не обнародовать приговора, вскоре показал пример самого бесстыдного вероломства. Уже в одном из номеров своего журнала, от 28 января, он позволил себе самые плоские выходки на счет процесса, из которого едва успел кое-как выкарабкаться.
Но это еще не все: на третий день после заседания, на котором он отказался от своих слов, он сумел позабыть об обещаниях своих и тех просьбах, которые убедили моего деда не требовать обнародования приговора. 5 февраля, в одном из номеров своего журнала, он снова позволил себе сделать желчное и ироническое замечание, которое доказывало все упрямство этого характера и все бесстыдство, с которым он изменял своему слову. По случаю несчастного дела маркиза Фавра, которое в это время только что началось, он сказал следующее:
«Допросы свидетелей в оправдание обвиненного продолжаются, и полагают, что королевский прокурор по пустому трудится, а г. маркиз напрасно беспокоится о своей участи. Вероятно моему согражданину, парижскому палачу Сансону придется отказаться от надежды казнить г. маркиза».
Под этой шуткой скрывалось самое наглое бесстыдство, самое полное презрение к данному слову и авторитету судебного решения. Таким образом, вместо отречения от своих слов, г. Горса состряпал новый пасквиль, который своею смелостью и цинизмом должен был превзойти все то, за что он только что подвергся осуждению. Я нарочно рассказал с такими мелкими подробностями это дело, чтобы дать понятие о смелости и характере памфлетов, ознаменовавших в то время свободу книгопечатания. Двум из названных нами писателей, Горса и Каммиллу Демулен, через некоторое время самим пришлось поплатиться на эшафоте за свою дерзость и попасть в руки того самого палача, который подвергался их презрению и насмешкам. Так угодно было революции, которая умела искупать свои ошибки, заблуждения одними только преступлениями. Она, сама того не зная, сошлась в своих убеждениях с беспощадными убеждениями де Местра и сделала палача, краеугольным камнем воздвигаемого ею здания.
Вспомнили ли Горса и Демулен в эту роковую для них минуту о процессе 1790 года. Впрочем, все это мы увидим впоследствии. Теперь другие предметы привлекают мое внимание. Горса ошибся: несчастный Фавра не понапрасну беспокоился, и я приступаю к описанию его казни. Теперь мы вступили в эпоху революции. По словам одной баллады, мертвецы ходят скоро; в настоящее время мертвецы поджидают меня.
Глава VIII Братья Агасс и маркиз де Фавра
Я познакомил уже моих читателей с последним днем колеса, уничтоженного негодованием народа. Теперь я приступаю к описанию последней казни в духе средних веков, к казни на виселице, которая еще стояла в то время на Гревской площади. Впрочем, это орудие казни также было осуждено и только ожидало своего разрушения. Но, как нарочно, за несколько дней до того, когда всем предоставлена была честь умирать на эшафоте дворянской смертью, вследствие обезглавления, один дворянин должен был поплатиться за возникающее равенство и погибнуть на виселице.
Мы знаем, что до этого времени казнь эта считалась позорной и к ней присуждались только простолюдины. Кроме того, эта казнь примечательна еще тем, что она была первой в длинном ряду политических убийств, скоро сделавших Францию страной всеобщей скорби, траура и крови.
В достопамятный день 21 января 1790 года Национальное собрание утвердило закон об однообразии смертной казни для всех сословий без исключения.
Это постановление было основанием нового порядка вещей, следствием которого было уничтожение всех прав и привилегий французского дворянства. Уже 4 февраля этого года казнь братьев Агасс доказала, что на этот раз народ вполне сочувствует своим законодателям.
Братья Агасс были молодые люди самого знатного происхождения. Они были арестованы и приговорены к смертной казни за подделку и распространение фальшивых кредитных билетов.
Их дед, почтенный восьмидесятилетний старец, был в то время президентом в округе Сент-Оноре.
23 января в общем собрании членов этого округа один из них, барон де Жирон, сказал речь о тех великих и гуманных идеях, которые проведены в новом законодательстве.
В то же время он высказал собранию те чувства, которые заставили удалиться из их среды почтенного президента, г. Агасса, и предложил идти к нему и постараться утешить его. Он говорил, что только ложный стыд не позволяет их президенту явиться сюда. Поэтому, говорил он, необходимо заявить ему, что его сограждане единодушно осуждают старый предрассудок, покрывавший позором целое семейство потому только, что один из его членов оказался негодяем и преступником.
Предложение г. де Жирона было принято с необыкновенным энтузиазмом.
Тотчас же отправлена была депутация к г. Агассу. Она возвратилась в собрание вместе с ним и некоторыми членами его семейства. Когда г. Агасс занял свое кресло, то все присутствовавшие приветствовали его единодушными рукоплесканиями.
Этот благородный энтузиазм не ограничился этим. Общество, желая дать брату осужденных новое доказательство своего к нему сочувствия и расположения, заявило желание, чтобы молодой Агасс был назначен лейтенантом гренадеров. По этому случаю спросили согласие у Лафайета как главнокомандующего войсками. Лафайет, вполне сочувствуя этому благородному намерению, решился сделать даже молодому офицеру торжественный прием.
Братья Агасс были казнены 8 февраля. По этому случаю я снова приведу здесь слова современника этой эпохи Прюдомма. Вот отрывки из описания этой казни. Характер эпохи, как нельзя лучше, обрисовывает ту лихорадочную экзальтацию, которой проникнуто каждое слово Прюдомма.
«В понедельник, 8 числа, назначена была казнь двух братьев Агасс, осуждение которых было, как мы знаем, причиной той геройско-благородной выходки, которой ознаменовали себя члены округа Сент-Оноре. Поэтому всем округам предписано было выслать в этот день на Гревскую площадь сильные отряды национальной гвардии».
«Братья Агасс, молодые люди, обвиненные и уличенные в подделке фальшивых кредитных билетов, были приговорены к публичному покаянию в преступлении перед биржей и к смертной казни на виселице. Дело было передано на аппеляцию в парламент, который избавил их от публичного покаяния, но утвердил смертный приговор. Нам кажется, что братья Агасс вполне заслужили быть наказанными публичным позором и торжественно покаяться в своем преступлении. Смертный приговор такого рода преступникам мог еще состояться у народа, находящегося в рабстве, но не мирится с духом великой и свободной нации. Если наказывать смертью подобные преступления, то что же останется для наказания убийц, отцеубийц и изменников отечеству?»
«В десятом часу утра был прочтен приговор. Со старшим из братьев стало дурно, но младший сохранил присутствие духа. „Как так! — вскричал он, — значит нашим судьям не доступно чувство человеколюбия? Нам — смертный приговор! Милостивые государи, — прибавил он, обращаясь к присутствовавшим, — приятно ли вам быть свидетелями этой ужасной сцены?“»
«Господин помощник уголовного судьи обратился к нему с трогательной речью. Он исполнил уже свою суровую обязанность и счел за честь явиться утешителем осужденных. Он старался их утешить тем, что передал им новое постановление национального собрания и поступок членов округа Сент-Оноре и сообщил им, что их семейство не сделается жертвой предрассудка, покрывавшего позором семейства осужденных. Во все время переезда от Шателе до Гревской площади молодые люди протягивали свои руки к народу и кричали: „Господа, просите о пощаде нам, мы раскаялись“. Народ кричал: „Пощады! Пощады!“ Этот крик был вызван и чувством сожаления, и голосом рассудка. Народ знал о преступлении и видел преступников, но никак не мог понять, отчего для них не выбрали другое какое-нибудь наказание, кроме смертной казни. Народ редко рассуждает, но врожденное чувство справедливости сказало ему, что нет никакой связи между подделкой кредитных билетов и лишением жизни человека».
«Братьев Агасс отвели в Ратушу, и вскоре палач вышел оттуда вместе с младшим братом. После продолжительных приготовлений казнь была совершена. Заметим, что на шляпе палача в это время была национальная кокарда».
«Затем палач снова отправился в Ратушу за старшим братом. Едва несчастный молодой человек сошел с крыльца, как увидел тело своего брата, качавшееся на виселице. Рядом стояла другая виселица, поджидавшая его самого. Палач и помощники его заставляют несчастного Агасса подойти к брату, умирающему на виселице, Агасс отворачивает голову, и силы оставляют его; ему закрывают лицо платком и относят к подножию виселицы, на которой он через несколько минут испускает свой последний вздох».
«Я читал приговор братьев Агасс; в нем ни слова не сказано о том, что один из осужденных должен присутствовать при казни другого. Поэтому ни чиновники, ни исполнители, ни в каком случае не имеют права осложнять наказание обстоятельствами, не упомянутыми в приговоре».
«Так как оба преступника были приговорены только к смерти без всякого осложнения, то следовало буквально исполнить этот приговор, Для этого нужно было сперва повесить одного брата и потом скрыть труп его от глаз другого. В данном случае видно самоуправство и бесчеловечность, как со стороны судьи, присутствовавшего при казни, так и со стороны исполнителя. Они нарушили приговор обстоятельством, которое значительно усилило наказание».
«Говорят, так принято… Каннибалы! Да что мне за дело до ваших гнусных обычаев? Разве преступник перестает быть вашим братом? Не забывайте, что преступник — гражданин, который обязан уплатить свой долг обществу. Общество, со своей стороны, обязано предоставить этому должнику всевозможные льготы. Нечего удивляться тому, что французы до революции часто бывали немыми свидетелями даровых спектаклей, на которых разыгрывались такие жестокие драмы; в то время мы не пользовались еще правами человека, правами гражданина. Но грустно было видеть, что после революции триста тысяч свободных французов промолчали и не потребовали, чтобы скрыли труп казненного от глаз человека, который вскоре в свою очередь должен был подвергнуться смертной казни. Нет, не далеко еще ушли французы!»
«Вот еще один факт, за достоверность которого я ручаюсь. Кто-то из граждан подошел было к эшафоту с приговором в руке и заявил вполне справедливый протест против этой возмутительной сцены, но его оттолкнули от эшафота национальным штыком».
«Тела обоих братьев были отданы их родственникам, которые похоронили их в церкви Сент-Андре-де-з’Ар. Большое стечение граждан, присутствовавших при этом погребении, ясно доказывает, что братья Агасс унесли с собою последние остатки того предрассудка, по милости которого принято было мстить преступнику и его родственникам даже после того, когда преступление было искуплено казнью. Мы со своей стороны удивляемся только тому, как мог столько веков держаться такой нелепый предрассудок!»
В это время суд Шателе стал Верховным судом, и в нем имели место три знаменитых процесса, особенно возбудившие народные страсти. Первый из них был процесс генерального откупщика Ожара, обвиненного в том, что он будто бы дал взаймы деньги, на которые наняты были войска, собранные на Марсовом поле; второй процесс барона Безенваля, полковника и главного начальника швейцарцев, принявшего на себя командование войсками на Марсовом поле в прошедшем июле; и, наконец, третий процесс маркиза де Фавра, обвиненного в том, что он хотел ввести ночью в Париж вооруженных солдат, умертвить главных предводителей революции, овладеть королевскими печатями и отвести короля и королевское семейство в Перрон.
Ожар и Безенваль были признаны невиновными, и оправдание их возбудило всеобщее негодование, которое еще более раздувалось ежедневными памфлетами и журналами. Это обстоятельство поставило маркиза де Фавра в очень опасное положение.
Томас Маги, маркиз де Фавра, родился в 1745 году в Блуа. У него было еще два брата. Один из них назывался бароном Маги де Кармере, а другой г. де Шитене. В 1760 году маркиз де Фавра поступил в мушкетеры и участвовал в компании 1761 года; затем в чине майора перешел в Бельзионский полк и наконец был определен лейтенантом в швейцарскую гвардию Его высочества, брата короля.
В 1774 году маркиз де Фавра женился, вышел в отставку и отправился в Вену, где заставил признать свою жену единственной и законной дочерью князя Ангальт-Шаумбургского. Увлеченный своей отвагой и предприимчивостью, он отправился оттуда в Голландию. Здесь в 1787 году вспыхнуло восстание некоторых штатов, против штатгальтера. Маркиз де Фавра принял участие в восстании и стал командиром отряда инсургентов.
В 1789 году ему уже было около сорока пяти лет, от роду, но зрелый возраст не охладил пылкости его воображения и энтузиазма и не уничтожил в нем страсти к отважным поступкам.
При всем этом маркиз де Фавра представлял тип дворянина того времени, соединявшего в себе в одно время благородство, изящество в обращении и чувство собственного достоинства.
Он был свидетелем смут 5 и 6-го октября, видел, как священное жилище королей стало театром кровавой сатурналии. Эти сцены возбудили его негодование, и с рыцарской самоотверженностью он решился спасти короля и королеву от опасностей, которые им угрожали.
Маркиз де Фавра составил план для освобождения короля. Впрочем, в эту эпоху не было ни одного человека, преданного монархии, который бы не составлял подобного плана. Но при своем предприимчивом характере маркиз не мог ограничиться одним проектом для бегства короля. С большим усердием, хотя и не совсем осторожно, начал он искать средства для осуществления этого проекта.
Если этот проект был составлен именно в том виде, в каком передает его нам в своих мемуарах сыщик Бертран де Моллевиль, то должен согласиться, что он был также несбыточен, как и все прочие проекты, составленные для бегства Людовика XVI.
Главная мысль этого проекта заключалась в том, чтобы собрать тридцатитысячную армию роялистов; набор и вооружение этой армии должны были производиться так тайно, чтобы ничто не обнаруживало этих приготовлений до минуты действия.
Но для подобного рода действий необходимы были и деньги, и умение хранить дело в тайне; к сожалению, всегда очень трудно бывает соединить эти два условия. Маркиз де Фавра стал хлопотать о том, чтобы собрать как-нибудь средства, необходимые для этого мероприятия.
С этой целью он сообщил свой план очень многим лицам, от которых выслушал много похвал себе, но денег не получил.
В это время три вербовщика, Морель, Тюркати Марки, сделали донос на него и ночью 25 декабря комитет, основанный национальным собранием для исследования преступлений, в которых замечено покушение на права французского народа, приказал арестовать маркиза и маркизу де Фавра в их собственном доме, на королевской площади.
На другой же день после ареста г. де Фавра анонимный донос обвинил в предводительстве или, по крайней мере, в участии в заговоре личность, стоявшую несравненно выше отставного лейтенанта швейцарской гвардии Его высочества.
Вот листовка, распространенная в это время по Парижу в количестве нескольких тысяч экземпляров.
«Маркиз де Фавра арестован вместе со своей женой в ночь с 24 на 25, за составленный им план образовать армию из тридцати тысяч человек, поднять восстание, убить г. Лафайета и мэра Парижа и затем блокировать Париж, прекратив подвоз съестных припасов. Его высочество, брат короля, стоял во главе заговора.
Баро».По всей вероятности, имя господина Баро существовало только на бумаге. Несмотря на то, этот анонимный донос произвел сильное волнение в городе, и дело дошло даже до того, что граф Прованский счел необходимым ответить на это обвинение. Это обвинение подкреплялось еще другим очень правдоподобным слухом. Говорили, что маркиз де Фавра, во время своих попыток отыскать денег, обращался к некоторым банкирам и сообщал им, что он уполномочен Его высочеством заключить от его имени заем в два миллиона.
Вечером 2 числа граф Прованский отправился Ратушу и произнес там следующую речь.
«Господа! Я явился к вам, желая опровергнуть возведенную на меня клевету. Третьего дня, по приказанию комитета, был арестован г. де Фавра, а в настоящее время осмеливаются распускать слухи, что я будто бы был в тесной связи с преступником. Как гражданин города Парижа я счел своим долгом лично явиться сюда, чтобы объявить вам обо всем, что мне только известно о г. де Фавра.
Он поступил в 1772 году в мою швейцарскую гвардию, в 1775 году оставил службу, и с тех пор я не говорил с ним. Уже несколько месяцев, не пользуясь своими доходами в виду расходов, предстоящих мне в январе, я желал как-нибудь пополнить свои средства, не обременяя государственного казначейства. С этой целью я решился занять необходимую для меня сумму. Недели две тому назад г. де ла Шатр указал мне на г. де Фавра, который, по его словам, мог занять эти деньги у двух банкиров, Шаумеля и Сарториуса. Вследствие этого я подписал заемное письмо в два миллиона — сумму, необходимую мне для уплаты в начале года по обязательствам моим и на покрытие домашних расходов; кроме того, так как это мероприятие было чисто финансовое, то я поручил моему казначею следить за г. Фавра. Но еще раз повторяю, что я не видел г. Фавра, не писал к нему, не имел с ним никаких сношений и ничего не знаю о его дальнейших поступках».
Это объяснение, сделанное братом короля, было подкреплено горячими уверениями в патриотизме, причем очень ловко был сделан намек на либеральные убеждения, высказанные Его высочеством в собрании нотаблей. Вследствие всего этого эта речь была принята с энтузиазмом, не только членами собрания, но также и толпою народа, собравшегося перед Ратушей.
Поступок Его высочества льстил самолюбию народа, в котором уже родилось сознание своего могущества. Граф Прованский возвратился в Люксембургский дворец среди восторженных криков народа. Крики были знаком освобождения принца от всякого подозрения и вместе с тем были также предвестниками скорого осуждения г. де Фавра.
8 января у здания суда собралась огромная толпа народа, требовавшая головы обвиненного.
18 февраля г. де Фавр предстал перед своими судьями. В ту минуту, когда его ввели в зал суда, из уст присутствовавших вырвалось несколько криков негодования. Видно было, что даже уважение к суду не могло удержать толпу. По содержанию допроса, по суровому и мрачному виду судей, г. де Фавра должен был понять, что он осужден уже заранее.
Убедившись в этом, он не утратил ни своего спокойствия, ни присутствия духа. На все предложенные ему вопросы он отвечал очень спокойно, но с несколько насмешливой и изысканной вежливостью.
Обвинители его, вербовщики, о которых уже упоминал я, объявили, что г. де Фавра поручил им прислать людей, которые добровольно пожелают вступить в кавалерийский корпус, образуемый в Версале. Кроме того сообщили, что корпус этот назначался для сопровождения короля в Метц, и что обвиненный сказал им, будто бы он имеет уже корреспондентов в Пикардии, Артуа, Гено и Камбрези для того, чтобы способствовать бегству короля.
Один из обвинителей, Тюркати, объявил, кроме того, что 6 октября, г. де Фавра просил у де Сен-При дать ему из королевских конюшен лошадей для части этой проектируемой кавалерии; но получив формальный отказ от министра, обвиненный составил новый проект, который состоял в том, чтобы, убив Лафайетта, Байльи и Неккера, увести из Парижа короля и хранителя государственной печати.
Господину де Фавру было не трудно доказать неправдоподобность этого обвинения. Для этого достаточно было только указать на самих обвинителей, которые, по их словам, были сделаны соучастниками такого важного заговора, несмотря на все свое ничтожество. Поэтому г. Фавра, улыбаясь, стал просить судей поискать других обвинителей.
Разумеется, в этом было отказано, и не только не явились новые обвинители, но суд отказался даже выслушать свидетелей в пользу обвиненного.
Улыбка презрения мелькнула на лице г. де Фавра.
— Я сперва думал, — сказал он, — что меня будут судить в Шателе, но теперь вижу, что я ошибся; меня, кажется, судит испанская инквизиция.
Господин де Фавра был прав. Нет сомнения, что, подобно многим, он старался содействовать бегству короля. Быть может, что обвиненный был так ловок, что, под маской человека ветреного и болтливого, сумел скрыть все следы своего предприятия; очень может быть также, что боязнь скомпрометировать очень важных лиц заставила его отказаться от многих средств, вероятно разъяснивших бы это таинственное дело. Как бы там ни было, во всяком случае, доказательства против г. Фавра были очень недостаточны и приговор, заранее составленный судьями, был совершенно неоснователен.
Лучшие люди того времени очень хорошо понимали это обстоятельство. Даже из тогдашних журналов уже можно убедиться, что политические противники г. де Фавра заговорили в его пользу и удивлялись той слепой строгости судей, которая так быстро заменила их излишнюю снисходительность.
Маркиз де Фавра очень хорошо видел, что он будет жертвой, которую принесут судьи Шателе. Для того чтобы возвратить утраченную ими популярность, им необходимо было хоть как-нибудь подавить неудовольствие, возникшее у большинства народа вследствие двух предыдущих оправданий. В то же время де Фавра предчувствовал, что испуганный двор будет так осторожен, что никогда не решится на опасную попытку спасти его. Сообразив все это, де Фавра с геройской твердостью покорился ожидавшей его участи.
29 февраля суд Шателе произнес свой приговор. Маркиз де Фавра был приговорен к смерти на виселице после публичного покаяния в преступлении перед собором Парижской Богоматери.
На лице де Фавра не проявилось ни малейшего волнения. Актуариус по окончании чтения приговора сказал:
— Вам, милостивый государь, остается теперь одно утешение — религия.
— Извините, милостивый государь, — отвечал он весьма спокойно, — у меня есть еще и другое утешение — чистая совесть.
С самого начала прений о деле маркиза, у всех выходов Шателе теснилась огромная толпа народа, громко требовавшая смерти г. де Фавра. Кровожадные наклонности толпы, два раза уже обманутые в своих ожиданиях, теперь требовали добычи, и судьи решились удовлетворить это нетерпение народа.
В ту минуту, когда началось чтение приговора, послано было исполнителю предписание поставить на Гревской площади виселицу.
Осужденный прямо из суда пошел на эшафот, и никто даже не обратил внимание на ту поспешность, с которой Шателе приступил к выполнению приговора.
Поспешность, с которой были сделаны приготовления к казни, была так велика, что в ту минуту, когда уже надобно было садиться в тележку, дед мой заметил, что он забыл исполнить некоторые предписания приговора и даже не раздел г. де Фавра.
— Милостивый государь, — сказал он ему, — нужно снять с вас платье.
Господин де Фавра не ответил ничего, но когда ему развязали руки, он сам стал помогать помощникам, которые его раздевали, и остался в одной рубашке, с обнаженной головой и босыми ногами.
Тогда в толпе, с жадностью следившей за всеми этими приготовлениями, поднялись страшные крики.
— Веревку на шею! Веревку на шею! — слышалось отовсюду.
Осужденный знаком попросил Шарля-Генриха Сансона повиноваться и даже не содрогнулся при прикосновении той веревки, которая должна была лишить его жизни. В руках он держал свечу из желтого воска.
Поезд тронулся в путь. Стечение народа было так велико, что на мосту Нотр-Дам вооруженному отряду, открывавшему шествие, пришлось потратить некоторое время на то, чтобы очистить дорогу. Во время этой остановки вопли народа страшно усилились. Осужденный слушал их с непритворным спокойствием и не проявлял ни презрения, ни гнева.
У паперти собора осужденный должен был слезть с тележки, стать на колени и произнести по принятой формуле публичное раскаяние в преступлении и еще раз выслушать чтение приговора.
Господин де Фавра взял бумагу из рук актуариуса и громко и явственно прочел ее. Вслед за тем он сказал:
— Готовясь предстать на суд Господа Бога, я прощаю тем, кто меня обвинил, и умираю невинным. Народ со страшными воплями требует моей смерти. Если ему так необходима жертва, то пусть его выбор падет на меня; иначе этот выбор мог бы упасть на невинного, у которого не достало бы силы перенести незаслуженное наказание и которого это осуждение привело бы в отчаяние. Теперь я готов поплатиться жизнью за те преступления, которых никогда не совершал.
Тогда он снова стал на колени и несколько мгновений потихоньку молился.
Когда он поднялся, лицо его, до сих пор одушевленное, немного побледнело. Твердым шагом подошел он и стал в роковую тележку, и на лице его осталось прежнее присутствие духа.
Когда поезд приехал на Гревскую площадь, осужденный попросил позволения войти в Ратушу. При этом шум прошел по площади: народ с нетерпением ожидал роковой развязки. Видно было, что господствующая толпа не чужда была страсти потешиться.
Господин Катрмер, советник суда Шателе, принял от Фавра его последние объяснения или, как тогда называли, предсмертное завещание.
Через несколько дней после казни это завещание было напечатано. В нем никто не был назван, но одно выражение навлекло страшное подозрение на одну личность. По мнению некоторых историков, личность эта была, вероятно, граф Прованский. Это завещание, между прочим, показывает в де Фавре необыкновенное мужество, доведенное до стоицизма. Вот одно замечательное место из этого завещания.
«Я умоляю дать знать суду, который меня осудил, что одна из его жертв желает научить суд осторожности и заставить его побольше задумываться над смертными приговорами в тех случаях, когда придется иметь дело с подсудимым также странно обвиненным, как я».
Окончив свое завещание, г. де Фавра попросил позволения написать несколько писем, что и было разрешено.
Между тем, дело было к ночи; недостаток освещения от фонарей на площади пришлось пополнить ярким освещением ратуши. Для более удобного исполнения казни поставлен был фонарь на верхушке виселицы, так что она вырисовывалась каким-то огненным силуэтом на темном фоне ночи.
Выйдя из ратуши г. де Фавра ровным шагом пошел прямо к тому месту, где была воздвигнута виселица.
Необыкновенное мужество осужденного удивило и тронуло многих из числа присутствовавших на площади; так что среди грозных воплей и криков, требовавших смерти, начали раздаваться голоса, просившие о пощаде.
В ту минуту, когда де Фавра взошел на лестницу, какой-то господин, вероятно один из тех, которые целое утро бегали по городу и просили на водку, потому что вешают Фавра, закричал ему.
— Ну, прыгай же, маркиз!
Господин де Фавра не обратил никакого внимания на эту последнюю оскорбительную выходку и даже не повернул головы. Спокойно поднялся он еще на несколько ступенек лестницы, и когда стал достаточно выше толпы, остановился и произнес громким голосом:
— Граждане! Я умираю невинным; молитесь за меня!
Он повторил эту фразу на каждой из трех ступенек, которые оставалось ему еще пройти. На последней ступеньке он обратился к одному из помощников, сидевшему верхом на перекладине виселицы и находившемуся таким образом выше его, и сказал:
— Ну, теперь делай свое дело.
Едва он произнес эти слова, как от сильного толчка, данного ему, тело его потеряло точку опоры и закачалось в пустом пространстве.
И тот самый народ, который недавно был так тронут раскаянием двух преступников, который за несколько дней с таким усердием отдавал последний долг двум преступникам, поплатившимся жизнью за свое преступление, теперь вдруг изменился. Толпа хотела даже отнять у родственников де Фавра право на его смертные останки. Нужно было вмешательство национальной гвардии для того, чтобы избавить труп казненного от тех оскорблений, которыми когда-то замучили до смерти Флесселя и де Лоне. Чтобы спасти труп де Фавра от неистовства черни, пришлось похоронить его как можно скорее в церкви Сен-Жан ан Грев.
Глава IX Докладная записка Национальному собранию
Теперь я снова возвращусь к требованию моим дедом себе прав гражданина. Как я уже говорил, требование это было обсуждено на заседании 23 декабря 1789 года. Результатом этих прений был уже известный нам декрет. По моему мнению, этим декретом вопрос разрешался окончательно, и Шарль-Генрих Сансон получил полное удовлетворение, какого только мог ожидать. Но мой дед смотрел на это дело иначе. На его взгляд, все эти прения еще недостаточно разъяснили дело, и выражения, помещенные в декрете, казались ему несколько двусмысленными, и поэтому он счел своей обязанностью просить разъяснения этого декрета.
Здесь я думаю не лишним сообщить читателям, что происходило на этом заседании национального собрания и познакомить их с защитниками и противниками дела о правах исполнителей приговоров. В числе защитников, прежде всего, необходимо упомянуть графа Клермон-Тоннера, который смело высказал свои мысли в следующих выражениях:
«Всякий род деятельности или делает вред окружающим, или не вреден. Если какой-нибудь род деятельности вреден, то он является преступлением, и общество обязано восстать против него; но если этот род деятельности безвреден и не составляет преступления, то закон общества должен допустить его. Законы должны идти рука об руку с правосудием, которое основывается на них. Назначение закона — преследовать злоупотребления, но отнюдь не подавлять того, что требует поддержки и ухода за собой».
«В числе различных родов деятельности, различных званий есть звания, о которых мне тяжело даже упомянуть здесь. Но для законодателя не должно существовать предрассудков; он должен понимать только одно различие: различие между добром и злом. Поэтому я и решаюсь говорить об этих званиях. Сюда принадлежат, во-первых, исполнители уголовных приговоров, а во-вторых, артисты наших театров».
«Что касается первого из этих званий, то позор, покрывающий его, зависит от одного только предубеждения. Это предубеждение бессмысленно и основано только на привычке к когда-то заведенному порядку; стоит изменить этот порядок и предубеждение исчезнет. Так, например, когда военный суд присуждает преступника к смерти или к какому-нибудь другому наказанию, то солдаты, исполнители этой казни, вовсе не подвергаются позору».
«Мы все убеждены в том, что все, что предписывается законом, непременно хорошо. Закон предписывает казнить преступника, и исполнитель подчиняется закону и исполняет его предписание. Даже странно представить себе, чтобы закон мог проводить такую мысль; повелевается исполнить такой-то закон, но того, кто возьмет на себя это исполнение, повелевается считать опозоренным».
Против этих логических доводов аббат Мари восстал с одной из тех неистовых выходок, которые были так в его духе.
— Этот взгляд на исполнителей, — сказал он, — вовсе не предубеждение. Каждый порядочный человек должен невольно содрогаться при виде господина, хладнокровно лишающего жизни своих ближних. Противники этого опираются на то, что закон повелевает исполнителю казнить людей. Но разве закон заставляет кого-нибудь насильно делаться палачом. Поэтому то, что называют здесь предубеждением, основано на понятии о чести, а чувство чести должно пользоваться глубоким уважением в каждом государстве.
В это время один бледный, худощавый и сухой господин поднялся со своего места, подошел к трибуне и произнес следующие слова.
— Наше собрание, я думаю, невозможно будет убедить в том, что человек может быть президентом, и лишен законных своих прав за исполнение обязанностей, предписанных ему законом. Нужно переменить закон и предрассудок, который на него опирается, исчезнет сам собою.
Человек, произнесший эти слова, был угрюмый депутат из Артуа по имени Максимилиан Робеспьер. Его почти нельзя было заметить на скамьях собрания, но зато всякий раз, как он начинал говорить, речь его казалась непреложной истиной и вопрос, поднятый им, окончательно решенным. Думал ли Робеспьер в это время, что он хлопочет о своих собственных интересах и, защищая палача, защищает правую руку своей будущей политики? Трудно проникать в душу таких властолюбивых людей, но мы считали необходимым сообщить этот любопытный исторический факт и познакомить с тем участием, которое принял Робеспьер в деле о правах исполнителей приговоров.
Замечательно, что каждый из ораторов, говоривших в пользу исполнителей приговоров, защищая дело исполнителей, старался указать на несостоятельность существовавших законов. Нужно изменить существующий порядок, говорит Клермон-Тоннер; необходимо изменить этот закон, говорит Робеспьер. Действительно закон и обязанности исполнителя приговоров так тесно связаны друг с другом, что нельзя презирать палача, не презирая существующих законов. Как бы было хорошо, если бы в этот день Национальное собрание, ознаменовавшее себя столькими подвигами, поглубже вгляделось в это дело и довершило свои бессмертные услуги человечеству уничтожением смертной казни! Сколько бы сохранилось крови, без всякой нужды пролитой революцией! Как бы высоко стояло уже в настоящее время уголовное законодательство и политический быт Франции!
Впрочем, сделанное мною отступление отвлекло меня от главного моего предмета, от Шарля-Генриха Сансона с его требованиями разъяснить некоторые выражения в декрете 24 декабря. Эти требования были заявлены в национальном собрании тем самым Матоном де ла Вареннь, который защищал моего деда в деле о пасквилях. Дело это было изложено в докладной записке, поданной в национальное собрание от имени Шарля Генриха Сансона, а также от имени его дяди, Луи-Сира-Шарлемана Сансона, исполнителя приговоров при дворцовом превотстве, и от имени всех исполнителей приговоров Франции.
Несмотря на довольно значительный объем этой докладной записки, я считаю необходимым привести здесь целиком этот интересный документ, тем более что он в настоящее время почти совершенно забыт. Если я и не разделяю всех убеждений, высказанных в этой записке, тем не менее, я считаю ее интересной, потому что она показывает, как смотрели некогда, а может быть и до сих пор смотрят, некоторые из исполнителей уголовных приговоров на свое звание и на свои обязанности.
Вот этот документ, адресованный, как я уже сказал, на имя членов национального собрания:
— Настоящая докладная записка — не юридический акт: нет, это вырвавшаяся из сердца жалоба той части людей, которую предубеждение заклеймило печатью презрения, и которая, не сделав никакого преступления, всю жизнь должна переносить оскорбления и позор. До настоящих жалоб просители доведены вопиющею несправедливостью своих сограждан и потому умоляют официально признать за ними те права, которые должны принадлежать им как людям и гражданам.
Вследствие всего этого ниже подписавшиеся подали эту записку в собрание представителей нации и просят некоторых необходимых разъяснений декрета 24 декабря.
Разумеется, в этой записке не будет ничего подобного тем просьбам, которые приписываются исполнителям уголовных приговоров одним из журнальных памфлетистов. По словам этого господина, исполнители требуют будто бы себе права заседать рядом с мэрами и занимать места главных начальников национальной гвардии в различных городах Франции. Подобная ироническая выходка, по нашему мнению, бесчестит только того, кем она сделана. Не место подобным выходкам там, где дело идет о том, чтобы отстоять право гражданина и победить существующий предрассудок. Исполнители уголовных приговоров желают только знать, имеют ли они право быть избираемыми на общественные должности, пользуются ли они в собраниях граждан совещательным и избирательным голосом и наконец пользуются ли они вообще правами гражданина. Нам кажется, что утвердительный ответ на подобные требования может затруднить только того, кому не удалось еще вполне освободиться от деспотической власти предрассудков.
Исполнители приговоров пользуются своим званием как государственной должностью и утверждаются в этом звании самим королем. К патенту на их звание прикладывается большая государственная печать, и как все чиновники государства, исполнители получают свое звание не прежде, чем удостоверяются в их качествах.
На этот счет пущены самые нелепые сведения некоторыми из тех людей, которые не любят размышлять и в уме которых самый безосновательный слух быстро превращается в уверенность, какой бы смешной вывод не пришлось сделать из этого. Так говорят, что патенты на звание исполнителей бросаются к ногам вступающего в эту должность, что с исполнителей не берут даже денег за патенты и что во время произнесения присяги исполнителей ставят на колени. Из этого делают вывод, что звание, получаемое таким образом, позорно, и что лица, носящие его, подобно преступникам, приговоренным к наказаниям, должны быть лишены всяких гражданских прав.
Очень легко убедиться в том, что это мнение совершенно ложно и неосновательно. Патенты нам передаются из рук в руки, и цена, назначенная за них, довольно значительна; так, например, исполнитель города Парижа и парижского округа платит за патент шесть тысяч сорок восемь ливров. Что касается до присяги, то исполнители приговоров, также как и все государственные чиновники, произносят ее стоя, в полном присутствии того трибунала, при котором они должны состоять.
Назначение исполнителей всегда зависело от правительственной власти; этому назначению всегда предшествовало осведомление о личных свойствах и образе жизни назначаемого лица, а также требовалось удостоверение в исповедании католической веры.
Таким образом, назначение на службу исполнителей и формальности, соблюдаемые при этом, ни в чем не отступают от обыкновенного порядка при назначении французских чиновников на государственную службу. В этом порядке, как видите, не было ничего оскорбительного, и обращение с исполнителями было вовсе не так грубо, как уверяют. Предубеждение, жертвами которого потом сделались исполнители, образовалось мало-помалу впоследствии. Презрение к ним начало проявляться только с того времени, когда исполнители лишены были права оставлять свою должность и выбирать себе другой род жизни.
В древнее время у израильтян было принято предоставлять исполнение приговора той стороне, которая выигрывала процесс. Когда дело шло, например, о казни убийцы, то часто семейство убитого преступником, молодежь, уполномоченная государем, и даже весь народ начинали спорить за право предать убийцу смерти. В то время на человека, взявшего на себя исполнение приговора, смотрели как на благодетеля общества, избавляющего сограждан от негодяя.
Назвать подобный обычай варварством — значило бы невинно оскорбить народ, отличавшийся своею гуманностью и правосудием. Впрочем, впоследствии этот обычай заменился другим, также показывавшим, что древние не видели нечего позорного в исполнении казни над преступником: впоследствии сами судьи стали брать на себя исполнение своих приговоров.
Посмотрим теперь, как смотрели древние греки на своих исполнителей приговоров. Читая Аристотеля, мы видим, что он признает необходимость наказывать преступников, смотрит на исполнителя как на чиновника, необходимого для государства, и назначает ему очень почетное место в обществе.
У римлян также существовал обычай предоставлять обвинителям исполнение приговора над обвиненным. Этот обычай был отменен в эпоху процветания Римской республики; причиной этого было то, что обвинители заходили иногда слишком далеко со своим усердием, и наказание преступника производилось нередко с ожесточением и бесчеловечно. В это время для исполнения казней назначены были особенные чиновники, которые получили название ликторов.
В Германии, до учреждения должности исполнителя, обязанности его исполнял обыкновенно самый младший из членов суда. В некоторых местах германской империи, где не установился этот обычай, принято было поручать исполнение казни или вновь вступившему члену общины, или последнему мужчине, женившемуся перед этой казнью.
Все эти обстоятельства сообщены нам Адриеном Бейером из Франкфурта. Он же сообщает нам, что впоследствии в Германии исполнитель считался одним из главных чиновников суда, получал хорошее жалованье и пользовался правами на потомственное дворянство, также как многие из чиновников французских судов.
Даже во Франции звание исполнителя не всегда считалось позорным для того, кто его носит. Денизар в сочинении своем, в главе об исполнителе приговоров, упоминает, между прочим, что в 1417 году государственное казначейство заплатило сорок пять парижских су г. исполнителю верховного правосудия его величества короля за то, что этот исполнитель, между прочим, перенес много цепей из здания парижского суда к себе, в свой замок.
В Англии, где принято было, чтобы родственники осужденных присутствовали при казни, исполнители считались почетными и уважаемыми гражданами. Звание исполнителя в Англии не обуславливало запрещения принимать на себя еще какую-нибудь должность. Каждый английский гражданин готов с удовольствием принять в своем доме исполнителя. Англичане очень хорошо понимали, что только праздные и нравственно испорченные люди могут бояться казней, страх которых удерживает их от преступлений. Между прочим, пусть не подумают, что все сказанное нами ведет к тому, чтобы мы стали требовать для исполнителей особенного уважения и тех прав, которыми пользуются только высшие должностные лица в государстве. Нет, мы далеки от подобной мысли; но неужели нельзя остановиться на середине между почетным и позорным званием.
Чтобы сделалось с обществом, какую пользу приносили судьи, какое приложение можно было бы сделать из правительственной власти, если бы не существовало могущество действительной и законом установленной силы, которая бы исполняла приговоры судов и карала бы за преступления против законов и за оскорбления граждан? Если исполнение казни над преступником считается позором, то этот самый позор должен пасть и на всех тех, по чьему приказанию приводится в исполнение эта казнь. Таким образом, должны считаться позорными и должности чиновников при судах, и должность актуариуса, составлявшего приговор, и должность докладчика и лейтенанта уголовного судьи, в присутствии которых совершается казнь.
Но, между прочим, все эти должности вовсе не считаются позорными; напротив, лица, занимающие их, пользуются особенным почетом. За что же считается позорным звание того, кто последний накладывает руку на преступника, и чьи незаменимые услуги служат дополнением к деятельности прочих членов суда и стремятся к достижению одной цели с ними.
Представим себе злодея, который поджег собственность одного из граждан, который запятнал свои руки в крови ближнего или даже родного отца, который, наконец, оказался виновным в заговоре против своего отечества.
Общественное мнение возмущается этим преступлением, общество с исступленными криками требует смерти преступника, народ толпою сбегается посмотреть на казнь, и в то же время клеймо проклятия и отвержения падает на того гражданина, который покарал чудовище той казнью, к которой приговорило его общество!.. Мы просим у Французского народа только справедливости и последовательности. Пусть наши соотечественники согласятся, что для того, чтобы преступления не оставались не наказанными, необходимы исполнители приговоров. Пусть согласятся также, что если казнь и есть нарушение законов природы, то не суд, не палач, а само преступление обуславливает это нарушение. Без той глубокой ненависти к преступлению, которая существует в нас, всему составу общества нанесен был бы страшный удар. Пусть наконец согласятся, какая вопиющая несправедливость покрывает позором за исполнение казни над преступником в то время, когда уничтожен старинный предрассудок, покрывавший позором родственников преступника, в жилах которых течет одна кровь с ним…
Отдавать исполнителей на жертву и поругание общественному мнению не только не мирится с духом законов, но противоречит даже здравому смыслу. Действительно, оспаривать у исполнителей право на звание гражданина — значит посягать на самые бесспорные права человека, живущего в обществе.
Всем известно, что исполнители наравне со всеми подданными короля обязаны платить подати, подушные налоги в пользу города и городской полиции, налоги для вспомоществования бедным, считаются и исполняют свои обязанности как прихожане разных приходов и, наконец, записаны в своем округе на службе в национальной гвардии. Если общество заставляет исполнителей нести все обязанности, то по какому же праву оно лишает их некоторых из тех прав и преимуществ, которыми пользуются прочие граждане? Какая страшная власть предрассудка тяготит еще над нашей справедливой, гуманной и великодушной нацией!
Из всех этих обстоятельств, изложенных на суд национального собрания и общественного мнения, видно, что до сих пор еще возникают сомнения в том, имеют ли исполнители право на звание граждан, могут ли они присутствовать и участвовать в собраниях и в совещаниях граждан и, наконец, можно ли их избирать в те общественные должности, к которым они окажутся способными и достойными. Для разъяснения этого необходимо обратить внимание на декрет 24 октября 1789 и посмотреть, признаны ли и заявлены ли в нем с достаточной ясностью права исполнителей. Вот подлинные слова этого декрета:
«Национальное собрание постановляет:
1. Все не католики, подходящие под условия для избираемых и избирателей, изложенные в предыдущих декретах, могут быть избираемы на все без исключения общественные должности.
2. Всем не католикам, наравне со всеми гражданами, предоставляется право занимать всевозможные места, как в гражданской, так и в военной службе. При этом не обращается никакого внимания на предрассудок, существующий относительно евреев, права которых впрочем национальное собрание предоставляет себе разъяснить впоследствии».
«Кроме того, постановляется, что никто из граждан не может быть лишен прав на избрание на общественные должности иначе, как на основании существующих узаконений».
Первая мысль, которая может родиться при чтении этого декрета, будет состоять в том, что этим декретом вовсе не решена участь исполнителей, и вопрос о гражданских правах их обойден. Из этого следует вывод, что исполнитель должен оставаться жертвой общественного мнения, что должность исполнителя уголовных приговоров позорна и что, наконец, исполнитель не может пользоваться правами гражданина.
Действительно, в декрете сказано, что никто из граждан не может быть лишен права на избрание на общественные должности, иначе как на основании существующих узаконений; но, с другой стороны, в этом декрете не упомянуто о том, что исполнителя уголовных приговоров должны считать полноправным гражданином.
Из всего этого уже само по себе выводится заключение, что исполнители не имеют права ни быть избирателями в своем округе, ни быть выбранными на какую-нибудь общественную должность.
Хотя этот вывод и противоречит, быть может, духу декрета 24 декабря, тем не менее, он не совсем лишен основания. Действительно, если бы национальное собрание хотело решить участь исполнителей, как людей заклейменных незаслуженным позором, то оно могло бы иначе выразиться. Так например, вместо выражения: никто из граждан не может быть лишен права и т. д. можно было бы сказать: кроме того постановляется, что никто из французов как природных, так и принявших французское подданство, не может быть лишен прав на избрание на общественные должности иначе, как на основании существующих узаконений. Эта редакция, сохраняя лаконизм выражения, в то же время вполне удовлетворила бы исполнителей и была бы для них равносильна такому выражению, что национальное собрание считает в числе граждан и исполнителей уголовных приговоров.
Государственный закон всегда должен быть выражен просто и определенно; он должен быть сформулирован так, чтобы его никаким образом нельзя было бы перетолковать в другую сторону. Закон раз и навсегда должен ясно определять положение тех граждан, которые подлежат ему.
Исполнители вполне убеждены, что собрание представителей французской нации никогда не имело намерения лишать их прав на звание граждан, что декрет 24 декабря был внушен членам собрания самыми гуманными, самыми родительскими чувствами. Если же в настоящее время исполнители уголовных приговоров и просят разъяснения этого декрета, то их вынуждает к этому особенное обстоятельство. Исполнителям беспрестанно приходится слышать как говорят о них почти во всей Франции. Повсюду уверяют, что национальное собрание, определяя те права и преимущества, которыми должны пользоваться все граждане, не сочло за нужное считать в числе граждан и исполнителей уголовных приговоров. Основываясь на этом, всегда можно выгонять из народных собраний каждого из исполнителей, который только решится войти туда.
Очень легко может быть, что тотчас, после утверждения прав исполнителей уголовных приговоров, их еще и не будут выбирать в общественные должности, но, по крайней мере, установится закон, что исполнители — полноправные граждане. При этом исполнители, наравне с другими получат право участвовать в народных собраниях; предубеждение, покрывающее исполнителей незаслуженным позором, понемногу исчезнет со временем, и впоследствии их станут выбирать на те должности, которых сочтут достойными. Таким образом, общество перестанет удалять от себя часть своих членов и не будет лишать себя тех светлых взглядов, того патриотизма, тех примеров доблести, которые легко могут проявиться в этом кругу ныне отверженных граждан.
Без сомнения, настоящее требование может показаться смешным и неисполнимым в глазах тех людей, которые привыкли слепо подчиняться однажды составившемуся в обществе убеждению и не имеют достаточно силы, чтобы освободиться от тех привычек, в которых успели состариться. Но в эпоху возрождения нации, в то время, когда падают те ложные идеи, которые столько веков прикрывали прекрасные качества нашего народа, время необходимо громить все те предрассудки, которые опошляют этот народ. Действительно, что нам за дело до предрассудков всех народов, до предрассудков всех веков, когда это не мирится с требованиями здравого смысла и права. Если нельзя будет опереться на закон, если закон не будет считать позорным звание исполнителя, то за что же общество будет его считать позорным? Пусть улучшатся нравы людей, пусть привыкнут люди более наблюдать сами за собой, и звание исполнителя, производившее прежде неприятное впечатление и казавшееся бесчеловечным и противоестественным, перестанет казаться таким. Во мнении общества это звание не будут более позорить ни в чем не провинившегося гражданина, лишать прав на уважение.
А между тем в том классе людей, который считают беззащитным и выставляют в самом позорном виде, было столько прекрасных личностей. Несмотря на все выходки и необузданность бессовестных журналистов, желающих сделать исполнителей жертвами общественного презрения и ненависти, нельзя отрицать того факта, что многие из исполнителей пользовались особенным почетом и уважением у своих сограждан. Некоторые из старожилов города Ренн до сих пор чтят память Жака Ганье, умершего тридцать лет тому назад и долго носившего звание исполнителя в этом городе. Жак Ганье имел привычку приступать к исполнению смертной казни не иначе, как исповедавшись и приобщивших святых тайн. Этим, вероятно, он думал хоть сколько-нибудь искупить то действие, к которому должен был приступить по обязанностям своего звания. Члены парламента часто заходили поиграть в шары в его дом, находившийся на самом краю города. Хотя Жак Ганье и не принимал участия в этой игре, несмотря на это он пользовался большим уважением у своих знатных игроков, и во время игры его во всех затруднительных случаях приглашали быть судьей и разрешать недоумения. Кроме того, Жак Ганье раздавал бедным и неимущим все, что оставалось у него от самых необходимых для него расходов. Смерть его считалась несчастьем для целого города. Толпы бедных со слезами на глазах бродили по улицам и говорили повсюду: «У нас нет более отца! У нас нет более благодетеля!» По смерти Жака Ганье народ часто навещал его могилу и всегда подходил к ней с набожным чувством.
Никто не знает тех многочисленных услуг обществу, которые делают исполнители в разных городах Франции. Пусть обратят внимание хоть на то, что они с таким великодушием, безвозмездно подают медицинское пособие гражданам всех сословий без исключения и, благодаря их сведениям в медицине, хирургии и ботанике, было уже много примеров исцеления самых безнадежных больных. После этого справедливо ли исключать из общества людей тех лиц, которые иногда делаются благодетелями всего человечества?
Теперь нам осталось еще одно: протестовать против звания палач, — звание, которым заклеймили тех людей, которые вынуждены были принять на себя исполнение обязанностей, приводящих их в содрогание.
Вот, как отозвался об этом выражении указ руанского парламента от 16 ноября 1686 г.
«Под опасением штрафа в 50 ливров всем и каждому воспрещается называть палачом как исполнителя уголовных приговоров, так и тех, кого он нанимает на службу к себе. Из числа этих 50 ливров 25 идут в пользу короля, а 25 — в пользу вышеупомянутого исполнителя».
В 1767 году парижский парламент издал указ в пользу Жозефа Дубло, исполнителя уголовных приговоров в Блуа. В этом указе, по предложению генерал-прокурора, между прочим, было помещено запрещение называть палачом как самого Дубло, так и его помощников. За нарушение этого запрещения положена денежная пеня не менее ста ливров.
7 июля 1781 года последовал указ руанского парламента, сообщенный всем судебным учреждениям. Указ этот подтверждал строгое исполнение указа 16 ноября 1681 года, о котором мы упомянули выше. Вот подлинные слова: «Вследствие всего этого подтверждается запрещение называть палачами гг. Ферея и Жуеня (руанских исполнителей), а также членов их семейств и их помощников. За неисполнение этого повеления назначается денежный штраф в сто ливров. То же наказание назначается всякому, кто осмелится нарушать спокойствие вышеупомянутых Ферея и Жуеня в церквах, на гуляньях, в спектаклях и в других публичных местах».
Кроме того, существует значительное число указов, изданных как в старину, так и в настоящее время. Все эти указы строго воспрещают употреблять позорное наименование палача для тех лиц, которые составляют правую руку закона и только по повелению его разят преступников.
Даже сам король обратил внимание на справедливые жалобы исполнителей и высказал свой взгляд на это дело, что видно из следующего акта: «Выслушав донесение, его величество, в совете своем, 12 января 1787 г., изволил издать постановление, которым строжайше воспрещается называть палачами исполнителей уголовных приговоров».
Высказав таким образом все законные права своего звания и незаконность той позорной клички, которой клеймят имя исполнителей, они имеют честь просить у представителей нации следующее:
1. Изменить редакцию декрета от 24 декабря 1789 года следующим образом: «постановляется, что никто из французов как природных, так и принявших французское подданство, не может быть лишен права на избрание на общественные должности иначе как на основании существующих узаконений». «Если же национальному собранию угодно будет, то истцы вместо этого изменения редакции будут довольны следующим дополнительным пунктом к декрету: „В числе граждан подразумеваются также и исполнители уголовных приговоров, а поэтому исполнителям предоставляется полное право пользоваться всеми гражданскими правами и преимуществами, каких только они будут достойны по своим личным качествам“.
2. Подтвердить исполнение указов, запрещавших называть исполнителей уголовных приговоров палачами. За нарушение же этого постановления назначить или одно из тех наказаний, которые упомянуты в вышеприведенных указах, или определить новое наказание по усмотрению национального собрания.
Этим путем можно разрешить тот возмутительный вопрос, существование которого в одно время оскорбляет идеи гуманности и религию; этим путем мы можем возвратить обществу тех людей, которые ничем не заслужили своего отторжения от него. Каждый из членов этого собрания, который не поспешит призвать к гражданской жизни этих отверженных членов общества, будет наносить им смертельный удар. Здравый смысл и чистая совесть еще могут дать возможность человеку стать выше того предрассудка, который не признается законом; но никто не в состоянии не подчиниться тому государственному закону, который однажды навсегда определяет человеку место в обществе.
Теперь исполнена та тяжелая обязанность, которая лежала на мне как на адвокате. Я старался, насколько мог, снять с моих клиентов тот незаслуженный позор, которым они заклеймены. Я, насколько мог, старался утешить их. Теперь мне остается только сообщить несколько размышлений не от имени своих клиентов, а лично от себя. Быть может, найдутся люди, которые обратят особое внимание на оригинальность поднятого мною вопроса и станут удивляться тому, как мог найтись адвокат, который так смело решился затронуть такой щекотливый вопрос для народа. Подивятся и тому, как осмелился адвокат требовать изменения существующего порядка и защищать перед верховным судом нации тех людей, права которых до сих пор оспаривались законами их отечества, отличающегося великодушием и только изредка бывающим несправедливым. Ответ мой на это будет очень прост. Если у нас принято, что все люди равны перед законом, то мы, адвокаты, как посредники между гражданами и законом, должны быть также беспристрастны и неразборчивы как сам закон, и самая почетная из обязанностей адвоката состоит в защите добросовестных и честных людей от угнетений. Да, наконец, отталкивает ли адвоката от обвиняемого самый ужас уголовного преступления? Неужели же мы будем так недобросовестны, что оттолкнем от себя и ввергнем в отчаяние тех честных и добросовестных людей, которых несправедливо оттолкнуло от себя общество? Нет, без сомнения, нет! Эти люди всегда найдут себе в нашем сословии то содействие, которого вправе требовать от нас всякий несчастный. Покойный адвокат руанского парламента г. Кошуа, память которого должна быть незабвенна для всех друзей человечества, дал нам прекрасный пример, которому мы и намерены следовать. Этот адвокат с необыкновенной энергией и с большим успехом трудился в пользу двух исполнителей уголовных приговоров (братьев Ферей-Франсуа Томаса и Шарля) и усердно защищал их от преследований сограждан. Еще до нас, перед судом Национального собрания, многие решались брать на себя защиту несчастных исполнителей. Таковы например г. Туре, адвокат парламента, сделавшийся впоследствии членом национального собрания; покойный г. Жербье — этот ученый юрист, которым гордятся его современники и гордится Франция; этот замечательный оратор воскресил на столько лет во французской адвокатуре красноречие Демосфенов, Цицеронов и Гортензиев. Кроме того, в числе защитников исполнителей, я упомяну гг. Римбера, Бенуа и Готье, бывших адвокатами парижского парламента. Неужели же можно считать преступным стремление идти по следам этих замечательных юристов?
— Предрассудки, — сказал Бекон, — это — призраки и видения, которые смущают слабых духом; а я прибавлю, что разобранные нами предрассудки не что иное, как отвратительное порождение феодализма. Эти предрассудки составляют язву общества, и все добросовестные люди должны оспаривать друг у друга честь бороться с ними.
Быть может, мы возбудим к себе ненависть некоторых врагов порядка голодных, некоторых журнальных борзописцев тем, что берем на себя защиту лиц, оскорбляемых ими. Очень может быть даже, что они постараются выставить нас в смешном виде в своих журнальных памфлетах. Презрительное молчание будет нашим ответом на это до тех пор, пока не будет затронута наша честь. Всякую же ложь, все заблуждения мы будем преследовать, как только нам удастся открыть их.
Нашим девизом будет стремление быть достойными звания граждан своими сведениями и старание высказывать все, что может разъяснить какое-нибудь дело.
Подписано: Шарль-Генрих Сансон и Луи-Сир-Шарлеман Сансон, уполномоченные от всех своих собратьев по ремеслу во Франции.
Адвокат Матон де ла Варренн».
Странное дело! Эта докладная записка нашла себе защитников даже в тогдашней журналистике. В журнале, выходившем под редакцией Марата, были помещены следующие строки.
«Хотя в план нашего журнала и не входит извещение о вновь выходящих сочинениях, тем не менее, мы не можем удержаться, чтобы не познакомить наших читателей с только что появившимся образцовым произведением, отличающимся необыкновенной задушевностью, грациозностью и знанием дела. Сочинение — это докладная записка г. Матона де ла Варенна, замечательного юриста и прекрасного писателя, того самого, который так горячо, энергично и с таким успехом защищал г. Сансона от оскорбителей. Предрассудок, покрывающий позором личность исполнителя, окончательно подорван в этой записке, которую нельзя читать без особенного сочувствия. Национальное собрание, к которому она адресована, найдет в ней ряд заявлений, основанных на непреложных правах человека, разума и науки.
В нежном сочувствии Марата к исполнителям не было ничего особенного; несмотря на это, его мнение не разделялось национальным собранием. Так же, как и в 1766 году, бумаги остались в суде и решение не последовало. Должно быть, это всегдашний способ во Франции избегать решения затруднительных вопросов.
Таким образом, Шарль-Генрих Сансон должен был ограничиться прежней редакцией декрета. Впрочем, и эта редакция казалась вполне удовлетворительной для менее требовательного и настойчивого человека. По этому случаю очень справедливо выразился Робеспьер на заседании 24 декабря; „Я не вижу надобности в особенном законе; очевидно, что кто не исключен из существующего закона, тот подходит под него“.
Впрочем, близко уже было время, когда не только всецело осуществились все эти требования, но даже далеко превзошли и чересчур удовлетворили скромное самолюбие моего деда. Ему пришлось принимать и торжественные поздравления и народные овации, так что он стал одним из важнейших лиц в государстве. Никогда не было у исполнителя столько работы, как в это время; сама кровавая деятельность правительства заставила увенчать необходимого ему деятеля».
Глава X Гильотина
Доктор Гийотен с необыкновенной настойчивостью продолжал заниматься приведением в исполнение задачи, которую он себе задал. Мы уже видели, как ему удалось на заседании 1 декабря 1789 облечь в законную форму декрета свою мысль, высказанную в первый раз 28 ноября. Таким образом, объявлено было уравнение наказаний для всех сословий без исключения, сообразно одной только степени преступления. Вскоре после этого, 21 января 1790 года, доктор Гийотен снова поднял вопрос относительно прочих своих предложений, обсуждение которых было прежде отложено. Читатели, вероятно, еще не забыли, что вслед за тем было узаконено, что наказание за преступление делается личным, что позорные казни и приговоры не кладут пятна на семейства осужденных, что конфискации имущества навсегда отменяются, что тела казненных должны быть возвращены их родственникам по первому требованию и что во всяком случае казненные погребаются наравне со всеми гражданами, и даже в церковных книгах запрещается упоминать о роде смерти преступников.
Все эти узаконения были как нельзя более в духе национального собрания и вполне соответствовали желаниям нации. Мы уже видели, как эти узаконения были применены в деле, казни братьев Агасс. Но Гийотен не думал ограничиваться этим, и ему хотелось привести в исполнение еще одну мысль, возникшую у него в голове. Его возмущало варварство казней прежнего времени, и глубокое отвращение проявлялось в нем при одном взгляде на виселицу, на которой трупы казненных обезображивались и оставлялись на позор на глазах толпы до самой смерти. Гийотен поклялся уничтожить все это, так, чтобы казнь человека (если только эти два слова можно ставить рядом) совершалась без страданий жертвы. При этом ему хотелось, чтобы казни совершались не непосредственно рукой человека, и печальные останки несчастной жертвы правосудия немедленно скрывались бы от взоров толпы, всегда жадной до подобного рода зрелища.
В этом состояла мысль Гийотена. После долгих размышлений он пришел к убеждению, что отсечение головы ближе всего к его цели. Это был самый приличный и самый быстрый род смерти, потому что при этом наносилось повреждение самой важной части организма — мозга, центру сознавательной и мыслительной деятельности. Прежде этой казни удостаивались одни только привилегированные классы общества, но, благодаря закону о равенстве перед законом, права на тот или другой род казни были уравнены. Но в то же время кто не знает, сколько рассказывается таких случаев, когда, при неопытности исполнителей, казнь обезглавливанием превращалась в страшное тиранство. Необходимо было найти для исполнения этой казни что-нибудь такое, что действовало бы быстрее, вернее и сильнее руки человека; этого можно было достигнуть только заменой человеческих рук механической силой. После решения этого вопроса Гийотену оставалось только одно — заняться изобретением машины для казни. Занятие это потребовало для себя много времени и таких сведений, каких не было у бедного доктора; главной задачей его как врача было старание как-нибудь спасти и продлить жизнь ближнего, а ни в коем случае не изыскание средств для казни.
Поэтому, чтобы выиграть время, он ограничился тем, что высказал свои начала и обратился в Национальное собрание с просьбой обсудить его предложение, сформулированное следующим образом:
«Во всех тех случаях, когда закон определяет смерть преступнику, за всякого рода преступления назначается один и тот же род смертной казни. При этом преступнику отрубают голову при помощи простого механизма».
Это предложение, как я уже заметил, было принято ровно за три года до того времени, когда упомянутый механизм революции обагрил площадь кровью короля. Это было грустным почином того рокового снаряда, которому пришлось играть такую важную роль во время наших народных смут.
Предложения, сделанные г. Гийотеном, поступили на обсуждения Совета семи, который трудился над уголовным законодательством. Здесь дело было кончено не ранее 1791 г., и только в этом году в своде уголовных постановлений, вошел закон, повелевающий каждому приговоренному к смерти отрубать голову; впрочем, при этом еще ничего не было упомянуто о том, как должны были производить эту казнь. Дед мой энергично восстал против этого положения. Без введения механического способа казни, все бы зависело от искусства исполнителя, и дед мой боялся той страшной ответственности, которая упала бы на него в этом случае. Поэтому он подал министру юстиции докладную записку, в которой объяснял все неудобства этой казни, если она совершается по обыкновенному способу, при помощи меча. С одной стороны, при этом нужна твердость и присутствие духа у осужденного, которые далеко не всегда встречаются; а с другой — представляется полная невозможность исполнять значительное число казней, потому что сам меч легко может зазубриться и затупиться.
Нет никакого сомнения, сказал он далее в докладной записке, что когда придется исполнять несколько казней одну за другой, то ужас, который произведет первая казнь и сам вид пролитой крови, лишит присутствия духа прочих осужденных. При этом осужденные не будут в состоянии держать себя как следует, и исполнитель встретит такие непреодолимые препятствия для казни, что вместо облегчения участи осужденных казнь обратится в страшное мучение.
Кроме того, необходимо принять к сведению еще одно очень важное обстоятельство. Часто осужденные желают сделать предсмертные показания и для этого отправляются с эшафота в городскую ратушу. При этом нередко они досиживают тут до ночи, и исполнение казни в назначенный день уже не может состояться, потому что невозможно отрубить голову при освещении факелами. Свет, который дают факелы, очень бледен, неверен и легко может обмануть глаз. Таким образом, придется отложить казнь до следующего дня, то есть продлить мучительную агонию несчастного преступника, готовящегося умереть самой страшной смертью — неестественной и насильственной.
Из всех этих замечаний Шарль-Генрих выводит необходимость ввести в употребление такой механизм, который, во-первых, приводил бы человека в горизонтальное положение так, чтобы не было необходимости осужденному во время казни поддерживать тяжесть собственного тела, а во-вторых, чтобы и самый акт казни совершался при помощи какой-нибудь более значительной и более постоянной силы, чем сила руки человеческой.
Таким образом, это было почти то же, чего добивался доктор Гийотен. Поэтому Гийотен так часто стал заходить к моему деду и просил помогать ему в деле сооружения задуманного механизма. Эти наставления и советы, вероятно, имели огромное значение, потому что авторитет их подкреплялся многолетней опытностью исполнителя как специалиста по этой части. Гийотен и дед часто подолгу беседовали друг с другом, но все предположения и труды их оставались неудачными и не помогали делу. Почти также безуспешно они сделали краткое историческое обозрение всех родов казней, употреблявшихся в разное время в различных странах. Идея снаряда давно уже была создана воображением, и, несмотря на то, никак не удавалось придумать удобного устройства этого снаряда.
Три немецкие гравюры Пентца Альдеградера и Луки Кранахского и одна итальянская, Ахила Бончи, представляла образцы подобных механизмов, но все это было далеко неудовлетворительно. Последняя из гравюр представляла образцы подобных механизмов, но все это было далеко неудовлетворительно. Последняя из гравюр представляла аппарат для совершения казни, известный под именем маннайи. Эта маннайя некогда была в употреблении в Италии, и именно в Женеве, где при помощи ее совершена была казнь знаменитого заговорщика Джиустиниани. Этот аппарат помещался на эшафоте и состоял из двух досок, между которыми двигалось лезвие секиры. Осужденный становился на колени и клал голову на плаху, а исполнитель находился у одной из досок аппарата и брал в руки веревку, перекинутую через перекладину над досками. К противоположному концу этой веревки прикреплена была двигавшаяся между досками секира. Стоило отпустить веревку, чтобы привести в движение секиру. На немецких гравюрах изображены были аппараты, мало отличавшиеся от этого.
Долго не удавалось придумать ничего лучшего и, быть может, даже пришлось бы остановиться на этом. Но дед мой все-таки продолжал останавливаться на тех неудобствах, которые были высказаны в докладной записке к хранителю государственной печати. Дед мой все-таки продолжал настаивать на том, что вопрос о положении тела преступника вовсе не решен, особенно, если принять во внимание то, что стоять на коленях почти также неудобно, как и стоять на ногах, особенно при том тревожном состоянии духа, в каком находится подсудимый в виду приближающейся смерти. Чтобы понять хорошенько это дело, необходимо пристально вглядеться в него. Нетрудно поднять полумертвого преступника на виселицу, легко также привязать его к колесу; но совершенно другое дело — заставить его стоять на ногах или на коленях и сохранять совершенную неподвижность в ту минуту, когда над головой висит смертельный удар. Стоит вспомнить Монморанси, Лалли Толлендаля, ла-Барра и других, чтобы понять, какое стоическое самоотвержение необходимо для этого. Если устранять это неудобство тем, что заставлять помощников держать преступника, то тут, кроме самой трудности этого приема, является то неудобство, что помощники легко могут быть задеты при совершении казни.
Поэтому Шарль-Генрих Сансон настойчиво требовал, чтобы придуман был способ класть осужденного горизонтально, не заставлять его поддерживать тяжесть собственного тела и, кроме того, лишить его возможности совершать всякого рода движения во время казни. К счастью, с некоторого времени, к деду моему стал заходить один немец-механик по имени Шмидт. Дед мой часто беседовал с Шмидтом о том вопросе, который так занимал его и доктора Гийотена. Шмидт, занимавшийся в то время изготовлением фортепьян, был очень хорошо знаком с механикой и в то же время, как большая часть его соотечественников, страстно любил музыку.
Знакомство моего деда с Шмидтом началось с того, что Шмидт продал ему несколько инструментов. Впоследствии это знакомство продолжалось, потому что Шмидт то заходил настраивать инструменты, то приносил струнные и другие музыкальные инструменты. Любовь к музыке окончательно сблизила Шмидта с Шарлем-Генрихом Сансоном, который также был механиком и очень недурно играл на скрипке и виолончели. Скоро репертуар произведений Глюка сблизил их окончательно.
Очень часто Шмидт заходил к нам и садился за фортепьяно, а дед мой брался за скрипку или виолончель. Однажды вечером, сыграв арию из Орфея и собравшись играть дуэт из Ифигении в Авлиде, музыканты наши разговорились, и дед мой тотчас завел речь об аппарате для казни, который так занимал его в это время.
— Погодить, — сказал Шмидт, по обыкновению своему, страшно ломаным языком, — я думал о ваша дело и вот, поглядите! — При этом он взял карандаш и тотчас же набросал рисунок: это была гильотина! Этот аппарат состоял из остро отточенного лезвия, двигавшегося между столбами. Достаточно было самого незначительного движения веревки, чтобы привести это лезвие в движение. Осужденный при этом привязывался к доске, которая опускалась и поднималась при помощи особого рычага; стоило опустить доску, и шея преступника как раз приходилась в том месте, на которое падало лезвие аппарата. Главное затруднение было устранено, и задача решена: Шмидт нашел, наконец, средство совершать казнь, приведя преступника в горизонтальное положение и отняв у него всякую возможность мешать процессу казни телодвижениями.
Шарль-Генрих Сансон был не в состоянии удержаться, и от удивления и удовольствия, у него невольно вырвалось восклицание. Между тем, Шмидт сказал:
— Мой не кател замешать себя в этот штук, потому тут убивал человек, такой как я; но мой видел, что ваш много думал и скучал… Теперь мы станем сыграл эта сама ария из Армиде, который мы играл вчера.
— С величайшим удовольствием, добрейший мой г. Шмидт, — отвечал мой дед, видя, что Шмидту хочется поскорей развязаться с мыслью о новом способе казни.
Раздались звуки фортепьяно и виолончели, и ария пошла как нельзя лучше.
Таким образом, во время концерта состоялось изобретение гильотины. На другой день Шарль-Генрих Сансон бросился к доктору Гийотену и сообщил ему вчерашнее изобретение. Гийотен не помнил себя от радости. Трудно вообразить себе даже, как горячо и страстно умеют некоторые люди привязываться к одной какой-нибудь идее; они вполне подчиняются ей, и она овладевает всеми чувствами их. Некоторые из лиц, описывавших жизнь Гийотена, говорят, что будто он под старость раскаялся в своем изобретении и его страшно мучали угрызения совести при виде той услуги, которую принесло человечеству его изобретение. Все это страшно грешит против истории и истины. До последней минуты своей жизни Гийотен был твердо убежден, что он сделал очень полезное изобретение и сполна исполнил тот долг, который предписывала ему совесть. Если современный аппарат для совершения казней и назван был общим именем гильотиной, несмотря на то, что Гийотен собственно не был изобретателем его, то этим только отдана полная справедливость трудам человеколюбивого доктора. Необходимо согласиться, что только благодаря его усилиям принят был и вошел в общее употребление современный образ смертной казни при помощи особого механизма.
На заседании, 31 августа 1791 года, Гийотен сообщил устройство аппарата национальному собранию. Увлеченный своей энергичной импровизацией, он, во время своей речи, сделал несколько довольно неудачных выражений, которые возбудили общий хохот и чуть-чуть не помешали успеху его дела. Утверждая, что новый способ смертной казни вовсе не создает страдания, Гийотен сказал, между прочим, что осужденный почувствует только легонький ветерок над шеей. Уже и эта фраза была несколько странна, но Гийотен не ограничился этим и прибавил следующее выражение: «Этой машиной я в одно мгновение отрублю вам голову так, что вы и не почувствуете». При этих словах в собрании раздался такой страшный взрыв хохота, что пришлось напомнить о соблюдении порядка. В тогдашних памфлетах появились несколько эпиграмм на Гийотена, повсюду стали петь ту песенку о реформаторе казни, о которой я уже упоминал.
Как бы там ни было, но национальное собрание осталось при первом своем решении, и проект Гийотена предоставлен был для рассмотрения. Длинная переписка завязалась между Гийотеном, генерал-прокурором Редерером, министром финансов Клавером и моим дедом. Наконец Национальное собрание поручило доктору Антуаню Луи высказать свое мнение об этом новом способе смертной казни.
Луи был лейб-медиком короля, и скоро его августейший покровитель узнал о том поручении, которое было сделано его врачу. Всем хорошо известна страсть Людовика XVI к слесарному мастерству, его искусство в этом деле. Он захотел сделать несколько советов доктору Луи и кстати поближе познакомиться с вопросом о гильотине. Этот вопрос также интересовал его как короля, потому что дело шло об уголовном праве французской нации. Король и его лейб-медик сильно интересовались устройством аппарата, предложенного г. Гийотеном. Вследствие этого Гийотен был приглашен в Тюльери доктором Луи, который пригласил также во дворец моего деда, как третью личность, с которой в случае нужды можно было посоветоваться.
Совещание это состоялось 2 марта 1792 года. В это время тюльерийский дворец уже представлял грустную картину. Шарль-Генрих Сансон, проходя вместе с Гийотеном по залам тюльерийского дворца, заметил, что в настоящее время дворец был почти пуст. Только там и сям порою показывались бледные и запуганные лица. На этот раз у деда моего еще болезненнее сжалось сердце, чем в тот раз, когда он вступил в великолепные палаты версальского дворца.
Доктор Гийотен и дед мой скоро добрались до кабинета доктора Луи, которого застали в кресле за столом, покрытом зеленым бархатом с золотым шитьем. Обменявшись по-товарищески несколькими дружескими словами, Антуань Луи пожелал рассмотреть рисунок, который на скорую руку сделан был Шмидтом. Дед мой уже успел в то время приложить небольшой текст к этому рисунку, и при помощи букв, расставленных на чертеже, объяснить назначение каждой отдельной части снаряда. Пока все были заняты рассматриванием этого рисунка, поднялась портьера, и новая личность вошла в кабинет.
Доктор Луи, сидевший до этого в кресле, при появлении этого посетителя встал. Посетитель, бросив холодный взгляд на Гийотена и обратившись к Антуану Луи, отрывисто спросил:
— Ну что, доктор, что вы думаете об этом?
— Мне кажется, что это удобно как нельзя лучше, — отвечал доктор Луи, — и я готов подтвердить все сказанное мне г. Гийотеном. Впрочем, не угодно ли вам будет поглядеть самим.
При этом Луи передал рисунок посетителю, который с минуту рассматривал его молча и наконец покачал головой в знак сомнения и сказал:
— Уместна ли здесь полулунная форма, которая дана лезвию? Неужели вы думаете, что лезвие такой формы придется по каждой шее? Для одних оно будет чересчур велико и только раздавит шею, а другие шеи оно даже не охватит.
Со времени появления этой особы в кабинете Шарль-Генрих Сансон не упустил из виду ни одного слова, ни одного взгляда его. Голос, которым были сказаны эти слова, тотчас убедил моего деда, что он не ошибся и что перед ним был сам король. Король был одет в платье темного цвета и без орденов. Судя по тону его речи и обращения с теми, кто мог узнать его, легко было догадаться, что он на этот раз хочет сохранить свое инкогнито.
Шарль-Генрих Сансон был поражен верностью замечания, сделанного королем. Машинально при этом он взглянул на шею Людовика XVI, которая была хорошо видна из-под тоненьких кружевных воротничков. При этом дед мой заметил, что при крепком телосложении короля шея его оказалась гораздо большего объема, чем тот, который был дан Шмидтом полулунному лезвию на рисунке гильотины. Невольный трепет пробежал по телу моего деда, и он погрузился в раздумье. В это время до слуха его долетел голос короля, который, указывая глазами на моего деда, спросил у доктора Луи:
— Не тот ли это человек? — Доктор сделал утвердительный знак.
— Спросите его мнение об этом, — продолжал Людовик XVI.
— Вы слышали, — сказал лейб-медик, обращаясь к моему деду, — то замечание, которое сделал этот господин. Что же вы теперь скажете о форме лезвия?
— Я думаю, что этот господин совершенно прав, — отвечал мой дед, делая особенное ударение на слове господин. Действительно, при настоящей форме полулунного лезвия могут встретиться некоторые неудобства.
На лице короля показалась довольная улыбка; затем он взял перо со стола доктора Луи и поправил рисунок, заменив полукруглую линию лезвия, косвенно направленной прямой линией.
— Впрочем, — прибавил он, — я легко могу ошибаться, и когда будут производиться опыты, необходимо попробовать и тот и другой способ.
Затем посетитель встал и, сделав всем приветствие рукою, удалился. В это время Людовик XVI не был уже тем молодым королем со светлым и беззаботным выражением лица, каким за несколько лет до этого видел его мой дед в Версале. Король состарился прежде времени, и на лице его резко обозначались следы усталости и грустных забот. Временами угрюмый взгляд мелькал в его глазах, и плохо скрытое раздражение проявлялось в чертах его лица. Только врожденная доброта успевала брать верх над этими чувствами. Быть может, даже, что очень грустные мысли мелькнули в голове короля в то время, когда он рассматривал рисунок Шмидта.
Такова была вторая встреча моего деда с королем. В это время король уже сделался угрюмым и недоверчивым и не допускал, как прежде, к себе всех своих подданных.
7 марта, то есть через пять дней после этого совещания, Антуан-Луи представил свой отчет в Национальное собрание. В этом отчете он ясно и положительно показал пользу аппарата, нарисованного Шмидтом, и предложил только сделать опыты над той и другой формой лезвия. 20 марта Национальное собрание утвердило мнение г. Луи и поручило устроить ему первый аппарат для совершения смертной казни. Луи обратился к плотнику Гюидону, который и взялся устроить этот аппарат.
Когда новая машина была готова, то дед мой и двое его братьев были вызваны в тюрьму в Бисетре для производства опытов над тремя трупами. Эти опыты состоялись 17 апреля 1792 на дворе Биссетра, в присутствии трех докторов: Антуана-Луи, Филиппа Пинеля и Кабани. Заключенные, которых заставили удалиться со двора, с жадностью смотрели в окна на это печальное зрелище.
При этих опытах одна за другой были отрублены головы у всех трех трупов, доставленных из дирекции госпиталей. Первые два опыта, сделанные при помощи косвенно усеченного лезвия, удались как нельзя лучше; третий опыт, при помощи полулунного лезвия, устроенного по рисунку Шмидта, оказался неудачным. На этом основании отдано было предпочтение лезвию, косвенно усеченному.
Через восемь дней после этого моему деду пришлось в первый раз испробовать новую машину над живым преступником. Преступник этот, Жак-Никола Пеллетье, приговорен был к смерти 24 января за воровство и грабеж на больших дорогах. Много беспокойств произвело в это время то внимание, с каким народ встретил это новое орудие казни. Это беспокойство лучше всего видно из следующего письма, отправленного генерал-прокурором Редерером к главному начальнику национальной гвардии Лафайету.
«Париж, 25 января 1792 года.
Милостивый государь! Новый способ, посредством которого отрубят голову у преступника, вероятно, будет причиной довольно значительного стечения народа на Гревской площади; поэтому нужно принять меры, чтобы не сделано было какого-нибудь повреждения новой машине для совершения смертной казни.
Основываясь на этом, я предполагаю, что необходимо вам отдать приказание, чтобы достаточное число из тех жандармов, которые будут присутствовать при казни, оставалось и после казни на площади и в соседних с нею местах. Эта предосторожность может быть очень не лишней при снятии новой машины с эшафота.
Редерер».Быть может, в это время пришло на память событие, совершившееся в последний день существования колеса, и невольно появилось опасение, как бы народное озлобление не обусловило подобного же события при первых днях существования нового аппарата для казни. В это время машину эту одни уже стали в насмешку называть луизоном или луизетой, по имени доктора Луи, а другие прозвали ее гильотиной по имени Гийотена. Известно, что последнее из этих двух названий установилось навсегда. Наказание, к которому был приговорен Пеллетье, было очень строго, и он был не из числа тех преступников, которые не могли бы возбудить к себе в толпе ни великодушного сострадания, ни искренней симпатии. Несмотря на это и на страшное стечение народа, все совершилось в величайшем порядке и при совершенном спокойствии.
Эта казнь сполна подтвердила совершенно справедливые замечания моего деда. Пеллетье до того упал духом, что его скорее донесли, чем довели до места казни. Если бы пришлось его казнить мечом, то его нужно было бы положить на землю и при этом, под влиянием инстинкта самосохранения, он невольно стал бы делать движения, которые препятствовали бы исполнению казни.
Здесь, быть может, было бы уместно обратить внимание на то, действительно ли смерть на гильотине составляет самый легкий род смертной казни и, следовательно, удовлетворяет филантропическим идеям своего изобретателя. При этом можно было бы также привести несколько парадоксальных предположений некоторых анатомов, которые утверждают, что преступник во время казни испытывает страшные мучения; эти мучения, по их словам, можно назвать посмертными, потому что они уверяют, что наше чувство, наши личные ощущения, наше «я» продолжают существовать некоторое время по отсечении головы, так что казненный в состоянии еще почувствовать все те страдания, которые сопряжены с казнью его на гильотине. Но все это, я думаю, лучше будет отложить до того времени, когда, сообщая свои воспоминания, я в состоянии буду противопоставить мои собственные слабые труды, мои наблюдения и те личные впечатления, которые производили на меня жертвы гильотины.
Впрочем, время неудержимо идет вперед, и мы приближаемся к таким важным событиям, что я не могу позволить себе откладывать или прерывать рассказ о них.
Глава XI Суд 17 августа 1792 года
Как перекаты грома во время бури стали сменяться одни другими грозные события революции. Уже близко было то время, когда история эшафота станет историей Франции и когда треугольное лезвие гильотины станет главным деятелем при развязке страшной драмы, волновавшей весь мир в эту эпоху. Еще несколько дней и уже великая жертва готова была лечь в основание того национального здания, которое воздвигалось в это время. До сих пор исполнителю уголовных приговоров в ответ на позорную кличку «Палач», оставалось отвечать только одно: «Господа! Презирая меня, вы презираете законы вашего общества». Теперь же вдруг проявившаяся кровожадность целого народа давала исполнителю полное право спросить: «Господа! Да не для меня ли собственно вы и затеяли революцию?»
Быть может некоторые подумают, что внуку Сансона (или великого Сансона, как его называют) теперь, более чем когда-нибудь, следовало бы отказаться от того равнодушия и бесстрастия при описании событий, в которых меня так жестоко упрекали. Но пусть разубедятся на этот счет мои читатели! Представляя ряд моих кровавых рассказов и сообщая описания последних минут осужденных и казненных, я не стану сообщать тех взглядов на их деятельность, которые могли бы у меня родиться при этом. Мало того, что я сознаюсь, что моих сил слишком недостаточно для оценки этой деятельности, но уже одна та мысль, что мои предки принимали участие в их страданиях и казни, должна остановить меня. Я не хочу оскорблять их памяти страшной несправедливостью и не стану судить после смерти тех людей, которым пришлось пасть под рукою моего предка.
Итак, приступая к описанию периода революции, я буду по-прежнему избегать всякой оценки тогдашних политических деятелей. Я ограничусь только возможно кратким изложением тех событий, которые обуславливали описываемые мною происшествия.
Впрочем, по временам я буду заменять свой рассказ собственными словами моего деда Шарля-Генриха Сансона и буду помещать отрывки из его журнала. При этом я буду помещать их в том самом виде, в каком они были написаны моим дедом и в каком достались мне, так что я не позволю себе ни прибавлять, ни изменять ни одной буквы в этом журнале. Журнал этот был начат в конце мая месяца, почти через шесть недель после основания революционного трибунала и продолжался до вандемьера III года. Он писался день за день рукою, еще дымившейся от пролитой ею крови, и писался в те бессонные ночи, которые неминуемо должны были следовать за тревожной деятельностью этих ужасных дней. В этом журнале не только заключается итог всех событий на эшафоте, но помещены также и личные впечатления того, кого судьба обрекла на роль своего ангела-истребителя. Пополнять этот труд, исправлять ошибки в форме, сглаживать шероховатости и обезображивать первобытную простоту его, — значило бы лишать его самых достоверных признаков неподложности, которая составляет одно из главных достоинств этого труда.
Но еще девять месяцев остается нам до того дня, с которого начинается мартирология Шарля-Генриха Сансона, а в продолжение этих девяти месяцев машина доктора Гийотена не оставалась в бездействии.
Теперь, по ходу событий, мы находимся в августе 1792 года.
Законодательное собрание закрылось, оставив после себя ту конституцию 1791 года, которую все приветствовали с таким энтузиазмом и которую всем захотелось потом поскорее уничтожить.
Король был слишком честен, для того чтобы быть грозою своих подданных; в то же время он не умел ни подчиниться общественному мнению, ни заставить его замолчать. Благодаря всему этому партии мятежников легко одержали верх.
Эти мятежники называли себя патриотами; они разделились на членов городского совета и якобинцев. Якобинцы ораторствовали с трибуны резче и пользовались большим влиянием, чем прочие члены законодательного собрания. В то же время муниципальная власть городского совета боролась с законным влиянием представителей нации и нужно было ожидать, что это влияние будет подавлено и должно будет уступить место торжествующему народному движению.
20 июня революционеры ворвались во дворец, но дерзость их не достигла еще полного своего развития.
Роялисты, с минуты на минуту опасавшиеся страшной катастрофы, стали было радоваться такой умеренности революционеров. В то время трудно было еще догадаться, что это умышленно высказанное непочтение к королевской власти должно подготовить ее падение.
Оскорбление королевского величия произвело самое непритворное негодование во всей Франции, и патриоты убедились, что прикасаться к трону нельзя безнаказанно. Все городские общины Франции отправили Людовику XVI послание с сожалением о случившемся. Это обстоятельство послужило хорошим уроком патриотам и внушило им события 10 августа.
В этот роковой день Франция увидала своего короля, удаляющегося перед толпами вооруженных бунтовщиков. Для Национального собрания, потерявшего прежнюю власть свою, скоро наступило свое 20 июня. Законодательное собрание скоро должно было признать власть городского совета выше своей собственной власти. При таких обстоятельствах монархия в продолжение этого года потерпела крушение, и никто не осмелился спасти ее.
Законодательное собрание решило отвезти короля в Люксембург. В то же время городской совет потребовал заключения короля в Тампль, и собрание должно было подчиниться этому требованию.
Городской совет и наблюдательный комитет под председательством Марата громко требовали наказания изменников и заговорщиков. 10 августа Робеспьер как представитель муниципальной власти явился в национальное собрание и повелительным тоном заявил волю народа. После попытки противиться законодательное собрание должно было уступить и доверить избирательному собранию назначение членов экстраординарного суда. Суду этому предоставлялось обсудить все преступления, совершенные 10 августа, а также все обстоятельства, связанные и относящиеся к этим преступлениям. Приговор этого суда должен был считаться окончательным, без всякого права аппеляции на него.
Впрочем, этот суд очень плохо удовлетворил тем намерениям, с которыми он был созван 20 августа. Ни страх, ни кровожадность не могли еще окончательно заглушить чувство человеколюбия в сердцах судей. Быть может, благодаря самой нетерпеливости зачинщиков этого заговора, мы избавлены от позора увидеть девятью месяцами раньше страшное нарушение правосудия, вступившего в союз с революцией.
Суд 17 августа не был еще революционным судом. В составе его еще находились люди, одно имя которых уже говорит за них. К числу таких людей надо отнести Фукье-Тенвиля. Суд этот был не слишком щедр на казни, так как в членах этого суда не совсем еще успело погаснуть стремление к правосудию и чувство великодушия. Правда, этот суд во всей строгости применял к делу очень строгие законы, но, по крайней мере, он стремился соблюсти все необходимые формы суда. В ту эпоху, к которой мы приближаемся, уже и это обстоятельство нужно уметь ценить.
С 1791 года до мая 1792 число уголовных преступлений против личности граждан и нарушений права собственности значительно увеличилось. Впрочем, подобный характер постоянно имеет место в эпохи социальных смут и переворотов. Стоит взмутить воду в грязном сосуде, и грязь всплывет на поверхность воды. В это время усилился новый род преступлений, который доставил обильную жатву для эшафота. Ассигнации последних выпусков очень часто подделывались, и примеры таких подделок, несмотря на страшное наказание, назначенное за это преступление, нередко увлекали людей жадных к деньгам. Теперь же, при возбуждении политических страстей народа, преступление это усилилось до чрезвычайности. В продолжение семи месяцев от 1 января до 20 августа около пятнадцати так называемых делателей фальшивых ассигнаций сложили свои головы на Гревской площади.
19 августа один гражданин по имени Колло был приговорен к смертной казни как делатель фальшивых ассигнаций. По обыкновению на Гревской площади соорудили эшафот, поставили гильотину, — и тысячи народа столпились около этого орудия смертной казни.
В то время, когда тележка, в которой помещался Шарль-Генрих Сансон вместе с осужденным, показалась на площади, навстречу ей раздался шумный крик многолюдной толпы. Деду моему показалось, что толпа кричит: пошел на дворцовую площадь.
Между тем лошадь, запряженная в тележку, продолжала двигаться вперед. Вдруг кто-то выдвинулся из толпы, схватил лошадь за узду и сказал кучеру:
— Разве ты не слышишь, что тебе кричат? Шарль-Генрих вмешался в это дело, и человек, остановивший тележку, объяснил ему, что городской совет желает, чтобы гильотина, на которой будут казнить преступников, была воздвигнута перед окнами королевского дворца.
Дед мой отвечал на это, что его долг исполнять те приказания, которые ему будут сделаны, а не поступать наперекор решению суда, тем более что сегодня уже слишком поздно переносить эшафот.
Между тем крики страшно усилились, и в то же время много лиц окружили тележку, так что пришлось повернуть по направлению к Тюльери.
Положение было очень затруднительное и даже плачевное.
Небольшой конвой, сопровождавший тележку, казалось, был вовсе не расположен вмешиваться. В то же время осужденный бедный ремесленник, занимавшийся гранением драгоценных камней, был так потрясен страхом приближающейся казни, что было бы слишком жестоко еще более продлевать это мучение.
Вступив в переговоры с окружающей его толпой, дед мой успел выпросить позволение доехать с преступником до эшафота, с условием вслед за тем идти в ратушу и просить себе новых инструкций.
Шарль-Генрих надеялся, что когда осужденный прибудет на то место, где должны окончиться его предсмертные томления, то городской совет избавит его от той жестокой прогулки до Тюльери, к которой его присуждали.
Но случилось иначе, и городской совет после непродолжительного колебания, приказал Шарлю-Генриху Сансону исполнить желание толпы.
Едва только у гильотины раздались, по приказанию исполнителя, удары молотков помощников его и столяров, что показало окончательное намерение принести это орудие казни, как оглушительное «ура» раздалось на площади. По этому крику муниципальные власти догадались, что требование народа удовлетворено. Почти в то же время люди, стоявшие ближе к эшафоту, ворвались в его ограду.
В одно мгновение исчезло то отвращение от казни, которым толпа, хоть не прямо и бессознательно, заявляла свой протест. Все руки взялись за дело: одни отрывали тяжелые доски, другие вырывали гвозди, третьи разбирали тес, из которого была сколочена платформа. В одно мгновение весь эшафот был разобран, и все части его, которых впрочем было не очень много, были на руках перенесены на приготовленные уже народом подводы. Эта печальная процессия тронулась в путь; рядом с ней и за ней шла огромная толпа народа, распевавшая патриотические песни.
Хотя осужденный в это время почти обеспамятел от страха, однако он догадался, что ему не избежать казни. Его мертвенная бледность, конвульсивные движения и трудное дыхание ясно говорили, какое страшное и мучительное томление испытывал он. Но когда тележка снова тронулась в путь, то неистовые крики толпы, наглые шутки, с которыми некоторые обращались к осужденному, — все это окончательно помутило его и без того потрясенный рассудок. Страшный упадок сил сменился бешеным бредом. Преступник стал рвать веревки, которыми был связан, и с дикими, бешеными криками стал отбиваться. Он стал жестоко кусать тех, кто его держал, и так как его окончательно невозможно было успокоить, то пришлось завязать ему рот.
Когда доехали, наконец, до дворцовой площади, то дед мой заметил, что трое или четверо из его помощников до того напились в попадавшихся по дороге погребках, что были почти совершенно не способны исполнять свои обязанности.
Между тем все присутствующие начали воздвигать гильотину с таким же усердием, с каким разбирали ее на Гревской площади. В это время Шарль-Генрих Сансон стал сильно задумываться и побаиваться того, как бы не пришлось ему остаться почти одному с осужденным, у которого безумие удесятерило силы, и который, по всей вероятности, будет защищаться до самой платформы.
В довершение затруднений настала ночь, и пришлось зажечь факелы.
Боясь ответственности, которая могла упасть на него, дед мой сообщил свои опасения некоторым окружающим и попросил их сбегать в ратушу, рассказать все обстоятельства дела и попросить, чтобы казнь отложили до завтра.
Это сообщение было встречено шумом, который, переходя от одного к другому, все увеличивался и наконец в дальних рядах толпы обратился в страшные вопли.
В это время один молодой человек, еще не успевший даже обрасти бородою, но зато наряженный в красную шапку, раздвинул толпу, подошел к моему деду и сказал:
— А, ты хочешь спасать врагов народа? Ты, изменник, и мы самого тебя заставим понюхать, чем пахнет в окошечке гильотины.
Дед мой с некоторым нетерпением повторил ему то, что уже прежде сообщал окружающим.
— Так твои помощники пьяны? — вскричал молодой человек, ну, так выбирай себе помощников из числа людей, окружающих тебя. Кровь врагов народа необходима, чтобы доставить ему счастье, и тот не патриот, кто не станет гордиться тем, что пролил ее. Ну что, не правду ли я говорю? — спросил он, обращаясь к толпе.
Все ответили на это утвердительно, но в то же время тесный круг, образовавшийся вокруг моего деда, быстро стал расширяться. Лица, стоявшие ближе других, стали скрываться с такой поспешностью, что видно было, что чувства их вовсе не так возвышены, как у того горячего патриота, который их высказывал.
Дед мой понял, что это общее отступление может увлечь и самого проповедника беспощадного патриотизма и потому поспешил отнять у него всякую возможность к отступлению. Он поймал его на слове и принял его предложение.
Осужденный слез с тележки, но отказывался идти по лестнице, которая вела на платформу. Пришлось его нести наверх, и хорошо еще, что его до этого успели связать веревками, потому что конвульсивность движений у осужденного была так сильна, что дед мой, взяв его в охапку, чуть не упал навзничь.
Когда осужденный увидал гильотину, то новая перемена случилась в его бедном организме. Ярость его превратилась в отчаяние, и крупные слезы показались на глазах, дико и бессмысленно смотревших на треугольное, блестящее лезвие гильотины, на котором отражался свет факелов. Осужденный стал просить пощады и все кричал: Я не хочу умирать! Я не хочу умирать!
Между тем импровизированный исполнитель старался до конца выдержать свою роль. Он страшно побледнел, и на лбу его показались крупные капли пота. Видно было, что он делал страшное усилие над самим собою.
Наконец, после сильного сопротивления, осужденный был привязан к подвижной доске гильотины, но конвульсивные движения его так были сильны, что одному из помощников пришлось лечь на него, чтобы как-нибудь удержать его.
Осужденный продолжал кричать и просить пощады. Между тем Шарль-Генрих Сансон обратился к молодому человеку, вызвавшемуся помогать при исполнении казни, и сказал ему.
— Чтобы достойным образом наградить вас, милостивый государь, за тот высокий патриотизм, который вы проявили, я не нахожу лучшего средства, как уступить вам первую роль при исполнении казни.
При этих словах дед мой передал молодому человеку веревку, приводившую в движение лезвие гильотины.
По данному сигналу молодой человек дернул за веревку; стальной треугольник стремительно спустился, и в то же мгновение крики утихли, и голова покатилась на помост эшафота.
С тех пор как народ стал особенно лаком до зрелищ смертной казни, — постоянно стало проявляться требование показывать народу головы преступников, погибших на гильотине.
Сострадание, которое на одно мгновение проявилось было в толпе, исчезло вместе с жизнью преступника, и тысячи голосов стали требовать, чтобы зрелище было доведено до конца, и голова осужденного была бы показана всему народу.
Дед мой тотчас же объяснил молодому человеку, что ему нужно делать и в то же время, предложил избавить его от последней обязанности и приказать одному из своих помощников показать народу голову казненного.
С презрением и даже почти с гневом отказался молодой человек от этого предложения; он приподнял кожаную покрышку ящика, взял отрубленную голову за волосы, и подошел к краю платформы. Но в то время, когда он стал поднимать руку, чтобы показать свой кровавый трофей, сам упал навзничь.
Все тотчас бросились к нему. Сперва показалось, что с молодым человеком обморок вследствие слишком сильного психологического движения, но впоследствии оказалось, что страшная внутренняя борьба с самим собой успела сделать гораздо больше вреда: и обусловила апоплексический удар, как громом поразивший молодого человека.
Так совершилась первая казнь на дворцовой площади, сделавшейся, в продолжение трех месяцев постоянным театром подобных казней.
Быть может, городской совет решился устроить здесь место для казней из желания недостойного, нанести самое тяжкое оскорбление жилищу последнего короля. Быть может также, что этой мерой совет, в виду тех выходок, которые уже замышляли якобинцы, хотел сосредоточивать на этой площади массы народа, для которого дворцовая площадь стала местом постоянных сборищ. Быть может, наконец, что орудие казни решено было постоянно держать в виду законодательного собрания, для того чтобы дать почувствовать всем законодателям как настоящим, так и будущим, что их личная безопасность гораздо более зависит от высказываемых ими мнений, чем от указа о неприкосновенности членов законодательного собрания.
Что касается позорного столба, то он не последовал за эшафотом в Тюльери и остался на Гревской площади. 1 сентября дед мой надел позорный ошейник на Жана Жюльена, извозчика из Вожирора. Жюльен был обвинен в воровстве и приговорен к двенадцатилетней каторжной работе в кандалах и к выставлению у позорного столба. Осужденный клялся в своей невинности и казался сильно взволнованным. Пока его вели на Гревскую площадь, он несколько раз повторял окружающим, что он с удовольствием предпочел бы смертную казнь тому позорному наказанию, к которому его приговорили. Эти слова сочтены были самохвальством, и на них не обратили никакого внимания.
В то время когда стали прибивать надпись к столбу, у которого был привязан осужденный. Жюльен разразился страшными проклятиями против судей и тогдашнего правительства. Шарль-Генрих Сансон попросил его быть спокойнее, угрожая в противном случае завязать ему рот. Но осужденный, в котором до сих пор никак нельзя было подозревать роялиста, принялся кричать изо всей силы: «Да здравствует король! Да здравствует королева! Да здравствует Лафайет! К черту всю нацию!»
То, что последовало за этими криками, вообразить себе гораздо легче, чем описать.
Впечатление, которое производит раскаленная сковорода на струю масла, дает еще неполное понятие о том, что случилось в это время на Гревской площади. Представьте себе народ, находящийся под влиянием самых сильных страстей. Тут было все: и горячка патриотизма, и опасение за себя. К тому же волнение поддерживалось глухими слухами об убийствах, которые начнутся не нынче, так завтра, о пушечных выстрелах, которые скоро загремят, о приближении пруссаков и эмигрантов и тому подобное. Принимая в соображение это настроение умов, легко представить себе, какое впечатление на толпу произвели безумные речи Жюльена.
Едва несчастный Жан-Жюльен успел произнести эти слова, как целый град всего, что попадалось под руку, посыпался на него и застучал по платформе эшафота. Несчастного тотчас же оторвали от позорного столба и, несмотря на все усилия и просьбы исполнителя и его помощников, разъяренная толпа чуть не разорвала несчастного на куски. От этой ужасной смерти его едва могло избавить вмешательство прокурора-синдика Манюэля, который при этом проявил необыкновенное мужество. Бросившись в самую середину толпы, он вступил в рукопашную схватку с самыми разъяренными и наконец добрался до Жана Жюльена и успел утащить его в ратушу. Толпа, убедившись, что добыча ускользнула у нее из рук, пришла в страшное, необузданное негодование, и народное волнение готово было превратиться в настоящий бунт. Чтобы успокоить толпу, над несчастным Жан Жюльеном тотчас же совершили экстраординарный суд, который собрался и приговорил обвиненного к смерти…
Вот еще один случай из этой эпохи. Старика Казотта спасла уже однажды от казни преданность его дочери. Казотт встретил сострадание к себе даже в той пародии на суд, который под представительством бессовестного Мэйлара заседал в Аббе. Но теперь он не был так счастлив перед лицом тех судей, которых на этот раз назначил ему закон.
Казотт был поэтом и отличался изяществом и легкостью стиха. Отчасти мистический взгляд Казотта придавал его произведениям какой-то пророческий характер. Благодаря уму, умению хорошо говорить и забавным выходкам своим, Казотт был душою тех очаровательных кружков восемнадцатого века, в которых таланты и дарования соединялись с знатностью и красотой. Однажды вечером Казотт был у маркиза Водрейль. Какая-то необъяснимая тоска овладела им, что уже не раз замечали в нем его друзья. Казотта окружили и стали расспрашивать о причинах такого дурного настроения духа. Долгое время он отказывался отвечать на эти вопросы, но наконец настояния нескольких хорошеньких женщин победили его сопротивление, и Казотт сознался, что, замечтавшись, он видел такие странные видения, которые произвели на него очень сильное впечатление. Вслед за тем Казотт стал говорить о тюрьме, о позорной тележке и описывая форму эшафота со всеми подробностями его. При этом, описывая форму эшафота, он как будто предчувствовал уже то изобретение, которое через двадцать лет после этого должен был сделать Гийотен. В ответе на эти рассказы все окружавшие стали спрашивать Казотта, что общего он находит между собравшимся здесь обществом и тюрьмой, позорной тележкой и эшафотом, о которых должны думать только преступники; Казотт отвечал, что все, о чем он говорил, выпадает на долю тех знатных и блестящих личностей, которые окружают его в настоящее время, и что не одной из них придется погибнуть под рукой палача.
При этом странном пророчестве все на минуту замолкли; но госпожа Монморанси тотчас же подошла к предсказателю и сказала ему с улыбкой.
— Вы толковали нам о позорной тележке, любезный господин Казотт, но позвольте, по крайней мере, мне надеяться, что я получу право приехать на место своей казни в собственном экипаже.
Казотт встал с места и пророческим голосом, заставшим всех содрогнуться, сказал:
— Нет, сударыня! Право ехать на казнь в своем экипаже будет последней привилегией, которая предоставлена будет одному только королю Франции. А мы с вами поедем в позорной тележке.
Все эти странные видения и предчувствия Казотта должны были осуществиться мало-помалу. Что касается его собственной судьбы, то, дочери его, добровольно отправившейся в заключение в Аббэ, удалось на первый раз умилостивить убийц Мэйляра и выпросить у них помилование своему отцу.
Но вскоре после первого ареста Казотта, перехвачена была его переписка, в которой слишком плохо были замаскированы его стремления и антипатии. В сентябре Казотт был снова арестован, и 25 числа этого месяца он снова явился в суд, который приговорил его к смертной казни.
Казотт был очень набожен; евангелие было для него законом во всех, даже самых мелочных, обстоятельствах жизни. Он вошел на эшафот без смущения и без наглой хвастливости, со стойкой самоотверженностью христианина…
До самой смерти короля число казней не уменьшалось; но оно далеко еще не достигло тех громадных размеров, каких достигло через несколько месяцев. Вместе с теми лицами, которые обвинены были в заговоре 10 августа, под гильотиной погибали эмигранты, попадавшиеся нашим войскам после отступления прусской армии, а также грабители домов или, по крайней мере, те из грабителей, на которых правосудие успело наложить свою руку.
Вот перечень главных казней, совершившихся в это время.
3 октября была казнена Леклерк за воровство из домов и кладовых.
8 октября — Мельхиор Котте, прозванный маленьким охотником, также за воровство со взломом.
12 октября — Енглер за участие в заговоре и убийство.
17 октября — Мьело за участие в заговоре.
21 октября — Пуле за изготовление фальшивых ассигнаций.
23 октября были казнены: Жан Бион, студент; Готье де Латуш, советник парижского парламента; Бернаж, бывший телохранитель; Сантон, артиллерийский офицер и де Мирамбель, бывший телохранитель. Все они были приговорены к смерти военным судом, созданным по декрету Конвента от 20 октября 1792 года.
Но пора окончить этот грустный перечень жертв эшафота. Теперь на очереди жертва; занимающая великое место в истории человечества, и этой жертве я решаюсь посвятить следующую главу.
С благоговением и смущением приступаю я к описанию страданий царственного мученика революции.
Глава XII Смерть Людовика XVI
Я только слегка упомянул о сентябрьских днях, во время которых можно было насчитать целые тысячи палачей, если только это название не чересчур почетно для тех убийц, которые свирепствовали в это время. При этом мне удалось сделать самый легкий очерк тех последних дней королевской власти во Франции, которые ознаменовались кризисами 20 июня и 10 августа. Но мне кажется, что я не имею права быть скуп на подробности при описании предсмертной эпохи жизни короля; я не должен забывать, что моему деду выпала на долю грустная обязанность принести эту жертву.
Нам уже знакомы и либеральный образ мыслей Шарля-Генриха Сансона и то, насколько он сочувствовал революции еще при самом начале ее. Необходимо прибавить, что в эту эпоху ход событий успел уже значительно охладить это сочувствие. Законодательное собрание не успело осуществить тех надежд, которые возлагало на него Учредительное собрание, и на долю Конвента выпала обязанность привести в исполнение ту систему насилий, которой думали запугать самые неробкие умы и поколебать самых решительных людей.
Свержение короля и заключение его в Тампль возмутило всех благородных людей; даже в людях, наиболее приверженных к новым идеям, стало проявляться глубокое сострадание и, быть может, даже что-то в роде сомнения в справедливости того дела, которое доводит до таких крайностей. Лафайет, который столько времени был идолом толпы и в другую эпоху, по-видимому, как нельзя лучше мог бы олицетворить стремления нации, теперь одним из первых отстал от того дела, которое возмутило всех друзей свободы. Лафайет внезапно оставил командование войсками и отправился искать себе убежище за границей. Невеселое было это убежище, которому суждено было сделаться тюрьмой для целого государства!
Нетерпеливая революция между тем стала выбирать себе новых предводителей. В это время она колебалась между двумя партиями, готовыми взаимно уничтожить друг друга. Эти партии были — Жиронда и Гора. Это колебание продолжалось недолго, и скоро власть попала в руки более ловкой партии, т. е. той, которая лучше других умела льстить страстям большинства, любившего кровожадные выходки против монархизма и привилегированных классов. Эти два деятеля в глазах толпы были единственными виновниками всех общественных несчастий и всех тех злоупотреблений, которые обусловливались угнетением, продолжавшимся столько веков. Энергичные возгласы, раздававшиеся в клубах, поддерживали в массах то возбуждение, которое обусловило нападение на Тюльери и на тюрьмы, а также те убийства, которые запечатлены кровью воспоминаний о ночи со 2 на 3 сентября 1792 года.
При таких обстоятельствах даже сам Конвент был только призраком власти. Он поневоле должен был преклоняться перед новой властью, известной под именем Городского совета. Этот совет был ни что иное как организация инсуррекционной власти. Большая часть распоряжений этой власти была вызвана страхом, как бы не подать своим несвоевременным сопротивлением сигнала еще к худшей анархии, чем та, которая существовала в это время в несчастной Франции.
Что же такое на самом деле был этот Городской совет, который под скромным именем муниципального учреждения играл такую важную политическую роль и пользовался такой неограниченной властью? Каким же образом этот совет мог так держать в руках те законодательные учреждения, которые впоследствии сделались представителями верховной власти народа? Все это объясняется тем, что точкой опоры для Городского совета были клубы, возбуждавшие общественное мнение и организовавшие сильные манифестации с оружием в руках. Результатом этих манифестаций постоянно было кровопролитие, которое возмущало всех сторонников порядка и истинного прогресса.
Большинство Конвента в это время еще было проникнуто умеренно-либеральными идеями и стремлением установить порядок в обществе. Но что могло сделать это колеблющееся большинство, расходившееся во взглядах и убеждениях и поставленное между двумя партиями, у которых доставало духа презирать опасность положения и которые уже успели вступить в борьбу одна с другой, для того чтобы завладеть властью. Разумеется, что в этой борьбе должна была пасть более слабая и более умеренная партия. Уже все те связи, которыми держалось общество, были разорваны. Даже поклонение Богу было прекращено в храмах, королевская власть переносила одно оскорбление за другим и, наконец, очутилась в плену. Для нового времени нужны были и новые люди, и, несмотря на энергичное сопротивление жирондистов и на все усилия такой могущественной личности как Дантон, кровавая диктатура Робеспьера начала вступать в свои права.
Вопрос о судьбе короля был первым предлогом к борьбе между двумя партиями, стремившимися овладеть властью в Конвенте. В программу действий жирондистов не входила казнь Людовика XVI; они смутно предчувствовали, что это — политическое убийство и что ним начнется владычество революции. Но партия Жиронды была окончательно запугана теми отчаянными воплями народа, которые доносились извне, и теми смелыми действиями, которыми отличались партия Горы, Поэтому скоро удалось вырвать у жирондистов согласие на удовлетворение неутомимой кровожадности народа. Они думали польстить народу этой уступкой; но едва прошло несколько месяцев после этой кровавой жертвы, как на самих жирондистов обрушился гнев народа, и им самим пришлось поплатиться на эшафоте за свое ослепление и малодушие.
Впрочем, можно ли называть народом то большинство, которое в это время заседало вокруг трибуны Конвента? Это большинство то аплодировало, то свистело, судя по тому, насколько речь оратора была за его кровожадные стремления или против них. Каждый день эти самые лица можно было встретить на улице при первых звуках барабанов, при первом стуке оружия; повсюду неутомимо призывали они народ к восстанию. По вечерам те же личности произносили громовые речи в клубах и еще более разжигали народные страсти. Смело можно сказать, что эти лица в это время засучивали рукава для того, чтобы погрузить в кровь свои руки до самых локтей… Что касается меня, то я открыто сознаюсь, что эти личности не следует называть народом, в противном случае нужно было бы согласиться; что народ не что иное, как огромная шайка палачей.
Очевидно, что в эту несчастную эпоху толпа поднимала на копья, как будто победные трофеи, больше человеческих голов, чем мой дед и его предшественники рубили их на эшафоте. В то время народ волочил по улицам гораздо больше обезображенных трупов, чем их выходило из-под рук палача в продолжение целого века.
Неужели во всех этих жестоких выходках нужно обвинять народ? Нет, во всем виноваты те жестокие предводители его, которые умели возбуждать в нем только одни дурные стремления. Эти люди составляли одно общество, и в то время, когда началась буря, эти подонки всплыли наверх и образовали на всей поверхности отвратительную пену.
Не раз случалось моему деду встречать в толпах вооруженных людей, бегавших по улицам, или своих помощников, бывших служителей эшафота, или, по крайней мере, постоянных зрителей казней; подобные личности вовсе не могли составлять избранного общества. Все это, как я уже упоминал, сильно ослабило в моем деде тот энтузиазм, с которым он приветствовал революцию.
Впрочем, дед мой, также как и сын его, отец мой, которому в это время было около двадцати семи или двадцати восьми лет, держали себя по возможности вдалеке от всех совершавшихся событий. В подтверждение этого я могу привести тот факт, что утром 10 августа 1792 года в нашем семействе даже ничего не знали о нападении на тюльерийский дворец.
В этот день отец мой отправился завтракать к дяде своему Луи-Сиру Шарлеманю Сансону, исполнителю при королевском дворце. В описываемую нами эпоху эта должность уже совершенно упала при том крушении, которое потерпела королевская власть во Франции.
Теперь позвольте мне предоставить право дальнейшего повествования моему деду и привести здесь рассказ о событиях этого времени в том виде, в каком он записан моим дедом. При этом я не позволю себе изменить ни одного слова в этом рассказе. Вот подлинные слова моего деда:
«После обеда я открыл окно, чтобы освежить воздух. Вдруг мне показалось, что на улице собралась значительная толпа народа. Так как я находился в это время на четвертом этаже, то я не мог хорошо различить, что там такое делалось. Между тем в середине толпы мне удалось разглядеть молодого человека, который что-то подымал на палке. Тетка моя, которая в это время подошла ко мне и вместе со мной стала глядеть в окно, вдруг воскликнула.
— Ах, Боже мой! Да это голова… — Это восклицание заставило нас содрогнуться и нам захотелось узнать, какого рода несчастье случилось там. Но едва мы успели подумать об этом, как появилась новая, еще большая толпа, преследовавшая какого-то молодого человека. В этом молодом человеке мы узнали швейцарца из Пуассоньерских казарм. Несчастный беглец успел уйти несколько вперед и с тоскливым взглядом стал высматривать убежище, в котором ему можно было бы спастись. Я сознаюсь, что и дядя мой, и я поступили не совсем благоразумно при этом обстоятельстве, но мы не могли подавить того первого движения, в котором проявилось наше сочувствие к несчастному. Я сказал моему деду, что мы не должны позволять убивать человека на наших глазах и так сказать на пороге нашего дома. Несмотря на просьбы моей тетки и на замечания целого общества, мы с дядей сошли быстро вниз и тотчас же отворили двери.
Я обратился к тем из толпы, которые были ближе ко мне, и спросил у них.
— Что вы хотите делать с этим молодым человеком?
Одна личность, с физиономией, напоминавшей каторжника, отвечала на это.
— Да разве вы не знаете, что теперь надо убивать всех швейцарцев.
— За что же это?
— А вы ничего не знаете?
— Нет, я ничего не знаю; я вижу только молодого человека, который вам ничего не сделал и которого вы хотите убить. Это я хорошо знаю и это мне кажется ужасным.
— Все равно, — раздались голоса в толпе, — его нужно убить. Ведь перебили же его товарищи столько наших в Тюльери.
— Я ничего не знаю об этом, — отвечал я, по возможности сдерживая себя, — но я надеюсь, что вы не убьете того, кто вам ничего не сделал.
Толкуя таким образом, мы с дядей успели стать между толпой и несчастным швейцарцем, который, видя, что мы его защищаем, прижался к нам. Две личности из числа самых рослых и самых азартных изо всей толпы бросились было к нам, чтобы схватить швейцарца. Я стал их энергично отталкивать, а дядя мой не оставался праздным. Благодаря нашей ловкости и счастью, нам удалось захлопнуть дверь перед самым носом толпы.
В этом доме, находившемся на улице Борегар, был сквозной ход, посредством которого через мясную лавку можно было выйти на улицу Клери. Этим путем нам удалось уйти и мы, по просьбе нашего беглеца, отвели его на гауптвахту округа Боннь-Нувель, которая в это время находилась на улице Бурбон-Вильнев, близ двора де-Миракль. Приведя его таким образом в безопасное место, мы попросили проводить себя, и двенадцать человек хорошо вооруженных караульных пошли за нами. Этим людям без большого труда удалось разогнать толпу, которая собралась у нашего дома и грозила выломать двери, чтобы снова завладеть своей добычей.
От этого конвоя, провожавшего нас, мы узнали о всех событиях этого дня: и о взятии Бастилии, и о избиении швейцарской гвардии.
Правду говорят, что во всяком, даже в самом грустном, происшествии бывает своя забавная сторона. И на этот раз этот день, начавшийся так трагически, окончился почти смешным случаем. По возвращении домой мы с дядей застали тут одного из наших родственников, который приехал из провинции, чтобы провести несколько дней в Париже. Тетка моя сильно напугала нашего гостя, рассказав ему то, что произошло в этот день. Бедняга не отличался особенной твердостью в характере и скорее был человеком малодушным, чем храбрым. Поэтому тотчас по приезду он уже хотел возвратиться домой и на все наши приветствия отвечал дрожащим голосом и с расстроенным видом. Но хуже всего для него было то, что когда он собрался уехать, узнал, что все заставы закрыты и что из Парижа нельзя выехать без соблюдения некоторых формальностей. Это обстоятельство послужило для бедняги поводом к новым беспокойствам. Он впал в самое паническое отчаяние, рвал на себе волосы и ругал себя за свое безрассудство. Поэтому мне пришлось помогать ему бежать, что, разумеется, было во сто раз опаснее тех формальностей, при соблюдении которых он мог бы выехать из Парижа открыто.
К счастью я был знаком с одним старинным другом моего дедушки Жюжье. У этого господина был огород, одной стороной выходивший на улицу близ заставы, а другой — оканчивавшийся уже за заставой. Этим-то путем и спасся наш трусливый родственник. Перед бегством он имел осторожность переодеться и запасся у одного огородника полным костюмом, не исключая огородницкого камзола; кроме того, взял в руки плетеную корзину.
До этой эпохи ни я, ни отец мой не были обязаны являться в свой участок для отправления служебных обязанностей национальной гвардии; но на другой день, 11 августа, после обеда два выборных явились от имени управления нашего участка с приглашением явиться в общее собрание. Пришлось подчиниться этому требованию. При этом в одном из выборных я узнал старого товарища по пансиону; этот товарищ до сих пор еще не знал звания моих родителей. Я было испугался, как бы это открытие не изменило моих отношений к нему. К счастью я не заметил никакой перемены; напротив, мне показалось даже, что он старается выказать особенное расположение ко мне и тем как бы доказать, насколько он стоит выше тех предрассудков, благодаря которым наше семейство считалось позорным.
На первом заседании общего собрания, в котором нам пришлось участвовать, не случилось ничего необычного; но на другой день, в воскресенье 12 августа, наше собрание занялось выбором депутации из двенадцати членов, в число которых попал и я. Нам поручено было протестовать против одной личности, которая не принадлежала к числу членов нашей общины, воспользовалась смутами 10 августа, успела обмануть всю общину и добилась того, что ее назначили представителем от нас в Городской совет.
Мы отправились в ратушу, где в это время заседал Городской совет. Президент нашей депутации, г. Жакоб, старый юрисконсульт, пользовавшийся большим уважением, предъявил секретарю совета копию с приговора нашей общины, объяснявшего причину нашего появления. Но когда пришла очередь г. Жакоба разъяснить обстоятельства нашего дела, то г. Шометт, бывший тогда прокурором-синдиком, грубо перебил его. Шометт объявил, что личность, которую мы хотим удалить, хорошо знакома и ему самому и Робеспьеру, и что оба они видели, как эта личность усердно провожала короля и королевское семейство в Тампль. Уже одно это, прибавил Шометт, составляет прекрасное доказательство права на звание гражданина, и подобная личность должна быть награждена уважением и признательностью всех истинных патриотов.
Вот образчик того, каким образом целые толпы людей, не сделавших никаких заслуг, при помощи случая и наглости насильственно завладевали всевозможными должностями во время смут этих несчастных дней. Нужно прибавить еще, что в этот день Городской совет был битком набит теми лицами, которые принимали деятельное участие в событиях 30 августа. Большая часть злодеев и убийц собиралась тогда у ратуши, и на ступеньках лестницы, у подъезда которой было убито огромное количество швейцарцев как вооруженных, так и безоружных. Ступеньки еще были запачканы кровью этих несчастных жертв. Когда нам указали на эти кровавые следы, то нам стоило большого труда преодолеть себя и скрыть тот ужас и то негодование, которые невольно прорывались в нас.
При возражениях на приговор нашего общества Шометт не ограничился тем, что осыпал похвалами того, против которого был направлен этот приговор; он стал говорить, что весь наш округ — гнездо аристократов, и что жители предместий Сен-Дени и Сен-Мартен, как например лавочники улицы Сент-Оноре, все богачи, банкиры и вообще люди подозрительные. Шометт не пощадил и нас и объявил, что вся наша депутация ничто иное как стачка личных врагов того достойного гражданина, защиту которого он взял на себя.
В то время как поднялся этот спор, я сам едва не подвергся страшной опасности. Не найдя себе места у бюро, вместе с прочими своими товарищами я должен был сесть на скамью, где уже сидело много разных личностей, в числе которых, как казалось, были и те злодеи и убийцы, которые с жадностью искали себе новых жертв. Еще Шометт не успел окончить своей речи, как Робеспьер, сидевший в стороне у маленького столика, подозвал к себе чиновника и явственно сказал ему;
— Передайте президенту, что я желаю говорить после Шометта.
В это время по месту, которое я занимал, никак нельзя было подумать, что я тоже один из членов депутации. Вероятно поэтому несколько человек, с мрачным видом и возможно принадлежавшие к числу героев недавних убийств, обратились ко мне и грубым тоном сказали:
— Ты зачем здесь? А, каналья, ты, верно, тоже аристократ? Ну, ладно! Мы тотчас с тобой разделаемся так же, как разделались с твоими собратьями швейцарцами.
Эти грозные речи сопровождались такими выразительными жестами, что, сознаюсь, в первое время я сильно испугался; но я тотчас оправился и твердым по возможности голосом отвечал им:
— Граждане, мне кажется, что вы уже чересчур скоро решаете подобные вопросы, и при этом у вас должно гибнуть много невинных; по моему, необходимо сначала хорошенько удостовериться, а потом уже принимать такие насильственные меры.
— Э, — сказал кто-то из толпы, — если начать выслушивать всех, так мы никогда и не покончим с отродьем аристократов.
Во время этого разговора я имел время обвести глазами вокруг себя и окинуть взглядом все это так странно составленное собрание.
К счастью я заметил очень близко от себя своего старого товарища по пансиону, который только накануне был избран в число представителей Городского совета. Он также поглядел на меня, и тотчас же в нем мелькнула мысль о той опасности, которая грозила мне.
По сделанному мною знаку он подошел ко мне и торопливым голосом сказал, что ему необходимо поговорить со мною у секретарского бюро. Нас пропустили, и таким образом я благополучно выпутался из беды, в которую было попал. Мы вошли в зал через другие двери, и я успел присоединиться к своим товарищам; если и их положение могло быть не совсем безопасно, то, по крайней мере, тут мне следовало разделять эту опасность.
В ту минуту, когда мы вошли в зал, уже говорил Робеспьер. Он был вполне согласен с тем, что только что сказал Шометт. Дело приняло такой оборот, что казалось, будто идет вопрос о том, пощадить ли нас.
Затем нас со стыдом отправили назад к нашей общине. Много труда стоило нам сойти с лестницы, так велика была толпа, окружившая и желавшая поглядеть на нас.
Как только мы вырвались из этой грязной толпы, как стало невозможным сдерживать свое негодование при воспоминании о том, как дурно обошлись с нами. Все мы единогласно решили тотчас дать обо всем этом отчет общине, которую мы должны были снова застать в сборе. Действительно, когда мы прибывали, заседание общего собрания членов общины уже началось. Едва только наш президент успел изложить дело, как собрание поднялось вдруг всей массой, с громкими криками, требовавшими мщения. Тотчас же решили призвать весь округ к оружию. Все, и старый, и малый, сочли своей обязанностью броситься домой за оружием. Напрасно президент общества пробовал успокаивать взволнованные умы: попытка его не имела успеха.
У нас в округе были четыре пушки, которыми и завладели тотчас же наши артиллеристы. Не прошло и двух часов, как уже мы, в числе двух тысяч человек, готовы были идти на Городской совет и требовать удовлетворения за то оскорбление, которое было нанесено целой общине в лице ее депутатов. Каждый был уже на своем месте, артиллерия помещалась впереди; офицеры и солдаты стояли в рядах. Уже готовились подать знак к выступлению, как появились четыре гражданина, выбранных Городским советом и уполномоченных президентом и членами отказаться от того, что было определено Советом. Мы выслушивали их с большим вниманием; но тот из выборных, которому поручено было говорить, стал употреблять довольно высокомерные выражения; наш президент тотчас же перебил его и строгим голосом потребовал удовлетворения за те оскорбления и опасности, которым подверглась наша депутация. Эта депутация, продолжал он, была составлена из честных людей, пользующихся доверием своих сограждан. За что же так несправедливо осмелились назвать наш округ предместьем аристократов, лавочников без всякого патриотизма, врагов революции и богатых развратников? В действительности же у нас большей частью люди очень небогатые, почти все — ремесленники, отцы семейств, готовые посвятить жизнь свою отечеству.
Выборные смешались и как милости стали просить, чтобы им дали время возвратиться в Совет и сообщить там все, что они видели и слышали. На это последовало согласие, но вместе с тем было заявлено требование, чтобы президент, Шометт и Робеспьер завтра же, перед той же самой депутацией, публично извинились за те резкие выражения, которые они употребили, и те оскорбительные предположения, которые ими были сделаны. Выборные обещали исполнить это требование и спокойно удалились.
Действительно, на другой день снова состоялось все то, что было потребовано. Наша депутация снова явилась в ратушу во время заседания Городского совета. Здесь, в присутствии двенадцати выборных разных классов общества, Робеспьер, Шометт и Президент сознались, что они были неправы, высказав вчера такое мнение о жителях северных предместий и что теперь, ознакомившись ближе с этим делом, они убеждены, что граждане этого предместья — добрые патриоты, и поведение их со времени революции заслуживает полное одобрение. Затем, в полном собрании, нам выдана была копия с протокола этого заседания. В этом документе формально было изложено отречение от тех оскорблений, которым мы подверглись накануне. Среди разного рода заявлений уважения к нам, мы возвратились в наш округ, который с оружием в руках ожидал исхода нашего вторичного путешествия в Совет».
Я считал нужным привести эти события в подлинном рассказе моего отца, для того чтобы показать читателям характеристику той эпохи, когда совершилось падение несчастного Людовика XVI и когда предание его суду и процесс его стал предметом, обсуждения в Национальном конвенте. Мне кажется, что почти невозможно найти более резкую картину господствовавшей тогда анархии. Действительно, что можно еще подумать о городе, в котором дело было так близко к междоусобной войне, и где две части города вели переговоры одна с другой и грозили друг другу штыками и пушками.
При избрании в офицеры и унтер-офицеры национальной гвардии дед и отец были назначены сержантами, а дядя мой, Шарлемань Сансон, был произведен в капралы. Служба эта заставила их принять более деятельное, чем им хотелось, участие во всех политических манифестациях этой странной эпохи, когда исполнение того, что тогда называлось обязанностями гражданина, взяло верх над всеми прочими занятиями почти каждого жителя Парижа.
Не долго послужили они в этих новых чинах, а уже в Конвенте начались прения о предании суду царственного пленника, заключенного в это время в одной из башен Тампля. Впрочем, эта кровавая страница нашей истории записана у нас такими неизгладимыми чертами, что я не считаю нужным снова приводить рассказы об этом. Уже другие до меня рассказали эти события таким голосом, который пройдет века и дойдет до отдаленных поколений; они описали всю эту драму, которая началась в законодательных учреждениях, а окончилась на революционной площади. Я хочу рассказать только одну развязку этой страшной драмы и уже при этом чувствую, что перо мое слишком слабо для такого тяжелого труда.
Я по возможности буду избегать всякого рода повторений и поэтому обойду молчанием ту борьбу ораторов, которая разгорелась в Конвенте между партией Горы и жирондистами, и после которой обе партии соединились и решились принести революции свою венценосную жертву. Я оставлю в стороне и тщетные, хотя и героические, усилия г. Ланжюине, и вопрос о компетентности суда, который впоследствии был так хорошо формулирован короткой, но энергичной фразой Дезэза: «Я ищу среди вас судей, но вижу одних только обвинителей»; я не упомяну также о попытке обратиться с апелляцией к народу и требовать отсрочки суда, а также о предложении держать короля в заключении во время войны и потом изгнать его из отечества, Все это были голоса тех лиц, у которых совесть была возмущена тем мнением, которое им нужно было подать, и которые искали средства обойти то решение, которого от них требовали.
Когда несчастный король появился у барьера Конвента, то вероятно в это время, более чем когда-нибудь, пришла на память та кровавая дорога, которою прежде его прошел король — мученик Карл I.
Злонамеренность обвинений, направленных против Людовика XVI, умышленное пренебрежение самыми обыкновенными юридическими формами, — все это показывало королю, что гибель его решена, и что кровь его должна пролиться, как очистительная жертва, для того чтобы искупить ошибки этого времени и успокоить необузданные страсти. Всем хорошо известны те мужественные ответы короля, которые давал он на обвинения, и та энергия, с которой он оправдывал себя в том, что приказал стрелять в народ, чтобы отбить грозное нападение на себя.
Когда, спустя семьдесят лет, мы начинаем перечитывать этот невероятный процесс, то невольно зарождается такой вопрос: каким образом Конвент мог дойти до такого ослепления, что стал вменять Людовику XVI преступление, даже те покушения, которые были направлены против его особы? Как после этого не почувствовать того прогресса, который сделало человечество с того времени? Во всех последующих революциях мы уже не встречаем таких грустных последствий народного движения. Правда, и после того бывали бури, но во время их королям давали по крайней мере возможность найти себе убежище в изгнании.
Итак, 11 декабря 1792 года несчастный король был представлен на суд Конвента под председательством того самого Баррера, холодная диалектика которого имела такое решительное влияние на окончательный приговор. 17 января состоялся этот цареубийственный приговор. В первое время общее изумление было так велико, что не осмелились даже проверить результат подсчета голосов, и проверка баллотировки снова начата была на другой день, 18 января. Результат, полученный накануне, был признан верным, и Верньо, которому пришла теперь очередь председательствовать в Конвенте, объявил, что Людовик Капет приговорен к смертной казни.
Заседание 19 января было посвящено обсуждению вопроса об отсрочке казни. И на этом заседании были отвергнуты все робкие попытки добиться того, чтобы казнь была отложена. Большинство трехсот восьмидесяти голосов из числа шестисот девяноста наличных объявило, что оно не допускает отсрочки казни осужденного короля.
Это была первая страшная новость, которую узнал мой дед, с тоскливым предчувствием следивший за всем ходом этого ужасного процесса. Нечего и говорить, какое страшное потрясение произвело на него это известие. Дед мой думал отпраздновать 20 января по-семейному. В этот день была годовщина свадьбы его с доброй моей бабушкой, которой в это время пошел уже шестидесятый год от роду и двадцать девятый год ее жизни замужем. Деду моему хотелось было скрыть известие об ожидающей его катастрофе от своих домашних, для того чтобы не портить печальной новостью этого дорогого для нас дня. Но дед мой до того изменился в лице, что не было никакой возможности для него притворяться и скрывать ту тоску, которая его томила. Отец мой также с видимой принужденностью отвечал на ласки и предупредительность своей матери. Все в нашем семействе погрузилось в какое-то мрачное и тоскливое раздумье.
Дед мой, для того чтобы не возбуждать подозрений у моей бабушки, приказал своим людям хранить самое строгое молчание, и затем он и отец мой, каждый отдельно, вышли и отправились в город, для того чтобы ознакомиться с теми слухами, которые уже ходили в то время по городу. Уже в это время было известно, что король просил отсрочить казнь на три дня, для того чтобы иметь возможность приготовиться к смерти.
Конвент не осмелился согласиться на это. Шарль-Генрих Сансон, решившийся забраться даже в здание, где помещался Конвент, разузнал все самым положительным образом. Единственное и последнее снисхождение, оказанное королю Франции, состояло в том, что ему позволено было проститься со своим семейством и отправиться на место казни в сопровождении священника. Не оставалось более никакого сомнения в том, что казнь должна была состояться на другой день.
Дед мой возвратился домой в совершенном отчаянии; немного ранее его возвратился отец мой с такими же грустными известиями. Много разных лиц являлось в этот день к моему деду и настоятельно требовало объясниться с ним. В то же время было подано несколько бумаг, между которыми находился роковой приказ поставить ночью эшафот и ожидать осужденного к восьми часам утра. Прочие бумаги состояли исключительно из писем, большая часть которых была без подписей. В этих письмах уведомляли моего деда, что уже приняты все меры для освобождения короля во время переезда его от Тампля до площади революции. При этом в одних из этих писем грозили моему деду, что он при первом признаке сопротивления падет под тысячью ударов. В других же письмах вместо угроз были помещены самые умоляющие выражения. В них убеждали моего деда соединиться с освободителями несчастной жертвы и стараться как можно более выиграть времени перед казнью, для того чтобы дать возможность тем решительным людям, которые будто бы будут находиться в толпе, пробиться сквозь ряды национальной гвардии и унести короля с эшафота.
Последнее из этих средств, казавшееся моему деду не невозможным и не бесчестным, возбудило в нем слабый луч надежды. Дед мой через столовую пошел в комнату своей жены. В столовой он остановился у стола, убранного для семейного праздника; цветы, плоды и разного рода пирожные украшали его и ясно показывали ту заботливость, с которой бабушка моя чтила день своей свадьбы. Не выходя еще из столовой, дед мой вдруг услыхал голоса двух людей, громко звавших к себе на помощь. Он бросился туда, быстро растворил двери и увидал отца моего вместе с незнакомым молодым человеком; оба они старались привести в чувство мою бабку, которая была в глубоком обмороке.
Этот молодой человек только что вошел в наш дом, и, не застав дома Шарля-Генриха Сансона, пожелал переговорить с его сыном. Молодой человек был введен к моему отцу в то время, когда в этой комнате была моя бабка. С первых слов разговора обнаружилась та страшная тайна этого дня, которую от нее скрывали. Этот молодой человек был также один из людей, мечтавших освободить короля. Впрочем, его преданность зашла гораздо далее, чем у других; он желал занять место короля и умереть вместо него, если только ему добудут одежду, совершенно похожую на одежду короля, так чтобы в толпе совершенно незаметно можно бы было ему поменяться местом с королем. Несмотря на все чистосердечие этого истинно-рыцарского замысла, об этом плане нечего было и толковать. Точно также были невозможны те планы освободить короля во время переезда на площадь, которые основаны на содействии моего деда. Оказалось, что на этот раз велено было изменить обыкновенный порядок, и деду моему не поручалось провожать осужденного к месту казни.
Когда мать была приведена в чувство, все мы занялись молодым человеком, изъявившим готовность на такое великое самопожертвование. Его успели убедить в невозможности его плана и в то же время сказали ему, чтобы он надеялся, и что Провидение, вероятно, изберет какой-нибудь другой путь для спасения этой знаменитой жертвы. После всего этого, когда роковое известие было уже сообщено всем в доме, не могло уже быть и речи о праздновании годовщины свадьбы моего деда, и все украшения и кушанья со стола были убраны. В то время, когда король, заключенный в Тампле, в последний раз накануне смерти приобщался св. тайне, тот, кто завтра должен был стать его убийцей, постился со всем своим семейством и проводил время в молитве и в слезах. Бабка моя, подавленная горем, упала на колени перед распятием. В этом положении она провела целую ночь, стараясь успокоиться и привести свои мысли в порядок, и слышала только, как скрипел пол под шагами ее мужа, ходившего взад и вперед в соседней комнате.
Один только отец мой, не раздеваясь, бросился в постель, но и он продремал только несколько минут, и то сон его был очень беспокоен и прерывался грезами. Наконец начало рассветать. Повсюду загремели барабаны, призывавшие к оружию все округи национальной стражи. Каждый из округов обязан был отправить по батальону для этой печальной церемонии. Отец мой, как нарочно, оказался в том батальоне, который назначен был от нашего округа. Впрочем, отец мой вовсе не жалел об этом. Это обстоятельство давало ему возможность действовать, если только представится удобный случай, и во всяком случае при этом он мог разделить с моим дедом все те опасности, которые могли встретиться. И так отец мой надел мундир и сошел вниз к Шарлю-Генриху Сансону, который также собирался отправляться. Шарля-Генриха сопровождал Шарлемань Сансон и еще один из его братьев, не пожелавший оставить моего деда в такую минуту. Все трое были обвешаны оружием, скрытым под широкими плащами, которые были застегнуты доверху и закрывали их совершенно.
Когда пришло время расставаться, бабка моя залилась слезами, и большого труда стоило деду и отцу моему вырваться из ее объятий. У нее было какое-то грустное предчувствие, что она не увидится с ними более, до того она была взволнована всеми известиями, дошедшими до нее. Она была почти убеждена, что как бы не кончился этот ужасный день, во всяком случае, он подвергнет опасности те лица, которые были ей так дороги.
Мой отец простился с матерью и с дядями своими и отправился к своему батальону, расположившемуся на площади революции в семи или восьми метрах от гильотины, которую уже начали воздвигать помощники исполнителя. Площадь была буквально залита всякого рода войсками, среди которых был особенно заметен батальон марсельцев, занявший позицию вправо от бульваров. При этом батальоне находились и пушки, которые были наведены на эшафот.
В этом месте я снова предоставляю право продолжать рассказ Шарлю-Генриху Сансону.
«Жертва принесена!.. Сегодня утром в восемь часов я вышел из дома, обнявшись с женою и с сыном, с которым не надеялся больше увидеться. Я сел в фиакр, и вместе со мной поехали братья мои Шарлемань и Луи-Мартен. Толпы народа на улицах были так велики, что было уже около девяти часов, когда мы добрались до площади революции. Гро и Барре, помощники мои, уже поставили гильотину; при взгляде на нее мне тотчас же пришла в голову мысль, что она не будет действовать. Я и братья мои были очень порядочно вооружены; под плащами у нас, кроме шпаг, было по кинжалу и по четыре пистолета за поясом. У каждого, кроме того, было по пороховнице, а карманы были набиты пулями. Мы думали, что будет сделана попытка освободить несчастного государя; поэтому нам казалось, что мы были достаточно вооружены, для того чтобы помочь пробить ему дорогу.
Прибыв на площадь, я стал искать глазами своего сына и скоро заметил его невдалеке от себя в рядах его батальона. Он посмотрел на меня многозначительным взглядом, как будто хотел ободрить меня и пробудить во мне надежду, что на этот раз мне не придется испить всю чашу до дна. Я стал прислушиваться, не услышу ли я какого-нибудь шума, который мог быть сигналом к одной из тех попыток к освобождению, о которых меня извещали вчера. Я утешал себя мыслью, что, быть может, в эту минуту отобьют короля у конвоя и увезут его под защиту преданных ему друзей. Тогда он, по крайней мере, мог бы дождаться, пока изменится настроение мыслей у непостоянной и быстро меняющей убеждения толпы. Быть может тогда народ взял бы его под свое всемогущее покровительство, и легко могло быть, что торжественная встреча заменила бы ту казнь, которая теперь приготовлена была королю.
Но в то время, когда я убаюкивал себя такими химерами и предавался этим мечтам, какое ужасное пробуждение ожидало меня!
Время от времени глаза мои невольно обращались к той стороне, где находилась церковь св. Магдалины. Вдруг я вижу, что показывается отряд кавалерии, и вслед за тем экипаж, запряженный парой лошадей и окруженный двойным строем кавалеристов; шествие заключал конвой, также состоящий из отряда кавалерии. Невозможно уже было продолжать сомневаться и обманывать себя: к нам приближался наш мученик. У меня потемнело в глазах, и дрожь пробежала по всему телу. Я взглянул на сына и увидел, что страшная бледность покрывает его лицо.
В это время экипаж подъехал. Король сидел сзади, в глубине кареты; рядом с ним сидел священник, бывший его духовником; спереди на скамейке помещались два жандармских квартирмейстера. Карета остановилась и отворились дверцы: первыми вышли два жандарма, за ними почтенный священник в своем костюме, который к тому времени уже не носили, и потому с некоторого времени вовсе не попадался мне на глаза; наконец вышел из экипажа король. В это время он был так спокоен, держал себя с таким достоинством и величием, с каким я не видывал его ни в Версале, ни в Тюльери.
Когда король стал подниматься по лестнице, я с отчаянием поглядел вокруг себя; повсюду видны были одни только войска. Народ, отодвинутый за эту живую ограду, составленную из солдат, казалось, обезумел от ужаса и хранил гробовое молчание. Впрочем, неумолкавший грохот барабанов легко мог заглушить всякие крики; поэтому не долетали и те просьбы о пощаде, которые могли вырываться в это время. Где же те спасители, о которых нам было заявлено? Мы с Шарлеманом совсем растерялись. Мартен, бывший моложе и крепче нас, подошел к королю и, сняв шляпу, заметил, что ему необходимо снять с себя платье.
— Это лишнее, — возразил он, — можно кончить дело и так. Брат мой стал настаивать и прибавил также, что перед казнью необходимо связать руки. Это последнее требование, как казалось, еще более возмутило короля; кровь бросилась ему в лицо, и он сказал:
— Как! Вы осмелитесь поднять на меня руку? Возьмите, вот вам мое платье, но не дотрагивайтесь до меня!
При этих словах король сам снял с себя платье. Шарлеман явился на помощь Мартену и, собрав все силы, решил начать говорить со своей знаменитой жертвой. Из взглядов его можно было догадаться о том, что было у него на сердце; но этих взглядов не поминали те дикие полчища, которые окружали эшафот. Шарлемань обратился к королю и холодным тоном, но за которым слышались сдержанные слезы, сказал ему.
— Связать руки положительно необходимо. Без этого невозможно совершить самый акт казни.
Вспомнив наконец свою обязанность и видя затруднительное положение своих братьев, я нагнулся к уху священника и сказал ему:
— Батюшка! Умоляю вас убедить короля. Пока мы будем связывать руки — выиграется время, а почти невозможно предположить, чтобы подобное зрелище не возмутило наконец народ.
Священник окинул меня грустным взглядом, в котором в одно и то же время проглядывало и удивление, и недоверчивость, и самоотверженность; потом он обратился к королю и сказал ему:
— Ваше величество! Согласитесь на эту последнюю жертву; посредством ее вы прямо пойдете по следам Христа, который и вознаградит вас за это.
Король тотчас же протянул свои руки, а священник дал ему приложиться к образу Спасителя. Два помощника стали связывать те руки, которые когда-то держали скипетр. Мне казалось, что этот акт казни должен послужить сигналом к началу реакции в народе. Как казалось, неминуемо должен был последовать взрыв в пользу великой и несчастной жертвы.
Король, поддерживаемый своим духовником, стал медленно и с величием подниматься по ступеням эшафота.
— Да перестанут ли, наконец, барабанить? — спросил он у Шарлемана.
Дядя мой знаком отвечал ему, что не знает. Король, поднявшись на эшафот, обратился к той стороне, в которой казалось больше народа, и сделал повелительный жест барабанщикам, которые, как будто против воли, остановились.
— Французы! — твердым голосом произнес король, — вы видите, что ваш король собирается умереть за вас. Пусть же моя кровь прольется для вашего счастья. Я умираю невинным во всем том, в чем меня обвинили.
Быть может король стал бы продолжать, но Санторр, стоявший во главе своего штаба, подал знак, и барабаны снова загремели, так что невозможно было что-нибудь услышать.
В одно мгновение короля привязали к роковой доске, и в ту минуту, когда лезвие гильотины уже скользило над головою короля, раздался и мог еще долететь до слуха его величественный голос благочестивого священника, решившегося провожать короля на эшафот. Священник сказал:
— Отойди в лоно Господа Бога, сын Святого Людовика!
Так кончил свою жизнь этот несчастный государь. А между тем достаточно было какой-нибудь тысячи решительных людей, для того чтобы спасти его в последнюю минуту, когда даже между солдатами начало проявляться непритворное сочувствие к нему».
Вот тот рассказ, который оставил нам мой дед о смерти Людовика XVI. Впрочем, этот рассказ совершенно сходен с тем письмом, которое дед мой имел дерзость напечатать в журнале. В этом письме Шарль-Генрих Сансон исправлял некоторые ошибки этого журнала, который не хотел почтить мученика уважением даже после его смерти. Это письмо слишком хорошо известно всем, и потому я не стану приводить его здесь.
Рассказ, сообщенный мною здесь, во многом расходится с описанием этого события у Ламартина.
Господину Ламартину угодно было заявить, что будто мой дед или один из его братьев стал говорить королю: «Ты у самых ступенек эшафота». Кроме того, этот писатель заявляет, что на короля-мученика уже подняли руку и готовы были нанести ему самые тяжкие оскорбления. Все это не что иное, как грубые выдумки, сделанные с целью придать палачу мелодраматический характер. Всем этим выдумкам, вероятно, никто не поверит, и мне кажется, что начать опровергать их — значило бы класть пятно на память моих предков.
Царственная кровь, пролитая Конвентом, совершенно отуманила его. Как употребление спиртных напитков делается неотразимой потребностью для всех тех, которые имели несчастье привыкнуть к ним, так и здесь пролитие крови сделалось точкой помешательства для всех партий, начавших бороться между собою на развалинах общества. Голова короля открыла собой бездну, в которую покатились головы лиц, осудивших его погибель. Жертва как будто поджидала своих судей у дверей вечного судилища. Прошло менее года и революционное судилище уже отправило большую часть своих членов отдать отчет в своих действиях Богу.
К рассказу об этих событиях я приступлю в следующих главах.
Глава XIII После казни
Смерть Людовика XVI произвела страшное потрясение на Шарля-Генриха Сансона; она совершенно изменила взгляды и убеждения его. Не знаю, удалось ли мне достаточно ознакомить моих читателей с этим исключительным характером, который мог сформироваться только в той сфере, в которой вырос мой дед.
Шарль-Генрих Сансон был достойным внуком Марты Дюбю. С раннего детства он был насквозь проникнут идеями и убеждениями своей бабки, и был вполне убежден в правах своего звания и в своем значении в обществе. Он смотрел на себя как на личность, которой доверена трудная грозная обязанность, но исполнение которой необходимо, для того чтобы придавать силу закону и поддерживать порядок в обществе. Только при таком взгляде на свое положение у него доставало мужества и силы для исполнения тех жестоких обязанностей, которые так не мирились с его врожденной добротой.
Около сорока лет меч правосудия в руках Сансонов разил только преступников и негодяев; это обстоятельство еще более укрепило взгляд моего деда на свои обязанности. Правда, иногда жестокость приговора, как например, при казни Дамьена, потрясала на время суровую веру моего деда в свое призвание. Иногда же блистательное положение осужденных в обществе, а также та симпатия, которую они возбуждали к себе после осуждения, как это мы видели при казни Лалли Толлендаля и Ла-Барра, невольно производили содрогание в руке исполнителя и заставляли болезненно сжиматься его сердце в минуты казни. В эту минуту невольно рождался вопрос: действительно ли виноват осужденный? Не невиновного ли приходится казнить? Но бесстрастие, составляющее необходимую принадлежность исполнителя, брало верх, и все сомнения и колебания исчезали при мысли, что отвечать за невинно пролитую кровь придется не исполнителю, а судьям, подписавшим страшный приговор.
При этих убеждениях, против которых никто тогда не сумел привести строго логических опровержений, дед мой смотрел на пренебрежение к званию исполнителя как на самый гадкий предрассудок и считал своею обязанностью энергично бороться с ним. Этим только, как я уже упоминал, можно объяснить и защитную речь моего деда в Парламенте в 1766 году и настойчивые требования, высказанные в Национальном собрании в 1789 году.
Теперь я считаю нужным сказать еще несколько слов об этих требованиях, для того чтобы окончательно развязаться с ними. Я уже рассказывал о том заседании, на котором один за другим говорили о требованиях исполнителя Клермон-Тоннер, Робеспьер и Аббат Мори. Дед мой особенно был возмущен тем жаром, с которым Мори доказывал законность пренебрежения к исполнителю. Поэтому Шарль-Генрих Сансон решился адресовать к членам Национального собрания следующее письмо.
«Господам членам Национального собрания.
Господа! С давнего времени исполнители уголовных приговоров совершенно несправедливо страдают вследствие того предрассудка, который делает их как бы участниками в преступлениях, караемых законом и правосудием. Исполнители до настоящего времени переносили это унижение, и единственным утешением против несправедливости сограждан была у них чистая совесть. Теперь же хотят объявить их лишенными прав гражданина и тем самым окончательно отдать на жертву тому позору, против которого говорят даже выражения, употребляющиеся в грамотах, выдаваемых на звание исполнителя. По крайней мере, господину аббату Мори угодно было предложить эту меру вам, господа, в заседании 23 числа этого месяца.
В указах Руанского парламента от 7 ноября 1681 года, 7 июля 1681 года и многих других, а также в указе Совета от 13 января 1787 года, под опасением строгого наказания, запрещено называть исполнителей судебных приговоров палачами. Лица, издавшие эти указы, вполне чувствовали, как несправедливо считать позорной ту должность, которую легко может занимать человек самый безукоризненный, тем более что со званием исполнителя не связано никаких нарушений законов нравственности. Разумность этих указов будет уничтожена, если состоится декрет, объявляющий, что исполнители не смеют пользоваться правами гражданина. Исполнитель и без того настолько несчастлив, что ему приходится казнить те лица, которые своими преступлениями навлекли на себя кару правосудия. За что же исполнителю принимать на себя еще часть позора преступления?
Предложение г. аббата Мори возмутило нас и заставило упасть духом. Если это предложение будет принято, то правосудие потеряет свою силу, и правительство не найдет охотников запять место исполнителя.
Поэтому парижский исполнитель, Шарль-Генрих Сансон имеет честь почтительно представить эти замечания на обсуждение Национального собрания. При этом он имеет честь объявить, что он (а его примеру последуют и все прочие исполнители во Франции) покорнейше просит принять заранее его прошение об отставке в том случае, если состоится декрет, объявляющий исполнителей лицами, не пользующимися правами гражданина.
Нижеподписавшийся надеется, что вы, господа, обратите должное внимание на этот вопрос и обсудите его с той тщательностью, которой он вполне заслуживает; или, быть может, вы найдете удобным отложить его до тех пор, пока не установится окончательно ваше убеждение на этот счет. Позвольте же надеяться, господа, что в то время, когда вся нация возрождается, когда правосудие вступает в свои права, вы не позволите посягнуть на права вашего покорнейшего слуги и его собратьев по ремеслу, которые составляют полезных и необходимых членов общества.
Сансон. Исполнитель уголовных приговоров города Парижа 26 декабря 1789 года».Я уже упомянул, что Национальное собрание не произнесло окончательного решения по этому делу, таким образом, спорный пункт остался в тех самых выражениях, в которых он был сформулирован декретом. Смысл этих выражений был очень обширный и удовлетворял обе стороны; с одной стороны, исполнители имели полное право считать свои требования удовлетворенными, потому что ничто в этом декрете даже не намекало на исключение их из числа граждан; с другой стороны, удовлетворено было и общественное мнение, потому что к декрету не прибавлено было никаких более определенных выражений.
Впрочем, известно, что на деле выражения декрета получили вполне благоприятное значение для исполнителей. Таким образом, в одной из предыдущих глав мы видели, что дед и отец мой принимали участие в совещаниях общин в своих округах и даже получали чины в национальной гвардии.
С такой непоколебимой настойчивостью защищал мой дед свои права до самой смерти Людовика XVI. При своем настойчивом характере он упорно отстаивал все то, что считал делом чести для своего звания. Он отстаивал значение смертной казни, требовал уважения к званию исполнителя и до последней крайности боролся с тем предрассудком, который покрывал исполнителей незаслуженным позором.
Наконец кровь, пролитая им по повелению Конвента, начала мало-помалу открывать ему глаза. Он видел, что разлетается в обломки тот строй общества, который он так привык уважать. При этом невольно стал рождаться у него вопрос: да что же есть прочного и неприкосновенного на земле? Действительно, трудно было думать о значении эшафота в то время, когда был ниспровергнут сам трон; не уместен был бы вопрос о правах палачей в том обществе, которое перестало признавать права королевской власти. Да и можно ли было исполнителю считать свое звание, существующим по воле промысла и необходимым при свыше установленном порядке, в тот самый день, когда с помоста эшафота скатилась голова помазанника Божьего.
Такие мучительные вопросы родились в голове Шарля-Генриха Сансона и страшно терзали его в роковую ночь с 20 на 21 января 1793 года. Стоит только принять во внимание ту симпатию, которую чувствовал мой дед и личность погибшего короля, стоит вспомнить все подробности двух его встреч с королем, для того чтобы составить себе хоть далеко неполное понятие о тех мучениях, которые приходилось испытывать Шарлю-Генриху Сансону. Несколько раз у него появлялась мысль о бегстве; но бежать значило бы оставить свое семейство на произвол судьбы и вместе с тем подвергнуть его страшной опасности. Таким образом, дед мой убедился, что он прикован к своему месту и поневоле обязан играть роль убийцы в то время, когда он гораздо охотнее взял бы на себя роль жертвы.
Эти грустные мысли томили и мучили его всю ночь. Молча, как мы видели, ходил он все время взад и вперед по своей комнате, между тем как жена его провела всю ночь в молитве и в слезах перед иконой. Когда раздался грохот барабанов, во всех частях прогремел сбор, призывавший на площадь революции, то дед мой сделался совершенно спокойным. Это спокойствие было только прямым следствием той реакции, которая последовала в моем деде после такого страшного потрясения. В обыкновенное же время ему удавалось добиваться подобного же спокойствия одним влиянием сознательной и разумной воли. Этот случай может служить хорошим примером того, как совершенно разнородные причины вызывают почти тождественные явления. Очевидно, что в это роковое утро спокойствие не было результатом силы воли; нет, оно обуславливалось только полным упадком всех моральных и физических сил. Под конец Шарль-Генрих Сансон стал совершенно терять сознание; он действовал как автомат, приводимый в движение силой неумолимого и беспощадного механизма. В предыдущей главе я уже привел рассказ, оставленный моим дедом о смерти короля. В этом рассказе видно то особенное состояние духа в человеке, примеры которого иногда представляет нам психология. Видно было, что во время казни дед мой в одно время и видит и не видит того, что делается вокруг него, и слышит и не слышит того, что говорится кругом. Мы видели, как он опомнился на одно только мгновение и понял ту страшную действительность, которая была у него перед глазами. Это было в то самое время, когда он явился на помощь своим братьям, начинавшим изнемогать от бремени той обязанности, которая лежала на них. После этого минутного пробуждения дед мой снова впал почти в такое же бесчувственное состояние, в какое обыкновенно приходят жертвы эшафота перед самой казнью.
Людовик XVI умер с истинно царским величием; его последние слова прозвучали в потомстве и послужили прекрасным дополнением к тому замечательному завещанию, которое было написано им в башне Тампля. Твердость духа, мужество и хладнокровие короля произвели глубокое впечатление на всех свидетелей казни. Это мне лучше всего видно из рассказов нашем семействе. Бабка моя по возможности старалась избегать воспоминаний об этом роковом дне. Несмотря на то она не раз мне говорила, что в продолжение тридцати лет, которыми Шарль-Генрих Сансон пережил царственного мученика, ей никак не удавалось изгладить из ума моего деда то впечатление, которое произвели на него последние минуты венценосные жертвы. Картина казни постоянно стояла у него в глазах, не давала ему покоя даже во сне и постоянно возбуждала самые тревожные мысли и видения.
ТОМ V
Глава I Заупокойная обедня
21 января 1793 года дед мой, парижский исполнитель уголовных приговоров, Шарль-Генрих Сансон, постоянно отличавшийся любовью к домоседству, пробыл в кругу своего семейства только несколько минут. Тотчас после казни Людовика XVI он возвратился домой и обнял жену и сына с таким трепетом, как будто считал себя недостойным этих объятий. Вслед за тем он удалился от ласк и утешений своего семейства, вышел из дому и не возвращался до самой ночи.
Бабка моя, не имевшая привычки ложиться спать, не повидавшись со своим мужем, начала сильно беспокоиться. В это время Шено, бывший скорее другом и доверенным лицом, чем слугою у нас, успел успокоить ее несколькими словами.
— Не бойтесь, — сказал Шено, — я догадываюсь, куда отправился г. Сансон.
— О, Боже мой! Да куда же ему было идти в такой день? — спросила моя бабка.
— Господин Сансон перед уходом выведал у меня одну тайну, которую, впрочем, я не задумался поверить ему. Он расспросил меня об адресе одного бедного домика, в котором скрывается тот старый священник и те монашки, которым я просил его помочь чем-нибудь.
Бабка моя замолчала и поверила этому. Действительно, под влиянием того испытания, которое перенес мой дед, очень естественно было скорее искать утешение в религии, чем в ласках своего семейства. Она знала набожность моего деда и догадалась, что он, несмотря на все затруднения и опасности, отправился туда. Вероятно, в этот день ему хотелось горячей молитвой близ служителя алтаря успокоить свою взволнованную душу.
Шарль-Генрих Сансон возвратился домой между часом и двумя пополуночи. Вид его по-прежнему был мрачен, но он казался гораздо спокойнее. Дома, как будто из предосторожности, никто не стал его расспрашивать. Дед мой обратился к Шено и сказал ему:
— Шено, я видел тех несчастных, о которых вы хлопочете. Зима очень холодна и нужно завтра же послать им дров и разной провизии и через несколько дней пополнять этот запас.
По наружности Шено видно было, что он очень доволен этим. Дед мой продолжал:
— Но при этом мне не хотелось бы, чтобы было известно, что это пособие идет прямо отсюда; я даже не хочу, чтобы там знали источник этих вспомоществований; быть может, бедняки не захотят и принять их от нас.
Потом, обращаясь к бабке, дед мой прибавил:
— Там, добрая моя Мария, есть две монашки, которые показались мне очень обносившимися. Ты бы сделала мне большое удовольствие, если бы послала им немного белья и что-нибудь из платья.
Обменявшись этими немногими словами, дед мой удалился к себе в полной уверенности, что желания его будут исполнены. На другой день он рассказал моей бабке, что он действительно побывал в Валлете, в бедном домике, служившем убежищем старому священнику, не присягнувшему революции и спасшемуся при избиении кармелитов, а также двум монашкам, выгнанным из их монастырей. При этом дед мой сообщил также, что по милости священника отслужена была обедня как за упокой души казненного короля-мученика, так и для того, чтобы успокоить совесть моего деда, который был подавлен тяжестью того преступления, которое его принудили совершить на эшафоте.
Рассказ об этой заупокойной обедне, при жизни моего деда, хранился в глубочайшей тайне; но после смерти его бабка и отец мой, находя, что эта черта из жизни моего деда делает честь ему, перестала удерживаться и сообщили этот рассказ некоторым из своих друзей. Таким образом, этот рассказ дошел до сведения знаменитого Бальзака, который пожелал услышать от самого отца моего подтверждение этого рассказа и все подробности этого обстоятельства. Отец мой удовлетворил его любопытство, и этот разговор послужил материалом для рассказа, помещенного в виде введения в тех подложных мемуарах Сансона, которые были опубликованы в эпоху реставрации.
Вольтер сказал где-то, что всякий имеет право брать свою собственность везде, где только она ему попадается. Потому я, не колеблясь, решаюсь заимствовать этот рассказ даже из тех мемуаров, которые так дерзко осмелились воспользоваться нашим именем. Впрочем, приводимый мною рассказ отличается безукоризненной точностью и близостью к истине и составляет единственное место во всех мемуарах, действительно заимствованное из рассказов нашего семейства. При этом я сполна сохраняю взгляд на события и язык моего знаменитого сотрудника в этом деле и заимствую сполна целый отрывок из мемуаров, тем более что этот рассказ изложен в них довольно увлекательно. Вот этот рассказ в том виде, как его нам передал Бальзак.
«В конце января 1793 года одна старушка спускалась с того пригорка в Париже, который оканчивается у церкви Сен-Лоран, в предместье Сен-Мартен. Было около восьми часов вечера. Целое утро шел снег, так что едва слышен был шум шагов на мостовой. Было холодно. Улицы были пусты, и страх, естественно возникающий в пустынных местах, увеличивался еще более под влиянием того террора, от которого в то время страдала Франция. Старушка еще никого не встречала. Впрочем, при слабом зрении и при мерцании фонарей старушка и не могла бы разглядеть вдалеке нескольких прохожих, там и сям бродивших по многочисленным улицам предместья. Старушка смело шла по этим пустынным местам, как будто возраст ее уже был талисманом, который должен был предохранить ее от всякого несчастья».
«Когда она миновала улицу Мор, ей показалось, что она слышит тяжелые шаги человека, шедшего сзади ее. Она испугалась, думая, что за нею следят, и прибавила шагу, чтобы добраться до ярко освещенной лавки, бывшей невдалеке от нее. Там при свете она надеялась рассеять те подозрения, которые родились у нее. Как только она дошла до того места, где яркие лучи света горизонтально прорывались из лавки на улицу, она вдруг круто повернула голову назад и увидела сзади себя человека, фигура которого едва вырисовывалась в тумане. Старушка невольно отшатнулась назад, под влиянием того ужаса, который ее поразил; ей стало ясно, что незнакомец следит за ней с тех самых пор, как она переступила через порог своего дома. Желание избавиться от этого безмолвного преследователя придало ей новые силы и она, не рассуждая, пустилась идти вдвое быстрее, чем она могла».
«В душе каждого, даже самого несмелого человека, бывает такое состояние, когда вслед за страшными потрясениями следует минута спокойствия. В душе незнакомки вдруг мелькнула мысль, что, так как господин, преследующий ее, не сделал ей до сих пор ничего дурного, то легко может быть, что это кто-нибудь из ее тайных друзей, который решился проводить ее и по возможности быть ей полезным. Она сообразила все обстоятельства этой встречи и видимо старалась отыскать что-нибудь, что бы могло подтвердить ее догадки. Скоро ей начало казаться, что незнакомец следит за ней скорей с добрым, чем с дурным намерением. Позабыв тот ужас, который этот незнакомец произвел на нее, она более твердыми шагами пошла к дальним улицам предместья Сен-Мартен».
«Через полчаса она добралась до дома, который находился на углу главной улицы предместья и той улицы, которая выходит на нее от Пантенской заставы. Это было одной из самых пустых мест во всем Париже. Резкий северный ветер, дувший с вершин Сен-Шомона и Бельвиля, гудел здесь между домами или скорей хижинами, разбросанными в этом почти незаселенном месте. Все кругом имело вид глубокой грусти и отчаяния; ясно было, что это место должно было стать естественным приютом людей, находящихся в крайности. Господин, так неотступно преследовавший старушку, решавшуюся ходить ночью по таким пустынным местам, был сильно поражен той картиной, которая представилась его глазам. Он остановился перед домом в раздумье и в нерешительности. Свет фонаря, едва пронизавший темноту ночи, слабо освещал лицо его. Но страх сделал старушку необыкновенно зоркой и так как ей показалось что-то недоброе в чертах незнакомца, то прежние сомнения снова заговорили в ней и она, воспользовавшись минутой раздумья незнакомца, незаметно скрылась в темноте, подошла к двери одиноко стоявшего дома, взялась за ручку двери и исчезла за нею с изумительной скоростью».
«Незнакомец неподвижно стоял на месте, рассматривая этот дом. Это было одно из тех типических строений, которые придают такой жалкий вид предместьям Парижа».
«Это здание было сложено из рыхлого песчаного камня; все это было покрыто слоем пожелтевшей и истрескавшейся штукатурки, так что казалось, что все должно обрушиться при первом порыве ветра. Крыша из бурой черепицы поросла мохом и до того покосилась в некоторых местах, что казалось, что она должна провалиться от тяжести лежавшего на ней снега. В каждом этаже было по три окна, рамы которых рассохлись от действия солнца, так что холод неминуемо должен был проникать в комнаты. Одним словом, этот уединенный дом напоминал старую башню, на которую время уже перестало действовать разрушительно. Слабый свет мерцал в маленьких окошках, там и сям неправильно расположенных на чердаке, которым оканчивалось здание; остальная часть дома была совершенно темна».
«Не без труда взошла старушка по старой и грязной лестнице, вдоль которой вместо перил была протянута веревка. Таинственно постучалась она в дверь, ведущую на чердак, и, войдя туда, тотчас уселась в кресло, поданное ей находившимся тут старичком».
— Спрячьтесь!.. Спрячьтесь!.. — сказала она ему, — мы с вами хоть и редко выходим из дому, но нас заметили и за нами следят.
— Что же такое случилось?.. — спросила другая старушка, сидевшая у огня.
— Тот человек, который бродил несколько дней около нашего дома, сегодня вечером следил за мною.
«При этих словах все три обитателя этого убогого убежища взглянули друг на друга, и на лицах их изобразился глубокий ужас. Старик, казалось, был спокойнее других, быть может, даже потому, что ему больше всех грозила опасность. Когда на человека обрушивается большое несчастье или когда его угнетают и преследуют, то он примиряется с мыслью о необходимости пожертвовать собой и на каждый прожитый день смотрел как на добычу, завоеванную у судьбы».
«Взгляды двух женщин, устремленные на старика, ясно говорили, что он составлял единственную причину их беспокойства».
— К чему нам отчаиваться в милосердии Божьем? — сказал старик каким-то глухим, но проникновенным голосом.
— Вспомните, — продолжал он, — как мы пели гимны Создателю в ту минуту, когда в монастыре кармелитов раздавались только вопли убийц и стоны умирающих. Богу угодно было спасти меня во время этого избиения и, верно, мне уже назначен свыше жребий, которому я обязан подчиниться безропотно. Сам Бог печется об участи служителей своих и в его святой воле участь наша. Итак, сестры мои во Христе, не заботьтесь обо мне, а подумайте лучше о своей безопасности.
— Нет, нет, — отвечали обе старушки в один голос.
— С тех пор как я оставила Шельское аббатство, я уже привыкла себя считать обреченной на погибель… — сказала та монахиня, которая сидела у камина.
Другая монахиня, которая, как мы видели, только что вошла в комнату, подала старому священнику коробочку и сказала:
— Вот и облатки для литургии… Ах, кажется, кто-то идет к нам… я слышу шаги…
При этих словах все трое стали прислушиваться; шум утих.
— Успокойтесь и не пугайтесь, если даже кто-нибудь и войдет сюда. Легко может быть, что к нам придет одна личность, на которую мы вполне можем положиться. Этот господин принял уже все меры для того, чтобы безопасно уйти за границу. Перед отъездом он должен зайти сюда за письмами, которые я отправляю к герцогу де-Лорж и маркизу де-Бетюн. Я надеюсь, что после этих писем вам доставлены будут средства вырваться из этих ужасных мест и избавиться от смерти и от тех лишений, которые вас ожидают здесь.
— Разве вы не поедете с нами? — спросили обе монахини тихим голосом: по лицам их видно было, в какое отчаяние приходила их одна мысль об этом.
— Мое место там, где нужны жертвы, — простодушно отвечал священник.
Обе старушки замолчали и с благоговением взглянули на своего собеседника.
— Сестра Марта, — сказал священник, обращаясь к той монахине, которая ходила за облатками, — не забудьте, что тот господин, которого я жду, должен отвечать: «да будет воля твоя», если мы его окликнем словом «осанна».
— У нас кто-то на лестнице, — перебила другая монахиня, открывая дверь в потайной чуланчик, очень ловко устроенный под самой крышей.
На этот раз очень легко было различить, как среди глубокой тишины раздавались шаги человека, шедшего по ступенькам лестницы, покрытой замерзшею грязью. Священник с грустью удалился в приготовленное для него убежище, с виду похожее на небольшой шкаф, и монахиня завесила его платьями.
— Теперь вы можете запереть меня, сестра Агата, — глухим голосом произнес священник.
Едва успел спрятаться священник, как три сильных удара в дверь заставили вздрогнуть обеих старушек. Они посмотрели друг на друга и не осмелились вымолвить ни одного слова.
И той и другой монахине с виду казалось около шестидесяти лет. Около сорока лет прошло с того времени, как они удалились от мира и вследствие этого стали похожими на те тепличные растения, которые погибают, как только их высадят из оранжереи. Действительно, привыкшие к жизни в монастыре, старушки никак не могли сжиться с другим образом жизни. В одно прекрасное утро рухнули монастырские запоры, и наши монахини очутились на свободе. Легко представить себе, как отуманили и в какое неловкое положение поставили их события революции. Старушки были окончательно не в состоянии примирить свои монастырские идеи с суетой действительной жизни и вовсе не понимали своего положения. В этом отношении они очень похожи были на детей, за которыми сперва усердно ухаживали и которые, лишившись попечения матери, начали молиться, вместо того, чтобы плакать и звать к себе на помощь. Теперь, когда им показалось, что наступает минута опасности, они замолчали и ожидали решения своей участи… Единственным прибежищем для них было их христианское самоотвержение.
Наконец это молчание было прервано; человек, стучавшийся в дверь, отворил ее и вошел в комнату. Монахини ужаснулись, узнав в вошедшем личность, около пяти или шести дней бродившую около их дома и, как казалось, старавшуюся собрать сведения о них. Неподвижно сидели старушки на своих местах и посматривали молча исподлобья на нежданного посетителя с тем беспокойным любопытством, с каким робкие дети рассматривают незнакомых им личностей.
Человек, вошедший в комнату монахинь, был среднего роста и довольно полон; но ни в походке, ни в приемах, ни в лице его ничто не обнаруживало личность, вошедшую со злым умыслом. Подобно старушкам, он безмолвно стоял на середине комнаты и медленно осматривал окружающие предметы.
Две соломенные циновки, брошенные на полу, по-видимому служили постелями двум монахиням. Единственный стол находился посредине комнаты. На столе стоял медный подсвечник, несколько тарелок, три ножа и круглый хлеб. Очень скромный огонек едва тлел в камине, а несколько полен, лежавших в уголке, свидетельствовали о бедности обитательниц этого приюта. Стены, давно когда-то выкрашенные краской, в настоящее время были испещрены пятнами от просачивавшейся на них дождевой воды: это обстоятельство указывало на чересчур жалкое состояние крыши.
Осмотр этого приюта был окончен в одну минуту личностью, вошедшей в это убежище при такой подозрительной обстановке. Видно было, как изобразилось на лице его чувство сострадания и с каким сочувствием посмотрел он на старушек. По-видимому, посетитель находился не в меньшем затруднении, чем сами хозяйки этой комнаты, и все трое некоторое время смотрели друг на друга молча. Но, наконец, посетитель догадался, что бедные старушки, при своей слабости и неопытности в жизни, должны быть сильно смущены его появлением; поэтому по возможности мягким голосом сказал он им:
— Вы видите во мне не врага вашего, гражд… — Тут он остановился и поправился: — сестры мои. Если у вас случилось какое-нибудь несчастье, то будьте уверены, что никак не я причиной этого. Я пришел просить у вас милости.
Обе старушки хранили молчание.
— Если мое появление здесь вам неприятно… если я вас стесняю… я удалюсь; но будьте уверены, что я вам вполне предан… и если б я чем-нибудь могу быть вам полезным, то вы смело можете на меня рассчитывать…
В том голосе слышалось столько искренности, что одна из монахинь, сестра Агата, указала на стул, как бы приглашая садиться. Сестра Агата принадлежала к дому Бетюнь и по приемам ее видно было, что ей когда-то были знакомы общественные удовольствия и что в свое время и она дышала придворным воздухом. Незнакомец отвечал на этот жест выражением радости, смешанной с какой-то непонятной грустью и не сел до тех пор, пока не сели обе почтенные старушки.
— Вы дали приют, — так начал незнакомец, — одному почтенному священнику, не присягнувшему революции и которому каким-то чудом удалось спастись при избиении кармелитов.
— Осанна!.. — сказала сестра Агата, перебивая незнакомца и вглядываясь в него с каким-то беспокойным любопытством.
— Нет, его не так зовут, — продолжал незнакомец, — кажется…
— Нет, милостивый государь, — вмешалась сестра Марта, — у нас тут нет никакого священника, и…
— Вам бы не мешало быть немножко поосторожней и попредусмотрительней, сестры мои, — кротко возразил незнакомец, протянув руку к столу и взяв с него требник. — Не думаю, чтобы кто-нибудь из вас знал по-латыни, а это…
Незнакомец остановился на этих словах. Необыкновенно сильное волнение, проявившееся на лицах двух монахинь, показало ему, что необходимо остеречься и не заходить чересчур далеко. Обе монахини дрожали, и глаза их наполнились слезами.
— Успокойтесь, — кротким голосом продолжал незнакомец, — я хорошо знаю и имя вашего священника, и ваши имена. Уже около пяти дней мне известно и ваше трудное положение, и ваша преданность аббату…
— Тсс…, — наивно промолвила сестра Агата, прикладывая свой палец к губам незнакомца.
— Итак, вы видите, сестры мои, что если бы я имел ужасное намерение предать вам, то я давно бы имел возможность исполнить это.
Услыхав эти слова, священник вышел из своего заключения и, став посредине комнаты, обратился к незнакомцу со следующими словами:
— Я не хочу верить, милостивый государь, что вы могли принадлежать к числу наших преследователей и вверяюсь вам… Скажите же, чего вам угодно от меня?
Доверчивость священника, достоинство, которым были проникнуты все его движения, в состоянии бы были обезоружить даже наемных убийц. Таинственная личность, появление которой вызвало эту грустную сцену высокого самоотвержения, несколько мгновений молча рассматривала группу, составленную из этих трех существ. Потом, стараясь придать своему голосу больше чистосердечности, незнакомец обратился к священнику и сказал:
— Батюшка, я пришел вас просить отслужить обедню за упокой души одного… одной личности, тело которой никогда не будет предано священному погребению…
Священник невольно содрогнулся; обе монахини, не понимая еще, о каком незнакомце идет речь, навострили уши и с любопытством следили за беседой священника с незнакомцем.
Священник пристально посмотрел на незнакомца; непритворная грусть видна была на лице, а в глазах заметно было выражение страдания.
— Хорошо! — отвечал священник, — приходите сюда сегодня вечером; я готов буду исполнить ваше желание и отслужу обедню, которая будет, быть может, единственной молитвой к Господу, для искупления великого преступления…
Незнакомец содрогнулся, но тут же чувство удовольствия как бы победило в нем его тайную скорбь. Почтительно поклонившись священнику и двум монахиням, незнакомец удалился из комнаты со знаками той безмолвной признательности, которую сполна оценили лица, оставшиеся в комнате.
Прошло около двух часов, и незнакомец снова уже был тут. Он сильно постучался в дверь чердака, и госпожа Шаро отворила ему дверь и встретила его. Потом она провела его во вторую комнату, где все уже было приготовлено для богослужения.
Незнакомец с благоговением преклонил колени около двух монахинь. Но при взгляде на черный креп, которым было обтянуто распятие и священная чаша, какое-то грустное воспоминание болезненно сжало его сердце, и крупные капли пота показались на его большом, открытом лбу.
Четверо безмолвных действующих лиц этой сцены таинственно поглядели друг на друга, потом как бы прониклись одной и той же мыслью и слились в одной общей усердной молитве.
Ясно было, что у всех в это время мелькнула мысль о том мученике, тело которого было засыпано негашеной известью. Тень этого мученика представилась в воображении молящихся во всем своем величии. Отслужено было погребение и панихида без тела того усопшего, по которому они совершались. Под этой кровлей из черепицы и рассохшихся досок четверо христиан молились Богу за короля Франции и отдавали последний долг ему, хотя тут и не стояло гроба погребаемого. Это событие было проявлением самой искренней преданности и было поразительным доказательством верности королю без всякого подвоха… Все, что осталось от королевской власти, совместилось в молитвах этого священника и этих двух монахинь; а быть может и сама революция имела тут своего представителя в лице этого незнакомца… Глядя на лицо его, на котором ясно было проявление угрызений совести, нельзя было не убедиться, что эта личность действует под влиянием чувства глубокого раскаяния.
Когда отошла заупокойная обедня, священник сделал знак двум монахиням, которые тотчас же удалились. Священник, оставшись наедине с незнакомцем, с кротким и грустным взглядом подошел к нему и сказал:
— Сын мой! Если вам пришлось запятнать свои руки кровью короля, то покайтесь… Нет такого прегрешения, которое не могло бы быть заглажено перед лицом Господа Бога таким искренним, таким задушевным раскаянием, какое, как мне кажется, я заметил в вас.
При первых словах священника у незнакомца машинально вырвалось движение невольного ужаса; но он успел оправиться и, смело взглянув в глаза изумленному священнику, сказал ему принужденным голосом.
— Отец мой! Я меньше всех на свете виноват в святотатственно пролитой крови…
— Мой долг — верить вам!.. — отвечал священник.
Вслед за тем он сделал довольно продолжительную паузу, во время которой пристально вглядывался в лицо кающегося. Потом, вероятно, он остановился на той мысли, что перед ним одна из тех личностей, которые решились пожертвовать головой короля, для того чтобы спасти свою. Поэтому священник важным голосом сказал незнакомцу:
— Не думайте, сын мой, что для того чтобы считать себя невинным в этом преступлении, достаточно только не участвовать в нем… Все те, которые могли бы защитить короля, но не дерзнули обнажить меч за него, так же дадут за это ответ Господу Богу. О да, — продолжал священник, выразительно покачивая головой, — дадут эти люди ответ Господу Богу!.. Бездействие их в такую великую эпоху сделало их невольными участниками в этом великом преступлении.
Пораженный этими словами незнакомец обратился к священнику:
— Неужели вы думаете, батюшка, что всякое, даже не прямое участие в этом преступлении, будет наказано?.. Неужели же небесное правосудие накажет даже того солдата, которому приказано было устроить ограду у эшафота?
Священник стоял в нерешительности.
Незнакомец, по-видимому, был очень доволен тем затруднением, в которое он поставил этого пуриста роялизма. Действительно, трудно было сделать выбор между безусловным повиновением, которое у приверженцев монархии считалось необходимым в военном звании, и тем благоговением к личности короля, которое составляет основу роялизма. Принимая во внимание это обстоятельство и видя колебание священника, незнакомец ожидал благоприятного для себя разрешения каких-то сомнений, которые, видимо, тревожили его. Наконец, не желая более оставлять в смущении почтенного служителя алтаря, незнакомец сказал ему:
— Мне совестно предлагать вам какую-либо плату за обедню, которую только что отслужили вы за упокой души нашего несчастного короля и для успокоения моей совести. За подобную неоценимую услугу можно отблагодарить только таким подарком, которому также нет цены. Поэтому, батюшка, потрудитесь принять вот это… Будет время, когда вы поймете значение этого подарка.
С этими словами незнакомец подал священнику очень маленький и легкий ящик; священник взял его как бы нехотя. Торжественный тон речи и благоговение, с которым незнакомец держал ящичек, невольно заставили священника задуматься.
После этого оба они вошли в ту комнату, где их ожидали монахини.
Войдя в комнату, незнакомец сказал:
— Дом, в котором вы живете, принадлежит Муцию Сцеволе, который живет здесь же в бельэтаже. Этот господин славится во всем округе своим патриотизмом и, несмотря на то, втайне предан Бурбонам. Он прежде служил берейтором у принца Конти и обязан ему всем своим состоянием. Благодаря этому обстоятельству вы в этом доме безопаснее, чем в каком-нибудь другом месте во Франции. Поэтому оставайтесь здесь. Благочестивые люди примут участие в ваших нуждах, и таким образом вы будете иметь возможность дождаться лучшего времени.
— Ровно через год, 21 января, — (при этих словах незнакомец не мог скрыть невольное движение, вырвавшееся у него) — да, 21 января, если вы не покинете этот грустный приют и не оставите ваше настоящее убежище, то я явлюсь к вам и опять попрошу отслужить заупокойную обедню.
Незнакомец не договорил; молча поклонился он безмолвным обитателям этого чердака, в последний раз бросил взгляд на явные признаки их нужды и недостатков и исчез.
Что касается двух монахинь, то в глазах их это происшествие имело какой-то сказочный, романтический характер. Священник сообщил им те обстоятельства, при которых был ему так торжественно передан таинственный подарок незнакомца. Вслед за тем уже известный нам ящичек был поставлен на стол, и все трое присутствующих, освещенные бледным светом единственной свечки, с беспокойством и страшным любопытством наклонились к столу. Девица Шаро открыла ящик и нашла в нем большой очень тонкий батистовый платок, запачканный в некоторых местах пятнами от пота. Все трое стали пристально рассматривать этот платок при свете и заметили на нем несколько, там и сям разбросанных, почти черных точек, как будто этот платок был забрызган грязью.
— Это следы крови, — глухим голосом сказал священник.
Обе монахини с ужасом выпустили платок из рук своих.
Скоро трое обитателей этого жалкого чердака стали убеждаться, что даже в эпоху самого страшного террора чья-то могущественная рука не переставала покровительствовать им. Тотчас после посещения незнакомца к ним стали доставлять дрова и съестную провизию. Вскоре и обе монахини убедились, что в числе их покровителей находится также и женщина, потому что скоро им было доставлено белье и платье, которое давало им возможность выходить, не обращая на себя внимания аристократическим покроем платья, вынесенного ими еще из монастыря. В заключение Муций Сцевола доставил им от революционного правительства виды на жительство.
Чувство признательности, которым был проникнут священник и обе монахини, невольно возбудило в них любопытство, которое усиливалось с каждым днем. Обыкновенной темой для разговора служили им те обстоятельства, которыми сопровождалось появление в их приюте незнакомца. Они делали тысячи предположений на его счет, так что это доставляло им большое развлечение. Они дали себе слово не упустить первого случая заявить незнакомцу о тех чувствах, которыми проникнуты они к нему; с этой целью они нетерпеливо дожидались годовщину смерти Людовика XVI, когда незнакомец обещал опять побывать у них, чтобы снова отслужить заупокойную панихиду. Наконец настала ночь этого рокового дня, которого с таким нетерпением дожидались священник и монахини.
Ровно в полночь на деревянной лестнице послышались тяжелые шаги незнакомца. В комнатах уже все было готово, чтобы принять его, и алтарь был давно поставлен. На этот раз обе монахини сами отворили двери и стали освещать лестницу. Госпожа Шаро даже спустилась на несколько ступенек вниз и пошла навстречу к своему благодетелю.
— Милости просим, мы ждем вас, — сказала она взволнованным голосом.
Незнакомец поднял голову, окинул монахиню холодным взглядом и не ответил ни слова. Эта встреча так поразила ее, как будто кто-то окатил ее холодной водой, и она замолчала. Незнакомец вошел в комнату; в одно мгновение у всех исчезло любопытство и замерло выражение признательности. Видно было, что холодность, молчаливость и угрюмый вид незнакомца объяснялись тем, что он не расположен был выслушивать выражений признательности. Священник и монахини убедились, что незнакомец не желает открывать свое инкогнито. Нечего делать, нужно было покориться этому желанию. Священнику показалось, что на лестнице у незнакомца пробежала улыбка, когда он заметил приготовления, сделанные для принятия его. Незнакомец прослушал обедню, помолился Богу и удалился, вежливо отказавшись от предложения госпожи Шаро, которая просила его разделить с ними приготовленный с этой целью ужин.
Незнакомец, играющий такую роль в этом рассказе Бальзака, был, как известно, дед мой Шарль-Генрих Сансон, которому хотелось успокоить свою взволнованную совесть исполнением религиозных обрядов. Действительно, в конце эпохи террора наше семейство помогало многим из лиц, подвергавшихся в это время преследованию, и эти лица никогда и не догадывались, откуда идет к ним эта помощь. Остальная часть рассказа Бальзака, в которой дед мой будто бы перед смертью призывает к себе этого самого священника и передает ему свою рукопись, — ничто иное как изобретение живого воображения, с целью придать характер достоверности тем подложным мемуарам Сансонов, к изданию которых тогда собирались приступить.
Подарок, сделанный Шарлем-Генрихом Сансоном почтенному аббату, было не что иное, как платок, который король держал в руках, прибыв на место казни. Во время поездки своей к эшафоту, король несколько раз стирал этим платком предсмертный пот со своего лица; в роковое мгновение казни несколько капель крови также брызнули на тонкую ткань этого платка. Прочие вещи, принадлежавшие казненному королю, также были тщательно собраны моим дедом и хранились как драгоценность. К сожалению, некоторые вещи пропали благодаря жадности помощников, которые, как мне приходилось слышать, вели этими вещами преступную торговлю.
Отец мой потребовал себе и получил башмаки и запонку с шеи короля. Верно, он никогда бы не упустил из рук этих вещей, если бы не случилось то обстоятельство, которое я сообщу сейчас и которым надеюсь заключить эту главу.
Через несколько дней после смерти короля какой-то господин в сопровождении слуги подъехал верхом к нашему дому, позвонил и изъявил желание говорить с хозяином дома. Деда моего не было дома, и гостя пришлось принимать моему отцу. Отец немало удивился, когда увидал, что в комнату входит очень благообразный господин, от тридцати пяти до сорока лет от роду приблизительно и одетый в черное. В чертах лица этого господина замечалось фамильное сходство с Бурбонами, что тотчас же напомнило моему отцу о той венценосной жертве, которая только что была принесена на эшафоте.
— Милостивый государь! — так начал незнакомец, бывший, как казалось, сильно взволнованным, несмотря на то, что в тоне голоса этого господина слышалось величие, которое проявлялось даже при его взволнованном состоянии. — Милостивый государь, мне сказали, что у вас находятся разные вещи, принадлежавшие покойному королю; вероятно, вы желаете получить свои выгоды от этих вещей, и поэтому я пришел предложить вам свои услуги.
— Милостивый государь, — колко возразил мой отец, — правда, что нам досталось несколько вещей из платья казненного короля, но мы не обязаны давать отчет кому бы то ни было в том употреблении, которое желаем сделать из этих вещей. Чтобы скорей закончить наш разговор, спешу вам заявить, что в наши расчеты отнюдь не входит намерение расставаться с этими вещами на каких бы то ни было условиях.
Незнакомец, казалось, очень удивился.
— Как так? А если вам заплатят с царской щедростью за эти вещи…
— Все подобного рода предложения будут совершенно бесполезны.
Отец мой пристально вглядывался в своего собеседника и был сильно удивлен тем сходством его с Людовиком XVI, которое бросилось ему в глаза с первого взгляда. Правда, черты лица у незнакомца были несколько тоньше, чем у покойного короля, но у него был такой же орлиный нос, такой же лоб, такие же толстые губы, словом, все черты, которые составляют отличительную особенность семейства Бурбонов. Если бы моему отцу еще в детстве не приходилось видеть графа Прованского и графа Артуа, то он без всякого сомнения подумал бы, что кто-нибудь из этих принцев тайно приехал во Францию, чтобы с благоговением собрать те немногие вещи, которые составляли единственное наследство, оставшееся от их несчастного брата.
Незнакомец со своей стороны окинул взглядом окружавшие его предметы, и когда он заметил на стене превосходную гравюру, на которой находился один из лучших портретов Людовика XV, то на лице его невольно проявилось чувство удивления, смешанное с расположением. Гравюра эта еще в 1733 году сделана Доллем, одним из лучших граверов этой эпохи.
— Если бы вы знали, милостивый государь, во имя чего я хочу приобрести эти вещи, напоминающие о покойном короле, вы, может быть, не были бы так неумолимы ко мне.
— Вы правы, — возразил мой отец, — подобного рода убеждение может на меня подействовать гораздо сильнее, чем те деньги, которые вы мне хотели предложить.
— Хорошо, я открою вам мою грустную тайну. Знайте, что я хотя и незаконно, но принадлежу к семейству знаменитой жертвы эшафота 21 января. Я родной сын того короля, портрет которого висит здесь на стене; меня зовут аббат Бурбон.
Отец мой взглянул на портрет Людовика XV и убедился, что собеседник его имеет еще более поразительное сходство с Людовиком XV, чем с несчастным Людовиком XVI.
Не было сомнения, что это действительно аббат Бурбон, плод одной из тех связей, которых было так много у сладострастного Людовика XV. Само количество этих связей не давало возможности придавать им полуофициальный характер, как это делалось в старину для таких особ, как Лавальер, Монтеспан и для той супруги короля по морганатическому браку, которая заняла место этих фавориток. Рождение сына короля, который в это время говорил с моим отцом, не могло быть признано официально, несмотря на то, что кровь короля текла в его жилах. Аббат Бурбон с сознанием своего полузнаменитого и полупозорного происхождения умел сохранить и тщеславие и неуместное самолюбие, а потому и решился искать спасения от увлечений и страстей света под скромной рясой аббата. Людовик XVI, несмотря на все свое отвращение к пороку, чувствовал сострадание, видя религиозные стремления несчастной жертвы слабости Людовика XV, и тайно покровительствовал своему брату. Благодаря этому обстоятельству молодой аббат мог вести полуцарскую жизнь и пользоваться особенным уважением, которое хотя не имело законного основания, но тем не менее существовало. В этом отношении он напоминал отчасти таинственную монахиню Лоншан. Семейства королей, наравне с простыми смертными, имеют свои тайны, которые стараются прикрыть непроницаемой завесой.
Полный глубокой признательности за оказываемое ему покровительство, аббат Бурбон от всей души уважал Людовика XVI. Поэтому нет ничего странного, что он употреблял всевозможные усилия, чтобы во чтобы то ни стало приобрести последние воспоминания о своем покойном благодетеле. Между прочим, отец мой ясно сознавал, что во всяком случае эти вещи, оставшиеся от покойного короля, скорее должны принадлежать этому, хотя и незаконному сыну королевского чем ему — наследнику человека, которого революционные бури принудили запятнать свои руки в крови короля.
Поэтому он отдал аббату Бурбону и те башмаки, которые оставили последний след на земле под ногой короля, и ту застежку, которая находилась в последний раз на его шее до тех пор, пока роковая сталь не прекратила его дней. При этом отец мой отказался принять какое-либо вознаграждение за эти дорогие для него остатки; он ограничился только тем, что его — сына палача, крепко обнял безызвестный потомок королевского дома во Франции.
Глава II Революционный трибунал
Если бросить взгляд на тот ряд убийств, облеченных в юридическую форму, которые совершились в следующие четыре месяца, то уже не чувство ужаса, а какое-то онемение овладевает человеком; впечатление, производимое этими событиями, напоминает давление кошмара. Даже не верится, что только какие-нибудь семьдесят лет отделяют нас от этой эпохи.
Впрочем, необходимо согласиться, что в последние семьдесят лет совершенно изменились стремления и наклонности народных масс. В этом отношении мы от наших дедов ушли несравненно дальше, чем наши деды — от деятелей 24 августа 1572 года.
Пресловутая цивилизация XVII и XVIII веков ограничилась только верхними слоями общества, она скользнула только по поверхности, а между тем массы народа были также невежественны, также грубы и в то время, когда из среды этой массы являлись тысячи добровольных палачей для совершения ужасов Варфоломеевской ночи. Настроение духа и выражение лиц у зрителей, окружающих эшафот в минуты казни, мне кажется, могут служить прекрасным мерилом для определения степени развития народа. Во время исполнения своих служебных обязанностей мне раз приходилось вглядываться и изучать выражения лиц у тех любителей сильных ощущений, которые почти всегда теснились около нас во время казни. Чаще всего мне приходилось наблюдать выражение бессмысленного любопытства; нередко замечал я выражение ужаса и отвращения; но никогда мне не приходилось замечать той кровожадности, той буйной радости и того наслаждения видом казней, как это, судя по рассказам моего отца, так часто приходилось наблюдать ему среди масс, окружавших эшафот.
21 января было в одно время и грустным замечательным событием.
Как только раздался глухой звук гильотины, отсекавшей неповинную голову несчастного короля, прежний склад жизни и прежнее французское общество стало достоянием прошлого. Уже сквозь окровавленные перекладины гильотины можно было разглядеть, что на горизонте начинает показываться заря новой жизни.
Но, несмотря на то, само потрясение сопровождалось грубостью и насилием. Видно было, что сосуд не только наполнился до краев, но что уже полилось и через край. Революция, начатая во имя угнетенных масс, впала в крайность уже потому, что сами угнетенные были главными деятелями революции. Те самые массы, которые, как мы видели, с наслаждением стекались, бывало на Гревскую площадь, любовались казнями и рукоплескали при предсмертных судорогах преступника, теперь стали проповедниками новых начал. При этом нет ничего мудреного, что эти массы умели убеждать не иначе как с топорами в руках.
При осуждении Людовика XVI каждый из представителей, подавая свой голос, старался сколько-нибудь оправдать себя теми побудительными причинами; которые вынуждали его к этому. Мало-помалу эти убеждения перешли в массы, и распространилось мнение, что республика может установиться только на трупах своих врагов. Кровь короля-мученика освятила эшафот, а революция избрала этот эшафот себе. Фанатизм последователей новых начал был возбужден в высшей степени разными нелепыми предсказаниями. Повсюду раздавались крики, требовавшие громадных жертвоприношений новому богу, который в кровожадности не уступал богу Друидов.
Еще на площади революции не просохла кровь короля, а уже клубы и Городской совет повелительно требовали новых казней, требовали смерти всех приверженцев роялизма.
Трибунал 10 августа делал свое дело. Уголовный суд тоже время от времени отдавал на жертву гильотине несколько темных, безызвестных личностей, приговоренных к казни за подлог или за подделку ассигнаций.
Возбуждение увеличивалось с каждым днем. Внутренняя борьба, начавшаяся в Конвенте, распространилась в народе и разделила всю республику Францию на два лагеря. А между тем во всей Франции начался голод; население Парижа, страдавшее больше жителей деревень от высоких цен на съестные припасы, стало требовать тех законов о таксе, которые оно считало радикальным средством от голода. С 25 февраля народ уже начал грабить и стал брать силой то, чего не был уже в состоянии покупать. Обе партии сваливали друг на друга ответственность в этих выходках толпы. Жирондисты объясняли это явление максимализмом правительства демагогов, Якобинцы обвиняли своих противников в малодушии и бессилии и говорили, что коварное человеколюбие жирондистов предает обезоруженный народ его врагам. Некоторые журналы начали призывать народ к отмщению этим врагам: они начали публиковать положение тех лиц, которые содержались в тюрьме.
Судьба и ход событий явились на помощь к тем, кто хотел вести Францию этим кровавым путем. Волонтеры Жемаппа и Вальми были окончательно деморализированы своей победой, и отсутствие дисциплины у них еще более ухудшило положение дел. Скоро открыт был заговор Руери. В Лионе также началось движение, грозившее превратиться в бунт. Положение дел было несравненно грознее, чем в прошлом году. Республика стала призывать всех своих детей к оружию для защиты отечества. Энтузиазм, проявившийся в народе, был не слабее энтузиазма 1799 г., все поднялись: и богатые и бедные, и юноши и старцы. Но и на этот раз нашлись беспощадные личности, которые воспользовались этим энтузиазмом для достижения своих кровожадных целей, и новое восстание великой нации запятнало себя убийствами.
Слова: «отечество в опасности!» в 1792 году породили сентябрьские дни; восстание народа в 1793 году подарило нам Революционный трибунал.
9 марта Шометт, генерал-прокурор Городского совета, явился в Конвент, чтобы дать отчет о восстании граждан города Парижа. Шометт требовал пособий семействам тех, которые ополчились за отечество, и в то же время требовал учреждения суда, на который нельзя было бы апеллировать и который держал бы в повиновении и судил бы дурных граждан. «Без этого трибунала, — говорил он от лица уполномочивших его, — вы никогда не истребите тех эгоистов, которые не хотят ни сражаться, ни помогать тем, которые сражаются за них».
Жан-Бон Сент-Андре затем взошел на трибуну и стал поддерживать требование оратора Городского совета. Тот самый Каррье, который впоследствии делал такие ужасающие применения этого вынужденного обстоятельствами закона, тот самый Каррье, который приобрел такую бессмертную известность посредством этого учреждения, дал ход этому предложению. Каррье стал настаивать на том, чтобы на основании требования Городского совета сделано было предложение законодательному комитету, который на другой же день должен был бы представить проект организации Революционного трибунала. Напрасно Ланжюине старается приостановить это предприятие и называет его общественным несчастьем. Предложение Каррье, изложенное Левассером, было проголосовано и принято.
На другой день представлены были на обсуждение два проекта: проект Революционного трибунала и проект устройства министерств. Гора дрожала от нетерпения, когда Бюзо, не отличавшийся особенным красноречием, предложил обсудить второй из этих проектов прежде первого.
Содействуя изо всех сил основанию этой первой инквизиции, члены Конвента, вероятно, не предполагали, какие явления ожидают их. Они смотрели на Революционный трибунал только как на сильное оружие, при помощи которого им удается поразить ужасом своих врагов. В числе же врагов своих они прежде всего считали тех мужественных жирондистов, у которых им хотелось отнять все средства к сопротивлению.
Представлены были два проекта Революционного трибунала; один из них, очень умеренный сравнительно, был представлен Лезажем, а другой был представлен Линде.
Вот проект Линде. «Революционный трибунал состоит из семи членов по назначению Конвента». «Эти члены не стеснены никакими формами при производстве дел». «Члены могут употреблять всевозможные средства для изобличения преступников». «Трибунал может разделяться на два отделения». «В зале, назначенном для трибунала, всегда будет присутствовать один из членов, обязанный принимать доносы». «Суду трибунала подвергаются те лица, которые будут преданы этому суду декретом Конвента». «Трибунал непосредственно может преследовать тех лиц, которые, по недостатку патриотизма, отказываются или небрежно исполняют свои обязанности; тех лиц, которые своими манифестациями или мнениями стараются ввести народ в заблуждение и, наконец, тех лиц, которые напоминают о насильственно захваченных привилегиях в прежнюю эпоху или своим поведением, или своими сочинениями, или, наконец, тем положением, которое они занимали при прежнем правительстве».
Партия Горы аплодировала этому драконовскому закону; ропот отвращения и ужаса, пробежавший по скамьям жирондистов, был ответом на эти аплодисменты; при этом Верньо воскликнул даже: «Если нам предлагают узаконить инквизицию, которая будет в тысячу раз хуже Венецианской, то мы скорее умрем, чем согласимся на это».
Вечером, когда открылось заседание собрания, скамьи Жиронды были совершенно пусты. Однако закон, учреждавший этот необыкновенный трибунал, был принят 11 числа огромным большинством голосов.
Вот окончательный текст декрета по этому случаю.
Статья I. Революционный трибунал получает все сведения о всякого рода предприятиях, заговорах и покушениях, направленных против свободы и верховных прав народа, против единства, нераздельности и внешней безопасности республики; этому трибуналу будут подлежать все дела о заговорах с целью восстановить королевскую власть, а также все дела о подделке государственных ассигнований.
Статья II. Трибунал состоит из десяти судей, разделенных на два отделения: достаточно голосов трех членов в каждом отделении, для того чтобы решение имело законную силу.
Статья III. Судьи эти избираются Национальным конвентом. Избрание будет совершаться по относительному числу голосов, поданных за каждого кандидата на место судьи. Для действительности избрания необходимо, чтобы, по крайней мере, четвертая часть всех членов подала свой голос за предлагаемого кандидата.
Статья IV. При трибунале состоит публичный обвинитель и при нем два помощника. Эти чиновники назначаются Конвентом и избираются точно таким же порядком, как и судьи. Кроме того, составляется особенная комиссия из 6 членов Конвента; обязанность этой комиссии состоит в изложении обвинительных актов, которые могут быть представляемы в трибунал от имени Конвента.
Статья V. В трибунале полагаются присяжные в числе двенадцати и заступающие их место, в числе трех. Лица эти будут выбраны в парижском и в четырех соседних департаментах к 1 мая. К этому дню ежегодно избирательные округи будут повторять выборы присяжных.
Статья VI. Все преступления, направленные против общественной безопасности и подлежавшие до сих пор суду различных муниципальных и административных учреждений, отныне будут подлежать суду Революционного трибунала.
Статья VII. Следствие, произведенное муниципальными властями при задержании преступника, а также все относящееся к делу должно быть передаваемо в комиссию шести, упомянутую в статье IV. Эта комиссия, если нужно, составляет на основании этих документов обвинительный акт.
Статья VIII. На решение Революционного суда не допускается никакой апелляции и дело не может быть даже передано на рассмотрение кассационного суда.
Статья IX. Приговор, состоявшийся во время отсутствия обвиненного, имеет ту же силу, как и в том случае, когда обвиненный есть.
Статья X. Обвиненные, не являющиеся по вызову Трибунала в течение трех месяцев, будут объявлены эмигрантами, и как к ним лично, так и к их имуществам будут приложены во всей строгости законы об эмигрантах.
Статья XI. Тем из обвиненных, которые будут уличены в преступлениях. Трибунал назначает наказания, руководствуясь уголовными законами.
28 марта, по предложению Шазаля, Конвент издал декрет, которым предписывалось этому необыкновенному судилищу, хотя и бывшему в то время еще не в полном составе, приступить к исполнению своих обязанностей. 6 апреля деду моему пришлось исполнять первый приговор этого учреждения, которое тогда с невероятным бесстыдством и бессмыслием называли революционным правосудием. Действительно стоит обратить внимание на соединение двух таких, друг другу противоречащих понятий, какие заключаются в выражении революционное правосудие.
Глава III Первые казни
Со времени смерти Людовика XVI гильотина уже не снималась с площади Согласия. Эти две красные балки, рисовавшиеся на сером фоне неба и зданий, были бы вовсе не страшным пугалом, если бы не существовало убеждение, к сожалению, чересчур скоро оправдавшееся, что это пугало только поджидает своей добычи.
В это время, то есть с 25 января по 6 апреля, только одна голова скатилась на эшафоте под лезвием гильотины. Казнен был один дезертир по имени Бюкаль, который бежал из рядов войск, перешел к неприятелю и взят был в плен через несколько дней после своего бегства.
Весть об учреждении нового Трибунала, надежда, что он доберется до приверженцев монархизма и положит конец антиреволюционным стремлениям, которым приписывали все существовавшие несчастья, произвела странное возбуждение. Это возбуждение было до того сильно, что даже известие о падении Дюмурье и об отборе оружия у крестьян западных провинций произвело очень слабое впечатление. Предсказания яростных революционеров начало приносить свои плоды. Большинство вместе с Маратом стало твердить: «Принесем в жертву злодеев и мир, тишина и благоденствие воцарятся в торжествующей республике». Неурожай и голод были такой болячкой этого времени, и не было почти ни одного гражданина, который бы не страдал от них. Народ дошел до того, что стал верить, что уничтожение врагов равенства составляет радикальное средство, чтобы иметь хлеб по дешевой цене.
Уже довольно значительное стечение народа было на первом заседании Трибунала; но когда пронесся слух о произнесении первого смертного приговора, на площади Согласия собрались бесчисленные толпы.
Честь показать дорогу стольким мученикам досталась на долю одному дворянину из Пуату, эмигранту Гюйо Демолан. Это был мужчина, около сорока лет от роду, с воинственной осанкой, и с мужественным решительным выражением лица. Когда тележка, на которой он ехал, остановилась у эшафота, он с особенным вниманием посмотрел на эшафот, и тотчас же сильное движение заменило спокойствие на лице его. Шарль-Генрих Сансон сидел рядом с осужденным. Гюйо Демолан обратился к нему и спросил: «Та же ли это?..» Когда мой дед сделал вид, что не понимает вопроса, то осужденный спросил. «Та же ли это гильотина, на которой совершено было величайшее преступление, какое когда-либо удавалось совершать человечеству?» Шарль-Генрих Сансон ответил, что переменили только одно лезвие. Тогда Гюйо Демолан быстро взбежал по ступенькам лестницы, которая вела на платформу, стал на колени и с благоговением поцеловал то место, на котором лилась кровь Людовика XVI. В то время когда Демолан стал подниматься, помощники схватили его, привязали к роковой доске.
10 числа Революционный трибунал отправил новую жертву на эшафот.
15 числа совершился суд над генерал-лейтенантом Филибером-Франсуа Русель, маркизом де Браншеланд. Бланшеланд был губернатором островов Под-Ветром, показал слишком большое усердие при усмирении смятений, происшедших тотчас после освобождения негров и мулатов на этих островах.
17 числа были приговорены к смерти и казнены двое подделывателей фальшивых ассигнаций, купеческий приказчик Даниэль Гузель и торговец галантерейными вещами Франсуа Гюйо. 18 числа был казнен еще один изготовитель фальшивых ассигнаций, Пьер-Северен Гюно и одна дама Розалия Бонн-Корьер вдова Калле, ставшая, подобно девице Леклерк, жертвою своей невоздержанности на язык. 19 числа была казнена еще одна женщина Маделень Винерейль, жена лавочника Герино, за распространение фальшивых ассигнаций.
Таким образом, гильотина не оставалась праздной. И все-таки раздавались жалобы на то, что казнят только одних незнатных и неизвестных людей. Очевидно, что в жертву были принесены не те знатные преступники, для которых собственно и был устроен Трибунал. 20 числа эшафот несколько поднялся в общественном мнении; в этот день были казнены два дворянина и один священник.
30 апреля снята была старая гильотина и вместо нее была поставлена новая, в которой Шарль-Генрих Сансон, приказал сделать некоторые изменения, для того чтобы иметь возможность совершать значительное число казней подряд.
1 и 3 мая были приговорены к смерти: Антуан Жюзо, ангулемский негоциант, за эмиграцию; Брар, бывший комиссар флота; Колли (Поль Пьер), главный арендатор, обвиненный в том, что он будто бы принимал участие в заговоре, состоявшемся под предводительством Бовуара де Мазю; в это же время была осуждена Маделень-Жозефина де Рабек, госпожа Колли. Госпожа де Колли объявила себя беременной, вследствие чего исполнение приговора было отсрочено. 18 брюмера отсрочка была отменена, и в тот же день состоялась казнь.
9 числа дед мой, по приказанию Фукье-Тенвиля, отправился в Консьержери. В это время шло заседание суда, и судили одного эмигранта Франсуа-Жака де Ревье, бывшего графа де Мони, состоявшего прежде на службе графа Артура, в чине майора швейцарской гвардии. Вместе с ним судили также и Луи-Александра Болье, давшего ему убежище.
В ту минуту, когда дед мой проходил сквозь решетку перед зданием, как какой-то молодой человек, шедший с особенной поспешностью, толкнул его. В то же самое время кто-то назвал молодого человека по имени и он, до этого начавший было быстро удаляться, внезапно остановился и круто повернул назад. Шарлю-Генриху Сансону, вглядывавшемуся в этого молодого человека, показалось, что это женщина, одетая в мужское платье. Подобное переодевание было слишком обыкновенным явлением в это время и ему нечего было удивляться; таинственная личность подбежала к той особе, которая ее окликнула, и стала под руку с нею ходить вдоль и поперек по двору.
Дед мой потерял их из виду и уже поднял руку, чтобы взяться за маленький молоток, находившийся у двери тюрьмы, как вдруг ему показалось, что кто-то дергает его сзади за платье. Дед мой обернулся и увидел около себя ту таинственную личность, женственная осанка которой так его заинтересовала. Действительно это была женщина около тридцати лет; черты лица ее были очень правильны и, несмотря на страшную бледность, производили очень приятное впечатление и даже поражали своей красотой. На возмущенном лице ее можно было в одно и то же время подметить и отчаяние и гнев. Бледные губы ее судорожно сжимались, а в глазах был заметен лихорадочный огонь. Она отвела Шарля-Генриха Сансона на середину двора и без всяких предисловий дрожащим и отрывистым голосом сказала ему:
— Послушай! Хочешь получить пятьдесят луидоров за спасение осужденного?
Дед мой содрогнулся, инстинктивно, беспокойно поглядел вокруг себя. Убедившись, что они совершенно одни, он отвечал:
— Я, пожалуй, и даром спасу его; укажите мне только средство для этого; скажите, что я должен сделать, чтобы удовлетворить вашему желанию.
— Не можете ли исчезнуть из города на день или хотя бы на несколько часов?
— Это будет очень плохим средством, потому что тут останутся мои помощники. Мы живем не в то время, когда орудиями казни были меч и секира. В настоящее время исполнитель не больше как колесо в машине. Если бы он исчез, то первый встречный с успехом может заменить его. То, чего вы желаете, совершенно невозможно, и я вам могу дать только один совет — покориться обстоятельствам.
— Мне покориться! — почти с негодованием воскликнула незнакомка.
— Даже и при больших несчастьях приходится покоряться, сударыня.
Молодая женщина поняла намек и опустила голову. Когда она опять подняла ее, то страшная перемена заметна была в ее лице. Сухие и жгучие глаза ее стали влажными, слезы струились по щекам, и среди вздохов, вырывавшихся у нее из груди, послышались слова:
— Негодяй! Негодяй!
Шарль-Генрих спросил у нее, к кому относит она такой нелепый эпитет.
— К одному подлецу, у которого я на вес золота купила спасение одной дорогой для меня личности. Не далее как вчера этот негодяй клялся мне спасти ее, а сегодня слышу вдруг, что дорогую для меня личность потребовали к суду… Негодяй этот — Фукье-Тенвиль!
Эти слова были произнесены молодой женщиной довольно громко; дед мой сделал ей знак говорить потише, отвел ее под один из сводов и сказал ей;
— Как могли вы поверить подобным обещаниям? Как могли вы подумать, что подкупленный вами господин имеет возможность сдержать свое обещание? Я вам только что сказал, что я не больше как колесо в той машине, которую зовут гильотиной; обязанность моя — казнить. Фукье играет такую же жалкую роль, как и я, только в другого рода машине; оба мы подчиняемся такой могущественной воле, перед которой ничего не значат все усилия человеческие.
— Одна минута промедления и мы погибнем, не имея даже утешения спасти свою жертву. Десница Господа, сударыня, — продолжал мой дед, как бы рассуждая с самим собою, — руководить нами. Кто знает, быть может Богу угодно карать детей за преступления отцов их.
Молодая женщина дала волю своим слезам.
— Боже мой, да что же мне делать? — прошептала она прерывающимся голосом.
— Учиться умирать, сударыня, глядя, как умирают люди, дорогие для нас.
— Нельзя ли мне хоть отдать последний долг его останкам? Нельзя ли будет хоть еще раз поплакать над его прахом? Ах, сжальтесь, сжальтесь надо мною! Его зовут…
— Я не хочу знать, как его зовут, сударыня. Тела преступников составляют собственность республики, а республика ревностно хранит свое достояние и никому не позволяет распоряжаться им. Впрочем, вот идет за мною один из моих помощников, и я вас оставлю с ним; переговорите с ним, быть может он и возьмется помочь вам при исполнении того тяжелого долга, который возлагает на вас ваша преданность. Что касается меня, то я обещаю только смотреть на все сквозь пальцы.
Тут мой дед оставил свою собеседницу и отправился в Консьержери, где ему выданы были Ревье-Мони и Болье, приговоренные к смертной казни. Приближение последнего часа жизни не изменило выражения их лиц. Они сели друг около друга на роковую тележку и отправились в путь, дружески разговаривая. Вопли толпы ни разу не могли потрясти твердость их духа. Когда тележка остановилась, и Шарль-Генрих Сансон стал помогать осужденным слезать с нее, то он заметил, что Ревье-Мони, оставшийся еще на тележке, сильно побледнел. Дед мой взглянул в ту сторону, куда были устремлены взгляды осужденного и заметил в толпе ту самую женщину, с которой за несколько минут до этого беседовал во дворе суда. Дед мой испугался тех последствий, которые могло обусловить такое неблагоразумие этой женщины, и подозвал к себе одного из своих помощников. Этот помощник, по странному капризу судьбы, носил имя одного из самых замечательных министров времен монархии: его звали Лувуа.
— Лувуа, — сказал мой дед, — ты сегодня получил пятьдесят луидоров от одной женщины, одетой в мужское платье, за то чтобы сохранить труп одного из осужденных. Нужно доказать, что мы с тобой честнее того гражданина-обвинителя, который украл у нее деньги сегодня утром. Так старайся добросовестно заработать свои пятьдесят луидоров. Смотри, вот эта женщина направо от гильотины, в пятом или шестом ряду; наблюдай за нею.
Лувуа утвердительно кивнул головою, и Шарль-Генрих Сансон стал делать приготовления для казни.
Болье погиб первым. В то мгновение, когда вторично опустилось окровавленное лезвие гильотины, из толпы, помещавшейся у самой гильотины, раздался раздирающий крик, в котором слышались и стон, и проклятие.
Случилось так, как это предвидел Шарль-Генрих Сансон; бедная женщина не могла совладать со своей скорбью, и раздирающий крик вырвался у нее. Тотчас грозный шум поднялся вокруг нее; ближайшие к ней соседи задержали ее, между тем как со всех сторон раздавались угрозы и восклицания. Толпа была столько же вооружена против костюма незнакомки, сколько против сочувствия аристократам, которое было так торжественно заявлено.
Уже стали поговаривать о том, чтобы вести несчастную в Революционный трибунал, как вдруг появился Лувуа, пробившийся сквозь толпу, он вырвал женщину у толпы и, удерживая ее одной рукой, другой дал ей пару пощечин и в то же время начал кричать на нее.
— А, каналья! Я знал, что ты меня обманываешь, но, черт возьми, я никак не думал, что ты променяешь меня на негодяя-аристократа. Слава Богу, что нации порешила с ним и мне помогла в то же время. Да, теперь уже твой возлюбленный не осквернит ни моего супружеского ложа, ни свободной страны нашей. Ну что, покончила ты свои гримасы? А?.. Э, да ты, кажется, все еще охаешь! Поверите ли вы, граждане, что эта каналья осмеливается плакать о своем любовнике под самым носом законного своего супруга?
Наивные признания, сделанные Лувуа, относительно мнимых своих супружеских несчастий, вызвало несколько колких шуток у толпы. Поднялся смех; ни у кого уже и в помине не было Революционного трибунала, и все предоставили разгневанному супругу наказывать, как знает, свою преступную половину.
Вечером тела обоих казненных были отправлены для погребения; но Лувуа не хотел оставлять своего доброго дела неоконченным и выхлопотал паспорт, с которым проводил молодую жену до границы. Это была одна очень знатная дама, об имени которой я пока умолчу из скромности, которую, вероятно, оценят мои читатели, несмотря на то, что имя этой дамы встречается в некоторых хрониках того времени при доказательствах продажности Фукье-Тенвиля. Эта дама щедро вознаградила своего освободителя и даже убедила его отказаться от своего ремесла.
10 мая начат был процесс генералов, подозреваемых в измене и в виновности по делу Дюмурье.
Генерал Лану, явившийся в суд первым, был оправдан; Миранда, на которого главнокомандующий возложил всю ответственность за поражение при Нервиндене, также успел оправдаться перед Трибуналом. Не так счастлив был генерал Иосиф Мячинский: его приговорили к смертной казни.
Казнь его назначена была 18 числа, но он просил отсрочки, обещая сообщить весьма важные для республики сведения. Эта отсрочка была дана ему, и таким образом в этот день погиб на эшафоте один только каменщик Этьен, уличенный в изготовлении фальшивых ассигнаций.
Последние дни Мячинского представляли жалкое и недостойное порядочного человека зрелище. Когда два члена Конвента явились к нему, то нашли его полупьяным; все сообщения, ожидаемые от него, ограничивались обвинениями жирондистов и самыми низкими намеками на них. Мячинский думал польстить этим Горе и таким образом заслужить себе пощаду.
Во время своей казни Мячинский представил очень редкое зрелище для этой эпохи, когда даже самые малодушные люди считали за честь умереть мужественно. Храбрый воин Мячинский стал подкреплять свое мужество вином и его принесли на эшафот мертвецки пьяным.
В один день с Мячинским казнен был башмачник Жан-Франсуа Бельроз, приговоренный к смерти за изготовление фальшивых ассигнаций.
На другой день состоялась казнь генерал-лейтенанта Дево, который находился при главном штабе Дюмурье и был обвинен в сообщничестве с ним. Вместе с ним был казнен хирург Генрих Дюперри за распространение фальшивых ассигнаций.
В последний день мая был приговорен к смертной казни и казнен граф Бовуар де Мазю.
6 июня была казнена целая группа лиц, обвиненных в изготовлении и распространении фальшивых ассигнаций. 11 числа был казнен обойщик Бегине, обвиненный в том, что он подговаривал одного из своих родственников бежать вместе с ним к Вандейцам. 12 казнили генерала Лекюйе, бывшего начальником кавалерии бельгийской армии и обвиненного в сообщничестве по делу Дюмурье. 16 казнили повара Жака Кове за распространение фальшивых ассигнаций. 17 был казнен негоциант Франсуа Рено за подобное же преступление. 18 состоялась казнь двенадцати лиц, приговоренных к смерти за участие в заговоре Руели. Этот заговор составляет настолько важное событие, что я ему посвящаю полностью следующую главу.
Глава IV Заговор Руери
Эмиграция дворянского сословия из Франции была важной политической ошибкой. Присутствие дворянства на французской территории и влияние этого сословия могли бы обусловить некоторое сопротивление революционным бурям. При этом обстоятельстве, условия падения королевской власти были бы менее ужасны, чем это случилось в действительности. Говорят, что Мирабо очень искусно поддерживал то лихорадочное стремление к эмиграции из отечества, которое проявилось в эту эпоху. Если это правда, то Мирабо этим еще раз доказал, что он был на столько же одарен способностями дипломата, насколько талантом оратора. Покидая свои замки или отказываясь от феодальных предрассудков, уничтоженных в роковую ночь 4 августа, дворянство оставляло трон без поддержки, короля без армии и необузданный дух революции без всякого противодействия.
Нужно однако оговориться, что далеко не все дворянство бросилось за границу, многие из членов его остались во Франции. Причиной этого было может то, что одни из членов этого сословия, подобно Дантону, не поверили в возможность перенести свое отечество в другое место также легко, как переносится пыль на сапогах; другие, вероятно, предчувствовали, что родные поля их скоро должны будут стать театром ожесточенной борьбы, в которой они если и падут, то падут со славою. Все эти обстоятельства заставляли многих дворян не отказываться на те возбуждения, и на тот призыв к оружию, который доходил до них из Кобленца. Напрасно эмигранты, эти крестоносцы нового времени, упрекали остающихся в малодушии и присылали им в насмешку прялки. Оставшиеся во Франции не обращали внимания на эти упреки и с презрением бросали в огонь эти прялки. Рассеянные по своим поместьям, они продолжали жить во Франции, с беспокойством поглядывая на успехи революции. Разъединенность сделала их бессильными, а опасение без пользы компрометировать и погубить себя заставляло их подавлять в себе чувства ненависти и гнева, и молча, скрепя сердце, поглядывать на успехи своих врагов.
В это время у одной темной, неизвестной личности появилась мысль соединить все элементы, враждебные новому правительству. Этой личности хотелось устроить ряд ассоциаций и образовать на западе Франции могущественную лигу, с тем, чтобы задушить республику при самом ее рождении.
Эта личность была Тюффен де ла Руери. Руери был один из тех смелых, предприимчивых умов, которые как будто самой судьбой созданы для приключений. В его характере соединились два свойства, которые обыкновенно исключаются одно другим; это были — настойчивость и предприимчивость. Карьера Руери началась очень романтично. Он был офицером, и вследствие несчастной любви сломал свою шпагу и сделался траппистом. Но если подобный характер и мог увлечься до энтузиазма мыслью об аскетизме, то с другой стороны с ним куда как плохо мирилась монотонность монашеской жизни. Руери скоро снял монашескую рясу, в качестве волонтера принял участие в американской войне. Новые идеи сначала было поразили его; но как дворянин, он тотчас понял, что между партией порядка, к которой он принадлежал по рождению, и революцией невозможна никакая сделка. В то же время опасность, грозившая королю, возбудила его энтузиазм. Он отправился в Кобленц и сделал там предложение возмутить Бретань.
Собрав небольшие деньги, возвратился он во Францию и один, без всякой поддержки, кроме своей несокрушимой воли, приступил к осуществлению составленного им плана.
Нужно человеку, владеющему несравненно большим талантом, чем я, исписать целую книгу, для того чтобы рассказать об образе жизни Руери в тот год, когда он составил обширный заговор. Если бы остался жив предводитель этого заговора, то, вероятно, это предприятие покрылось бы такой славой, какой не пользуется и не пользовался ни один заговор, из всех записанных в истории человечества.
При изумительной неутомимости Руери в одно и то же время находил возможность быть и везде, и нигде. Его видели и в Джерси и в Лондоне, и в Кобленце, и вдруг, через каких-нибудь несколько дней его след находили на всех дорогах Бретании. При этом он употреблял тысячи самых разнообразных способов, чтобы усыпить бдительность и недоверчивость революционных властей.
Весь заговор был делом одного; он не доверял никаким посредникам и лично успел побывать у всех наиболее выдающихся личностей, само положение которых делало их его сообщниками. Он умел возбуждать в них мужество, подстрекать их рвение и пробуждать в них веру в успех, он указывал своим сообщникам на опустевший королевский дворец, на оскорбление королевского семейства и на красную якобинскую шпагу, марающую священную голову короля. Он доказывал необходимость взяться за оружие для защиты королевской власти; он убеждал их жертвовать и всем достоянием, и самим собой. С теми, кого возраст, болезни или пол лишали возможности взяться за оружие, Руери очень ловко делал своего рода сделку; от подобных лиц он с успехом добивался того, чтобы они дали обещание, по крайней мере, пожертвовать своим доходом за целый год в пользу предприятия.
В августе 1792 года сеть заговора опутала города, местечки, села и деревни Бретании и в то же время вся эта сеть была в руках одного Руери.
Только благодаря излишней осторожности не удался этот заговор, и Франция избавилась от страшной опасности, которая грозила бы ей, если бы такая большая провинция как Бретань восстала в то самое время, когда Дюмурье находился в аргонских дефилеях.
Переворот 10 августа поразил Руери как громовым ударом. Он все поджидал благоприятной минуты; но король был уже в плену. Пруссаки отступили, и Руери стал побаиваться, не опоздал ли он.
Грусть, огорчение и особенно неимоверные труды подорвали его здоровье; физические силы изменили этому мощному духу; Руери заболел.
В это время он скрывался близ Ламбаля у госпожи Декло де ла Фоше; но подозрительные личности стали показываться около дома, и Руери оставил это убежище, зарыв предварительно в саду, на глубине пяти футов, все бумаги, бывшие при нем. Вслед затем под именем Госселена он отправился просить приюта у соседнего бретанского дворянина, Деламот де Лагюйомаре, который и принял его.
Руери почувствовал, что он умирает. Он открылся своему хозяину и не скрыл от него, какой страшной опасности подвергает он себя за свое великодушное гостеприимство. Между тем бретанские власти хотя и не успели еще проникнуть во все подробности заговора, но, тем не менее, были настороже. Два агента Руери, Латуш и авантюрист Лалиган-Марильон, продали Дантону ту тайну, которая была им вверена. Руери был объявлен одним из деятельнейших агентов эмиграции, и голова его была оценена. На смертном одре своем в беседе с хозяином Руери давал наставления, куда деть его труп, как только он испустит последний вздох.
Г. Лагюйомаре пригласил к себе из Сен-Сервана хирурга Лемассона, с которым был в очень тесных отношениях. Этот хирург сделал множество надрезов на теле Руери, так что нельзя было его узнать, и следующей ночью был вырыт ров на огороде, где и зарыли этот труп, залив его двумя слоями негашеной извести, так что скоро исчезли бы всякие следы этого поступка.
Но в числе слуг Лагюйомаре нашелся предатель; один из них Шефтиль сделал донос, и труп Руери был отрыт. Было узнано также, что этот заговорщик несколько дней гостил у госпожи Декло де ла Фоше. При розысках, сделанных в саду, отрыто было все, что было зарыто там Руери.
К счастью у него было предчувствие, что его конец близок и потому он сжег список заговорщиков и все бумаги, которые могли компрометировать участников в заговоре. Но г. Лагюйомаре, его семейство и прислуга, госпожа Декло де ла Фоше, Сен-Серванский хирург и несколько бретанских дворян, заподозренных в сношениях с умершим кобленцским агентом, были арестованы, перевезены в Париж и преданы суду Революционного трибунала.
Процесс начался 8 августа и тянулся в продолжение десяти заседаний. Двое сыновей г. де Лагюйомара, из которых одному было двадцать лет, а другому пятнадцать лет с половиною были оправданы. Остальные были приговорены к смертной казни и 18 июня эта казнь состоялась; все осужденные вели себя с изумительным присутствием духа в последние минуты жизни.
Двое из обвиненных, садовник Перен и хирург Лемасон, были приговорены к ссылке и были заключены в Бисетре, где мы их находим еще во время воображаемых заговоров в тюрьмах.
23 числа казнили Жана-Луи Брюна, приговоренного к смерти за антиреволюционные стремления. 8 июля Трибунал отправил на эшафот Пьера Фурню за распространение фальшивых ассигнаций, а 12 числа начался процесс по делу об убийстве Леонарда Бурдона.
Это дело наделало много шума еще в марте месяце. Со времени убийства Лепеллетье, многим из депутатов, даже тем, которым по их политическому положению нечего было бояться убийств, повсюду стали мерещиться кинжалы. Малейшего предлога уже было им достаточно, для того чтобы выставлять себя мучениками свободы.
Около этого времени Конвент отправил двух своих членов, Леонарда Бурдона и Проста, в департамент Юры для производства набора. Оба депутата остановились в Орлеане и первый из них вдруг написал Конвенту из этого города письмо, в котором уведомлял собрание, что он заплатил свой долг отечеству и пролил за него кровь.
Если верить этому письму, то обстоятельство этого дела следующее. В то время когда Бурдон со своим товарищем подходил к городской ратуше, то стоявший тут караул национальной гвардии бросился на них с криками: «Вот эти злодеи!» Бурдон был схвачен, получил несколько ударов и его поволокли по двору; по нему сделано было даже несколько ружейных выстрелов, хотя и не попавших в него; все платье на нем было изорвано штыками, и он обязан жизнью только великодушию коменданта Дюлак, который закрыл его своим телом.
Конвент, раздраженный покушением на жизнь одного из своих членов, потребовал к своему суду муниципальные власти.
Показания чиновников значительно уменьшили значение опасности, которой так гордился Леонард Бурдон; из показаний видно было, что это умышленное убийство было чистой случайностью, вследствие какой-то ссоры в кабаке.
Дело это, как оказалось, было следующим образом: оба комиссара, возвращаясь с патриотического обеда, данного им, и находясь уже в довольно возбужденном состоянии от провозглашенных на обеде тостов, зашли в кафе Же-де-Пом. Тут началась сильная ссора между некоторыми из патриотов, возвратившихся с обеда, и некоторыми из присутствовавших в кафе. Тогда Леонард Бурдон вышел из кафе, чтобы отправиться домой. В то время когда он проходил мимо ратуши, кто-то из провожавших его поругался с часовым. За ругательствами последовала драка. Из караульни выскочил караул, и друзья Леонарда Бурдона, с одной стороны, а отряд национальной гвардии с другой, вступились каждый за своего товарища. Схватка стала общей. Во время этой схватки депутат Бурдон был слегка ранен штыком в руку и кроме того получил удар по голове.
Конвент не поверил такого рода рассказу о совершившемся событии. К тому же Орлеан отличался своей умеренностью, а правительство считало необходимым подавлять всякую, даже самую малейшую попытку к сопротивлению. Муниципальные власти были отстранены от должности, а солдаты национальной гвардии, находившиеся в карауле во время вышеописанного события, в числе тринадцати были арестованы и переданы на суд Революционного трибунала. Прения по этому делу были очень сильны, и во время процесса обвиненные не переставали уверять в своей невинности. Несмотря на то девятеро из них были приговорены к смертной казни.
Исполнитель получил по обыкновению предписание от Фукье-Тенвиля, но общественное мнение проявляло такое милосердие, так высказывалось за пощаду осужденных, что Шарль-Генрих Сансон первый не хотел верить, что казнь состоится. Родственники осужденных обратились к г. Сент-Андре, бывшему комиссаром в Конвенте. Жан-Бон посоветовал им подать прошение в Конвент. Вид этих плачущих женщин, детей и мужчин, умоляющих о пощаде, производил тягостное и потрясающее впечатление. Несколько просьб о пощаде стали раздаваться с той самой трибуны, с которой никто не слышал слов милосердия. Леонарду Бурдону выпадала на долю очень завидная роль, если бы он сам стал защитником своих мнимых убийц. Но этот господин не отличался особенным великодушием, и Конвент был неумолим.
В три часа пополудни девять орлеанцев были приведены на место казни; они были одеты в красные рубашки, как отцеубийцы. Многие из них очень упали духом, но другие, и особенно Нонневиль и Бюиссо, пошли на смерть очень мужественно.
Глава V Шарлотта Корде
13 июля, в то самое время, когда трупы жертв Леонарда Бурдона тянулись к кладбищу Сен-Маделен, другой представитель народа действительно пал под ударом кинжала.
Этот представитель был Марат; убийцею его была Шарлотта Корде.
В 1792 году общественное мнение в провинции встречало распоряжения Марата не столько с гневом, сколько с отвращением, не столько с негодованием, сколько с презрением. Многие не считали даже за серьезное полубалаганные, полугрозные выходки этого деятеля революции. Они не находили никакой разницы между просто смешным и между тем озлоблением до хохота, который может быть так ужасен, и предоставляли здравому смыслу нации судить деятельность этого человека. Между тем сама партия жирондистов пала в борьбе, и Марат поднялся необыкновенно высоко, когда трупы его противников на трибуне Конвента стали служить ему пьедесталом. В это время, как мы уже видели, закон о проскрипциях, проповедуемый Маратом, стали считать единственным средством к спасению республики, и люди поверхностные начали считать Марата посредником между судьбой и народом и оттеснили на второй план истинных деятелей эпохи террора. Вследствие этого чувство отвращения вдруг превратилось в чувство ужаса, Благоразумные люди и истинные патриоты стали смотреть на Марата как на какого-то старца Горы, каждым словом своим изрекавшего смертный приговор и распоряжавшегося всеми силами демагогии. Это мнение пропагандировали остатки партии жирондистов, собравшихся вокруг Вимпфена, который пытался водрузить знамя умеренно республиканских идей. Объявить Марата главой той партии, которая причинила столько несчастий, значило возбудить омерзение против этой партии и приобрести себе уважение до энтузиазма у всех честных и умеренных людей.
В это время в Казне жила одна молодая девушка, одаренная необыкновенным мужеством и энтузиазмом, которая еще более возбуждалась ежедневным чтением различных примеров героизма в творениях великих историков древности. Эту девушку звали Мария-Анна Шарлотта де Корде д’Армон; местом рождения ее было Линьери, маленькая деревушка в окрестностях Аржентана. Ее семейство было благородного происхождения, и в числе предков ее было много славных для Франции лиц; отец ее, Жак-Франсуа де Корде д'Армон, в третьем колене был потомком Марии Корнель, сестры автора Сида. Девица Корде была очень небогата: ее доход не превышал каких-нибудь тысячи пятисот ливров. Мать ее, госпожа Корде, скончалась еще в то время, когда Шарлотта была ребенком. Скорбь, вследствие этой ранней потери постоянное одиночество и сиротство рано приучили уединению и сосредоточенности, Она вела постоянно почти такую же жизнь, какую приходилось в монастыре Аббе-о-Дам, куда она была помещена отцом, когда ей было четырнадцать лет. Рассеяние и светские удовольствия казались вовсе непривлекательными для этой личности, стремившейся к более возвышенным целям. Герои Плутарха были единственными ее друзьями. Воспитанная на такой пище, она пренебрегала всяким чтением, не возбуждавшим порывов и героических стремлений в ее сердце.
С энтузиазмом разделяла она основные принципы революции; она с восторгом приветствовала зарю ее появления и высказывала свое сочувствие со всем жаром самого искреннего убеждения. Несмотря на видимую холодность, суровость и сдержанность девицы Корде, она сосредоточивала в себе стремление к самым энергичным порывам, которые так и просились из души ее; она любила отечество и свободу со всей горячностью, полученной ею в наследство от римлян Корнеля. Крайности революции, торжество лиц, бывших в ее глазах самыми опасными врагами дорогой для нее республики, — все это страшно смутило ее. Но при такой энергичной душе смущению не трудно было перейти в решимость. Она посмотрела вокруг себя и убедилась, что та партия, убеждения которой она разделяла, уже рассеяна и уничтожена; при этом ей пришла в голову такая мысль: если Бог допустил, чтобы в какие-нибудь несколько дней было ниспровергнуто все, носившее название права, справедливости и добродетели, то вероятно он, как некогда Жанну д’Арк, снова хочет удостоить женщину славы, быть спасительницей своего отечества, и она начала посматривать, против кого обратить ей свои удары.
Я уже говорил перед этим, что имена даже таких важных деятелей революции как Дантон и Робеспьер не были заметны в провинциях; там они исчезали перед мрачной личностью Марата, имя которого постоянно повторялось при всех убийствах и насилиях. Негодованию молодой патриотки нечего было слишком задумываться над разрешением по своему политической задачи. По ее мнению Марат не только задушил республику, он опозорил ее. Следовательно, само небо предназначило Марату пасть под ее кинжалом.
Смерть мнимого друга народа была решена с таким тихим и невозмутимым стоицизмом, какого история не запомнит ни при одном убийстве тирана. Молодая патриотка отказалась от желания повидаться и поговорить со своими друзьями, членами Жиронды, и получить от них громкое одобрение своему героическому предприятию, и план, составленный ею, она погребла в самой себе, не сообщая о нем никому. Она оставила Казну, приняла благословение от своего отца, простилась со всем, что сколько-нибудь привязывало ее к жизни, и села в экипаж, отправлявшийся из Аржентана в Париж.
Она прибыла в этот город в четверг 11 числа, почти в самый полдень, и остановилась на улице Вье-Огюстень в гостинице Провиданс, содержателя Грослье. Двухсуточное путешествие утомило девицу Корде. Она не стала выходить из своей комнаты, в пять часов легла спать и проснулась только на другой день в 8 часов утра.
Некто г. Барбару дал ей рекомендательное письмо к товарищу своему Дюперре. Шарлотта Корде отправилась было с этим письмом к Дюперре, но не застала его дома, — он был в это время в Конвенте. Она возвратилась к себе в гостиницу, провела весь день за чтением Плутарха, а вечером снова отправилась к вышеназванному депутату Конвента. Дюперре в это время обедал вместе с женой и дочерьми своими. Он принял Шарлотту Корде и обещал проводить ее к министру внутренних дел, у которого она собиралась ходатайствовать за одну из своих подруг, девицу Форбен.
В субботу, собираясь отправиться к Дюперре, который ей назначил свидание в этот день, Шарлотта Корде написала письмо Марату, в котором просила у него аудиенции и отнесла это письмо на почту; затем она отправилась к Дюперре, вместе с которым, поехала к министру внутренних дел.
Вследствие сношений своих с осужденными Дюперре был не на хорошем счету, а потому ему и не удалось получить той аудиенции, которой он добивался. Вследствие этого он довез Шарлотту Корде до Палерояльского сада и оставил ее там. Девица Корде зашла к оружейному мастеру, купила себе длинный, стальной нож с ручкой из слоновой кости и возвратилась к себе в гостиницу, где она надеялась найти ответ на свое письмо Марату.
В это время Марат был болен. Вследствие продолжительной лихорадки у него на теле показались отвратительные струпья, против которых все усилия врачей оказались бессильными, так что Марат несколько дней уже не был в Конвенте. Это обстоятельство помешало Шарлотте Корде исполнить задуманное его намерение — убить Марата во главе партии Горы, и она решилась идти в логовище к этому зверю. 13 числа, в субботу, она в первый раз отправилась к Марату, но не была принята им. Возвратившись в гостиницу, она, на случай, если ей снова откажут в аудиенции, приготовила вторую записку Марату следующего содержания:
«Париж, 13 июля, 2 года Республики.
Гражданину Марату.
Сегодня утром, Марат, я писала вам. Получили ли вы мое письмо? Я не думаю, чтобы вы его получили, потому что меня не допустили к вам. Уведомите меня, могу ли я надеяться видеть вас хоть на одну минуту. Снова повторяю вам, что я приехала из Казны и желаю сообщить тайны, очень важные для безопасности республики. Кроме того я подвергаюсь преследованиям за свою преданность свободе и поэтому несчастна. Мне кажется, что уже одного этого обстоятельства достаточно, для того, чтобы иметь право рассчитывать на ваше содействие.
Шарлотта Корде».Написав эту записку, девица Корде положила ее в карман, спрятала за пазуху купленный ее нож, наняла фиакр и отправилась к Марату, жившему в это время на улице Кордельер, в доме № 20. На ней было надето утреннее платке из белого канифаса с мушками. На голове у нее была высокая шляпка с трехцветной тесьмой и черной кокардой.
Марата в это время лучше всякой стражи берегла Катерина Эврар и сестра ее Симонн. Любовь и политический фанатизм удваивали их усердие. Катерина Эврар первая встретила молодую нормандскую героиню и, поговорив с ней довольно долго, отказалась принять ее. Марат, услыхав свежий женский голос и догадавшись, что эта та самая особа, которая писала ему утром, настойчиво приказал ввести ее к себе.
Он сидел в ванне, и голова его была обвязана платком; ванна была покрыта грязным сукном и на нее была положена доска, служившая Марату пюпитром, на котором он писал.
Он захотел узнать, что делается в Казне и спросил Шарлотту об именах депутатов, бежавших в этот город, об именах лиц, управляющих департаментами Кальводоса и Юры. По мере того как Шарлотта Корде рассказывала, Марат продолжал писать, и когда она кончила, он воскликнул: «Да, они оттуда через несколько дней отправятся на гильотину».
Это восклицание напомнило Шарлотте Корде о той обязанности, которую она взяла на себя и о которой почти забыла под влиянием чувства сожаления и того ужаса, который внушала ей мысль об убийстве. Она подошла к ванне и, вынув свой нож, вонзила его в горло Марату.
Удар был нанесен такой твердой рукой, что лезвие ножа вошло в грудь до самой рукоятки и рассекло ствол сонной артерии. Марат едва успел позвать к себе на помощь и испустил дух.
На крик Марата вбежал в комнату комиссионер Лоран Басс, укладывавший журналы в соседней комнате и вместе с ним Катерина Эврар с сестрой. Шарлотта Корде стояла неподвижно у окошка и не делала никакой попытки бежать из комнаты. Комиссионер сбил ее с ног ударом стула. Она поднялась было на ноги, но Басс начал бороться с нею, опрокинул ее снова на пол и держал под собой. Между тем Эврар с сестрой, несколько соседок, сбежавшихся на шум, хирург Клэр Мишон де ла Фонде, главный жилец этого дома, взяли Марата и перенесли его на постель.
На шум и крики женщин сбежались соседи, и скоро с гауптвахты у Французского Театра явились несколько солдат национальной гвардии, взявших Шарлотту Корде под арест.
Через несколько мгновений слух о смерти Марата собрал бесчисленную толпу народа у его дома. Толпа эта со страшными криками требовала головы убийцы. Из опасения, чтобы народ не разорвал Шарлотты Корде на части во время отправления ее на гауптвахту, арестантку отвели назад в комнаты Марата, где комиссар полиции Гельяр де Мениль приступил к допросу, в присутствии чиновников полиции Луве и Марино и представителей народа Мора, Шабо, Лежандра и Друэ. Шарлотта Корде отвечала на все вопросы с тем достоинством и с той кротостью, которые не изменяли ей ни на минуту во все время процесса. Как казалось, одни только рыдания над телом Марата, долетавшие до нее из соседней комнаты, возбуждали в ней болезненные содрогания. Она хотела нанести удар одному только кровожадному злодею и никак не думала, чтобы подобный тигр мог еще быть любимым.
Когда дело подошло к ночи, Шабо и Друе перевезли ее в фиакре в тюрьму Аббеи, где члены Комитета общественной безопасности несколько раз принимались допрашивать ее, но никак не могли поколебать в ней присутствие духа.
14 числа состоялся декрет Конвента, поручивший Революционному Трибуналу приступить к обсуждению дела об убийце Марата и об ее сообщниках.
16 числа утром Шарлотту Корде перевели в Консьержери, где она окончила свое письмо в Барбару, начатое еще в Аббейи.
Вот это письмо:
«Гражданину Барбару, члену Национального Конвента, бежавшему в Казну; на улице Карме, гостиница Интенданс.
Тюрьма Аббен, бывшая комната Бриссо, на другой день после первого шага к восстановлению мира во Франции.
Гражданин! Вы изъявили желание узнать все подробности моего путешествия; сообщаю вам их, не опуская ни одного даже самого мелочного обстоятельства.
Я отправилась со славными попутчиками, в которых скоро признала наших свободных членов партии Горы. Все их выходки были настолько же глупы, насколько их личности вообще неприятны. Общество их мне наскучило, и я, предоставив им полную свободу беседовать между собой, уснула. Один из этих господ, вероятно, большой охотник до спящих женщин, после пробуждения моего стал уверять меня, что я по всей вероятности дочь человека, которого отроду не видала, и что ношу фамилию, какой мне никогда не приходилось слышать у кого-нибудь другого. В заключение он стал предлагать мне руку и сердце и собирался тотчас же ехать к моему отцу свататься за меня. Мои попутчики всеми силами домогались узнать мое имя и адрес в Париже. Но я отказалась удовлетворить их любопытство, твердо держась следующего правила, сказанного моим дорогим и безупречным Рейналем: никто не обязан говорить правду своим притеснителям.
Прибыв в Париж, я остановилась на улице Вье-Огюстен, в гостинице Провиданс, и тотчас же отыскала вашего друга Дюперре. Не знаю от кого Комитет общественной безопасности получил сведения о сношениях Дюперре со мною. Вы знаете твердость духа Дюперре; он при допросе сказал всю правду, его показания подтвердилось моим, и против него ничего не могут сказать; но уже твердость духа его составляет преступление. Я ему предлагала бежать и соединиться с вами, потому что он чересчур упрям и настойчив.
Поверите ли вы, что даже Фоше, не знавший о моем существовании, посажен как мой соучастник.
Допрос мой производили Шабо и Лежандр. Шабо смотрит совершенным дураком. Лежандр же стал меня уверять, что он видел меня у себя в этот день утром, а мне никогда и в голову не приходил этот человек. Я не признаю в нем таких больших способностей, с которыми бы он мог быть тираном своей родины, а карать всех и каждого без разбора я вовсе не желала.
Впрочем, здесь очень недовольны тем, что только одну женщину придется принести в жертву тени великого человека. Простите мне, люди, но имя Марата позорит весь род человеческий; Марат был не человек, а дикий зверь, который и в остальной Франции зажег бы междоусобную войну. Теперь же да здравствует мир! Слава Богу, что злодей не был французом по происхождению.
Я думаю, что теперь уже напечатаны последние слова Марата, но мне не верится, чтобы он мог еще их произнести. Но я вам передам предпоследние слова Марата, сказанные им в ту минуту, когда он узнал имена всех вас и имена чиновников Кальводоса, находящихся в Эвре. Думая меня утешить, злодей сказал мне, что через несколько дней он всех вас отправит на гильотину в Париж.
Этими словами его участь была решена. Если департамент вздумает поставить бюст Марата против бюста Сен-Форжо, то эти слова можно будет изобразить тут золотыми буквами.
Я не сообщаю вам никаких подробностей о совершившемся великом событии; вы узнаете о нем из журналов. Признаюсь вам, что я окончательно решилась на свой подвиг, увидав то мужество, с каким наши волонтеры записывались на службу 7 июля; вы помните, в каком восторге я была в это время. Я тут же дала себе слово заставить Петиона раскаяться в сомнениях, высказанных им относительно искренности моих чувств. Он мне сказал при этом: „Разве бы вам было неприятно, если бы все они не уходили отсюда?“
Наконец я приняла в соображение и то, что столько храбрых людей должны будут идти в Париж за головой одного злодея, и при этом еще их ждет, быть может, неуспех и им придется увлечь за собой на погибель многих добрых граждан. Нет, Марат не заслуживал такой чести; для него достаточно было руки слабой женщины.
Я сознаюсь, что поступила коварно и вероломно, добиваясь случая видеться с Маратом. Выезжая из Каэны, я рассчитывала убить его торжественно, в Национальном собрании, во главе партии Горы. Мне не удалось это.
Здесь, в Париже, не понимают, каким образом женщина, поставленная в невозможность быть чем-нибудь полезной отечеству даже достигая глубокой старости, могла хладнокровно решиться пожертвовать своей жизнью для спасения отечества. Я была готова умереть хоть в минуту самого убийства. Храбрые люди, действительно стоящие выше всяких похвал, предохранили меня от ярости, вполне извинительной для тех несчастных, которые своим несчастьем обязаны мне. Как ни хладнокровна я была в это время, но меня тронули вопли присутствовавших тут женщин. Впрочем, тот, кто спасает свое отечество, не рассчитывает, какой ценой покупается это спасение.
Установится ли хоть теперь мир тотчас же и так, как мне этого хочется? Главный злодей теперь низвергнут во прах. Без этого нам никогда бы не удалось добиться мира. Вот уже два дня как я стала спокойнее. Счастье моего отечества составляет и мое счастье.
Я не сомневаюсь в том, что мой отец не подвергнется преследованиям; он и без того будет сильно огорчен, потеряв меня. В последний раз писала отцу, что, опасаясь междоусобной войны, я удаляюсь в Англию. Я предполагала после смерти Марата сохранять самое строгое инкогнито так, чтобы парижане тщетно добивались узнать, кто я такая. Гражданин! Вас и ваших товарищей я умоляю взять на себя защиту моих родственников, если их вздумают тревожить.
Я в жизни ненавидела только одно существо и мне удавалось проявить твердость своего характера. С теми, кто пожалеет меня, мы еще удивимся на том свете, где мне придется встретить Брута и некоторых других деятелей древности. Современники мало интересуют меня; они все слишком малодушны. Теперь мало истинных патриотов, умеющих умирать за отечество; теперь почти все эгоисты.
Чтобы мне не было скучно, ко мне приставили двух жандармов. Днем мне кажется это довольно сносным, но ночью вовсе нет. Я пробовала жаловаться на непристойность этой меры, но Комитет не счел нужным обратить на это внимание. Я думаю, что эта мера придумана г. Шабо; только в голове капуцина могут родиться такие идеи.
Вскоре меня перевели в Консьержери и господа члены Главного суда обещались отправить к вам мое письмо. Итак, я продолжаю.
Я подвергалась продолжительному допросу: если он опубликован, то я вас прошу достать его себе.
Во время моего ареста при мне был адрес к друзьям мира. Я не могу теперь послать его к вам. Я просила опубликовать этот адрес, но кажется, что эта просьба несбыточна.
Вчера вечером мне пришла в голову мысль подарить на прощание свой портрет департаменту Кальвадос; но Комитет общественной безопасности, к которому я обратилась с просьбой об этом, не удостоил меня ответа; а теперь это уже поздно.
Прошу вас сообщить мое письмо генерал-прокурору, гражданину Бугону, синдику нашего департамента. Я не адресовала этого письма на его имя по многим причинам: я не была уверена, что он в настоящее время находится в Эвре. Кроме того, зная его природную чувствительность, я боялась, чтобы моя смерть не произвела на него чересчур сильного впечатления. Но я его считаю хорошим гражданином и уверена, что надежда на мир утешит его. Я знаю, как он желает мира и надеюсь, что, облегчая путь к достижению этого, я исполняю его желания.
Если кто-нибудь из наших друзей, станет просить вас сообщить ему это письмо, я тоже прошу вас не отказывать в этом.
Мне нужен защитник: это общее правило. Я выбрала себе защитником члена партии Горы, Гюстава Дульсе-Понтекулана. Надеюсь, что он не откажется от этой чести; впрочем, при моей защите почти ничего не придется делать. Я даже думала просить себе в защитники Робеспьера или Шабо.
Я удивляюсь, как народ допустил перевезти меня из Аббеи в Консьержери; это новое доказательство его умеренности. Скажите об этом нашим добрым землякам в Казне; они ведь тоже по временам позволяют себе маленькие волнения, от которых уже не так легко бывает удержать их.
Завтра состоится суд надо мной. Говоря языком римлян, я могу сказать, что вероятно я еще проживу часов до 12 завтрашнего дня.
Я думаю, что здесь должны составить хорошее мнение о мужестве жителей Кальвадоса, убедившись, что даже кальвадосские женщины умеют сохранять присутствие духа. Впрочем, я еще не знаю, как проживу последние минуты моей жизни; конец венчает дело. Мне нечего притворяться равнодушной к своей участи, потому что до сих пор я еще ни разу не почувствовала страха приближающейся смерти. Я постоянно дорожила своей жизнью настолько, насколько могла быть для чего-нибудь полезной.
Надеюсь, что завтра Дюперре и Фоше будут уже свободны. Фоше обвиняют в том, что он будто бы водил меня в Конвент на хоры. С какой стати он мог провести туда женщину? Как депутату ему нечего было делать на хорах, а как духовному лицу, ему не следовало быть с женщиной. Дюперре также не в чем упрекнуть себя.
Марат не попадет в Пантеон, хотя он этого и снова заслуживал… Я вам охотно бы поручила собрать его останки, чтобы отслужить по них панихиду.
Надеюсь, что вы не забудете дела г-жи Форбен. На случай, если вам придется писать к ней, то вот ее адрес: „Александре Форбен, в Мандренс, (через Цюрих в Швейцарию).“ Прошу вас передать ей, что я люблю ее от всей души.
Я написала уже несколько слов к отцу… Ничего не завещаю своим друзьям, и прошу их только поскорей забыть обо мне. Их скорбь обо мне будет только бесчестить мою память. Скажите генералу Вимпфену, что я, облегчая путь к миру, доставила ему более выгоды, чем одно удачное сражение.
Прощайте, гражданин! Поручаю себя воспоминаниям всех друзей мира.
Заключенные в Консьержери вовсе не оскорбляют меня так, как толпа на улицах. Напротив, на их лицах я вижу даже сострадание к себе. Несчастье всегда заставляет сочувствовать страданиям — вот моя последняя мысль.
Корде».Мне не хотелось выпускать ни одной строчки из этого документа. Очевидно, что это не просто откровенное письмо одного друга к другому, не одно только излияние сердца, уже переставшего биться, — нет, это предсмертное завещание Шарлотты Корде. Хотя она адресовала это письмо на имя Барбару, но ясно, что она назначала его для потомства. Эти страницы лучше всяких рассуждений характеризуют истинные убеждения Шарлотты Корде и то соединение простоты с величием, наивной кротости с непоколебимой решимостью, которыми характеризуются все ее действия. Один знаменитый историк, мастерски обрисовавший нам портрет девицы Корде, с сожалением отзывается о том принуждено — веселом настроении духа, в котором она была перед смертью. Мне же кажется, что это настроение должно было быть непременным последствием короткого знакомства Шарлотты Корде с историей. Как осужденные в эпоху Римской Империи она старалась, чтобы предсмертные конвульсии не смяли грациозных складок тоги; ей хотелось, чтобы последний вздох ее отлетел с улыбкой.
17 числа она была введена в Революционный трибунал. Дульсе де Понтекулан не получил письма, в котором Шарлотта Корде просила его взять на ее защиту, и не явился в Трибунал. Поэтому президент перед самым началом заседания поручил Шово-Лагарду быть адвокатом подсудимой.
Журналы партии Горы, посреди расточаемых упреков все-таки дают понять, какое впечатление производила на судей и на зрителей кроткая, но то же время благородно-гордая твердость духа Шарлотты Корде. Шово-Лагард говорит между прочим: «Во время заседания казалось, что все считают судимую за какого-то судью, призвавшего всех исключения к своему верховному суду».
Вот, по словам Шово-Лагарда, некоторые из ответов подсудимой президенту суда Монтане; при этих ответов кажется, что сам великий Корнель говорит устами своей внучки.
Президент суда. — Кто вам внушил такую ненависть к Марату?
Подсудимая. — Мне нечего было занимать ненависти у других; у меня было довольно своей.
Президент. — Но кто-нибудь навел же вас на мысль об убийстве?
Подсудимая. — Плохо исполняется та мысль, которая не выработана самим собою.
Президент. — Что же вы ненавидели в Марате?
Подсудимая. — Его преступления.
Президент. — Что же вы слышали об его преступлениях?
Подсудимая. — Я считаю опустошение Франции делом его рук.
Президент. — То, что вы называете опустошениями Франции, сделано не им одним.
Подсудимая. — Быть может это и правда, но он употреблял все усилия, чтобы разорить нашу страну вконец.
Президент. — На что надеялись вы, решаясь убить Марата?
Подсудимая. — Я надеялась восстановить мир во Франции.
Президент. — Неужели вы думаете, что вы перебили всех Маратов?
Подсудимая. — С одним уже расчеты кончены; с другими, быть может, будет то же самое.
Тут комиссар подал ей кинжал, которым было совершено преступление, и спросил, узнает ли она его. В это мгновение сильное движение проявилось на ее лице; она отвернулась и, отталкивая кинжал рукой, произнесла прерывающимся голосом:
— Да, я узнаю, я узнаю его. Корде застала Марата в ванне и вонзила нож перпендикулярно к горлу Марата. Фукье-Тенвиль заметил при этом подсудимой, что вероятно она нарочно нанесла удар так, чтобы вернее достигнуть цели, потому что при горизонтальном положении ножа удар мог быть не так удачен, и сказал при этом:
— Должно быть, вы довольно опытны в этом преступлении?
Подсудимая. — О, чудовище! Он считает меня убийцей по ремеслу!
«Этот ответ, — говорит Шово-Лагард, — как громовой удар прекратил заседание». При начале заседания Шарлотта Корде заметила молодого человека, пристально вглядывавшегося в нее и рисовавшего с нее портрет, и тотчас же повернулась в его сторону, чтобы дать ему возможность легче уловить черты ее лица. Этот молодой человек был живописец Гауер, служивший в это время офицером в батальоне Кордильеров.
Шово-Лагард в своей импровизированной речи вдохновился Корнелиевским лаконизмом своей клиентки. Он защищал ее так, как ей хотелось быть защищаемой. Мало слов было сказано при этом, но все усилия были приложены к тому, чтобы уничтожить то предубеждение против подсудимой, которое тогда старались возбудить. Шарлотта Корде, более всего опасавшаяся униженных просьб о пощаде ее, была очень благодарна своему защитнику. Когда суд произнес уже свой приговор, присуждавший ее к смертной казни, и президент спросил у нее, не желает ли она сделать какие-либо замечания по этому случаю, то Шарлотта Корде попросила жандармов подвести ее к ее адвокату и сказала ему:
— Благодарю вас, милостивый государь, за то мужество, с которым вы защищали меня. Ваша защита достойна нас обоих. Эти господа (говоря это, она указала на судей) конфисковали мое имущество; но я хочу вам что-нибудь оставить в знак моей признательности. Поэтому прошу вас, примите на себя и заплатите за меня долг, сделанный мною в тюрьме; я надеюсь на ваше великодушие.
Долг этот состоял из тридцати шести ливров, большая часть которых употреблена была на покупку чепчика, для того чтобы явиться в суд в более приличном виде.
В это время уже было около десяти часов вечера.
Подсудимую повезли назад в тюрьму, из которой у нее был один только выход — на место смертной казни. Смотритель тюрьмы Ришар и супруга его ожидали подсудимую у самой лестницы. Девица Корде, давшая слово г-же Ришар завтракать у нее, стала извиняться, сделав намек на близость своей смерти. В это время к ней подошел священник и предложил ей утешение религией; но она кротко отказала ему и промолвила:
— Поблагодарите от меня тех, кто вас прислал сюда; я очень довольна их вниманием, но право я не нуждаюсь в ваших утешениях.
Не прошло десяти минут, как к ней в тюрьму снова вошел Ришар. Он привел с собой живописца, успевшего набросать портрет девицы Корде во время заседания и просившего позволения закончить его теперь. Она приняла его с большой готовностью, и г. Гауер тотчас уселся за работу.
Около полутора часа тянулся сеанс, и все это время девица Корде разговаривала с художником. Разговор их не отличался особенной веселостью, но был совершенно свободен и не натянут. Она рассказывала о своем процессе и говорила о тех последствиях, которые должна вызвать смерть Марата. Как казалось, ее ни мало не беспокоила страшная участь, ожидавшая ее в таком близком будущем.
Г. Гауер окончил свой эскиз, и Шарлотта Корде стала просить сделать с ее портрета копию для ее родителей. Вдруг ей показалось, что она забыла о чем-то; она схватила перо и начала писать письмо.
Это письмо было адресовано на имя Понтекулана и наполнено упреками в малодушии. Шарлотте Корде не было известно, что этот депутат не получил ни ее письма с просьбой о защите, ни сообщения от публичного обвинения.
Не успела она написать двух строк, как за дверью послышался шум. Жандарм, карауливший осужденную, отворил дверь, и девица Корде заметила в полутемном коридоре трех человек; у одного из них был в руках сверток бумаг, а другой принес с собою ножницы и красную рубашку отцеубийц.
Это были приставы уголовного суда и вместе с ними исполнитель.
Прежде уже было упомянуто мною, что Шарль-Генрих Сансон в продолжение довольно значительного периода революционных потрясений ежедневно вел свой журнал, записывая также и личные впечатления, выносимые им после казней. Этот журнал доведен до конца брюмера 1793 года, но о смерти Шарлотты Корде там рассказано очень обстоятельно, даже подробнее, чем в известиях, послуживших нам материалами для описания первых процессов и первых казней революции. Я привожу здесь эти замечания, сохраняя его в первобытном виде и обозначая в примечаниях только те ошибки, которые могли быть сделаны автором; при этом я отнюдь не стану изменять простоты и безыскусственности повествования; значение личности, писавшей эти строки, может заменить недостатки в языке.
«В среду, 17 июля, 1 года единой и нераздельной республики, была казнена гражданка Корде из Каэны, приговоренная к смерти за заговор и за убиение депутата Конвента, патриота Марата.
Итак, в среду 17 числа, в десять часов утра я отправился за приказаниями к гражданину Фукье. Фукье был в заседании и велел мне не уходить и дождаться его. Я вышел и отправился закусить к гражданину Фурнье. Около часа пополудни один гражданин, возвращавшийся из Трибунала, сказал нам, что девица Корде приговорена к смерти. Я взошел опять в здание суда и очутился в комнате для свидетелей в то самое время, когда через эту комнату проходил Фукье с гражданином Монтане. Фукье, как кажется, не заметил меня и быстро удалился в другую комнату вместе с Монтане, упрекавшим его в послаблениях подсудимой. Оба они просидели, запершись в кабинете больше часа времени. Фукье, выходя оттуда, заметил меня и очень сердито спросил: „А ты все еще здесь?“ Я заметил ему, что мною еще не получено никаких приказаний. В это самое время явился гражданин Фабрициус. Копия с приговора была подписана, и мы отправились в Консьержери. Я разговорился с гражданином Ришаром и, беседуя с ним, заметил, что его супруга была очень бледна и как будто вся дрожала. Я спросил у нее, не больна ли она. Она же мне ответила на это: „Подождите немного, быть может, и вам присутствие духа изменит так же, как мне“. Гражданин Ришар после этих слов повел нас в комнату осужденной. Приставы Трибунала Тирасс и Моне вошли первыми, а я остановился у дверей. В комнате осужденной мы застали жандарма и еще какого-то гражданина, только что нарисовавшего портрет подсудимой. Она сидела на стуле и писала какое-то письмо, положив бумагу на переплет книги. Не обращая никакого внимания на приставов, она мне сделала знак подождать немного. Когда она окончила письмо, Тирасс и Моне приступили к чтению приговора, а осужденная все это время складывала написанную бумагу, стараясь придать ей форму письма, и передала ее гражданину Моне с просьбой отдать это письмо гражданину Понтекулан. Потом она отодвинула свой стул на середину комнаты, сняла головной убор, распустила свои длинные и очень красивые волосы светло-каштанового цвета и, обращаясь ко мне, сделала мне знак обрезать их. После казни де ла Барра мне еще не приходилось встречать такого мужества у приговоренных к смерти. Нас было тут около шести или семи человек, по ремеслу своему, не привыкших к излишней чувствительности, но девица Корде казалась спокойнее всех нас, и даже губы у нее не побледнели. Когда волосы ее были обрезаны и упали на пол, часть их она отдала гражданину, рисовавшему с нее портрет, а остальное поручила гражданину Ришару передать его супруге. Я подал ей красную рубашку, и она надела и оправила ее сама, без всякой посторонней помощи. Видя, что я готовлюсь связать ей руки, она спросила, нельзя ли ей надеть перчатки, потому что во время ареста ее так крепко скрутили, что на кистях рук остались ссадины. Я отвечал ей, что она может поступать как ей угодно, но что считаю эту предосторожность лишней и надеюсь связать руки, не причиняя ей никакой боли. Она сказала на это с улыбкой: „Впрочем, перчатки, кажется, у вас не приняты“ и протянула мне руки без перчаток».
«Наконец мы с Шарлоттой Корде уселись в телегу. В телеге этой было поставлено два кресла, и одно из них я предложил занять осужденной, но она отказалась. Я заметил ей, что она делает не очень хорошо, потому что на дне тележки не так чувствительна тряска. Девица Корде улыбнулась в ответ на это, но не сказала ни слова и во время переезда продолжала стоять в телеге, опираясь на перила. Фермен, помещавшийся сзади, на запятках повозки, хотел было занять одно из кресел, но я не допустил этого и поставил кресло перед осужденной, чтобы она могла опереться на него коленом. Шел дождь, и в то время, когда мы доехали до набережной, послышались раскаты грома. Несмотря на это, народ, собравшийся смотреть на наш кортеж, не разбегался по обыкновению. Много криков раздавалось в толпе в то время как мы выезжали; но чем далее мы продвигались вперед, тем реже и реже слышались крики. Только лица, шедшие около самой телеги, продолжали оскорблять осужденную и осыпали ее упреками за убийство Марата. В одном из окон, на улице Сент-Оноре, я заметил депутатов Конвента Робеспьера, Камилла Демулена и Дантона. Робеспьер, как казалось, очень жарко и усердно толковал о чем-то своим товарищам, но их вид, и в особенности Дантона, показывал, что они не слушают его и все их внимание устремлено на осужденную. Я сам поминутно оборачивался к Шарлотте Корде и чем больше я вглядывался, тем более хотелось глядеть на нее. Как ни поразительна была красота осужденной, но не это обстоятельство привлекло мое внимание. Мне казалось невозможным, чтобы осужденная до конца могла сохранить тот невозмутимый, мужественный вид, который она имела. Мне хотелось подметить в ней хоть какой-нибудь след того малодушия, которое я постоянно замечал у других. При этом, не знаю почему, но всякий раз как я оборачивался и вглядывался в нее, невольная дрожь пробегала у меня по телу при взгляде на непоколебимость осужденной. Между тем то, что мне казалось невозможным, случилось на деле, и Шарлотта Корде выдержала все до конца. В продолжение двух часов, которые я пробыл около Шарлотты Корде, мне ни разу не удалось подметить, чтобы промелькнула робость на лице у нее, или чтобы проявилось выражение гнева и негодования. Она ни слова не говорила и не глядела на тех, кто окружал телегу и осыпал ее самыми непристойными выходками, но зато вглядывалась в граждан, стоявших рядами около домов. Услышав ее вздохи, я позволил себе сказать ей: „Неправда ли, что наше путешествие кажется вам чересчур продолжительным?..“ Она ответила мне на это: „Э, нам нечего хлопотать об этом; мы можем быть уверены, что все-таки непременно доедем до места“. В то время, когда мы остановились на площади Революции, я встал и старался закрыть собою от нее гильотину. Но она наклонилась вперед, чтобы лучше видеть орудие казни, и сказала мне: „Меня это очень интересует; ведь я никогда не видела ничего подобного!“ Несмотря на то мне показалось, что излишняя любознательность заставила ее побледнеть, но это было только на одно мгновение, и тотчас же на лице ее снова показался живой и яркий румянец. В то время, когда мы слезали с телеги, я заметил, что несколько незнакомых мне личностей вмешалось в кучку моих помощников. Пока я обращался к жандармам с просьбой очистить место, осужденная быстро взошла вверх по лестнице. Как только она поднялась на платформу, Фермен быстро снял с нее пелеринку, и она сама бросилась на роковую доску, к которой ее тотчас же привязали. В это время я еще не был на своем месте, но мне показалось жестокостью продлить хоть на одну секунду агонию этой мужественной женщины. Я сделал знак Фермену, стоящему у правой перекладины, привести в движение блок. Не успел я еще подняться на эшафот, как уже одна личность, находившаяся среди помощников (как, оказалось, плотник Легро, весь день помогавший устанавливать гильотину) поднял голову казненной и показал ее народу.
Я, человек, привыкший к подобного рода зрелищам, но мне сделалось жутко. Мне показалось, что глаза казненной смотрят на меня, и по-прежнему на них видны и поразительная кротость и непоколебимая твердость духа. Я тотчас же отвернулся. Из ропота, раздававшегося вокруг меня, я узнал, что негодяй, поднявший голову несчастной, ударил ее по лицу, многие уверяли меня, что голова эта даже покраснела при таком посмертном оскорблении. По возвращении домой я убедился, что предсказание госпожи Ришар осуществляется. В ту минуту, когда я садился за стол, жена моя спросила у меня: „Что с тобой? Отчего ты сегодня так бледен?“»
Дед мой впоследствии опровергнул через журналы слухи о том, что человек, нанесший такое отвратительное оскорбление казненной, был одним из его помощников. Революционный трибунал велел посадить под арест плотника Легром и публично сделал ему строгий выговор.
Еще одно последнее заключительное слово. Нашлись лица, желавшие унизить грандиозную личность Шарлотты Корде и старавшиеся объяснить ее поступок другими, более пошлыми побудительными причинами: ее героизм приписывали к жажде мщения, возбужденного любовью; предметом же обожания называли то Барбару, то графа Бельзюнса, погибшего в Каэне в 1790 году, то, наконец, эмигранта Буажюган де Мэнгре. Все эти предположения лишены всякого основания. Шарлотта Корде была выше всей земной грязи и сердцу ее была известна только одна любовь — любовь к отечеству. Она была мученицею за свою страну — она была Жанной д’Арк тогдашней демократии.
Глава VI Кюстин
После появления этой героини на эшафоте, последовали казни более темных личностей; но количество их искупает их качество.
18 июля был казнен Жоэеф Мазелье, бывший офицер королевско-пьемонистского кавалерийского полка; он был обвинен в эмиграции, и Революционный трибунал приговорил его к смерти.
19 — погиб на эшафоте плотник Жан-Пьер Пеллетье, занимавшийся ломкой барок.
20, 24 и 25 были казнены три эмигранта: бывший пехотный офицер, Луи Шарль де Малерб; бывший Вермандуаский офицер Жозеф-Франсуа Кокар, и еще один офицер Франсуа-Шарль Кокеро.
27 числа был казнен еще один изготовитель фальшивых ассигнаций Риш-Томас-Сен-Мартен.
В эту эпоху революционный трибунал подвергся реформе, обещавшей удвоить число жертв эшафота. Чтобы придать более энергии действиям Трибунала, Комитет общественной безопасности предписал разделить Трибунал на два отделения и увеличить число судей до тридцати.
Между 1 и 17 августа в том и другом отделении Революционного трибунала были приговорены к смерти: бывший генерал-лейтенант Эпинальского округа Пьер-Морис Коллине де ла Саль-Сувиль за связи со своими племянниками, эмигрировавшими за границу; Шарль-Жозеф Лекюйе генерал-майор бельгийского кавалерийского полка, обвиненный в сообщничестве с Дюмурье и в том, что по приказанию своего начальника сделал попытку арестовать депутата Беллегарда; бывший дворянин Жан-Баптист Туртье, — за противореволюционные стремления.
Наконец 15 числа подвергся суду Революционного трибунала генерал Кюстин.
В эпоху республиканского энтузиазма никто не хотел верить, что воинам свободной страны можно было наносить поражения без помощи измены. Это глубокое убеждение было совершенно искренне и впоследствии стало причиной побед республики и обусловило ее будущее величие. К сожалению, тогдашние генералы французских армий далеко не разделяли этого убеждения. Большая часть их была из офицеров старого времени, полагавшихся больше всего на дисциплину, на старую тактику, с правильно выровненными батальонами. Эти господа только улыбались при чтении посланий Конвента, предписывавшего им во что бы то ни стало разбить неприятеля. Вследствие таких отношений между правительством и начальниками войск при малейшем отступлении наших войск, в журналах, в клубах, в собраниях округов единодушные обвинялись генералы в измене. С другой стороны, генералы в письмах своих Конвенту объясняли свои неудачи отсутствием дисциплины в войсках, недостатками нужных припасов и вообще дурной организацией армии.
Кюстин, бывший командующий рейнской армией и недавно назначенный командующим северной армией, не счел возможным идти на помощь осужденным валансьенцам до окончания реформ, предпринятых им в армии. За это на него посыпались обвинения, и он был предан суду экстраординарного Революционного трибунала.
Негодование народа было очень сильно, и агитаторы требовали головы генерала Кюстина. Конечно, Кюстин не был совершенно прав, хотя предшествовавшая кампания и окончилась не без славы для него. Маневрируя во фланге прусской армии, сражавшейся с Дюмурье, он успел отнять у неприятеля города Спире, Вормс, Франкенталь, Майнц и Франкфурт. Но в то же время его совершенно справедливо упрекали в неумении пользоваться своими успехами, при помощи которых он мог бы превратить отступление пруссаков в настоящее бегство.
Эти промахи давали только дурное понятие о военных способностях Кюстина, так что совершенно не за что было казнить его. Трибунал был в нерешительности, колебался, и процесс тянулся в продолжение четырнадцати заседаний. Можно было даже предполагать, что Кюстин оправдается. Но генерал этот был одной из личностей, решившихся не подчиняться демагогии. В армии он преследовал за несоблюдение дисциплины и за дух неповиновения, который распространяла партия Марата. Этого рода выходки не могли быть прощены ему. Один из офицеров, некто Дютилье, был вызван для того, чтобы уличать Кюстина, а вместо этого стал защищать своего генерала. Фукье-Тенвиль хотел было запутать этого свидетеля и обвинить его в сообщничестве с его начальником, но Дютелье обнажил свою грудь, покрытую рубцами от ран, и сказал: «Тот, кого вы обвиняете, сто раз рисковал своей жизнью за республику, и вот список его преступлений». Взрыв рукоплесканий последовал за этим ответом, а вечером Гебер уже донес якобинцам, что сам трибунал действует в пользу преступника. «Мне больно, — говорит он, — обвинять учреждение, составлявшее надежду патриотов, заслужившее уже их доверие и вдруг делающееся их врагом. Революционный трибунал почти готов оправдать злодея, за которого, правда, просят самые хорошенькие женщины в Париже, обещая при этом все на свете». После Гебера говорил Робеспьер и также, сожалея о нерешительности Трибунала, между прочим, сказал, что уже одно взятие пушек из города Лиля составляет преступление, заслуживающее смертной казни. Эта выходка верховного жреца революции имела огромное влияние на судей, большая часть которых еще до этого принадлежала к партии Робеспьера. Между тем Кюстин не падал духом. Он очень дельно объяснил весь ход своих военных действий, а защитник его, Тронсон-Дюкурде, ловко защищал все распоряжения его за границей.
Когда обе речи были окончены, присяжные удалились для совещания. Им было предложено три вопроса:
1. Случались ли во время настоящей войны действия и преступные соглашения с неприятелем с целью или облегчить ему доступ во владения республики, или передавать ему во власть города, укрепления и магазины?
2. Действительно ли вследствие этих действий и соглашений города Франкфурт, Майнц, Конде и Валасьен были заняты неприятелем?
3. Виноват ли в вышеупомянутых действиях и соглашениях бывший главнокомандующий рейнской и мозельской армиями, а в последнее время командир северной арденской армии генерал Адам-Филипп Кюстин?
На все три вопроса последовал утвердительный ответ, и Трибунал изрек смертный приговор. В это время присутствие духа как будто изменило Кюстину, и сильное волнение проявилось у него на лице.
Возвратясь в тюрьму, Кюстин написал своему сыну следующее письмо:
«Прощай, сын мой, прощай! Помни обо мне! Я сожалею только о том, что оставляю тебе имя, которое, хотя на время, доверчивые люди станут считать опозоренным изменой отечеству. Если будет возможно, восстанови мое честное имя. Если в твои руки попадется моя переписка, то это не составит тебе большого труда. Живи для бесценной жены своей, которую я обнимаю как дочь в последний раз.
Надеюсь провести хладнокровно и спокойно последний час своей жизни. Прощай, еще раз прощай! Твой отец и друг
Кюстин».Казнь была назначена на другой день, 28 августа, в двенадцать часов дня. Утром в 9 часов Шарль-Генрих Сансон явился в канцелярию Консьержери, в которой Кюстин провел эту ночь. Шарль-Генрих застал Кюстина на коленях за молитвой, и при нем уже был викарий митрополита, аббат Лотренже, которого Кюстин пригласил к себе еще накануне. Аббат сделал знак моему деду подождать немного, и через несколько минут сам генерал растворил дверь, за которой дожидался Шарль-Генрих, и позвал его. Кюстин держал себя мужественно, но по нервным содроганиям его можно было заметить, что он делает усилие над собой с целью не обнаружить упадка сил. Когда ему обстригли волосы, он собрал их и вложил в книгу, которую положил на стол. Потом он попросил позволения надеть свой мундир, ссылаясь на то, что французскому генералу пристало умирать в мундире. Кроме того, он попросил, чтобы ему связали руки только у самого эшафота. Обе эти просьбы были исполнены.
Кюстин пошел к роковой телеге таким скорым шагом, что аббат и исполнитель едва могли последовать за ним.
Аббат уселся рядом с ним в телеге. Когда телега с конвоем показалась на улице, то по обыкновению поднялись страшные крики. Генерал Кюстин побледнел так, как он еще не бледнел до сих пор и проговорил несколько раз: «Неужели это те же самые люди, которые рукоплескали мне за мои победы!» Когда крики усилились, он сказал: «Вот награда за мои услуги!» Вслед за тем сказал какую-то фразу, значение которой нельзя было разобрать.
Аббат Лотренже старался ободрить осужденного, указывая ему как пример на Спасителя, который в последние минуты жизни также подвергался насмешкам толпы. Глаза Кюстина наполнились слезами; он взял молитвенник и начал вполголоса с большим воодушевлением читать молитвы.
Стоицизм Шарлотты Корде избаловал толпу. У всех еще свежо было воспоминание о кротком, но непреклонном стоицизме этой героини, и народ без сомнения ожидал, что генерал французской армии покажет еще большее призрение к смерти. При таком настроении вид бледного, молящегося старца возбудил негодование толпы. Оскорбительные выходки и крики усилились. Время от времени Кюстин отводил глаза от книги и бросал грустный взгляд на народ; страдания осужденного видимо усиливались.
Когда телега остановилась у эшафота. Кюстин круто отвернулся в другую сторону, чтобы не видеть орудие казни. Черты лица его до того исказились, что дед мой стал побаиваться, как бы осужденный не ослабел окончательно. У аббата мелькнула та же мысль и он, нагнувшись к уху Кюстина, сказал ему по-немецки: «Генерал, вам теперь предстоит смерть, которой вы так часто пренебрегали на поле битвы, хотя в то время и не были так готовы предстать пред Господом Богом». Кюстин покачал головой, как будто желая отогнать от себя тяжелую мысль, потом, пожав руку своего духовника, отвечал ему: «Да, вы правы, но мне все-таки жаль, что меня не доконала прусская пуля!» Сказав это, он несколько раз взглянул на лезвие гильотины, ярко блестевшее при свете полуденного солнца. Потом он сам протянул свои руки помощникам исполнителя, которые и связали их. Как последней милости просил он, чтобы во время казни у него оставлен был молитвенник со вложенными в него волосами, и чтобы потом эту книгу передали его духовнику для передачи сыну. Затем твердыми шагами он стал подниматься по ступенькам, которые вели на платформу, и без всякого сопротивления дал привязать себя к роковой доске. После этого он жил уже не более одной секунды.
Быть может, еще можно упрекать Кюстина в неспособности быть хорошим главнокомандующим, но нет никакой возможности отрицать в нем главную добродетель воина — храбрость. Храбрость Кюстина вошла даже в пословицу армии. А между прочим, мы далеко не замечаем в нем присутствие духа, с которым умирали простые граждане, по своему званию и положению никогда даже не думавшие о насильственной смерти, и с которым шли на эшафот даже женщины. Это явление, первым примером которого был Мячинский, ясно доказывает, что есть страшная разница между тем экстазом храбрости, с которым производятся чудеса храбрости, и тем несокрушимым присутствием духа, которое не изменяется даже в виду самой позорной смерти. Из этого обстоятельства видно, насколько самоотвержение гражданина выше всякого рода другой храбрости.
Важное значение процесса Кюстина заставило забыть на время о другом процессе, совершившемся 17 числа во втором отделении Трибунала. Это был процесс над двадцатью одним руанским жителями, обвиненными в том, что они хотели разжечь междоусобную войну, осмелились носить белую кокарду и срубили дерево свободы.
Это дело было проведено очень скоро, и 5 и 6 сентября уже были приговорены к смерти и казнены руанские жители.
7 числа погиб на эшафоте бывший поручик пехоты эмигрант Жак-Клеман Тондюти де Лабальмондьер.
10 числа казнен купеческий приказчик Жан-Баптист Губе, убеждавший своих родственников не исполнять реквизиции, назначенной республикой.
11 числа был казнен один из жителей Анжера, пристав Леон-Шарль Бен. Он был обвинен в том, что во время взятия Анжера вандейской армией держал у себя в доме Кателино и, кроме того, как говорят, носил белую кокарду. Депутаты Конвента, командированные в те места, арестовали и отправили его в Париж на суд Трибунала, приговорившего его к смерти.
16 вандемьера — день весьма замечательный в летописях описываемого мною времени. До сих пор Республика карала только своих противников, а теперь она подняла руку на саму себя и стала преследовать даже тех лиц, которые содействовали ее основанию. Депутат и журналист Горса, имя которого читатели, вероятно, не забыли еще со времени процесса моего деда, был первым членом Конвента, взошедшим на эшафот. Он открыл собою дорогу, по которой скоро отправилось много его знаменитых товарищей. Горса каким-то образом избегал ареста по декрету 2 июня, направленному против него и его друзей, жирондистов. Петион, Барбару, Луве и многие другие бежали в провинции с тем, чтобы возмутить их против самовластия столицы. Горса отказался следовать за ними. Как горячий публицист и энергичный писатель он чувствовал, что вся его сила в Париже, что только тут, при более благоприятных обстоятельствах, он может быть вполне полезен своему делу. Но декрет 28 июля, придравшись к самым мелочным обстоятельствам, объявил Горса и его товарищей вне закона. Очевидность опасности все-таки не побудила Горса к бегству. В продолжение трех месяцев он вел скитальческую жизнь, переходя из одного убежища в другое,
В это время он был влюблен в одну даму, имевшую книжную торговлю. Эта любовь, вероятно, не осталась без влияния на решимость Горсы не уезжать из Парижа. Горса был арестован у этой самой дамы. Революционный трибунал, куда его представили, ограничился одним удостоверением в его личности, и Горса, ни на минуту не потеряв присутствия духа, из Трибунала отправился прямо на эшафот.
Увидев в числе своих жертв бывшего своего неприятеля, дед мой не хотел показываться и участвовать в этой кровавой драме; но Горса, заметив его около эшафота, закричал ему громким и каким-то лихорадочным голосом:
— Что же ты прячешься, гражданин Сансон? Поди сюда, наслаждайся своим триумфом! Мы хотели было ниспровергнуть монархию, а вместо того основали царство для тебя.
Дед мой молча поник головой; по его мнению, этакого рода царство составляло страшное бремя.
Но прекратим на время этот грустный некролог. Мрачное событие 21 января поджидало другого подобного дня. 25 вандемьера было таким роковым днем. В этот день позорная смертная казнь снова соединила чету, встретившуюся в первый раз в самом блестящем положении, когда, по словам поэта, соединились Любовь с могуществом, величием короны; итак я объявляю публике, что на нашу кровавую сцену выходит новое действующее лицо — королева.
Глава VII Королева
Даже при самом большом сочувствии революции, при энтузиазме нет никакой возможности смотреть хладнокровно, без смущения на судьбу и страдания бывшей французской королевы. В какой-то год эта несчастная женщина лишилась короны и свободы; секира палача сделала ее преждевременной вдовой; а варварство Городского совета почти довело эту несчастную мать до необходимости просить судьбу, чтобы она избавила от страданий ее детей, хотя бы тем путем, каким избавился ее муж и какой в настоящее время предстоял ей самой, — то есть путем смерти. Все басни и легенды о страданиях героев древности беднеют перед теми мучениями, которые испытала несчастная Мария-Антуанетта. Когда в эпоху моей молодости мне случилось ходить вместе с отцом своим в то грозное логовище, которое зовут у нас тюрьмой Консьержери, то всякий раз, проходя мимо здания, я чувствовал, что сердце мое болезненно сжималось, и невольный трепет пробегал по всему телу. С ужасом поглядывал я всякий раз на черную, заржавленную дверь, за которой несчастная королева вынуждена была перенести так много в какие-нибудь два месяца, когда ей нельзя было без содрогания вспомнить о только что проведенном дне и быть уверенной в своей безопасности на завтра. Здесь у нее не было даже последнего утешения — спокойного уединения. Нередко мне казалось, что двери мрачной темницы поворачиваются на своих заржавленных петлях, и за дверями рисуется в темноте величественная фигура мученицы-королевы так, что можно разглядеть даже ее седые волосы. При этом дрожь пробегала по всему телу, ноги начинали подкашиваться и я, прибавляя шагу, спешил догнать отца и поскорее удалиться от этого проклятого места.
После казни Людовика XVI, как казалось, совсем было позабыли о находившихся в Тампле царственных пленниках революции. Но ненависть парижской черни к Людовику XVI имела более политический характер; его ненавидели не столько как человека, сколько как короля. Что же касается Марии Антуанетты, то ненависть к ней имела и политический и личный характер. В числе врагов королевы находились не одни только чистые революционеры, желавшие во чтобы то ни стало ниспровергнуть монархическую власть, тут были также многие из бывших придворных королевы, и даже некоторые из членов ее семейства. Как те, так и другие ненавидели королеву за независимый образ мыслей, изящество вкуса и пристрастие к развлечениям, плохо мирившимся с придворным этикетом. В глазах ненавистников королевы даже сама красота ее и стройность стана составляли уже преступление. Искажая значение высказываемых ею мыслей, истолковывая в дурную сторону каждый шаг ее, врагам королевы удалось, наконец, выставить ее самой отвратительной женщиной, какая только может существовать. Как королеву ее судили с не меньшей строгостью. Поклонники революции, должно быть, предчувствовали, что в королеве встретят они больше энергии и силы воли, чем у бесхарактерного Людовика XVI. Они понимали, что если их планы и встречали какое-либо противодействие, то это противодействие было делом рук одной Марии-Антуанетты, и поэтому выставляли ее самой яростной противницей той свободы, которую в это время все добивались с таким замиранием сердца. Враги королевы величали ее вампиром Франции и обвиняли за связи с заграничными заговорщиками.
Ненадолго семейство Людовика XVI перестало привлекать к себе особенное внимание. Революцию в деле преследования еще можно иногда упрекнуть в рассеянности, но ни в коем случае нельзя сказать, что она была беспамятна в делах подобного рода. Несколько раз уже имя королевы раздавалось с трибуны Конвента для объяснения неудач всякого рода. Впрочем, большая часть членов Конвента смотрела на эти выходки больше как на оружие против своих противников, депутатов правой стороны, чем как на искренне-кровожадное намерение погубить Марию-Антуанетту. Но с другой стороны партия, во главе которой стояли Ронсен, Венсан, Леклер, Варле и другие, партия, получившая отвратительную известность, одним из своих порождений Маратом, со страшными воплями требовала суда над вдовой Капет.
10 августа Конвент издал декрет, предававший Марию-Антуанетту суду Революционного трибунала.
2 августа, в два часа пополудни, этот декрет был объявлен королеве. Она выслушала чтение декрета без особенного волнения, связала в узел свои платья, обняла дочь (дофина отняли у нее еще 3 июля), поручила своих детей принцессе Елизавете и твердыми шагами отправилась вслед за муниципальными чиновниками. Входя в калитку, она забыла опустить голову, и так сильно расшиблась, что кровь потекла у нее из раны. Один из чиновников, Мишони, обратился к ней с вопросом, не больно ли она ушиблась, но королева ответила на это: «Нет, теперь мне ничто не больно…»
Ришар и его супруга, на которых Шарлотта Корде произвела такое сильное впечатление, в это время еще занимали свои должности в Консьержери. Они встретили королеву с тем уважением и сочувствием, какого вполне заслуживала эта несчастная женщина. Первую ночь королева провела в комнате смотрителя; на другой же день, с согласия Фукье-Тенвиля и под предлогом той страшной ответственности, которая падает на тюремщика при содержании в тюрьме такой важной особы, Ришар отвел королеве так называемую «комнату для совещаний». При прежнем правительстве эта комната была назначена для объяснений между чиновниками и заключенными и потому была несколько просторнее и не так душна, как другие комнаты тюрьмы, хотя и имела тот же мрачный вид, которым вообще отличается Консьержери. Комната королевы находилась в конце коридора, ведущего в часовню тюрьмы; изодранные и изгрызанные крысами обои висели лохмотьями на стенах; пол был кое-как сложен из кирпича. В комнату вели две двери, напротив которых находились два окна, заделанные толстой и частой железной решеткой и закрытые сплошной стеной противоположного здания, так что в комнате все-таки было довольно душно, и освещение было скудно. Одна из дверей комнаты была заложена, и так как по приказанию Фукье-Тенвиля два жандарма должны были караулить Марию-Антуанетту день и ночь, то всю комнату пришлось разгородить надвое небольшой перегородкой, посредине которой находился проход, заставленный ширмами. Таким образом из одной комнаты были сделаны почти две; в первой из них помещались жандармы, а во второй Мария-Антуанетта, кровать которой была поставлена возле самой заложенной двери.
Между тем следствие затянулось. Чем больше рассматривали обвинение, возводимое на королеву, тем меньше оказывалось следов тех преступлений, в которых сначала так твердо были убеждены: Фукье-Тенвиль совершенно растерялся, и обвинительный акт, который ему нужно было составить, принимал в его глазах размеры нерешимой задачи.
Между тем несколько горячих людей решились было спасти королеву, но, к сожалению, при существовавшем тогда терроре они были разъединены друг с другом. В эти ужасные дни легко было даже двум самым преданным королеве лицам встречаться друг с другом и все-таки бояться поделиться своими убеждениями.
Один из преданнейших слуг павшего королевского трона, кавалер Ружвиль, при помощи чиновника Мишони пробрался в тюрьму Марии-Антуанетты, и в небольшом разрезе, сделанном на борту сюртука, пронес королеве маленькую записку, в которой предлагал свои услуги. Королева, убежденная в том, что этот храбрый молодой человек не получит возможности еще раз повидаться с ней и не желая жертвовать этой личностью для спасения своей жизни, которой она так мало дорожила, решилась письменно отказать Ружвилю и стала накалывать булавкой свой ответ на его записке. В это самое время один из жандармов, карауливших Марию-Антуанетту, неожиданно вошел к ней в комнату и отнял записку. Тотчас же после доноса жандарма члены Комитета общественной безопасности сделали строгий допрос Марии-Антуанетте. Вслед за тем Ришар, его жена, Фонтень и чиновник Мишони были арестованы. Женщина, до сих пор прислуживавшая Марии-Антуанетте, была отнята у нее, и королеву перевели в другую комнату, где надзор стал еще строже.
Это обстоятельство дало удобный случай увеличить обвинения, уже пополнившиеся некоторыми документами, извлеченными Комитетом общественной безопасности из бумаг, найденных в Тюльери.
22 ваденьера Фукье-Тенвиль предъявил свой обвинительный акт. Погрешности против здравого смысла, ясности изложения и сам язык в этом странном документе ясно указывают на то затруднительное положение, в котором находился публичный обвинитель. Вот, между прочим, некоторые места из того, что сказано было в этом достойном сожаления документе:
«Антуан-Кантен Фукье, публичный обвинитель экстраординарного уголовного суда, и проч., имеет честь изложить следующее:
Декретом Конвента от 1 августа Мария-Антуанетта, вдова Людовика Капета, была предана суду Революционного трибунала по подозрению в заговоре против Франции. Вторым декретом того же Конвента от 3-го октября Трибуналу поручалось приступить к суду немедленно и не прерывать обсуждения этого дела. Публичный обвинитель получил документы по делу вдовы Капет 19 и 20 числа первого месяца второго года или по прежнему счету 11 и 12 сего октября. Тотчас же после этого приступлено было к допросу вдовы Капет через посредство одного из судей Трибунала.
По рассмотрении всех документов публичным обвинителем оказывается, что такие явления как Брунегильда, Фредегонда и Медичи, которых Франция когда-то звала королевами, и имена которых возбуждают всеобщее отвращение, не исчезли еще окончательно из истории. Мария-Антуанетта, вдова Людовика Капета, со времени прибытия своего во Францию были бичом и кровопийцей нашего отечества и перед началом революции находилась в сношениях с человеком, носящим титул короля Богемского и Венгерского; сношения эти, как оказывается, были направлены против интересов Франции. Кроме того, она вместе с братьями Людовика Капета и бесчестным, гнусным Калоннем, бывшим тогда министром финансов, немилосердно растрачивала финансы Франции (плоды народных трудов в поте лица), для содержания агентов преступных интриг. Доказано, что она в разное время пересылала императору миллионы денег, употребленных и до сих пор еще употребляемых на поддержание войны против нашей Республики. Благодаря этим необычайным издержкам национальное казначейство так бедно в настоящее время деньгами.
Во время и после революции вдова Капет ни на минуту не прекращала своих преступных и вредных сношений и корреспонденции с иностранными державами; внутри же Франции она лично и через своих агентов и поверенных старалась подкупать граждан при помощи бывшего своего казначея. Кроме того, в разное время она употребляла всевозможные меры, чтобы исполнить свои коварные намерения и возбудить контрреволюцию. Так, ссылаясь на необходимость примирить друг с другом отряд бывших телохранителей короля и офицеров и солдат Фландрского полка, она устроила 1 октября 1786 года обед для этих войск; этот обед, по желанию ее, скоро превратился в оргию и… Мало-помалу она довела присутствующих даже до того, что они надели белые кокарды и побросали на пол национальные…
Сверх того Мария-Антуанетта вместе с Людовиком Капетом приказывала печатать и распространять по всей Французской республике разные контрреволюционные сочинения. Мало того, вдова Капет при помощи своих агентов повела дела так, что благодаря ей в Париже и в окрестностях его начался голод, вследствие которого 5 октября множество граждан и гражданок отправилось в Версаль. Неопровержимым доказательством участия подсудимой в этом общественной беде служит то, что на другой же день по возвращении вдовы Капет с семейством в Париж у нас снова явилось изобилие в съестных припасах…
У вдовы Капет, по возвращении ее из Варення, снова начались сходки негодяев, и она сама председательствовала на этих сходках. Вместе со своим Фаворитом (!!!) Лафайетом она распорядилась запереть Тюльери и таким образом отнять у граждан возможность свободно ходить по Тюльерийским дворам и входить в бывший Тюльерийский дворец…
На этих же сходках было решено ужасное избиение самых ревностных патриотов, находившихся на Марсовом поле 17 июля 1791 года…
Вдова Капет содействовала назначению самых злонамеренных министров и раздавала места на военной и гражданской службе лицам, известным как заговорщики против свободы…
Вдова Капет вместе с партией врагов свободы, господствовавших в Национальном собрании и некоторое время в Конвенте, возбудила войну Франции с братом подсудимой, королем баварским и венгерским. Благодаря проискам злонамеренным для Франции интригам вдовы Капет, наши войска вынуждены были начать свое первое отступление из Бельгии…
Вдова Капет вместе со своими коварными агентами задумала и составила ужасный заговор, разразившийся 10 августа и подавленный только благодаря мужеству и невероятным усилиям патриотов…
Вдова Капет, по всей вероятности, опасаясь, что заговор не будет иметь того успеха, на который она рассчитывала, отправилась 7 августа около 9 часов вечера в ту комнату, где швейцары и другие преданные лица занимались изготовлением патронов. Здесь, желая ускорить приготовление этих патронов и в то же время поднять настроение у своих приверженцев, она сама помогала делать патроны и отливала пули (не достает даже выражений, чтобы передать всю кровожадность этого жестокого поступка)…
На основании всего вышеизложенного публичный обвинитель составил этот обвинительный акт против вдовы Капет, Марии-Антуанетты, называющей себя Лотарингско-Австрийской и снова объявляет, что выше поименованная вдова Капет с умыслом и со злыми намерениями:
1. Беспощадно расточала вместе с братьями Людовика Капета и бывшим министром Калоннем финансы Франции, переслала огромные суммы к императору и таким образом истощила государственную казну.
2. При помощи противников революции, своих агентов, поддерживала связь и переписку с врагами республики, и сообщала или приказывала сообщать нашим неприятелям планы кампаний и диспозиции атак, предложенных здесь в Совете.
3. Как сама, так и при помощи агентов, посредством разных интриг и козней составляла заговоры против внутренней и внешней безопасности Франции. Таким образом, она возбудила междоусобную войну в разных местах республики, вооружила одних граждан против других и была причиной кровопролитий, стоивших жизни огромному числу граждан. Все это противно смыслу 4 статьи 1-го отдела 1-й главы II-й части Уголовного свода и 11 статьи XI-го отдела 1-й главы того же свода.
Вследствие того, и так далее… Подписано: Фукье».
Акт публичного обвинителя был скреплен подписями судей Революционного трибунала. Здесь подписались:
Арман-Мартен-Жозеф Герман, Этьень Фуко, Габриэль-Туссен Селье, Пьер-Андре Коффингаль, Габриэль Дельеж, Пьер Луи Рагмер, Антуан-Мари Мер, Франсуа-Жозеф Денизо и Этьен Масон.
Глава VIII Суд
Один дворянин, как мы уже знаем, сделал попытку спасти королеву; теперь же два адвоката, Шово-Лагард и Тронкон-Дюкудре, добивались чести явиться защитниками королевы в суде. Правда, честь эта была сопряжена с большой опасностью, но зато история запомнила имена этих двух достойных уважения адвокатов рядом с несчастной королевы.
13 октября (22 вандемьера), Марии-Антуанетте было дано знать, что на другой день ей нужно будет явиться в суд.
Декрет 1 августа, предавая суду Революционного трибунала Марию-Антуанетту, в то же время предписывал ограничить расходы семейства Капетов предметами первой необходимости. Городской совет, опираясь на этот декрет, при своей скупости начал отказывать Капетам даже в самом необходимом. Траурный костюм, позволенный королеве, совершенно износился. Вид королевы в лохмотьях легко мог бы тронуть и возбудить сострадание у всякого, но Мария-Антуанетта считала недостойным себя пользоваться таким средством для возбуждения сострадания у своих врагов и негодования у людей, расположенных к ней. Поэтому ночью она усердно трудилась над починкой и перешиванием своего черного платья.
На другой день в десять часов королеву потребовали в суд. Она отправилась туда сопровождаемая жандармами от самых дверей тюрьмы до здания суда, в которое ее ввел жандармский офицер.
Королева шла медленно, с тем торжественным величием, которое осталось у нее в привычке еще со времени торжественных выходов во дворце. Голова ее была поднята вверх и во всей осанке проглядывало сознание собственного достоинства. На лице ее не заметно было ни смущения, ни желания показать свое присутствие духа перед судьями. Она была совершенно спокойна, хладнокровна и почти равнодушна ко всему окружающему. Поседевшие волосы, глубокие морщины на лбу и морщины у складок нижней губы, покрасневшие глаза, и временами почти апатичный взгляд, — все это ясно говорило о тех нравственных потрясениях, которые перенесла несчастная королева; но, глядя на ее спокойное лицо, можно было подумать, что оно приобрело неподвижность мрамора, и что жизнь уже оставила тело этой мученицы.
Она села в кресло напротив своих судей; по обеим сторонам ее поместились адвокаты Тронсон-Дюкудре и Шаво-Лагард.
Состав суда был следующий: президентом был Герман; судьями — Коффингаль, Мер, и Дуже-Вертель; публичным обвинителем Фукье-Тенвиль и секретарем Фабриций Пари.
Присяжными были назначены Антонель, Реноден, Субербьель, Фьеве, Бенар, Тумен, Кретьен, Ганнеси, Треншар, Никола, Люмьер, Дебуассо, Барон, Самбар и Девез.
Герман обратился к подсудимой с обыкновенными, принятыми в этих случаях вопросами:
— Как вас зовут?
— Мария-Антуанетта Лотарингско-Австрийская.
— Ваше звание?
— Вдова Людовика, бывшего короля Франции.
— Сколько вам лет?
— Тридцать семь.
По прочтении обвинительного акта приступили к допросу свидетелей. Первым был опрошен Лекуантр, депутат Конвента. Он изложил обстоятельства, сопровождавшие прибытие Фландрского полка в Версаль и банкет, данный этому полку и отряду телохранителей, а также события 5 и 6 октября.
Жан-Баптист Ланьер, адъютант временного командира четвертой дивизии, сообщил подробности о событиях в Тюльери в ночь с 20 на 21 июня 1791 года, то есть во время выезда из Версаля.
Канонир Руссильон показал, что он 10 августа 1791 года попал в комнаты подсудимой через несколько часов после удаления ее оттуда и нашел под кроватью несколько бутылок: часть с вином, часть уже пустых. Основываясь на этом, можно предположить, что подсудимая, вероятно, угощала вином или офицеров швейцарской гвардии, или своих вооруженных приверженцев, наполнявших в это время дворец. После небольшого отступления по поводу убийств в Нанси и на Марсовом поле свидетель сообщил некоторые сведения о том, что подсудимая пересылала огромные суммы денег к императору. Сведения эти, по словам свидетеля, получены им от одной безукоризненной гражданки и ревностной патриотки, служившей при прежнем правительстве в Версале; сама же гражданка эта, по собственному ее признанию, получила все эти сведения от какого-то господина, пользовавшегося особенным расположением и доверием бывшего двора.
После показаний каждого из свидетелей, президент обратился к подсудимой с целым рядом вопросов, на которые она отвечала с большим присутствием духа и очень находчиво.
Вслед за тем вызван был следующий свидетель Гебер; его показания сполна дошли до нас и навсегда останутся образцом самой чудовищной нелепости и самого наглого цинизма.
Вот эти показания в том виде, в каком они были помещены в «Монитере».
«Жак-Рене Гебер, помощник прокурора Городского совета, объявляет, что он, в звании члена Городского совета 10 августа при исполнении своих служебных обязанностей имел неоднократно случай убедиться в составлении заговоров Мариею-Антуанеттою. Так, например, однажды в Тампле он нашел какую-то богослужебную книгу, принадлежавшую подсудимой, а в книгу эту была вложена эмблема контрреволюционных стремлений, состоящая из пылающего сердца, пронзенного стрелой и надписи: „Господи Иисусе Христе, помилуй нас“.
В другой раз, войдя в комнату Елизаветы, он нашел там шапку, в которой узнал шапку Луи Капета. Это открытие убедило его, что в среде его товарищей находятся лица, унизившиеся до того, что решились служить семейству тирана. При этом он вспомнил, что Туган вошел однажды в тюрьму в шапке, а воротился без нее, ссылаясь на то, что он потерял где-то свою шапку.
Потом как-то Симон уведомил, что ему необходимо сообщить очень важное дело Геберу. Гебер отправился в Тампль вместе с мэром и генерал-прокурором совета. В Тампле молодой Капет сообщил им, что во время бегства Луи Капета в Вареннь более всего содействовали этому Лафайет и Байльи. С этой целью оба они провели ночь во дворце. После, во время пребывания семейства Капетов в Тампле, заключенные в течение долгого времени продолжали получать сведения обо всем, что происходило в это время. Письма к ним были переданы потихоньку, в платье и в обуви, предназначавшихся для Капетов.
Капет-сын назвал тринадцать лиц, содействовавших поддержанию этой корреспонденции. Между прочим, молодой Капет говорит, что один из этих злоумышленников запер однажды его с сестрой в отдельную комнату, откуда Капет расслышал следующие слова: „Я вам доставлю средство знать обо всем, что делается; я каждый день буду посылать к вашей башне разносчика журналов, который прокричит вам, что нужно“.
В наглой клевете обвинитель дошел до того, что показывал, будто бы мать развращала своего сына возбуждением в нем сладострастия и даже будто бы имела с ним непозволительную связь.
Мы не решимся приводить здесь все грязные выходки Гебера, высказанные громким голосом среди гробового молчания присутствующих. Когда Гебер перестал говорить, все находившиеся в зале суда невольно содрогнулись от ужаса. Как не велика была у всех присутствовавших ненависть к Марии-Антуанетте, но и эта ненависть ослабела, и все невольно были возмущены показаниями этого негодяя; ненависть сменилась сожалением. На Марию-Антуанетту эти оскорбления, как казалось, не производили никакого впечатления. Она хладнокровно выслушивала их и даже не удостаивала взглядом человека, произносившего все это.
Президент приступил к допросу подсудимой.
Президент. — Что же вы скажете в ответ на показания свидетеля.
Подсудимая. — Я даже не знаю ничего из того, что говорил Гебер; мне известно только, что рисунок сердца, пронзенного стрелой, был подарен моему сыну его сестрой, а шапка, о которой говорил Гебер, была подарена моей сестре мужем моим еще при жизни.
Президент. — Когда чиновники полиции Мишони, Жобер, Марино и Мишель приходили к вам, то не приводили ли они кого-нибудь с собой?
Подсудимая. — Да, они никогда не приходили одни.
Президент. — По скольку лиц обыкновенно приводили они с собой?
Подсудимая. — Случалось, по три, по четыре.
Президент. — Не были ли эти лица сами чиновниками полиции?
Подсудимая. — Не знаю.
Президент. — Когда Мишони и другие чиновники входили к вам, были ли надеты на них форменные шарфы?
Подсудимая. — Я не помню.
Гражданин Гебер заметил при этом, что во время его показания у него ускользнул из памяти очень важный факт, который необходимо довести до сведения г.г. присяжных. Вслед за тем Гебер показал, что Мария-Антуанетта и сестра бывшего короля Луи-Капета относились к молодому Капету как к королю. Так, например, за столом молодой Капет занимал первое место, выше матери и тетки; ему первому подавали кушанье и вообще окружали почетом.
Президент подсудимой.
— Правда ли, что вы задрожали от радости, увидев в своей комнате Мишони вместе с незнакомцем, принесшим известную вам записку?
Подсудимая. — Проведя тринадцать месяцев в заключении, без всяких связей с кем-нибудь из своих знакомых, я при появлении подателя этой записки действительно вздрогнула, но вздрогнула от ужаса, сообразив, какой вред может этот человек сделать себе встречами со мной.
Президент — Не была ли эта личность одним из ваших агентов?
Подсудимая. — Нет.
Президент. — Не был ли он в бывшем Тюльерийском дворце во время событий 20 июня?
Подсудимая. — Да.
Президент. — Вероятно, он был с вами также в ночь с 9 на 10 августа.
Подсудимая. — Я не помню, видела ли я его в это время.
Президент. — Не было ли у вас связей с Мишони? Не говорили ли вы ему, что вы боитесь, как бы его опять не выбрали на службу?
Подсудимая. — Да.
Президент — На чем вы основывались, высказывая такие опасения?
Подсудимая. — На том, что Мишони был очень снисходителен к заключенным и ласково обращался с ними.
Президент. — Не сказали ли вы ему в тот же самый день, что, быть может, вы его видите в последний раз?
Подсудимая. — Да.
Президент. — Вследствие чего вы сказали ему это?
Подсудимая. — Вследствие того, что он проявлял большое участие к заключенным.
Один из присяжных. — Гражданин президент, позвольте обратить ваше внимание на то, что подсудимая до сих пор еще ничего не ответила на обвинения гражданина Гебера по поводу отношения подсудимой к ее сыну.
Президент задал этот вопрос.
Подсудимая. — Если я не отвечала на эти обвинения, так это потому, что возводить такие обвинения на мать в высшей степени противоестественно. (При этом подсудимая, как казалось, была сильно взволнована). В этом случае я ссылаюсь на всех присутствующих здесь женщин».
«Монитер» и другие журналы того времени сообщают о негодовании королевы, но они ни слова не говорят о том, что публика вполне сочувствовала этому негодованию.
Когда подсудимой пришлось отвечать на обвинения, для которых она считала не достаточным одного презрительного молчания, то бесстрастное лицо ее вдруг воодушевилось; в ее глазах, потерявших уже способность плакать, показался какой-то необыкновенный блеск, и губы ее судорожно задрожали. При этом она произнесла только несколько слов, но эти слова потрясли всех без исключения, и даже те женщины, которые пришли с единственной целью полюбоваться унижением бывшей своей повелительницы, начали громко плакать.
Президент Герман поспешил вызвать следующих по очереди свидетелей. Это были нотариус Авраам Силли и служащий в министерстве юстиции Жозеф Терассон. Оба они сделали очень неважные показания.
Вслед за тем, в качестве свидетеля, был вызван Пьер Манюэль, бывший член Конвента, а также занимавший перед этим место прокурора в Городском совете. Манюэль как горячий патриот принимал самое деятельное участие во всех событиях в начале революции и особенно в деле 10 августа. Суд над королем заставил его опомниться, и Манюэль отказался от прежних своих убеждений и звания члена Конвента. Он так резко высказывал свое отречение от прежних своих убеждений, что многие стали считать его за сумасшедшего. Против королевы он не высказывал ни одного обвинения и во все время допроса почтительно поглядывал на нее.
После Манюэля был опрошен мэр города Парижа, Жан-Сильван Байльи. Когда этому почтенному старцу пришлось говорить в присутствии той самой женщины, против влияния которой он не раз боролся, то старик мэр смутился и как-то машинально поклонился, вспомнив прежнее величие Марии-Антуанетты.
Затем трибунал взял показания у бывшего офицера и адъютанта графа д’Этен, Жана Баптиста; у одного из версальских слуг, Рейнь-Милло-Франсуа Дюфрень. Магдалина Розе, по мужу г-жа Ришар, Мария Дево, по мужу г-жа Гауель и жандарм Жан-Жильбер также дали показания относительно записки, переданной королеве незнакомцем в Консьержери.
Вице-адмирал граф д’Этень показал, что он знает подсудимую со времени прибытия ее во Францию и что даже имеет некоторые претензии к ней, но при всем том не может показать ничего, что бы подтверждало обвинительный акт. На вопрос о ходе событий 5 и 6 октября он отвечал: «Я слышал, как придворные передавали Марии-Антуанетте, что парижская чернь пришла убить ее, и при этом она с большим присутствием духа ответила следующее: „Если парижане хотят убить меня, то пусть убьют у ног моего мужа, но я не побегу отсюда“».
Антуан Симон, бывший прежде башмачником, а в настоящее время занимавший должность воспитателя Шарля-Луи Капета, сделал весьма неважные показания. Президент даже не решился спросить у Симона о фактах, сообщенных главным свидетелем Гебером. У Марии-Антуанетты было хоть то утешение, что она видела, как сами судьи признают недобросовестность тех обвинений.
Некто Жан-Баптист Лабенет показал, что Мария-Антуаннетта подсылала к нему трех неизвестных ему лиц, с тем, чтобы они убили его. Несмотря на всю важность совершавшегося процесса, это показание вызвало на лицах почти всех присутствовавших невольную улыбку.
Показания, сообщившие некоторые данные для обвинения подсудимой, были сделаны бывшим министром ла Тур дю Пеном и жирондистом Валазе. Первый из них показал, что по требованию королевы он сообщил ей все данные, касающиеся тогдашнего состояния армии; это показание открыло широкий простор для догадок и предположений обвинителей. Валазе подтвердил показания Тиссе и Гарнерена, объявивших, что в числе бумаг, захваченных у Септейля, они видели несколько денежных документов, подписанных королевой и письмо, в котором министр просит короля сообщить Марии-Антуанетте план кампании, представленный им Его величеству. Эти данные, разумеется, дали возможность Фукье предположить, что вышеупомянутый план был сообщен неприятелю.
Мишони сделал следующее показание, за которое, как увидим, он поплатился собственной головой:
«В день Св. Петра я отправился в гости к г. Фонтену, где застал целое общество, в том числе трех или четырех депутатов Конвента. В числе прочих присутствовавших находилась гражданка Тиллейль, пригласившая Фонтена прийти к ней в Вожирар; при этом она сказала: „г. Мишони, по моему мнению, также не будет лишним тут“. Я спросил у нее, откуда она меня знает, и она ответила, что ей приходилось видеть меня в канцелярии мэра, куда она ходила по делам. В назначенный день я отправился в Вожирар и застал там большое общество. После обеда зашел разговор о тюрьмах, говорили о Консьержери и кто-то сказал: „Да ведь там вдова Капет; говорят, она очень изменилась и волосы ее совершенно поседели“. Я ответил на это, что действительно у вдовы Капет волосы начали седеть, но она чувствует себя хорошо. Один из граждан, находившихся тут, изъявил желание видеть заключенную; я обещал удовлетворить ого желание и на другой день исполнил свое обещание. Ришар вскоре после этого сказал мне: „Знаете ли вы ту личность, которую приводили сюда вчера?“ Я отвечал, что не знаю ее, но встречался с ним у одного из своих друзей. „То-то, — продолжал он, — здесь поговаривают, что этот господин прежде был кавалером св. Людовика“. При этих словах Ришар показал мне клочок бумаги, на котором было написано или скорее наколото булавкой несколько слов. На это я ответил Ришару, что клянусь не приводить сюда никого более».
Президент. — Как же это вы, чиновник полиции, вопреки уставу, осмелились ввести к подсудимой незнакомую вам личность? Разве вы не знали, что огромное число приверженцев подсудимой употребляет все средства, чтобы только обмануть бдительность чиновников?
Свидетель. — Этот незнакомец не просил у меня позволения видать вдову Капет; я сам предложил ему это.
Президент. — Сколько раз вы обедали с ним?
Свидетель. — Два раза.
Президент. — Как зовут этого незнакомца?
Свидетель. — Я не знаю.
Президент. — Сколько он вам посулил за доставку возможности видеться с Марией-Антуанеттой?
Свидетель. — Я и не взял бы никакого вознаграждения за это.
Президент. — Пока незнакомец находился в комнате осужденной, не сделал ли он ей какой-нибудь знак?
Свидетель. — Нет.
Президент. — Не виделись ли вы с ним после того?
Свидетель. — После этого я видел его только однажды.
Президент. — Почему вы не приказали тотчас же арестовать его?
Свидетель. — Я сознаюсь, что это тоже промах, сделанный мною.
Когда были опрошены уже все свидетели, то Герман, еще до начала речи публичного обвинителя, спросил у Марии-Антуанетты, не может ли она еще сказать что-нибудь для своей защиты. Королева колебалась с минуту; быть может, у нее мелькнула мысль о том, что такую несчастную жизнь, какую вела она, не стоит даже и отстаивать; но потом, вероятно, вспомнив о своих детях, она стала говорить, и так дельно и энергично опровергая все обвинения, что подорвала значение всех фактов, сообщенных свидетелями. В то же время как королева и жена Людовика XVI она не могла подлежать ответственности за действия короля, даже лично избавленного от всякой ответственности законами конституции.
В начале заседания 25 числа Фукье-Тенвиль прочел вывод из своего обвинительного акта. Адвокаты Шаво-Лагард и Тронсон Дюкудре энергично начали защиту королевы. Первый из них сказал блистательную речь, отличавшуюся самым эффектным красноречием; второй опроверг самым систематическим образом все обвинения, возводимые на королеву. Присутствующие выслушали речи с благоговейным вниманием.
Когда Тронсон-Дюкудре окончил свою речь, жандармы увели Марию-Антуанетту, и беспристрастный Герман начал излагать вкратце обвинения, возводимые на подсудимую; слова его были только самым кратким изложением главной сущности речи Фукье-Тенвиля.
Присяжным было предложено четыре вопроса:
1-й. Существовали ли во Франции происки и сношения с иностранными державами и имели ли эти происки целью помочь неприятелям республики деньгами, доставить им возможность вторгнуться в пределы французской территории и вообще содействовать успеху их оружия?
2-й. Признается ли Мария-Антуанетта Австрийская, вдова Людовика Капета, виновной в участии в этих происках и сношениях с иностранными державами?
3-й. Существовал ли во Франции заговор, с целью разжечь междоусобную войну в пределах республики?
4-й. Признается ли Мария-Антуанетта Австрийская, вдова Людовика Капета, виновной в участии в этом заговоре?
Присяжные после часового совещания возвратились в зал суда и дали утвердительный ответ на все вопросы, предложенные им.
После этого президент обратился к публике со следующей речью:
«Если бы присутствующие здесь граждане не были людьми свободными и вследствие того существами, имеющими чувство собственного достоинства, я, быть может, счел бы своей обязанностью напомнить им, что в ту минуту, когда народное правосудие произносит слова закона, их долг — сохранять самое полное спокойствие. Я бы сказал им, что закон запрещает всякое выражение одобрения публики и что всякая личность, как бы ни были велики ее преступления, с той самой минуты, когда закон налагает на нее руку, должна возбуждать в нас одно только сострадание к своим несчастьям и с нею необходимо обращаться гуманно».
Вслед за тем подсудимую ввели в зал суда, Герман прочел ей решение присяжных, Фукье потребовал, чтобы подсудимая была приговорена к смертной казни, и президент после совещания со своими товарищами произнес следующий приговор:
«Трибунал, вследствие единогласного решения присяжных, основываясь на обвинительном акте публичного обвинителя и принимая в соображение приведенные им статьи закона, присуждает вдову Людовика Капета, Марию-Антуанетту, называющую себя Лотарингско-Австрийской, к смертной казни. Вместе с тем, на основании закона от 10 числа марта месяца, все имущество подсудимой, какое только окажется на всем пространстве французской республики, объявляется конфискованным».
Мы уже видели выше, как Герман убеждал публику не выражать ничего, кроме сочувствия к несчастьям подсудимой, и тем самым доказать, что лица, присутствующие здесь, достойны звания людей свободных. Но толпа, как бы послушна она не была, никогда не умеет притворяться. Ожесточение против королевы было еще так сильно, что толпе невозможно было скрыть его под маской великодушия. Действительно, едва только Мария-Антуанетта стала выходить из зала суда, как раздались самые неистовые рукоплескания.
Несчастная королева за дверями суда, затворившимися за нею, явственно могла слышать радостные восклицания, приветствовавшие близость ее казни. Впрочем, при этом у осужденной не вырвалось ни выражения негодования, ни даже презрительной улыбки.
Возвратясь в тюрьму, Мария-Антуанетта закутала свои ноги в одеяло, не раздеваясь, бросилась на постель и заснула.
Продолжительность прений в суде окончательно истощили ее силы. Действительно, заседания, начинавшиеся в девять часов утра, окончились поздно вечером и, при болезненном состоянии королевы, были настоящей пыткой для нее. В это время и голод, и жажда нередко мучили ее, а между тем общее настроение умов было до того странно, что одному жандармскому офицеру пришлось даже оправдываться в том, что он подал подсудимой стакан воды.
Жандармы, караулившие королеву, не слыша никакого шума в ее комнате, стали беспокоиться; один из них вошел к подсудимой и застал ее спящей крепко и спокойно.
Впрочем, сон этот продолжался никак не более трех четвертей часа. Мария-Антуанетта проснулась и обратилась к одному из своих стражей с просьбой позвать к ней тюремщика Боля. Когда тюремщик пришел, то Мария-Антуанетта спросила у него, можно ли ей писать. Боль отвечал, что Фукье-Тенвиль предвидел уже это желание и приказал ей дать по требованию и бумагу, и чернила. Затем один из жандармов был отправлен за письменными принадлежностями.
Мария-Антуанетта уселась на кровать и начала писать письмо. Эти строки, написанные в последние минуты жизни королевы, были адресованы к принцессе Елизавете, но они не дошли по назначению. Письмо это было передано в Комитет общественной безопасности, и впоследствии Куртуа, при ревизии бумаг триумвирата, нашел это письмо у Кутона. Куртуа, вероятно, считал этот документ весьма интересным, но в то же время не имеющим особенной важности, и вследствие этого оставил его у себя и даже не упомянул об этом письме в своем подробном донесении от 16 нивоза III г.
В 1816 году Куртуа за цареубийство был приговорен к изгнанию и вследствие этого обратился к тогдашнему министру полиции Деказу с просьбой не применять к нему закона об изгнании; в знак признательности за эту милость Куртуа предлагал передать семейству короля очень важный для семейных воспоминаний документ. Г. Деказ считал себя не вправе разрешить эту передачу и приказал сделать обыск в квартире бывшего члена Конвента. Но Куртуа успел предупредить его и передал члену государственного совета Беккеи не только это письмо, но вместе с ним и некоторые другие бумаги, а также пару перчаток и локон волос Марии-Антуанетты. Все эти вещи Куртуа также нашел у Робеспьера и Кутона.
22-го февраля 1816 года это письмо было прочтено г. Ришелье в обеих палатах. Вот текст этого исторического документа, достойного занять место рядом с завещанием Людовика XVI.
«В последний раз в жизни пишу я и пишу к вам, сестра. Меня только что приговорили, не скажу, к позорной казни, — она существует только для преступников, — нет, к тому, чтобы я соединилась с вашим братом.
Я надеюсь умереть с таким же присутствием духа, как и он.
Глубоко сожалею я о том, что мне приходится расстаться с моими детьми; вы знаете, что я жила только для них и для вас.
Вы, при вашей привязанности к нам, пожертвовали всем, чтобы только остаться с нами, а я оставляю вас в таком страшном положении! Во время процесса из защитной речи моего адвоката я узнала, что даже дочь мою разлучили с вами.
Бедное дитя! Я не смею писать к ней; я знаю, что мое письмо не дошло бы до нее; я не уверена даже, что и эти строки дойдут до вас.
Передайте же вы ей мое благословение. Надеюсь, что со временем, когда мои дети будут старше, то получат возможность опять соединиться с вами и спокойно пользоваться вашими ножными попечениями. Пусть оба они помнят внушенную им мною мысль, что все счастье их заключается во взаимной любви и в доверии друг к другу. Пусть дочь моя не забывает, что в ее возрасте на ней лежит уже обязанность помогать своему брату опытностью, которой у нее более, чем у него, и наконец всем, что только может ей внушить ее любовь к нему. Пусть, наконец, они помнят, что в каком бы положении им не пришлось быть, истинное счастье для них возможно только в союзе друг с другом. В этом случае я им советую брать пример с нас.
Наша дружба, даже при наших несчастьях, доставляла нам много утешений; но при счастьи человек делается вдвое довольнее, когда есть возможность поделиться своим счастьем с другом. А где же, как ни в своем семействе, искать нам самого нежного и самого доброго для нас расположения?
Я прошу моего сына никогда не забывать последних слов своего отца, которые я нарочно не раз повторяла ему. Вот эти слова: „Пусть сын мой никогда не будет стараться мстить за мою смерть!“
Я еще должна упомянуть вам об одном обстоятельстве, которое очень тяжело высказать моему сердцу. Я знаю, сколько огорчения доставляет вам этот ребенок. Простите ему, сестра! Примите в соображение его возраст и сознайтесь, что он многого еще вовсе не понимает. Придет время, когда, надеюсь, он сумеет лучше оценить все ваше расположение к нему, всю вашу нежность и попечение относительно их обоих.
Теперь мне остается только передать вам мои последние мысли.
Мне хотелось писать к вам еще в начале моего процесса, но писать было мне запрещено. К тому же процесс велся так быстро, что я почти и не успела бы написать вам.
Я умираю верной дочерью католической, апостольской и римской церкви; я умираю, исповедуя веру отцов моих, в которой я была воспитана и которую исповедовала всю жизнь мою. Перед смертью я не смею и надеяться на утешение религии; я даже не знаю, существуют ли еще священники нашей религии и могут ли они входить в то место, где я нахожусь, не подвергая себя большой опасности.
Усердно молю я Господа Бога простить мне все прегрешения, сделанные мною во всю жизнь мою.
В уповании на милосердие Божье я предаю душу свою благости и милосердию Вседержателя. Всех врагов своих я прощаю за все зло, которое они причинили мне. Со своей стороны я прошу прощения у всех, кого я знаю и особенно у вас, сестра моя, за все огорчения, которые я могла причинить неумышленно. Прощаюсь заочно со своими тетками и со всеми моими братьями и сестрами.
У меня были друзья и, умирая, я уношу с собой глубокое сожаление о том, что навсегда разлучаюсь с ними и оставляю их в страданиях. Пусть они узнают, по крайней мере, что я думала о них до последней минуты жизни.
Прощайте же, добрая и дорогая моя сестра! Ах, если бы только это письмо дошло до вас!
Не забывайте обо мне! Обнимаю вас от всей души; обнимаю вместе с вами моих бедных, бесценных детей.
Боже мой! Как тяжело мне расставаться с вами навсегда! Прощайте! Прощайте!
Теперь мой долг думать только о своей душе и об исполнении своих христианских обязанностей. Так как я здесь не свободна в своих действиях, то ко мне здесь, быть может, и приведут своего священника. Но я прямо объявляю вам, что не скажу ему ни слова и встречу его как существо совершенно чуждое мне».
Когда письмо было окончено, королева перецеловала все страницы, сложила бумагу и, не запечатывая, передала Болю, дожидавшемуся окончания письма, и просила передать это письмо принцессе Елизавете.
Тюремщик отвечал, что исполнение этой просьбы не зависит от него, потому что он обязан передать письмо Фукье-Тенвилю, который уже берется доставить письмо по назначению.
Королева молчала; она облокотилась на руку, и некоторое время неподвижно оставалась в этом положении.
Она еще не успела изменить своей позы, как Боль сказал ей, что кто-то пришел к ней и желает говорить с нею. Она медленно подняла голову, и, заметив человека, одетого в черное, поднялась с постели.
Боль догадался, что королева в этом посетителе видит личность, присутствие которой предвещает близость казни, поспешил разуверить ее и сказал ей:
— Это гражданин Жирар, священник из Сен-Ландри.
Мария-Антуанетта опустила голову и неявственно проговорила:
— Священник! Да теперь ведь больше уже нет священников.
Тюремщик хотел удалиться, чтобы оставить королеву наедине с аббатом Жираром, но королева, обратившись к нему, сказала повелительным тоном:
— Останьтесь здесь, Боль! Почти тотчас же она стала жаловаться на сильный озноб в ногах. Аббат Жирар посоветовал ей закутаться в одеяло. Мария-Антуанетта исполнила это и поблагодарила за совет.
Ободренный добродушным выражением лица Марии-Антуанетты, аббат Жирар стал умолять ее не отказываться от того духовного утешения, ради которого он пришел сюда. При этом он прибавил, что если Мария-Антуанетта не чувствует расположения к его личности, то в коридоре к ее услугам готов другой священник, аббат Ламбер, генеральный викарий епископа Гебеля.
Несколько мгновений она молча всматривалась в аббата Жирара, очень почтенного на вид старца. Потом она поблагодарила его за усердие и сказала, что ее убеждения не позволяют ей получить отпущение грехов своих через посредство священника, принадлежащего не к ее вероисповеданию. Аббат начал было настаивать и казался сильно взволнованным, но Мария-Антуанетта очень кротко попросила его не настаивать, потому что решимость ее также непоколебима, как и ее вере.
Со слезами на глазах удалился аббат Жирар, и вслед за ним вышел и аббат Ламбер, не вступавший даже в разговор с королевой. После удаления Ришара с женой, уход за Марией-Антуанеттой, а также заботы об ее белье и платье приняла на себя старшая дочь вновь определенного тюремщика. Эта девушка вошла в это время к заключенной и в изнеможении почти упала в кресло, тщетно силясь удержать рвавшиеся у нее рыдания. Один из жандармов обошелся с этой девушкой так грубо, что Боль решился даже вмешаться и остановить его, Королева, мужественно переносившая все оскорбления и упреки в свой адрес, на этот раз была сильно тронута огорчением молодой девушки. С участием стала она утешать ее и чтобы развлечь ее, улыбаясь, заметила между прочим, что ее прислужница не обратила должного внимания на одну очень нужную вещь.
Эта вещь была белое платье, взятое королевой с собой из Тампля и вместе с другим, черным платьем, составлявшее весь гардероб бывшей французской королевы. Марии-Антуанетте хотелось идти на эшафот в этом белом платье, но оно было в таком жалком виде, что королева просила прислуживавшую ей девушку сделать к этому платью новую обшивку.
Когда девица Боль собиралась отправиться за платьем, то Мария-Антуанетта попросила ее захватить с собой ножницы. Исполнение этой просьбы тотчас же встретило затруднение. Жандармы не соглашались позволить осужденной взять острые ножницы, которые в ее руках легко могли стать оружием. Боль стал настаивать на исполнении просьбы королевы, принимая всю ответственность на себя, и наконец удалось добиться того, что дочери Боля позволено было обрезать Марии-Антуанетте волосы в присутствии тюремщика и двух жандармов.
Шарль-Генрих Сансон не оставил нам такого подробного описания последних минут жизни королевы, какое досталось нам от него о смерти короля. Все сообщенные и сообщаемые мною подробности выбраны из кратких заметок, сделанных дедом с целью составить потом более обстоятельное описание этого события, а также из рассказов и воспоминаний об этой грустной эпохе, слышанных мною от отца и бабки.
Дед мой провел всю ночь в здании революционного трибунала. По окончании заседания он отправился к дверям кабинета Фукье-Тенвиля. Когда Фукье узнал о прибытии моего деда, то приказал ввести его к себе. В этой комнате, кроме Тенвиля, находились президент трибунала Герман, судья Реноден, судья и управляющий типографией трибунала Никола и секретарь Фабриций Пари. Фукье-Тенвиль тотчас же обратился к моему деду с вопросом, сделаны ли приготовления к празднику. Шарль-Генрих Сансон ответил на это, что его долг дожидаться решений трибунала, а не предупреждать их. В ответ на это Фукье-Тенвиль стал выговаривать моему деду с обычной своею грубостью и запальчивостью, и между прочим сказал, что как бы Сансону не пришлось пожалеть о том, что он не предупредил решения суда относительно одного очень дурного патриота, хорошо знакомого ему. Секретарь Фабриций также вмешался в разговор и своими пошлыми шутками подкреплял ругательства Фукье-Тенвиля. Разговор принял оборот очень неприятный; чтобы положить ему конец, дед мой стал просить предписания о выдаче ему закрытого экипажа, как это было сделано во время казни короля. Эта просьба окончательно взорвала Фукье-Тенвиля; он сказал деду, что за такое предложение стоит самого Сансона стащить на эшафот, и при этом он наговорил множество самых оскорбительных слов против королевы. Ренаден заметил на это, что прежде чем решать такой важный вопрос, не мешало бы спросить у комитета или, по крайней мере, хотя бы у кого-нибудь из членов. Так как отношения Ренадена и Робеспьера придавали очень большой вес его словам, то Фукье послушался и сам лично хотел отправиться в совет. В время в кабинет вошел Нурри, по прозванию Граммес, бывший актер Монтасьерского театра, и впоследствии ставший генерал-адъютантом революционной армии. Этот Нурри взял на себя решение этого вопроса. Через каких-нибудь три четверти часа он возвратился, успев повидаться с Робеспьером и Колло, которые устранились от этого дела, и ответил, что все эти распоряжения зависят от одного Фукье-Тенвиля. Таким образом, решено было не предоставлять королеве той последней привилегии, которой воспользовался Людовик XVI и везти ее на эшафот в той самой телеге, в которой возят обыкновенных преступников.
Было уже около пяти часов утра, когда дед мой вышел из здания трибунала; по дороге домой он повсюду уже слышал звуки барабанов, призывавших к оружию отряды национальной гвардии.
В доме нашем все крепко спали в то время, когда возвратился Шарль-Генрих. Он на минуту только вошел в свою комнату и все время ходил на цыпочках, чтобы не разбудить свою жену; но она спала очень чутко. Тотчас же встала она с постели и без большого труда прочла на лице своего мужа, какой грустный исход имел процесс королевы.
— Приговор состоялся? Ее осудили? — воскликнула моя бабушка, заливаясь слезами. — И ему, и ей, обоим — одна участь… Боже! Сколько невинной крови на нас и на наших детях!
Дед мой сурово возразил на это.
— Нет, эта кровь не на нас, а на тех, кто заставляет проливать ее. Не нам отвечать за это и перед людьми, и перед Богом. Я настолько же виноват во всех этих преступлениях, насколько виновата скала, оторванная бурей, и давящая при своем падении и дома, и людей.
— Все это одни увертки, Шарль! Кинжал убийцы также не виноват в тех преступлениях, которые совершаются ним; но неужели тебе кажется, несправедливым то отвращение и тот ужас, с которым обыкновенно смотрят у нас на орудие убийства. До сих пор ты был только послушным орудием человеческого правосудия, и имел полное право не обращать внимания на презрение к тебе общества; по воле самого Бога рука твоя карала преступников. Но теперь, сделавшись орудием партии, ослепленной страстями, ты этим самым сделался участником во всех преступлениях этой партии. Ах, Шарль, если бы ты знал, что я перенесла в роковой день… короля. В то время носились слухи о заговоре, говорили, что роялисты отнимут короля у палачей и спасут его. И ты, и сын наш были в опасности… При малейшем шуме на улице я бросалась к окошку. Мне все казалось, что вас сейчас же принесут обезображенными, окровавленными и быть может мертвыми. Весь этот страшно длинный день я не могла молиться Богу, я считала преступлением просить Бога пощадить для меня жизнь моего мужа и сына. Невольно как-то мысли, мои обращались к несчастной жертве эшафота, так что я даже забывала о вас… Нет, нет, Шарль! Ты не совершишь этого нового преступления!
— Хорошо! — возразил Шарль-Генрих. — Если я это сделаю, то Мария-Антуанетта все-таки погибнет сегодня же, а завтра придет наша очередь.
— Ну что же!
— Ах, жена, и я не раз по-твоему говорил: «Ну что же!» Ты знаешь, что при теперешнем моем положении я имею, по крайней мере, хотя ту выгоду, что совершенно равнодушен к жизни и даже почти чувствую отвращение к ней. Давно бы уже я высказал открыто все то, что ты мне сегодня говорила наедине и потихоньку. Но если я этого не делаю, так это потому что я знаю, с какой яростью преследует гражданин Фукье детей всякого рода противников революции, начиная с детей короля, и, вероятно, не задумается и над детьми палача, как это может быть в нашем деле.
Бабушка моя закрыла лицо руками и зарыдала. С ней сделался такой сильный нервный припадок, что дед мой позвал к себе, сына, чтобы вдвоем перенести ее на постель. Кроме сына дед мой никому не осмелился бы показать свою жену; ее слезы в то время были уже покушением против республики. Лица, служившие помощниками у моего деда, старались загладить позор своего звания, щеголяя самыми неистовыми демагогическими убеждениями. Подобного рода личности не преминули бы сделать донос на наше семейство.
После этой сцены Шарль-Генрих был до того потрясен, что отец мой вызвался проводить его. Отец снял мундир и вместе с дедом отправился на площадь революции, где в это время уже был воздвигнут грозный снаряд для совершения второго мученичества над венценосной особой.
Дед мой вместе с отцом отправились в Консьержери, куда и прибыли в десять часов утра. Вся тюрьма уже была окружена вооруженными людьми. На дворе был расположен сильный отряд жандармов, несколько кавалеристов и офицеров революционной армии.
Эти господа были приглашены сюда Эсташем Наппье, секретарем революционного трибунала. Наппье поручено было присутствовать при казни и представить трибуналу отчет о ней.
Шарль-Генрих Сансон велел телеге ехать вперед и вошел в Консьержери вместе с комиссаром, офицерами, жандармами и моим отцом.
Королева находилась в зале приговоренных к смерти. Она сидела на скамье, опершись головой о стену. Два жандарма, караулившие ее, находились тут же, в нескольких шагах от нее, рядом с тюремщиком Болем. Дочь Боля стояла перед Марией-Антуанеттой и плакала.
Заметив прибытие своего конвоя, королева встала с места и сделала шаг вперед, навстречу исполнителю; но, взглянув на дочь Боля, она остановилась и нежно поцеловала рыдавшую девушку.
Мария-Антуанетта была в белом платье, плечи ее были прикрыты белой косынкой; на голове у нее был чепчик с черными лентами. Она была очень бледна; но это была не та бледность, которая появляется под влиянием невольно обнаруживающегося страха смерти. Губы у нее побледнели, как это обыкновенно бывает у оробевших особ, а глаза, носившие на себе следы бессонных ночей, горели лихорадочным огнем.
Дед мой и отец сняли шляпы; многие из присутствовавших также поклонились королеве. Впрочем, секретарь Наппье и некоторые из военных умышленно воздержались от этого и старались сделать вид, что не делают никакого различия между обыкновенной преступницей и мученицей-королевой.
Прежде чем кто-нибудь из присутствовавших успел сказать слово, Мария-Антуанетта подошла к вошедшим в комнату и сказала твердым, не обнаруживавшим ни малейшего волнения, голосом:
— Я готова, господа; мы можем ехать.
Шарль-Генрих заметил ей, что необходимо принять некоторые предварительные меры. При этих словах Мария-Антуанетта обернулась и показала нам, что волосы у нее уже были обрезаны.
— Хорошо ли? — спросила она.
В то же время она протянула руки, чтобы их связали. Пока отец мой исполнял эту тяжелую обязанность, в зал вошел аббат Лотренже и стал просить позволения проводить королеву. Аббат Лотренже был одним из священников присягнувших революции также как аббат Жирар и Ламбер, после которых он уже являлся к королеве с предложениями своих услуг. Но королева не захотела воспользоваться утешениями религии, сделавшейся, по ее мнению, еретической. Настойчивость Лотренже видимо, неприятно подействовала на Марию-Антуанетту, но, несмотря на то, она на вторичную просьбу аббата позволить сопровождать себя ответила:
— Как вам угодно.
Затем все тронулись в путь. Впереди шли жандармы, за ними королева, рядом с которой шел аббат, употреблявший все усилия, чтобы склонить королеву принять утешения религии; сзади шел секретарь, а рядом с ним исполнители и опять жандармы.
Выйдя на двор, Мария-Антуанетта вдруг увидела позорную телегу. Осужденная вдруг остановилась, и невольный ужас пробежал у нее по лицу.
Аббат угадал мысль, возмутившую в это время королеву, и дурным, полуфранцузским, полунемецким языком стал указывать ей на пример Спасителя, несшего свой крест и между прочим сказал, что ей необходимо загладить свои преступления.
— Это ложь! — резко возразила королева и, не слушая аббата, быстро подошла к телеге.
Чтобы Марии-Антуанетте легче было взойти на телегу, подан был табурет, сильно пошатнувшийся в то время, когда королева уперлась в него ногой. Окружающие стали поддерживать королеву, и она спокойно поблагодарила их.
Двери отворились, и на улице показалась королева Франции в сопровождении своей печальной свиты. Народ, столпившийся по набережным и на мостах, зашумел, как море в бурю, и тысячи криков, проклятий и угроз пролетели навстречу Марии-Антуанетте.
Стечение народа было так велико, что телега почти не могла подвигаться вперед; испуганная лошадь начала биться. Все до того смутились, что дед и отец мой, поместившиеся было на козлах телеги, на время сошли со своих мест и стали около Марии-Антуанетты.
Несколько самых яростных патриотов в двух или трех местах ворвались даже в самую середину конвоя, и жандармы не только не думали останавливать и усмирять волнение, но даже сами осыпали подсудимую оскорблениями, смешивавшимися с неистовыми воплями толпы. Некто Нурри Грамон, сын офицера революционной армии и сам служивший также в этой армии офицером, забылся до того, что, не ограничиваясь одними угрозами, осмелился поднести свой кулак к самому лицу Марии-Антуанетты. Аббат, находившийся при королеве, оттолкнул его и энергично начал ему высказывать всю низость его поступка.
Эта сцена продолжалась три или четыре минуты. Не раз мне приходилось слышать от отца, что Мария-Антуанетта никогда не казалась более достойной своего звания, как в это время. Эта женщина была настоящей королевой, во всем ее величии, в то время когда смело, не бледнея и не опуская глаз, встречала она яростные взоры всемогущей в то время толпы. Без содрогания прислушивалась она к воплю народа, ревевшего, как лев, в клетку которого брошена назначенная для него жертва. Мария-Антуанетта готовилась умереть, как Цезарь, и разом как статуя пасть под ударом, не дрожа и не подгибая колен.
В это время даже позорная телега казалась троном и, несмотря на все унижения и оскорбления, Мария-Антуанетта проявила такое величие духа, что невольное уважение к ней проникло в сердца даже самых безжалостных людей.
Граммон-отец с несколькими жандармами заехали вперед и им удалось, наконец, очистить дорогу. Когда телега снова тронулась в путь, то крики утихли и только временами то там, то сям в толпах, стоявших впереди телеги, раздавались еще отрывистые крики: «Смерть австрийскому отродью! Смерть госпоже Вето». По мере того как телега подъезжала к кричавшим, крики понемногу утихали.
Мария-Антуанетта ехала стоя в середине телеги; аббат, стоя рядом с нею, продолжал толковать о чем-то очень энергично, но уже без прежнего умиления. Мария-Антуанетта молчала и, казалось, не слушала его.
По мере того как волнение народа утихало, глаза королевы начинали терять свой прежний величественный блеск, и она рассеянно стала поглядывать на толпу и на здания, мимо которых приходилось ехать.
Когда проезжали мимо дворца Эгалите, то Мария-Антуанетта стала как будто беспокойной и стала вглядываться в номера ближайших домов с таким напряжением, в котором легко можно было заметить не одно только любопытство.
Мария-Антуанетта предчувствовала, что ей не позволят воспользоваться утешениями религии и напутствиями римско-католического священника старого времени и не присягнувшего законам революции галликанского аббата. Это обстоятельство сильно заставляло ее задумываться, и она еще прежде не раз искала средств как-нибудь устроить дело. Между прочим, она говорила об этом со священником Манжьяном, не присягнувшим революции и успевшим пробраться к ней в Консьержери, еще до ареста Ришара. Манжьян обещал ей в день казни присутствовать в одном из домов на улице Сент-Оноре и из окна благословить королеву и прочесть ей краткое отпущение грехов, даваемое католической церковью в крайних случаях каждому из верующих. Номер дома был известен Марии-Антуанетте, и его-то так усердно отыскивала она в это время. Наконец дом был найден и по знаку, сделанному в окне и понятному для одной только королевы, она опустила голову, как бы принимая благословение, и в то же время стала молиться. Потом она вздохнула; ей как будто стало легче на душе, и даже улыбка мелькнула на лице ее.
По приезде на площадь революции телега остановилась прямо против главной аллеи, ведущей в Тюльери. Несколько секунд королева с грустью смотрела на это место; потом она вдруг побледнела, слезы навернулись на глаза, и она едва слышным голосом прошептала:
— Дочь моя! Дети мои!..
При шуме на эшафоте, который в это время приводили в порядок, она как будто опомнилась, пришла в себя и тихо готовилась сойти с телеги. Дед мой и отец стали ее поддерживать. В ту минуту, когда она становилась на землю, Шарль-Генрих Сансон нагнулся и шепнул ей на ухо:
— Смелее! Смелее! — Королева быстро обернулась к нему; ее, видимо, удивили эти слова, в которых слышались и сострадание и желание ободрить в самую трудную минуту. Она с признательностью взглянула на Шарля-Генриха и сказала:
— Благодарю вас, благодарю!
Голос ей не изменил в эту минуту, и она произнесла эти слова спокойно и твердо. От телеги до эшафота было всего несколько шагов, и отец хотел было довести королеву под руку, но она отказалась и проговорила:
— Не нужно! Слава Богу, я сама еще чувствую себя в силах дойти до места.
Не останавливаясь и без порывистых движений пошла она вперед, и стала всходить по ступеням эшафота с таким величием, как будто поднималась по лестнице Версальского дворца.
Появление ее на платформе привело на минуту всех в смущение. Аббат, также взошедший на платформу, не переставал надоедать Марии-Антуанетте своими бесплодными увещеваниями. Отец мой потихоньку отвел его рукой и, желая по возможности сократить эти тягостные минуты, подал знак поскорее приступить к делу.
Помощники тотчас же взялись за несчастную жертву. Пока ее привязывали к роковой доске, она еще раз открыла глаза, взглянула на небо и громким голосом сказала:
— Прощайте, прощайте дети! Я иду к отцу вашему… Едва она успела произнести эти слова, как уже доска была положена на место, и лезвие гильотины загремело над головой королевы.
Крики «Да здравствует республика!» были ответом на звук раздавшегося удара; впрочем, крики эти послышались только у самого эшафота. В это время Граммон с бешенством обнажил свою саблю и несколько раз подряд повторил деду моему приказание показать голову казненной народу. Один из помощников поднял голову и обошел с нею по краю эшафота. Вследствие конвульсивного содрогания веки на глазах казненной в это время пришли в движение.
Тело королевы было положено в деревянный кое-как сколоченный гроб и залито негашеной известью на кладбище Маделень. Платья Марии-Антуанетты были розданы бедным в богадельнях.
Глава IX Жирондисты
За процессом королевы последовал процесс жителей Армантьера, обвиненных в сношениях с неприятелями и в составлении заговора с целью впустить их в свой город. Шестеро из обвиняемых были оправданы, но бывший армантьерский мировой судья, Пьер-Франсуа Маленжье, негоцианты: Пеллерен-Гюи-Жуар и Антуан-Франсуа Жозеф Делатр, а также капеллан, Поль Франсуа Кларис, приговорены к смерти и казнены 27 вандемьера.
1 брюмера (22 октября) был казнен управляющий национальной лотереей, Луи-Арман Пернон, за переписку с лионскими бунтовщиками.
2 — присягнувший конституции священник Поль-Ипполит Пастурель, за то что, испугавшись угроз бунтовщиков в Вандее, отказался от своей присяги.
3 — был казнен еще один человек, провинившийся совершенно бессознательно, в пьяном виде. В тот же день был казнен комиссар Пьер-Клод Жансон, за участие в заговоре.
5 числа трибунал отправил на эшафот эмигранта Жака Андре-Франсуа д’Узонвиль и жену его Марию-Анну Пуассон, обвиненную в том, что она помогала своему мужу.
6 числа был казнен за содействие эмигрантам, не присягнувшим конституции, бывший викарий и епископ Аженский Луи-Антуан де Ларом.
Но в это время в первом отделении уже был начат процесс гораздо важнее всех этих процессов; это был процесс жирондистов.
Клубы и городской совет требовали этого процесса так настойчиво, как перед этим требовали предания суду королевы. При этом также не легко было составить обвинительный акт против депутатов Жиронды, арестованных после 31 мая. Те из жирондистов, которые не стали спасаться бегством после декрета Конвента, не сделали ничего такого, в чем бы их можно было обвинить. Приходилось судить их за убеждения и вменять в преступления те намерения, которые еще только предполагались у них. Амар от имени комитета общественной безопасности составил этот акт.
12 вандемьера обвинительный акт был сообщен Фукье-Тенвилю, который 13 числа приказал перевести подсудимых из тюрьмы Кармелитов в Консьержери — эту последнюю станцию на большой дороге к гильотине.
Бегство Барбару, Петиона, Гюаде и некоторых других сделало пробел в списке двадцати двух обвиненных депутатов.
Чтобы пополнить эту цифру, освященную событиями 2 июня, взято было несколько депутатов, арестованных впоследствии, так что всего набралось подсудимых двадцать один человек, а вместе с журналистом Горса, казненным за несколько, дней до этого, на жертву народной ярости выдавалось ровно двадцать две головы, число, на которое народ предъявлял свои права.
3 брюмера все эти лица были вытребованы в трибунал. Секретарь Фабриций приступил к чтению образцового произведения Амара, состоявшего из многословных обвинений подсудимых в покушениях на целость и нераздельность республики, а также на свободу и безопасность французского народа.
Но дело плохо шло на лад, хотя автор, не задумываясь, выставлял с дурной стороны и уродовал самые патриотические убеждения; кроме того, он смело приводил совершенно противоречащие одно другому показания, чтобы только найти какой-нибудь повод к обвинению подсудимых.
Под пером Амара даже позорные события 31 мая и 2 июня принимают размеры каких-то триумфов права и добродетели над насилием.
Изложив все обстоятельства дела при составлении Комиссии двенадцати, Амар говорит:
«Волнение усиливается; заговор стремится принять большие размеры. Собрания граждан в различных частях города объявляют себя против угнетения. На просьбы их президент Иснар отвечает новыми оскорблениями. Мало того, он выражает бесчеловечные стремления заговорщиков следующими словами: „Со временем путешественник с изумлением будет доискиваться, на каком берегу Сены стоял некогда Париж“.
Наконец Конвент возвратил гражданам свободу и уничтожил комиссию. Но комиссия эта, не обращая внимания на изданный против нее закон, продолжала расширять круг своей деятельности и стремиться к своей цели. Мало-помалу начало проявляться общее негодование; все предвещало сильное движение. Но заговор, не обращая внимания и на это обстоятельство, стремился только увеличить свои силы. Все враги революции соединились и решились направить свои удары против приверженцев республики и национального Конвента. Но в это время поднялась вся масса народа и грозно взялась за оружие. Аристократы затрепетали, заговор расстроился. Все затихло и среди этой тишины громко высказалась воля народа, который через своих начальников потребовал у Конвента казни депутатов, изменивших отечеству и угнетавших его. Вместе с тем требовали также и введения республиканского устройства, против которого так восставали заговорщики. Вследствие всего этого Конвент велел арестовать коноводов заговора».
В той же речи, несколько ниже, помещен ряд обвинений против Бриссо за участие его в деле освобождения цветных невольников… И все это досталось во имя свободы!
Большая часть свидетелей состояла из коноводов движения 31 мая, наслаивавших на аресте подсудимых, так что при других обстоятельствах такая ненависть свидетелей к подсудимым, вероятно, повела за собою устранение этих свидетелей от показаний.
Прежде других были опрошены Паш, мэр города Парижа, говоривший от лица депутатов городского совета, и вместе с ним Шомет и Гебер, руководившие движением. Паш не сообщил ни одного факта, но все показания его, несмотря на их запутанность и неясность, были проникнуты ненавистью к подсудимым. Шомет высказался несколько определеннее; он обвинял подсудимых в том равнодушии, с которым они смотрели на борьбу с двором, в том, что 10 августа они дали убежище королю, наконец, в том, что особенным декретом назначили гувернера к наследному принцу и таким образом продолжали признавать монархическую власть даже в то время, когда она была окончательно уничтожена во Франции. Очевидно, что всех этих обвинений было совершенно недостаточно для смертного приговора. Так, например Верньо как член законодательного собрания оказывался виновным только в том, что, основываясь на конституции 1760 года, подчинялся тем законам, которым присягал. Несмотря на то обвинения в роялизме делались умышленно, со злой целью подорвать ту симпатию к Верньо, которой он пользовался даже в эпоху своего падения. Самая сущность показаний Шомета дает уже нам понятие о том, что он делал и говорил на заседании суда; он дошел до того, что стал вызывать души погибших во время Лионских смут и, не задумываясь, взваливал на подсудимых ответственность за всю кровь, пролитую для защиты отечества на полях Шампани.
Гебер с важностью сообщил обстоятельства своего ареста, совершенное по приказанию Комитета двенадцати. Затем он стал уверять, что Ролан употреблял все усилия, чтобы склонить его на свою сторону; при этом он говорил о попытках Гоншона от имени госпожи Ролан подкупить его журнал. В рассказе своем о событиях 31 мая он зашел гораздо дальше своих предшественников и уверял, что подсудимые сами подкупили нескольких злодеев и заставили их требовать у городского совета голов заговорщиков.
Тотчас после показаний Гебера начал говорить Верньо. До сих пор вся защита его ограничивалась несколькими оправданиями, по временам даже не делавшими чести его благородному характеру и той репутации, которой он пользовался. Но теперь, в присутствии негодяя, корчившего из себя какого-то основателя и спасителя республики, в Верньо опять проявилась энергия его прежних славных дней. Он начал таким образом.
— Прежде всего, свидетель обвиняет меня в том, что я будто бы составил заговор в законодательном собрании с целью подавить свободу. Не считает ли он угнетением свободы то, что национальная гвардия, присягавшая королю, была освобождена от этой присяги как от обязательства противореволюционного? Сознаюсь, я виноват в этом. Не считают ли угнетением свободы то, что были обнаруживаемы коварные замыслы министров, и особенно замыслы Делоссара? В этом я тоже виноват. Не считают ли угнетением то, что вероломные трибуны, помогавшие королю преследовать самых ревностных патриотов, были в первый раз выведены на чистую воду? В этом я тоже виноват. Не считают ли угнетением свободы то, что в ночь с 9 на 10 августа я при первых звуках набата явился занять свое председательское место в законодательном собрании? В этом я тоже виноват. Не считают ли угнетением свободы борьбу с Лафайетом? В этом я тоже виноват. Не считают ли угнетением свободы такую же борьбу с Нарбоном? И в этом я виноват…
К сожалению, журналы того времени изуродовали многое в речи Верньо, произведшей очень сильное впечатление на слушателей.
Самые ожесточенные показания против подсудимых были сделаны бывшим капуцином Шабо. Находясь на дурном счету вследствие своих сношений и связей с капиталистами, подозреваемый в не вполне добросовестных коммерческих оборотах, Шабо ясно видел, что у него нет надежной точки опоры. Кроме того при обсуждении конституции Шабо сделал несколько возражений Робеспьеру. Процесс жирондистов, по его мнению, доставлял ему возможность загладить все свои проступки и промахи; для этого стоило только вывести из затруднительного положения партию обвинителей. Множество самых ложных, самых неправдоподобных и нелепых обвинений было изложено им в толстой тетради, которую, вопреки порядку, установленному законом, он требовал прочесть сполна в заседании трибунала. Чтение это заняло не менее двух с половиной часов. Рассчитывая получить прощение и даже расположение красных, бывший капуцин не щадил жирондистов. Не задумываясь ни перед чем, он, между прочим, свалил на них всю ответственность в убийствах, совершившихся 2 сентября. Он говорил при этом: «Эти господа нарочно старались устроить эти беспорядки; они думали таким образом навести ужас на департаменты, чтобы депутаты, как этого хотел Петион, не решились съехаться в Париж, и тогда можно бы было перенести резиденцию правительства в другое место».
Во время этих показаний Шабо рассказал о своих гражданских доблестях, рассказывал, как он отказался от четырех миллионов, предложенных ему испанским посланником графом д’Окаридес за попытку освободить короля. Хотя бессовестному Шабо, при всей его наглости, не удалось выставить против жирондистов ни одного положительного факта, тем не менее, он осмелился заподозрить в честности этих благородных людей, посвятивших отечеству и силы, и состояния свои и, наконец, пожертвовавших ему даже свою жизнь.
Следующий свидетель, Фабр д’Эглантин, был подобно Шабо также на дурном счету, хотя в нравственном отношении был все-таки лучше этого расстриги-монаха. Этот д’Эглантин пошел еще дальше — стал возводить на подсудимых обвинения в сообщничестве с шайкою грабителей. На это обвинение Верньо гордо возразил:
— Я не считаю даже нужным оправдываться и опровергать обвинения в сообщничестве с ворами и убийцами.
После этого были опрошены еще следующие лица: министр народного просвещения Детурнель, просивший извинения у трибунала в том, что его зовут Людовиком, и таким образом он носит одно имя с последним королем Франции; депутат национального Конвента Монто; помощник прокурора городского совета, Реаль; Леонар Бурдон и, наконец, член якобинского клуба Дефье, оказавшийся яростнее даже самого Шабо. Но во всех показаниях, сделанных этими лицами, или выставлялись факты, опровергавшиеся уже самой неправдоподобностью, или дело шло об образе мыслей и убеждений подсудимых, на что они совершенно возражали, что, может, их убеждения и были ложны, но при всем том заблуждения не могут быть сочтены преступлениями. В это время в зале суда царствовал невероятный беспорядок. Свидетели остервенели, как собаки на травле, и перестали обращать внимание даже на внешние формы суда, зал суда превратился в какую-то сходку, на которой свидетели и присутствующие непосредственно обращались с вопросами к подсудимым, опровергали их возражения и делали замечания присяжным. Уже не Герман распоряжался прениями; руководителями сделались Шомет, Гебер, Шабо, и при всем том, несмотря на пренебрежение ко всем формам судопроизводства, ко всем правам подсудимых, процесс тянулся уже шесть дней и все-таки не подвигался вперед. Двух из подсудимых, Буало и Гардьена, удалось запутать до того, что они имели слабость сознаться в существовании небывалого заговора. Но прежняя слава Жиронды красноречие ее представителей в роде Бриссо, Жансоне, Дюко, Буайе-Фонфред, Верньо, давали возможность подсудимым защищаться с прежней энергией и непоколебимостью людей, проникнутых патриотизмом. Невольно приходится согласиться, что представители Жиронды проявили свой ораторский талант во всем блеске только в последние минуты свои. Все присутствующие были смущены их энергичной речью, и явилось даже опасение, что обвинение жирондистов станет невозможным.
На заседании 7 брюмера якобинцы стали обвинять трибунал в медлительности и в то же время решили послать депутацию в Конвент, с просьбой поспешить наказать изменников.
В то же время Фукье сообщал свои опасения Робеспьеру, и по настоянию его отправил письмо Конвенту с объяснением, что ни он, ни Герман не в состоянии руководить прениями. В заключение он говорил, что в дело жирондистов необходимо освободить трибунал от некоторых формальностей, предписанных законом.
В этом письме он говорит, между прочим:
«Медленность, с которой тянется это дело в революционном трибунале, вынуждает нас представить несколько замечании Конвенту. Мы уже достаточно заявили ревность и, вероятно, никто не станет упрекать нас в недостатке усердия, но нас связывают по рукам некоторые формальности, предписанные законам.
Вот уже пять дней как начат процесс депутатов, преданных Конвентом суду, и в это время удалось только выслушать девятерых свидетелей. Каждый из них, давая свои показания, старается изложить всю историю революции. Подсудимые опровергают обвинения, а свидетели возражают им снова. Таким образом, суд получил характер какого-то прения, продолжающегося очень долго, благодаря многоречивости подсудимых. Не захочет ли еще каждый из обвиняемых изложить в особенной речи результаты своих прений. При таком порядке даже не предвидится конец этому процессу. Невольно при этом рождается вопрос, к чему тут еще показания свидетелей? Конвент и общественное мнение целой Франции уже осудили этих подсудимых; доказательства их преступлений очевидны; в душе каждого из граждан уже давно сложилось убеждение, что подсудимые виноваты, а между тем трибунал ничего не может сделать с подсудимыми, и обязан тратить время на исполнение формальностей, предписанных законом. Вследствие всего этого на Конвенте лежит прямая обязанность освободить трибунал от всех этих формальностей, только замедляющих ход настоящего процесса».
В то время когда обсуждалось это письмо Фукье, в Конвент явилась депутация от якобинского клуба. От лица этой депутации говорил зять Паша, Одуен, сказавший между прочим следующее:
«Когда для преследования заговорщиков устроен был революционный трибунал, то все мы думали, что это учреждение, разоблачая преступления одной рукой, другой тотчас же будет карать преступников. Но теперь мы убедились, что трибунал обременен формальностями, только стесняющими нашу свободу. Когда убийца схвачен на месте преступления, нужно ли для уличения его добиваться, сколько ударов своей жертве нанес этот преступник? Точно также и в деле депутатов мы не видим никаких особенных затруднений. Разве не очевидны последствия их преступлений? Трупы зарезанных граждан, разоренные города — вот их улики. Неужели же для погибели этих злодеев нужно ждать, пока обнаружится, что они с ног до головы залиты кровью граждан? День, в который обнаружатся все преступления заговорщиков, не должен уже застать их в живых. От вас, гг. депутаты, зависит теперь последнее решительное слово… Решайтесь же!»
В это же время явился еще один поклонник террора, решившийся поддерживать предложение публичного обвинителя и прошение якобинцев. Это был приверженец Дантона Осселен, в это время скрывавший у себя эмигранта и через несколько дней собственным опытом убедившийся в усердии Фукье-Тенвиля и в значении суда. Робеспьер предложил проект нового закона для трибунала, и тотчас же этот проект возвратился к нему уже рассмотренным. В то же время Бильо-Варень предложил изменить и самое название экстраординарного трибунала и назвать это учреждение революционным трибуналом, тем более что последнее название уже давно установилось в народе. Оба декрета были приняты.
Но и сами декреты Конвента издавались не иначе как с соблюдением узаконенных формальностей, которые были так не по душе Фукье-Тенвилю. Издание двух декретов потребовало нескольких часов. Между тем заседание трибунала продолжалось с самого утра и почти все представленные свидетели были допрошены. Беспокойство Фукье достигло высшей степени, и он уже чувствовал себя вынужденным уступить перед находчивостью, изворотливостью и неистощимым красноречием Бриссо; саркастические выходки Дюко продирали по коже Фукье. Он уже подумывал, как ему выбраться из той сети, в которую запутала его неумолимая логика Жансоне; Верньо в это время молчал, но в ушах противника его все еще продолжали раздаваться звуки сильной, а временами даже потрясающей речи этого жирондиста. Фукье с ужасом представлял себе, как через несколько минут он, бедный прокурор, отличавшийся только одною способностью делать зло, попадет впросак вместе с главнейшими представителями революционной Франции; как в глазах той самой публики, которую они заставляли дрожать перед собой, жирондисты сорвут с них медузину голову, под которой, как под маской, скрываются мелочное ожесточение, ненависть и злоба.
8 это время президент Герман своей находчивостью успел вывести трибунал из этого затруднительного положения и затянуть время, предлагая подсудимым вопросы о фактах, не имеющих особенной важности.
Наконец в восемь часов вечера декрет Конвента был доставлен и объявлен подсудимым. Впрочем, остаток добросовестности заставил присяжных отказаться от немедленного приложения этого декрета к делу: они объявили, что недостаточно еще уяснили себе обстоятельства дела, и заседание было отложено до следующего дня.
Предшествовавшее заседание Конвента и содержание его декретов ясно показали жирондистам, что бывшие их товарищи считают их смерть политической необходимостью. Жирондисты еще считали возможным защищаться от Фукье и грозного трибунала, но когда Конвент их оставил, они потеряли всякую надежду и не хотели больше отстаивать свою жизнь. Вследствие этого первое заседание 9 брюмера прошло среди неважных прений.
В вечернем заседании, около девяти часов вечера, главный присяжный объявил, что присяжные считают дело достаточно разъясненным. Герман объявил, что прения прекращаются; подсудимых увели и присяжные удалились в комнату для совещаний, откуда возвратились в одиннадцать часов с четвертью и относительно всех подсудимых дали утвердительные ответы на все обвинения. Многие из присяжных требовали сделать некоторые поправки в данных ответах.
Тогда подсудимые были снова введены в зал суда, и президент сообщил им решение присяжных; публичный обвинитель, на основании закона, объявил их достойными смертной казни.
При этих словах среди жирондистов произошло сильное движение: Бриссо опустил голову на грудь; Жансоне требовал права возражать на применение к ним закона; Буало бросил вверх свою шляпу и воскликнул: «Я умираю невинным!» Силлери отбросил от себя костыли и сказал: «Сегодня лучший день моей жизни!» Буайе-Фонфред обнял друга своего детства и родственника Дюко и сказал ему: «Друг мой, это я погубил тебя!» Фоше и Дюпре, казалось, были убиты горем, но у Карра сохранилось обычное строгое выражение лица. Ласурс начал было говорить, но слов его нельзя было разобрать среди шума. Верньо сохранил такое же удивительное спокойствие, каким он отличался во все время суда. После первых порывов все вдруг поднялись с мест и как бы по данному знаку воскликнули: «Мы не виноваты!» Но все эти крики покрыл раздирающий, предсмертный крик и послышались слова: «Я убил себя». Президент велел жандармам, смущенным и пораженным этой сценой, увести подсудимых. Подсудимые запели «Марсельезу» и по удалении их долго еще под сводами здания раздавались звуки их голосов.
Только один из подсудимых, произнесший слова: «Я убил себя», не пошел вслед за товарищами и остался на эстраде. Это был Дюфриш-Валазе, успевший вонзить себе в грудь кинжал.
Эта возмутительная сцена потрясла почти всех без исключения. Камилл Демулен, находившийся на заседании, закрыл лицо руками и, убегая от этой сцены, проговорил: «Несчастные! Я, я обличал Бриссо, я причина вашей смерти!» Главный присяжный Антонель был бледен, как полотно. Один только Фукье остался совершенно бесстрастным. В это время врачи трибунала осмотрели труп Валазе и засвидетельствовали действительность его смерти, а Фукье голосом, в котором едва лишь слышалось волнение, изрек приговор: «Положить этот труп в телегу, на которой повезут других преступников, осужденных с ним вместе, и когда прочие преступники будут казнены, то всех вместе похоронить в одной общей могиле, назначенной для всех вышеупомянутых преступников».
«Громкие имена подсудимых возбудили во мне, — пишет Риуф, — невольное любопытство; к сожалению, у меня было слишком мало средств для удовлетворения этому чувству. Я прибыл в Консьержери всего за два дня до приговора над жирондистами, как будто для того только, чтобы быть свидетелем их смерти…»
Они были очень спокойны, но в них не было заметно хвастливого пренебрежения к смерти, хотя никто из них и не думал обольщать себя надеждой на спасение.
При их возвышенном образе мыслей нечего было думать обращаться к ним с теми избитыми фразами и общими местами, которыми у нас принято утешать страждущих, бриссо, с осанкой мудреца, борящегося с судьбой, весь погрузился в размышления; легко было догадаться, что у него на душе одна только дума, — дума об участи отечества. Жансоне сосредоточился сам в себе и как будто боялся опозорить себя, называя по имени своих убийц. Он ни слова не говорил о своем собственном положении, но все время рассуждал об участи народа, которому от души желал всего лучшего. Верньо то с нахмуренным лицом, то с менее суровым видом декламировал стихи, которых очень много знал наизусть и давал нам возможность в последний раз полюбоваться его необыкновенным умением говорить, которое уже было потеряно для всех. Что касается Валазе, то в его глазах было что-то необыкновенное. Кроткая и светлая улыбка не сходила с его лица и, казалось, он даже радовался приближению своей славной смерти. Видно было, что он как человек свободный в несокрушимой решимости своей нашел гарантию для своей свободы. Я не раз говорил ему. «Видно, что вы рады, Валазе, вашей славной смерти и тому, что вас казнят, не осудив!» В последний день суда до отправления в трибунал он передал мне ножницы, бывшие с ним, и сказал при этом: «Ведь это очень опасное оружие; там, пожалуй, подумают, что мы хотим покушения на нашу собственную жизнь». Ирония, с которой он произнес эти слова, была достойна Сократа и возбудила во мне какое-то странное предчувствие, на которое я не обратил внимания в то время. При всем том слух о самоубийстве в суде этого Катона нашего время не удивил меня и как будто только подтвердил мои догадки. Валазе нанес себе удар кинжалом, который ему удалось скрыть, несмотря на то, что до отправления в суд жирондистов подвергали обыску наравне с самыми закоренелыми преступниками. Совершенно иначе поступил Верньо, выбросивший яд, бывший при нем, и решился лучше умереть на гильотине вместе со своими товарищами.
Два брата Фонфред и Дюко резко отличались от этих суровых личностей и возбуждали к себе еще более живое участие. Молодость и взаимная дружба их, не изменявшаяся до последней минуты веселость Дюко, светлый и бойкий ум и красота его — все это заставляло еще с большим негодованием смотреть на кровожадность их врагов. Дюко пожертвовал собой для брата и отправился вместе с ним в тюрьму, чтобы разделить его участь. Они часто обнимали друг друга, и после этих объятий у них как будто появлялись новые силы. Оба они отказались от всего, что только дорого человеку на свете: оставляли огромное состояние, супруг, нежно любимых ими, и, несмотря на все это, они не заговаривали о прошлом, не оглядывались назад, а шли смело на смерть за отечество и свободу.
Только однажды Фонфред потихоньку от брата отвел меня в сторону и при воспоминании о своей жене и детях не выдержал, как не выдержали бы и самые стоические характеры, и горько заплакал. Брат, взглянув на него, спросил: «Что с тобой?..» Фонфреду стыдно стало своих слез и он, указывая на меня и сдерживая слезы, ответил: «Ничего, так, это он… мы разговариваем с ним». Таким образом, он свалил вину на меня и скрыл свою минутную слабость. Братья крепко обнялись друг с другом и снова собрались с силами. Фонфред сдержал выступившие на глазах слезы, другой брат сделал то же, и оба снова стали держать себя с героизмом, достойным древних римлян.
Жирондисты были приговорены к смерти в ночь на 30 сентября… Они обещали известить нас об этом и подать условный знак. Знаком этим были патриотические песни, которые разом загремели, и голоса всех осужденных соединились, чтобы спеть в последний раз Гимн свободы.
Еще 8 февраля Фукье-Тенвиль официально дал знать исполнителю, чтобы он приготовил себе еще нескольких помощников, кроме тех, которые у него были. Довольно странное явление, случившееся в это время, указывает нам, между прочим, насколько развито в массе инстинктивное отвращение к смертной казни, проявившееся даже в эту эпоху, когда казни повторялись так часто и когда народ, казалось, был пропитан духом кровожадности. Несмотря на все это, несмотря на все бедствия народа, вследствие недостатка работы и дороговизны съестных припасов, очень трудно было отыскать людей, согласившихся принять на себя обязанности служителей эшафота. Фукье сказал моему деду, что необходимо иметь дюжину новых помощников, и нужны были необыкновенные труды и усилия, чтобы набрать это число. В это время между прочими к деду моему явилась одна личность с рекомендацией от президента городского совета Гебера, и просила определить ее в число помощников исполнителя. Выходки этого человека, говорившего только об убийствах, его хвастливая болтливость, его наглое и злое выражение лица возбудили в моем деде отвращение к этой личности, и он отказал ей. Когда проситель удалился, то кто-то из присутствовавших в комнате во время этого разговора заметил, что эта личность — какой-то гаер, под именем Жако забавлявший публику на Тампльском бульваре, и дед мой был очень доволен своим решением. Но вечером в тот же день Фукье-Тенвиль позвал к себе Шарля-Генриха, стал его резко упрекать в недостатке патриотизма и объявил при этом, что протеже Гебера прекрасный патриот и потому желательно, чтобы он занял то место, на которое просится.
На другой день, 10 брюмера (30 октября) рано утром дед мой стал осматривать свою команду. В этот день она должна была состоять из десяти помощников и пяти кучеров при пяти позорных телегах. Претендент на место, Андре Дютрюи, снова явился к деду. Шарлю-Генриху показалось, что на вновь определившемся к нему надето что-то вроде красного камзола, но он не обратил на это особенного внимания. В восемь часов дед мой вместе с отцом и шестью помощниками отправился в Консьержери, двое других помощников отправились дожидаться приезда осужденных на площади Революции, а двое осталось при телегах. В числе последних был и протеже Гебера Андре Дютрюи. Между тем уже множество войска собралось около Консьержери. Двое секретарей трибунала, Наппье и Моне, предупредили исполнителей и дожидались их в одном из залов тюрьмы. По прибытии исполнителя секретари вместе с ним и помощниками его отправились в трибунал, где им были отданы последние приказания. Когда они возвратились, было уже около девяти с половиной часов.
Решено было сделать все приготовления к казни в первой передней комнате суда, большом черном и закоптелом зале, который стали называть «комнатой мертвых», с тех пор как она стала передней эшафота.
Когда дед мой со своими помощниками и жандармами вошел в комнату, то осужденные были уже собраны там. Они образовали несколько групп; одни из них ходили взад и вперед, другие стояли на месте, собравшись в кружок. Все осужденные разговаривали друг с другом с большим воодушевлением, как друзья перед разлукой, при отправлении в дальнее путешествие. Брюляр-Силлери и епископ Фоше говорили о чем-то потихоньку в углу комнаты; Менвьель писал что-то у себя на коленях.
У окна на трех табуретах было положено тело Валазе, окоченевшие формы которого резко обрисовались под окровавленным сукном, которым прикрыли его.
При появлении секретарей и исполнителей раздались восклицания; осужденные смешались и многие из них стали обнимать друг друга.
Гражданин Наппье начал перекличку; при каждом имени, произносимом им, один из присутствующих отвечал: «Здесь!» Многие к ответу своему прибавляли разные иронические выходки.
— Здесь, — сказал Верньо, — и если вы так уверены, что наша кровь может скрепить свободу, так добро пожаловать.
— Я не люблю длинных речей, я не умею оскорблять законов разума и правосудия, — важно произнес Дюко, пародируя Робеспьера.
Гражданин Наппье грубо остановил его, и Дюко, захохотав, отвечал: «Ну хорошо, по-вашему, без рассуждений, — здесь, здесь!»
Дюперре вместо ответа обратился с речью к Парижу, который, по словам его, губит своих лучших патриотов. Пришлось и ему приказать молчать.
Бриссо был очень угрюм. Верньо очень энергично говорил ему что-то в продолжение нескольких минут. Шум не давал никакой возможности разобрать, о чем шла речь; слышно было только, что несколько раз были произнесены слова: республика и свобода.
Когда перекличка закончилась, все осужденные с энтузиазмом воскликнули: «Да здравствует республика!»
Начался туалет осужденных; во время этих печальных приготовлений жирондисты сохранили прежнее свое спокойствие духа. Дед мой и отец подстригали и приводили в порядок им волосы, а помощники связывали им руки. Осужденные занимали свои места спокойно и даже не щеголяя своим презрением к смерти и своей неустрашимостью, как будто все эти приготовления делались вовсе не для их казни.
После переклички Фоше и Силлери возвратились в свой угол; они до того были увлечены своим разговором, что их пришлось выкликнуть два раза. Фоше казался сильно пораженным; напротив того, присутствие духа Силлери почти дошло до какой-то веселости.
В ту минуту, когда пришла очередь Дюпра сесть на табурет для приведения в порядок волос, Менвьель подошел к нему, держа в одной руке написанное им письмо, а в другой — перо. То и другое передал он своему товарищу и сказал при этом отцу моему:
— Ты, вероятно, позволишь нам уделить несколько минут нашим семейным делам; впрочем, вместо Дюпра ты можешь пока заняться моими волосами.
Тогда Дюпра взял письмо и приписал в нем несколько строк; письмо это предназначалось одной женщине, которую оба они любили.
Последним был предсмертный туалет Дюко, и отцу моему пришлось обрезать ему волосы; все это время Фонфред стоял около Дюко. При стрижке у Дюко два-три волоса застряло в ножницах и были нечаянно вырваны. Дюко не мог удержаться, чтобы не сделать небольшого движения вследствие боли, и когда его туалет был окончен и помощники стали связывать ему руки, то он сказал моему отцу:
— Надеюсь, что лезвие твоей гильотины режет лучше этих ножниц.
Когда все было готово, дед мой подал знак отправляться; уже часть конвоя сошла с лестницы, а осужденные все еще толпились около Верньо и, как казалось, хотели уступить ему честь идти первым. Но Верньо обернулся назад, и, указывая на труп Валазе, который помощники положили на носилки, сказал торжественным голосом.
— Вот наш первенец! Вот кому надобно указывать нам дорогу.
При этих словах все расступились, и тело Валазе было пронесено вперед сквозь толпу осужденных.
Пять телег дожидалось у крыльца…
Секретарь Наппье стал требовать, чтобы осужденные разместились в телегах в том порядке, в каком они были поименованы в приговоре. Беспорядок, начавшийся тотчас по выходе из дверей, помешал привести в исполнение эту меру, которая, быть может, лишила бы некоторых из жирондистов последнего утешения — делиться своими предсмертными мыслями с близким сердцу другом. Таким образом, осужденные располагались, как им было угодно.
Небо было пасмурно, и накрапывал дождь. При всем том бесчисленные толпы народа, несмотря на сырую погоду, собрались на улицах. Вероятно, причиной стечения народа было скорее простое любопытство, чем раздражение против осужденных. Говорят даже, что главной приманкой для толпы было число жертв, а не личное значение их. Правда, мало было в этой толпе людей, понимавших, как много теряет Франция в лице этих жертв; но с другой стороны было мало и таких, которые, видимо, разделяли бы яростные и неистовые убеждения, раздававшиеся с трибун в якобинских клубах и Конвенте. Толпа безмолвно поглядывала на телеги с осужденными. Так как осужденными были лица, пользовавшиеся большим значением и известностью, то по обыкновению вмешалось в конвой несколько мужчин и женщин, старавшихся под влиянием истинного, а быть может и притворного фанатизма пробудить в толпе охладевшее негодование самыми неистовыми выходками и ругательствами. Не успели еще осужденные проехать каких-нибудь сто шагов по набережной, как дед мой заметил своего нового помощника Андре Дютрюи или, короче, Жако, снявшего верхнее платье, под которым скрывался костюм паяца, скакавшего верхом на лошади и делавшего различные эквилибристские упражнения без умолку сопровождая их самыми наглыми выходками против осужденных. Шарль-Генрих, выведенный из себя, сошел с телеги и стал гнать Дютрюи, но тот отказался повиноваться ему. Яростные патриоты, бежавшие около телеги, и даже сами жандармы приняли сторону паяца, и дед мой под градом насмешек должен был возвратиться на свое место.
Крик «Да здравствует республика!» беспрестанно раздавался во время переезда и громко повторялся массами народа. Менвьель и Дюпра вслед за толпой также кричали: «Да здравствует республика!» Только в двух или трех местах вместо этих криков раздался крик: «Смерть изменникам!» Жирондисты выслушивали эти крики без негодования, и только однажды в ответ на них с четвертой телеги раздался громкий голос: «Республике не устоять с вами!» Верньо, сзади которого сидел мой отец, услышав эти слова, воскликнул:
— Еще бы! Мы платим за республику так дорого, что верно нам придется унести с собой в могилу надежду на прочное существование республики.
Присутствие духа ни на минуту не изменило жирондистам. Суровый и сосредоточенный в самом себе Верньо старался рассеять мрачные предчувствия Бриссо, уверявшего, что свобода Франции не переживет их казни. Дюко и Буайе-Фонфред разговаривали между собой вполголоса; при этом отец мой заметил, что слезы текли по щекам Буайе. В других телегах осужденные показали не меньшее присутствие духа и мужество. Два раза осужденные начинали петь «Марсельезу»: в первый раз по выезде из Консьержери, а второй — на улице Сент-Оноре, против Тюльери. Один только епископ Фоше, как казалось, упал духом: все время он усердно молился; как истинный христианин, он был убежден не только в близости смерти, но и в близости суда у престола Всевышнего. Напротив того, шутки и выходки Дюко становились все одушевленнее и игривее, по мере того как приближалась роковая минута. В то время когда телеги остановились, Вижье, взглянув на гильотину, воскликнул:
— Вот, наконец, мы получаем наследство от последнего короля Людовика!
— Что вы! — возразил Дюко, пожав плечами, — разве вы забыли о салическом законе?
Когда все осужденные собрались вместе и остановились у эшафота, Дюко сказал:
— Как жаль, что Конвенту не вздумалось издать закона о целости и нераздельности наших личностей!
Когда их разместили у лестницы эшафота, между двух рядов жандармов, они начали прощаться, обниматься и ободрять друг друга, убеждая умереть, как жили, — без страха и упрека. Потом хором запели песню свободных людей того времени, и жертвоприношение началось.
Силлери первый взошел на платформу, обошел ее кругом и поклонился народу на все четыре стороны. Как человек больной, не излечившийся еще от последствий паралича, он двигался довольно медленно. Один из помощников стал было требовать, чтобы он поторопился, но он ответил на это:
— Можешь и подождать; ведь я вот жду же, а мне время дороже твоего.
В ту минуту, когда загремело лезвие гильотины, осужденные стали петь вдвое громче, как бы надеясь, что звуки их песни долетят до несчастного собрата в самый момент казни. После Силлери на эшафот вступил епископ Фоше, которому двум помощникам пришлось помогать взойти на крутую лестницу эшафота. За Фоше последовали Карра, Лестер-Бове, Дюперре и Лаказ.
Шарль-Генрих Сансон распоряжался ходом казней. Первый из помощников, Фермен, держал веревку блока, отец мой следил за уборкой трупов, которые попарно укладывались в ящики, приготовленные сзади гильотины. Но когда упало шесть голов, ящики и доска гильотины до того были залиты кровью, что одно прикосновение к этой доске должно было казаться ужаснее самой смерти. Шарль-Генрих Сансон приказал двум помощникам взять по ведру воды и после каждой казни обмывать окровавленные части гильотины.
Ряды осужденных начинали редеть. Звуки песни стали тише, хотя энергия по-прежнему была слышна в голосах поющих. Среди этих твердых и мужественных голосов слышнее всех был голос Легарди, почти покрывавший все остальные.
Буало, Антибуль, Гардьян, Лаеурс и Бриссо один за другим всходили на эшафот. Легарди, в то время когда его привязывали к роковой доске, три раза воскликнул: «Да здравствует республика!» После него был казнен Дюко. Расставаясь с друзьями, Дюко обнял Фонфреда и, взбежав по лестнице эшафота, сказал моему отцу, помогавшему взойти ему на платформу:
— Ах, если бы твоя гильотина могла покончить разом и со мной и с братом моим!
Дюко продолжал говорить даже в ту минуту, когда лезвие гильотины уже гремело над ним. Около гильотины оставалось уже только шестеро осужденных, но звуки песни не умолкали. Жансоне, Менвьель, Буайе-Фонфред и Дюшатель были казнены один за другим; в живых осталось только двое: Верньо и Виже.
По словам некоторых историков, последним был казнен Верньо; но это ошибка с их стороны. Судя по ходу прений во время суда, многие думали, что необыкновенное мужество жирондистов, возбуждавшее такое сочувствие к ним, изменит некоторым из них в последнюю минуту жизни. В эту же эпоху издано было запрещение давать приговоренным к смерти подкрепляющие средства. Этот новый закон первый раз был применен к жирондистам. Но, несмотря на все это, мы уже видели, как эта героическая кучка людей, дружно стоявшая за свои убеждения, так же дружно умела показать и свое присутствие духа. Самые смелые и самые робкие люди из них умирали с одинаковой неустрашимостью. Даже секретарь Наппье, стоявший около осужденных, показал большое смущение и почти потерял присутствие духа. Когда Верньо и Виже остались одни, то голос Виже, бывшего на очереди, начал было изменять ему. Видя это, Верньо посмотрел на своего товарища и с особенной энергией запел.
В это время Наппье вызвал Верньо. Вероятно, Наппье думал, что Виже, лишившись поддержки и не имея перед глазами примера беспредельного самоотвержения своего гениального друга, перед смертью упадет духом, и ужасная гекатомба революции заключится сценой малодушия одного из осужденных. Но ничего подобного не случилось. Когда труп Верньо был положен рядом с трупами его друзей и товарищей, то Виже взошел на эшафот и подошел к исполнителю с какой-то торжественной гордостью. Он не переставал петь во все то время, когда его привязывали к доске и даже когда голова его очутилась в отверстии гильотины, так что с последним звуком «Марсельезы» прекратилась жизнь последнего из двадцати осужденных.
Сорока трех минут было достаточно, чтобы республике осиротеть и лишиться своих основателей, а Франции надеть траур по лучшим из своих детей.
Вечером Шарль-Генрих Сансон стал жаловаться Фукье на неприличные поступки вновь определенного по рекомендации Гебера помощника. В надежде получить позволение развязаться с негодяем Жако, дед мой сказал Фукье, что оскорбление осужденных палачами только возбуждают в толпе сочувствие к жертвам эшафота. Фукье, по обыкновению, не обратил никакого внимания на эти жалобы и тотчас же напустился на моего деда, упрекая его в недостатке патриотизма, будто бы выражавшемся во взглядах, с которыми дед мой встречал некоторых из осужденных. В заключение Фукье спросил у деда, на каком основании он всегда поручает одному из своих помощников держать веревку, приводящую в движение лезвие гильотины, а не делает этого сам? Дед мой отвечал на это, что при прежнем правительстве исполнитель действительно был обязан собственноручно рубить головы, но с тех пор как машина заменила силу и ловкость исполнителя, самой важной обязанностью на эшафоте стало следить за приготовлениями и распоряжаться ходом казни. При этом дед мой прибавил, что малейшее упущение со стороны распорядителя может иметь самые ужасные последствия; поэтому весьма естественно, что человек, несущий на себе ответственность за ход казни, не поручает никому обязанности распоряжаться и исполняет ее сам.
Фукье, по-видимому, удовлетворился этим ответом но, прощаясь с Шарлем-Генрихом Сансоном, еще раз повторил ему, что за ним будут строго присматривать; при этом Фукье с очень выразительным жестом прибавил моему деду, что если он не исправится, то роль его на эшафоте из действительной легко может стать страдательной.
Результатом этого разговора было то, что Андре Дютрюи по-прежнему остался на своем месте помощником исполнителя. С тех пор наглые выходки Жако стали проявляться при всех казнях, особенно при казнях важных лиц, и постоянно вызывали неистовые рукоплескания толпы.
Глава X Адам Люкс — герцог Орлеанский
После смерти жирондистов казни становятся чаще, и число жертв эшафота увеличивается; начинается настоящее царство ужаса. До сих пор террористические выходки были результатом фанатизма более яростных патриотов; с этих пор террор входит уже в общую систему правительства.
24 брюмера был казнен Адам Люкс, присланный из Майнца с тем, чтобы ходатайствовать о присоединении этого города к Франции. Адам Люкс был восторженный мечтатель, в простоте своего сердца искренне веровавший в человечество. Он от души был убежден, что вслед за провозглашением новых высокопарных принципов справедливости и права последует возрождение к новой жизни всего рода человеческого. Он спешил в Париж как на пир, торопясь принять участие в том торжестве свободы, которое, по его мнению, совершали тут передовые люди. Но, увы, местом торжества этого оказался эшафот, уже залитый кровью лучших и благороднейших представителей человечества. Такое горькое разочарование не могло пройти безнаказанно для восторженного мечтателя. Глубоко потрясенный, как бы ошеломленный, поглядывал он на то, что делалось вокруг него, не веря своим глазам и как будто спрашивая у самого себя: стоит ли мне переживать те прекрасные мечты, которые я лелеял до сих пор? В это время мысль о Шарлотте Корде спасла его от самоубийства и заставила дождаться смерти на эшафоте. Надежда на служение свободе уже исчезла, но чувство любви к этой свободе все еще продолжала искать себе исхода у этого восторженного мечтателя. Вследствие этого, вместо поклонения богине свободы, он стал поклоняться Шарлотте Корде, как жрице ее. «Шарлотта Корде, — говорил он, — ты выше, ты величественнее всех, кого я только знаю. Я не стану рассуждать о том впечатлении, которое ты произвела на других, но скажу только о том, как глубоко потрясла ты меня и какие чувства пробудила в моей душе. Я хорошо знаю непоколебимое мужество героини, но я не могу без содрогания вообразить ее кротость посреди неистовых воплей… Как спокойны и вместе с тем смелы были ее взоры! Каким огнем горели ее прекрасные глаза, и как видна была в них ее кроткая, но неустрашимая душа! Мне кажется, что подобного взгляда достаточно, чтобы сдвинуть с места целые горы. Бесценно и незабвенно для меня воспоминание о ней! Тень ее ангельским взглядом своим прожгла мое сердце и пробудила в нем какое-то новое, до сих пор незнакомое чувство. И радость, и горе, — все есть в этом чувстве, и только с последним вздохом я расстанусь с ним!»
Вполне предавшись этой странной страсти к мечте, созданной его воображением, Адам Люкс только о том и думал, как бы поскорее смерть соединила его с предметом его беспредельного обожания. С нетерпением дожидаясь рокового часа своего кровавого соединения с Шарлоттой Корде, он смело порицал тиранов и как бы вызывал на бой их палачей.
Перед судом революционного трибунала Адам Люкс показал себя вполне достойным поклонником героини Корде. Тотчас по прочтении обвинительного акта он сказал Фукье-Тенвилю: «Мне чужды и ваши законы, и ваши преступления; если я и заслуживаю казни, то не французам бы следовало казнить меня».
Нечего было и думать о том, чтобы судьи трибунала решили пощадить фанатика Люкса. Смертный приговор был произнесен, и Люкс, вероятно с мыслью о предмете своего обожания, воскликнул: «Наконец-то я делаюсь существом свободным!»
16 брюмера погиб один из известнейших деятелей революции, Луи-Филипп-Жозеф д’Орлеан. Тщетно заменил он свой громкий титул, многознаменательным именем Эгалите. Тщетно дал он кровавый залог своей преданности революции, подав голос за смерть короля, близкого своего родственника. Бывшему принцу крови не могли простить ни его происхождения, ни его богатства. Роялисты давно ненавидели его от души, а скоро он стал предметом опасений и затруднений для республиканцев. Жирондисты со своей стороны никак не хотели верить, что патриотизм мог быть единственной причиной оппозиции двору у первого принца крови. Они не находили возможным соединение самой явной безнравственности, с самой высокой гражданской добродетелью — бескорыстием. Во время заседаний Конвента жирондисты не переставали смотреть на герцога Орлеанского как на будущего претендента.
С другой стороны партия Горы также стала убеждаться, что присутствие одного из Бурбонов в ее рядах вечно будет возбуждать подозрения и упреки со стороны врагов этой партии. Поэтому партия красных решилась пожертвовать герцогом при первом удобном случае. Дело Дюмурье скоро представило такой случай. Эгалите был арестован 7 апреля, а 12 был отправлен в Марсель, где он встретился с двумя своими сыновьями, герцогами Монпансье и Божоле. Оба они вынуждены были расстаться со своим отцом, и первый из них поступил на службу в итальянскую армию, под начальство к Бирону. Эгалите после шестимесячного заключения в форте Сен-Жан 2 брюмера был переведен в Париж и заключен в Консьержери.
Необходимость смерти этого важного деятеля революции предварительно уже была там признана, так что Фукье даже не счел нужным составлять для этого подсудимого особенный обвинительный акт. Воспользовавшись юридическим положением об избежании повторений, публичный обвинитель приложил к делу обвинительный акт, составленный Амаром против жирондистов, несмотря на то, что, в сущности, жирондисты были самыми непримиримыми врагами Эгалите. С удивлением выслушивал принц обвинения в том, что он будто бы принадлежит к партии Бриссо, того самого Бриссо, который не раз настоятельно требовал ареста принца, а также в том, что он заодно с Карра хотел возвести на французский трон герцога Йоркского. Наконец Эгалите, прерывая чтение, воскликнул: «Все это право похоже на шутку!» На вопрос президента об этих обвинениях, герцог возразил совершенно хладнокровно: «Все эти обвинения против меня сами собой оказываются совершенно несостоятельными и не имеют ничего общего со мной. Всем хорошо известно, что я постоянно находился в борьбе с партией жирондистов, а меня обвиняют в участии в действиях этой партии».
Шарль Вуадель, принявший на себя защиту герцога, защищал его очень энергично. Но мы уже упомянули выше, что осуждение герцога Орлеанского считалось делом положительно необходимым, к тому же подсудимый так мало возбуждал в судьях симпатии к себе, что никак нельзя было надеяться, чтобы судьи на этот раз отказались от меры, считавшейся необходимой для сохранения общественной безопасности. Смертный приговор Эгалите состоялся.
Принц выслушал этот приговор очень хладнокровно и, обратившись к президенту суда Антонелли, сказал: «Если вы уже решились погубить меня, то вам следовало бы отыскать для этого сколько-нибудь благовидный предлог. Теперь же вы никого не убедите, что вы сами действительно считаете меня виновным во всем том, в чем вы меня обвинили. Это более всех касается вас, г. Антонелли, потому что вы меня знали очень хорошо. Впрочем, моя участь уже решена, и я прошу только не оттягивать до завтра и сейчас же сделать распоряжение о моей казни».
Вместе с Эгалите был приговорен к смерти его начальник штаба, депутат Конвента генерал Кутар.
Заседание трибунала происходило утром, и герцог Орлеанский, возвратясь в Консьержери, объявил, что ему хочется есть. Поданы были устрицы и жареный цыпленок. Принц стал закусывать и, несмотря на отказ Кутара, усердно приглашал его также принять участие в этом завтраке.
Когда исполнитель вошел в переднюю тюрьмы, герцог Орлеанский вместе с генералом Кутаром ходил взад и вперед по комнате. На лице герцога заметна была небольшая бледность, но нельзя было заметить особенно тревожного состояния духа. Дед мой по обыкновению своему снял шляпу. По жандармам, сопровождавшим деда, по костюму его помощника, по веревкам и ножницам, герцог Орлеанский легко догадался, с кем имеет дело. Он пристально глянул на деда, но не прервал своего разговора и даже не остановился на месте. Шарль-Генрих Сансон подошел к герцогу со словами: не соблаговолит ли герцог дать обстричь себе волосы. Герцог без всяких возражений уселся на стул.
В это время привели остальных троих приговоренных к казни. Первым вошел в комнату Ларок. Это был старик около шестидесяти лет и по одному выражению лица его уже легко было узнать в нем члена старинной французской знати. Когда один из помощников подошел было к Лароку, с тем чтобы подстричь ему волосы, то Ларок, сняв парик со своей совершенно лысой головы, промолвил: «Это обстоятельство, кажется, избавляет меня от соблюдения одной из необходимых формальностей».
В это время герцог Орлеанский, сидевший до сих пор спиной к Лароку, встал, и Ларок тотчас же узнал его.
Страшное негодование проявилось на лице старика-дворянина, и он громко сказал герцогу:
— Мне не жаль расстаться с жизнью, потому что я имею удовольствие видеть, как человек, бывший причиной несчастий моего отечества, получает заслуженное им наказание; но я считаю истинным позором для себя то, что мне приходится идти на казнь вместе с вашим высочеством.
Герцог Орлеанский отвернулся и не ответил ни слова. Уже около четырех часов вечера поезд выехал из Консьержери. Герцог не изменял себе и оставался по-прежнему хладнокровным, но хладнокровие его не имело ничего общего с мужеством жирондистов и некоторых других жертв эшафота. По лицу его скорее можно было предполагать в нем равнодушие к жизни и даже пресыщение ею, чем твердую решимость. Такое презрение к жизни было несравненно ниже того героического самопожертвования, которое проявлялось у людей, делавшихся жертвой своих политических убеждений, каковы бы они ни были. Истинное величие духа скорее даже было заметно в том незначительном дворянине, который только что сказал несколько резких и оскорбительных слов принцу при выезде из Консьержери, и который теперь, стоя рядом с ним, молился Богу и, сохраняя полное присутствие духа, в то же время не щеголял своим презрением к смерти.
Начальник жандармского конвоя приказал остановить телегу у дворца герцога Орлеанского; на этом дворце уже сделана была крупными буквами надпись: Общественная собственность. Герцог бросил взгляд на жилище своих предков и по лицу его никак нельзя было догадаться, какое чувство волновало его. Вслед за тем он с презрением отвернулся в другую сторону.
Первым взошел на эшафот Ларок; он с большим чувством простился со всеми своими спутниками, не исключая даже ремесленника, но не сказал ни слова герцогу. После Ларока был казнен Гондье, потом генерал Кутар и наконец несчастный Брусс.
Герцог хладнокровно смотрел, как одна за другой упали эти четыре головы. Вслед за тем он сам взошел на эшафот и, пожав плечами, гордо и свысока взглянул на толпу, приветствовавшую появление герцога на эшафоте неистовыми криками и свистом. Быть может, у него мелькнула в это время мысль, что перед ним теперь те же самые парижане, которые в 89 году с торжеством носили его бюст, увенчанный лаврами.
Помощники, сняв с герцога фрак, хотели также снять сапоги; но он, оттолкнув их, подошел к роковой доске и сказал: «К чему напрасно терять время? Сапоги можно снять и с мертвого».
Через минуту голова этого несчастного принца уже упала на эшафот при неистовых рукоплесканиях толпы, с тем же восторгом глядевшей на совершение наказания за преступление, с каким когда-то глядела она на совершение самого преступления.
Грустно глядел на проявление народных страстей, со всей их непоследовательностью! Действительно, прошло каких-нибудь сорок лет, закипели новые революции, и внуки лиц, рукоплескавших при казни герцога Орлеанского, торжественно возложили корону на голову сына казненного принца!
Глава XI Госпожа Ролан-Байльи
17 брюмера было казнено шесть человек, все они занимали муниципальные должности в Пон-де-Кле и были обвинены в сношениях с бунтовщиками в Вандее.
Но вслед за этими темными личностями не замедлила последовать жертва, пользующаяся большой известностью. Это была госпожа Ролан, арестованная 31 мая. 11 брюмера произведено было следствие, а 18 — она уже была представлена в революционный трибунал.
Госпожа Ролан была душой партии жирондистов. При своем превосходном характере, необыкновенном уме и проницательности она приобрела влияние не только на своего мужа, но и на других знаменитых личностей, собиравшихся в ее салоне. Это вмешательство женщины в политику возбуждало негодование и резкие выходки в журналистике и даже в Конвенте. Колкие выходки госпожи Ролан, ее вполне законное пренебрежение к некоторым, весьма посредственным, хотя и очень самолюбивым личностям, скоро увеличили число ее врагов и усилили их озлобление против нее. Нечего было надеяться на пощаду от врагов, желавших одним ударом избавиться от женщины, превосходство которой возбудило их ненависть, и вместе с тем от последнего и самого сильного представителя умеренной партии.
Почти весь обвинительный акт против госпожи Ролан был основан на сношениях с жирондистами. Госпожа Ролан уже решилась пожертвовать собой, но она не могла без содрогания выслушивать тех оскорблений, которыми чернили память ее друзей, и потому решилась защищать их.
Между прочим, она говорила следующее:
— В какое время и среди какого народа живем мы, когда чувства уважения и дружбы между людьми становятся преступлениями? Не мне судить людей, которых вы объявили преступниками; но я никак не могла думать, чтобы люди, не раз доказывавшие свой патриотизм, свое бескорыстие и свою безграничную преданность отечеству, могли иметь какие-нибудь преступные намерения. Если они и заблуждались, то само заблуждение их было благородно; они, быть может, и делали ошибки, но никогда не переставали быть людьми безукоризненно честными. На мой взгляд, они только несчастные люди, но не преступники. Если задушевное желание, чтобы эти личности спаслись от казни, составляет преступление, то я открыто и торжественно объявляю себя преступницей и считаю за честь для себя подвергнуться преследованиям за это преступление. Я хорошо знала этих прекрасных людей, обвиненных вами в измене отечеству; все они в душе и на деле были истинными республиканцами, хотя и сохранили в себе чувство человеколюбия. Они надеялись, что хорошие законы могут заставить полюбить республику даже людей, не доверяющих ей, хотя это очевидно труднее, чем поголовно перебить этих людей.
Дюма, бывший в это время президентом суда, не дал ей продолжить и, прервав ее, заметил, что суд не может и не должен выслушивать панегириков изменникам, совершенно справедливо наказанных законом. Госпожа Ролан обратилась к публике, присутствовавшей во время суда, и просила ее обратить внимание на то насилие, которому подвергается в трибунале подсудимая. Одни только оскорбительные выходки были ответом на это воззвание госпожи Ролан, и с этой минуты она стала хранить презрительное молчание.
Смертный приговор был произнесен, и Ролан, выслушав его с изумительным присутствием духа, обратилась к судьям трибунала и сказала им:
— Вы сочли меня достойной разделить участь великих людей, замученных вами; я, со своей стороны, постараюсь проявить на эшафоте такое же мужество, каким они ознаменовали себя.
Подобно герцогу Орлеанскому госпожа Ролан была казнена в тот же день, когда состоялся приговор. Вместе с нею по приговору революционного трибунала отправлялись на эшафот Симон-Франсуа, Ламарш, бывший распорядителем в шайке изготовителей фальшивых ассигнаций.
У госпожи Ролан были прекрасные черные волосы, с которыми ей было очень жалко расставаться, и она стала настаивать, чтобы их не обстригали. Дед мой не соглашался на это и по возможности осторожно, разными намеками, старался дать понять ей, на какие страшные мучения во время казни обрекает она себя, стараясь сохранить свои волосы. Госпожу Ролан, по-видимому, тронула та осторожность, с какой говорил мой дед, старавшийся не ужасать ее картиной казни, и она, пародируя известное выражение Мольера, сказала: «Где же должна искать себе приюта человеколюбия?»
Через минуту, когда ножницы уже уничтожили часть ее роскошных волос, она быстро подняла руки к голове и сказала:
— Оставьте, по крайней мере, волос настолько, чтобы за них можно было поднять голову и показать ее народу, если он этого потребует.
Когда ей связали руки, то на минуту она как бы упала духом или скорее погрузилась в грустное раздумье: она опустила голову на грудь и слезы показались у нее на глазах. Вероятно, она вспомнила о своей дочери и о муже, который, как она знала, не переживет ее. Но скоро она оправилась; быть может, ей пришло на память следующее выражение, употребленное во время защиты ее в суде.
«Когда по увлечению или заблуждению предают смертной казни невинного, то самое шествие на эшафот невинно осужденного делается торжественным шествием для него!»
Смело подняла голову, и с этого времени присутствие духа ни на минуту не изменяло ей.
Между тем товарищ госпожи Ролан по эшафоту был несравненно малодушнее ее, и в ожидании казни окончательно упал духом. Госпожа Ролан заметила это и последним делом ее был новый подвиг самоотвержения и милосердия. Последний час своей жизни она посвятила незнакомому ей осужденному и старалась по возможности подкрепить его. Она совершенно позабыла о себе и все свое внимание обратила на своего товарища по несчастью. По дороге к эшафоту она не переставала утешать и подкреплять его. Она приняла веселое выражение лица, которое плохо мирилось с ее положением как матери и жены, но зато избавляло несчастного Ламарша от того ужаса, который причиняла ему близость казни. Ни на королеву, ни на Шарлотту Корде, ни на жирондистов ярость так называемой толпы не обрушивалась в такой сильной степени, как на госпожу Ролан. Она выслушивала все эти неистовые выходки с какой-то презрительной улыбкой; по временам на разные оскорбления она отвечала шутками, которые, наконец, рассеяли даже ужас ее спутника.
По прибытии на площадь Революции, Ламарш, сходя с телеги, снова упал духом и в нем опять погасла та грустная решимость, которую умела в нем пробудить госпожа Ролан. Лицо его побледнело, начались конвульсивные движения и дрожь во всем теле, так что одному из помощников необходимо было поддерживать этого несчастного. Госпожа Ролан посмотрела на него с глубоким и непритворным сожалением и промолвила:
— Я могу вам оказать только одну услугу, это — избавить вас от того ужаса, который овладеет вами при виде моей крови. Ступайте же первым на эшафот, бедняжка!
После казни жирондистов предписано было публичному обвинителю обозначить порядок, в котором должны были следовать одна за другой казни осужденных. Госпоже Ролан, из уважения к ее полу, предоставлено было право взойти на эшафот первой, и таким образом не быть свидетельницей казни и не слышать рокового удара гильотины. Госпожа Ролан сообщила моему деду, что она отказывается от своей привилегии подвергнуться казни прежде своего спутника. Шарль-Генрих Сансон возразил было, что ему невозможно исполнить это требование, как противоречащее данным ему инструкциям, но госпожа Ролан с обычной своей улыбкой ответила:
— Нет, нет! Быть не может, чтобы вы получили инструкцию отказывать женщине в ее последней, предсмертной просьбе.
Действительно у Шарля-Генриха не достало духу далее не соглашаться на это великодушное самопожертвование. Полумертвого Ламарша отнести к гильотине. Госпожа Ролан без содрогания смотрела, как голова ее спутника упала на эшафот, и вслед за тем быстро взбежала на платформу.
По случаю празднования 10 августа на площади Революции была воздвигнута колоссальная статуя свободы. Эта статуя не была еще убрана с площади и стояла против самого эшафота. Госпожа Ролан устремила свой взгляд на статую. Горькая улыбка мелькнула на лице осужденной, и она твердым и громким голосом сказала:
— Свобода, свобода! Как здесь играют тобою!
Помощники стали было тащить госпожу Ролан к роковой доске. Но она остановилась и почтительно склонила голову перед изображением свободы, бывшей предметом ее безграничного обожания. Через минуту после этого госпожи Ролан уже не было в живых.
Знаменитые жертвы следовали одна за другой. 21 брюмера ознаменовалось казнью еще одного из главных сподвижников свободы, Байльи.
Осуждение и казнь этой личности совершились в такой возмутительной обстановке, что большая часть историков пользуется этим случаем, чтобы заклеймить заслуженным позором ту партию, которая предписала или, по крайней мере, допустила такое нарушение всех законов человеколюбия. Многие, под влиянием только что вынесенного ими тяжелого впечатления, увлеклись и представили чересчур в мрачном виде эту, и без того ужасную картину. С другой стороны некоторые из историков, принадлежавших к партии демократов, не ограничились одним восстановлением истины, но, не оправдывая того, чего уже нельзя было оправдать, старались, по крайней мере, устранить городской совет от всякой ответственности в этом деле. А между тем есть данные, на основании которых можно подозревать совет, что он умышленно возбуждал чернь к совершению бесчеловечно жестоких выходок; в то же время положительно известно, что совет оставался хладнокровным зрителем этой жестокости и вовсе не думал препятствовать ей. Из всего этого ясно, что пристрастие равно руководило и писателями, горячо чтившими память якобинцев, и теми, кто от души ненавидел их. Поэтому необходимо восстановить истину и представить рассказ о Байльи в том виде, в каком происшествие это было на самом деле. Имея под рукою довольно обстоятельные заметки моего деда и пользуясь воспоминаниями отца, также присутствовавшего при казне Байльи, я беру на себя обязанность восстановить истину в этом деле и представить эту казнь в настоящем ее виде.
Жан-Сильван Байльи родился в Париже 15 сентября 1736 года. Отец его Жан Байльи был хранителем королевской картинной галереи, а в числе предков этого семейства было несколько известных и замечательных живописцев. Жан-Сильван Байльи в молодые годы почувствовал призвание к литературе. Первым произведением его была трагедия «Клотар», одним из главных эпизодов которой было убийство народом дворцового мэра. Скоро, впрочем, Байльи оставил занятие литературой и посвятил себя науке. Изданное им в 1771 году сочинение «Замечания о свете спутников планет», поставило его в ряд с замечательными астрономами того времени. В 1775 году он издал первый том своей «Истории древней и новой астрономии», а вскоре после того, в 1787, уже окончил издание трех томов своей «Истории астрономии в Индии и на Востоке». Будучи членом трех академий во Франции и автором нескольких филантропических сочинений, Бальи обратил на себя особенное внимание своих сограждан, как своей репутацией хорошего ученого, так и либерализмом своих убеждений. Вследствие этого он был выбран Парижем в депутаты Национального собрания, которое в свою очередь избрало его своим президентом. 16 июля 1789 года он был избран мэром города Парижа и принятием на себя этого звания показал в себе скорее горячего патриота, чем человека, благоразумно осторожного. Популярность, которой пользовался Бальи, ослепила его. Он считал свое положение настолько безопасным, что думал легко управиться с возлагаемыми на него обязанностями. Но скоро он успел убедиться, что вся его популярность была чересчур плохой гарантией при той роли укротителя, которую он взял на себя.
Вследствие своей искренней преданности существовавшей в то время конституции, Байльи навлек на себя ответственность в некоторых репрессивных мерах, ознаменовавшихся кровавыми сценами на площади Согласия. Два убийства, совершившиеся в этот день утром, выстрел в одного из адъютантов Лафайета, распоряжение Национального собрания, пользовавшегося вследствие устранения от дел короля верховной властью, придали совершенно законный вид совершившемуся объявлению города на военном положении. Кроме того, почти уже доказано, что залпы по толпам собравшейся черни были делом враждовавших партий, умевших воспользоваться этим событием, но не согласившихся принять его на свою ответственность; сам же Байльи, как кажется, никогда не отдавал приказания стрелять в собравшийся народ. Несмотря на все это, на другой же день после этого кровавого события и в журналистике и с якобинских трибун загремели тысячи голосов, проповедовавших о ненависти и мщении бедному Байльи. Даже один из самых умеренных публицистов того времени, обращаясь к Байльи, произносит следующие слова: «События этого рокового дня станут медленным ядом, который отравит всю вашу жизнь».
Байльи подал прошение об отставке, но просьба его в это время не была уважена, и не ранее как в первых числах ноября он получил позволение удалиться от занимаемой им должности. Он перестал заниматься общественными делами и удалился в окрестности Нанта. Но зал 17 июня отозвался не на одном Марсовом поле. В Нанте, также как и в Париже, на Байльи не переставали смотреть как на виновника совершившегося кровавого события. Угрозы в Нанте заставили Байльи писать г. Пласу и просить его указать бывшему парижскому мэру более безопасное убежище. Г. Пласс нашел ему приют в окрестностях Мелюна. Но, выезжая из Бретани, Байльи встретился с отрядом революционной армии, был узнан и арестован. По приезду в Париж, Байльи вскоре перевели из тюрьмы Ла-Форс в Консьержери. Мы уже встречали имя бывшего мэра в числе свидетелей во время процесса королевы. Уже в это время выходки и обращение с ним Германа, несомненно, доказывали несчастному Байльи, что его участь должна скоро решиться.
Действительно, 19 брюмера пришла очередь Байльи явиться на суд революционного трибунала. Побоище на Марсовом поле было не единственным пунктом против Байльи. Так, например, доказали, что Байльи хотел возбудить раздоры и междоусобия во время взятия Бастилии, а также, что он вместе с Лафайетом содействовал бегству короля в Варень. Нелепость всех этих обвинений, с которыми мы имели уже случай познакомиться во время процесса Марии-Антуанетты, очевидна и не заслуживает даже опровержений.
Во время процесса Байльи было допрошено очень много свидетелей; все они единогласно обвиняли его, но надо сознаться, что большая часть этих свидетелей сумела воздержаться и не высказывала той ненависти, которую питала к подсудимому.
Заседание тянулось до позднего вечера и продолжалось также на другой день. Байльи единодушно был приговорен к смертной казни и выслушал свой приговор со стоицизмом древнего мудреца.
Фр. Араго в своей биографии Байльи говорит, что осужденный по возвращении из суда в тюрьму позвал к себе племянника и предложил сыграть партию в пикет. На половине игры он положил карты и с улыбкой сказал своему партнеру.
— Остановимся, друг мой, на минуту и давай понюхаем табачку; завтра ведь я буду лишен этого удовольствия, потому что руки будут связаны за спиной.
В приговоре между прочим сказано, что казнь Байльи должна была быть исполнена в том самом месте, где было совершено главное его преступление.
Я уже упоминал выше о том, что исполнитель ежедневно обязан был являться для получения приказаний или в канцелярию, или к самому публичному обвинителю. 20 брюмера секретарь Фабриций, занятый разговором с одним из присяжных, встретил моего деда в коридоре и мимоходом сказал ему: «Сегодня ничего не будет». При этом Фабриций, отпуская домой Шарля-Генриха, ни слова не сказал о тех распоряжениях, которые необходимо было сделать к завтрашнему дню. Не ранее как в 9 часов утра 21 брюмера дед мой получил приказание снять гильотину и перенести ее на площадь Согласия.
Пока собирали помощников, прошло довольно много времени, так что отправиться на площадь революции пришлось не ранее 10 часов.
Фукье-Тенвиль приказал поставить эшафот между так называемыми алтарем отечества и Гро-Кайльу, то есть на том самом месте, где помещены были войска, стрелявшие в народ. На отца моего была возложена обязанность снять и перенести гильотину, а Шарль-Генрих, сделав некоторые наставления отцу, сам отправился в Консьержери и пришел туда около одиннадцати с половиной часов. При входе он встретился с Гебером, вежливо поклонившимся ему. Тотчас же в переднюю канцелярии приведен был Байльи. Франсуа Араго совершенно справедливо утверждает, что вовсе не парижской черни принадлежала инициатива тех возмутительных выходок, которые обусловили такую мучительную агонию для несчастного Байльи. Так например, прислуга в Консьержери, и без того дерзко и иногда даже жестоко обращавшаяся с осужденными, на этот раз ознаменовала себя такими возмутительными выходками, что по всей вероятности ей даны были относительно Байльи особые инструкции. Началось с того, что при самом появлении осужденного один из тюремных стражей, подражая голосу лакея, докладывающей о прибытии гостей, провозгласил:
— Господин Байльи разжалованный мясник бывшего тирана Франции.
Когда Байльи нагнулся, чтобы поправить у себя подвязки на чулках, другой из служителей сильным толчком сбил осужденного с ног и крикнул при этом одному из своих товарищей:
— На, держи господина Байльи!
Товарищ этот, подхватив несчастного Байльи на лету, снова толкнул его, так что Байльи некоторое время переходил из рук в руки. Все это, разумеется, сопровождалось самыми наглыми шутками.
Смотритель тюрьмы Боль и секретарь Наппье молча смотрели на эти бесчеловечные выходки. Шарль-Генрих спросил было у Боля, почему он позволяет подобные выходки, но Боль только пожал плечами и сказал:
— Да что же я тут могу сделать?
Секретарь же, напротив, смеялся и, по-видимому, был очень доволен поведением тюремной прислуги. В это время дед мой, вспомнив, что при входе в Консьержери ему попался навстречу Гебер, подумал, что по всей вероятности этот господин был одной из причин такого обращения с осужденным. Действительно, Шарль-Генрих не ошибся, и Боль согласился впоследствии, что Гебер всеми силами старался вооружить тюремную прислугу против Байльи.
Шарль-Генрих, видя, что несчастному осужденному неоткуда уже ожидать помощи и что только одна смерть в состоянии избавить его от оскорблений и истязаний, приказал своим помощникам как можно скорее взять Байльи и связать ему руки.
Впрочем, все эти истязания вовсе не поколебали мужества осужденного, переносившего все это с каким-то особенным добродушием. В ответ на грубые толчки он с невозмутимой кротостью повторял своим тюремщикам:
— Оставьте меня, мне больно!
Когда, наконец, помощники отняли его у прислуги, то он, поправляя на себе рубашку, промолвил с улыбкой:
— Ведь я уж немножко устарел для этаких игр.
Когда предсмертный туалет был окончен, то дед мой предложил осужденному одеться потеплее, потому что день был холодный.
— Разве вы боитесь, что я простужусь? — возразил на это Байльи.
Тьер в своей «Истории Революции» уверяет, что Байльи вели на казнь пешком, но это совершенная неправда. Бывший мэр города Парижа не лишен был привилегии общей для всех осужденных и доехал до места казни в позорной телеге. Сзади телеги было привязано красное знамя, которое по приговору суда на глазах подсудимого должно быть сожжено рукой палача.
В двенадцать часов без четверти поезд выехал из Консьержери.
При появлении телеги на набережной раздались оглушительные восклицания, и поезд был тотчас же окружен толпой, в которой дед мой заметил всех обычных посетителей площади Революции. Полчища каннибалов были в полном составе; отвратительные женщины, заклейменные именем лизоблюдок гильотины, отличались в этот день особенной отвагой и неистовством.
Впрочем, до самого прибытия на площадь Революции ярость толпы выражалась только в оскорблениях и угрозах и ничего еще не было брошено из толпы в телегу.
Байльи сидел на своем месте и с невероятным спокойствием и развязностью беседовал с моим дедом. При этом он говорил обо всем, кроме самого себя. Между прочим он расспрашивал о последних минутах жизни некоторых из осужденных, как например Кюстина, Шарлотты Корде и королевы. Потом с тем же спокойствием, с каким бывало беседовал с подчиненными в своем кабинете, он обратился к моему деду с вопросом о том, сколько дохода приносит ему должность исполнителя уголовных приговоров.
Когда телега была около Елисейских полей, прибежал навстречу один из помощников. Дело было в том, что плотники забыли захватить несколько досок, составляющих платформу эшафота. Пришлось остановиться, вернуться назад и нагрузить эти доски в телегу, на которой сидел осужденный.
Остановка эта была сопряжена со значительной опасностью. Байльи слез с телеги и толпа два раза бросалась на него, но жандармы энергично дали отпор и оба раза успели удержать натиск толпы.
Телега снова тронулась в путь, но доски, наваленные на нее, при тряске видимо беспокоили Байльи. Дед мой предложил идти пешком, на что он согласился, и оба они слезли с телеги. Дорога была довольно дурна, так что ряды конвоя немного расстроились и образовалось несколько интервалов. Толпа воспользовалась этим и прорвалась к самому осужденному; при этом ярость черни перешла в какое-то самозабвение, и дикие вопли стали вдвое сильнее. Не успели пройти двухсот шагов как какой-то повеса, мальчишка лет пятнадцати, схватил Байльи за верхнее платье, накинутое им на плечи, и сорвал его. Толчок при этом был так силен, что несчастный осужденный упал навзничь. В одну минуту платье это было разорвано на тысячу кусков. Приведенная в бешенство толпа попробовала было еще раз броситься на осужденного, находившегося под прикрытием только моего деда и его помощников, но вмешательство подоспевших жандармов снова помешало этому.
Дед мой поспешил снова сесть с осужденным в телегу, но толчок уже был дан. Наскучило ли толпе кричать или проявилось в ней желание непосредственно отомстить за себя, но только целый град разной дряни полетел в осужденного. Дед мой посоветовал было Байльи сесть на дно телеги на находившиеся там доски; но едва только жертва скрылась из глаз толпы, как вопли усилились, и несколько камней засвистало в воздухе. Байльи поднялся с занятого им места и промолвил:
— Нет, ваш совет положительно нехорош; всегда нужно идти прямо навстречу буре.
Потом, когда Шарль-Генрих стал высказывать свое негодование против толпы, Байльи прибавил.
— Странно бы было мне, прожив с честью пятьдесят пять лет, не суметь умереть мужественно и не сохранить присутствия духа на каких-нибудь четверть часа.
Переезд был сделан довольно скоро, и около половины второго телега уже остановилась на площади Согласия. Эшафот был почти готов, и вокруг него уже толпилось около трех или четырех тысяч народа. По большей части тут были жители Гро-Кайльу и Гренелля, но в рядах их на первом плане нетрудно было заметить несколько угрюмых личностей, постоянно являвшихся коноводами толпы при каждом движении народа. Эти личности, видимо, поджидали прибытия осужденного, потому что успели растолкать толпу и окружили гильотину.
Опасения Шарля-Генриха увеличивались с каждой минутой. Увидев огромную толпу народа вокруг слабого конвоя, он понял, что осужденный находится совершенно во власти толпы. Чтобы избавить его от страшных предсмертных страданий, по долгу человеколюбия необходимо было покончить с ним как можно скорее. Поэтому Шарль-Генрих приказал работникам как можно скорее сколачивать доски на платформе.
В это время вопли и оскорбительные выходки заменились голосами, обращавшимися уже не к осужденному, а к исполнителю. Вслед за тем человек двадцать коноводов, о которых я только что упомянул, окружили Шарля-Генриха и объявили ему, что землю, орошенную кровью мучеников, нельзя поганить кровью такого злодея. Поэтому Байльи не должен быть казнен на площади Согласия. Дед мой сослался было на полученные им приказания, но один из коноводов перебил его и сказал:
— Повелитель твой — народ, и он один имеет право давать тебе приказания. Повинуйся же!
Шарль-Генрих обратился было за советом к жандармскому офицеру, но в это время другой из коноводов закричал:
— Ты можешь объявить себя на военном положении; у тебя есть и красное знамя и Байльи под рукой. Что касается нас, то мы сами перенесем гильотину; мы за тебя распорядимся, бездельник.
Раздались страшные рукоплескания. При этом было от чего прийти в смущение.
Между тем жандармы рассыпались в разные стороны, и народ в знак братства с ними поил их вином. Многие бросились помогать плотникам, разбиравшим гильотину. Толпы волновавшегося как море народа отделили от Байльи моего деда, так что Шарлю-Генриху пришлось употребить неимоверные усилия, чтобы проложить себе дорогу к осужденному.
По грязи на рубашке Байльи, по ссадине на лбу, с которого капала кровь, легко было догадаться, что остервеневшая толпа успела уже наложить руку на Байльи. Все что только можно вообразить себе самого гадкого, все это бросалось прямо в лицо Байльи мегерами, освирепевшими до самозабвения. Мужчины неистовствовали не менее их. Одни порывались бить кулаком осужденного со связанными за спиной руками; другие старались достать до него палкой через головы своих соседей. На лице Байльи было все то же выражение кротости, и только страшная бледность разлилась на нем. Увидев Шарля-Генриха, Байльи сделал ему знак глазами подойти скорее поближе. У несчастного старика остался только один друг — палач!
— Ах, я надеялся, что казнь моя совершится гораздо скорее, — сказал он, сойдясь опять с Шарлем-Генрихом.
В это время при осужденном оставался только один из помощников, а другой исчез куда-то. Двое великодушных граждан, квартирмейстер Болье и жандарм Лебидуа, предложили свои услуги, и с помощью их можно было кое-как охранять подсудимого от жестоких выходок толпы. Болье начал толковать с народом; он ловко похвалил стремление толпы отомстить за себя, но заметил при этом, что нация уже поручила мщение за себя назначенным для этого мстителям, и что только дурной гражданин может осмелиться мешать другому гражданину при исполнении обязанностей, возложенных на него правосудием и законом.
Несколько разъяренных личностей пробовали было прерывать речь и отвечать на нее свистками, но сильный и энергичный голос Болье был слышен далеко за первыми рядами и встретил там сочувствие у всех честных людей. Раздались рукоплескания, и разъяренным личностям пришлось замолчать на некоторое время.
Болье очень хорошо понимал, как опасно оставаться с осужденным на одном месте. Надеясь освободиться от окружавших его коноводов, а главное, желая дать какой-нибудь исход народному волнению, он предложил вести Байльи и заставить его самого выбирать место для эшафота. Болье повел осужденного за одну руку, Шарль-Генрих Сансон за другую, а жандарм и помощник пошли вслед за ними.
Вот этот-то переход и был поводом к рассказам о том, что Байльи обвели вокруг площади Согласия. Точно также совершенно несправедливо уверяют, что осужденного заставляли нести на себе доски от эшафота. Я уже упомянул выше, что эшафот был разобран работниками моего деда с помощью народа. Правда несколько молодых и по большей части очень молодых людей сделали полукровожадную, полудетскую выходку, взвалив себе на плечи несколько наиболее характерных принадлежностей эшафота, и с этой ношей шли в толпе. Кроме этого, все остальное было перевезено на двух телегах, попавшихся на площади.
Ламартин, подчиняясь более влиянию своего поэтического духа, чем благоразумию и точности, необходимой для историка, сообщает между прочим совершенно неправдоподобное известие о том, что Байльи будто заставляли лизать землю, по которой лилась кровь народа.
Правда, что в продолжение трех четвертей часа, от прибытия на площадь Согласия до самой казни, бедному мученику пришлось перенести много оскорблений; правда, что помощь людей, обязанных защищать его, не всегда сопровождалась успехом. Но с другой стороны зверские выходки толпы только однажды имели возможность проявиться и более не возобновлялись. К тому же даже в самой толпе, рядом с личностями, поставившими себе задачу возбуждать ярость и неистовство черни, нашлись благородные люди, решившиеся энергично восстать против совершавшихся ужасов.
Истина, как видите, и без того неутешительна в этом событии, но зачем же грешить против нее и мрачную картину делать еще мрачнее? Жизнь добродетельного человека стала игрушкой, предметом насмешек у разъяренной толпы; безукоризненный гражданин, заслуживающий своей деятельностью полного уважения будущих поколений, делается жертвой диких страстей самых презренных людей; несчастный страдалец доводится до того, что начинает смотреть на эшафот, как на самое благодетельное человеческое изобретение. Неужели этого недостаточно для того, чтобы удовлетворить даже самое жадное до всего ужасного воображение?
Байльи был приведен на левую сторону площади Согласия в сторону от реки; в этом самом месте, во рву, окружавшем ограду, после долгих споров решено было поставить эшафот.
Все это время шел мелкий и холодный осенний дождик. На Байльи осталась одна только рубашка, растерзанная в лохмотья, сквозь которые там и сям на теле виднелись следы варварского обращения толпы с осужденным. Байльи дрожал, и слышно было, как его зубы стучали. В эту минуту кто-то из толпившегося около него народа спросил:
— Что, Байльи, дрожишь?
— Да, мой друг, — отвечал Байльи, дрожу, потому что озяб. Простота и кротость, с которой были произнесены эти слова, еще более усиливали значение этого и без того замечательного ответа.
Ни натиск толпы, ни мучения не поколебали у Байльи присутствие духа, но силы стали изменять ему, и он, видимо, ослабевал. Не достало ли более сил у непоколебимой души для продолжения борьбы, или просто утомленное и окоченевшее от холода тело перестало подчиняться силе воли, как бы там ни было, но Байльи, с закинутой назад головой и с закрытыми глазами полубессознательно двигался вперед, опираясь на руку исполнителя и одного из жандармов, и только полушепотом бормотал:
— Пить! Пить!
В это время кто-то, я не знаю даже как назвать подобное чудовище, бросил прямо в лицо страдальцу жидкой грязью. Эта выходка возмутила даже людей, ознаменовавших себя своей безжалостностью, и раздался почти общий крик негодования. Один из зрителей подбежал к эшафоту, принес оттуда с собой бутылку, в которой было немного вина, и вылил это вино в полуоткрытый рот Байльи. «Благодарю вас», — прошептал страдалец с обычной своей улыбкой, с улыбкой истинно добродушного человека, с улыбкой, которая, по словам моего отца, навсегда остается в памяти того, кто видел ее хоть однажды.
Во время обморока Байльи яростные выходки народа утихли; они, хотя уже гораздо слабее, возобновились в то время, когда подсудимый сходил в ров, в котором была поставлена гильотина.
Народу, как видно, уже надоел героизм перед казнью. Быть может, мужество осужденных казалось толпе последним оскорблением той власти, которой так дорожил народ. Быть может, в бесчувственном равнодушии во время роковой минуты было что-то нечеловеческое, не постигаемое толпой. Как бы там ни было, но подсудимый, не выходивший из общего уровня и ослабевавший или проявлявший малодушие и робость в последнюю минуту жизни, скорее мог рассчитывать на сочувствие толпы, чем человек, геройски шедший навстречу смерти. Так было и в деле Байльи. Пока он смело встречал все оскорбления, угрозы и зверские мучения, толпа обращалась с ним самым безжалостным образом; но как только та же самая толпа заметила, что жертва ее ослабела и силы изменили ей, то выходки и неистовства стали утихать.
Байльи был до того слаб, что его нужно было поддерживать, чтобы хоть как-нибудь ввести по лестнице на эшафот. Поднявшись наверх, несчастный старик радостно вздохнул, как будто страшную тяжесть сняли у него с плеч.
— Скорее, — сказал он Шарлю-Генриху, — кончайте со мною скорее, прошу вас…
К сожалению нельзя было исполнить даже эту последнюю просьбу страдальца. В приговоре было предписано исполнителю сжечь красное знамя на глазах бывшего мэра города Парижа. Необходимо было исполнить эту формальность, и в то же время жаровня, принесенная с этой целью, давала слишком мало огня, а мокрая шерстяная ткань знамени была слишком плохим горючим материалом. Пришлось изрубить одну из досок эшафота, при помощи которой удалось, наконец, хорошенько развести огонь и сжечь знамя.
Басня о том, что исполнитель будто бы жег знамя под самым носом Байльи, так что пламя охватило даже одежду несчастной жертвы, очевидно, не заслуживает никакого внимания.
Как бы там ни было, но все приготовления заняли очень много времени, а осужденный ослабевал с каждой минутой, и казалось, что он должен скоро снова упасть в обморок. Дед мой, исполнив все предписания приговора, подошел к осужденному, который, догадавшись, что уже настал конец его страданиям, пришел в себя и ободрился. Шарль-Генрих подвел его к доске, сам стал помогать привязывать его и сказал при этом:
— Мужайтесь, господин Байльи, мужайтесь!
Знаменитый мученик повернул свою голову направо и совершенно ясным, твердым голосом проговорил:
— Ах! Я теперь уже у самого порога и…
Движение доски, поднятой одним из помощников, не дало ему возможности окончить начатую фразу… В ночь с 21 на 22 число эшафот снова был перенесен на площадь Революции, потому что новые смертные приговоры были произнесены в этот день революционным трибуналом.
На этом оканчиваются мои труды для пополнения рассказов о казнях революции, и с этого времени начинается дневник деда моего Шарля-Генриха Сансона. Я буду приводить эту безыскусственную летопись эшафота в 93 году точно так же, как приводил разные отрывки из заметок моего деда, не допуская никаких поправок. Я ограничусь только указаниями в особых примечаниях, на те ошибки и пропуски, которые, по моему убеждению, встречаются в этом рассказе.
ТОМ VI
Глава I Журнал Шарля-Генриха Сансона
26 брюмера. Сегодня был казнен гражданин Кюссо из Каэны, принимавший участие в заговоре каэнских депутатов и подобно им, лишенный покровительства законов. Вместе с ним был казнен Жильбер Вуазен бывший президентом прежнего парламента. Вуазен успел было эмигрировать, но потом имел глупость возвратиться в Париж. Во время предсмертного туалета Кюсси кто-то сказал вслух, что Кюсси по ремеслу — чеканщик серебряной и золотой монеты и теперь должен погибнуть на гильотине; это верный знак того, что нашей республике не нужно других денег, кроме бумажных. Вслед за ними явился к нам бывший главнокомандующий Северной армией генерал Гушар, сохранивший, как следует солдату, полное присутствие духа.
27 брюмера. Изготовители фальшивых ассигнаций все еще продолжают нам давать довольно работы; сегодня я еще отвел двух лиц, подвергшихся осуждению по делу о фальшивых ассигнациях. Фальшивые ассигнации составляют несчастье, которого часто не могут избежать самые невинные люди. Ассигнации подделываются так ловко, что очень трудно отличить фальшивые ассигнации от настоящих. Притом само собой разумеется, что очень многие, получив подобную ассигнацию, не могут воздержаться от искушения сбыть ее с рук и свалить свой убыток на кого-нибудь другого. Вечером на улице Тиксерандери я встретил толпу женщин, шедших в Коммуну (городской совет).
Почти у всех этих женщин на головах были надеты красные якобинские шапки. За этими женщинами следовала огромная толпа народа, сопровождавшая их рукоплесканиями, посреди которых временами слышалось что-то похожее на свистки. Я увлекся общим примером и, желая узнать причину этой демонстрации, пошел вслед за толпой. Навстречу мне попался гражданин Никола Лельевр, проведший меня в здание Коммуны, где уже находились все попавшиеся нам на дороге женщины. Впрочем, гражданина Шомета не пленили ни костюм, ни выходка этих женщин, и он, сказав им несколько резких слов, прогнал их по домам.
28 брюмера. Сегодня утром в Консьержери. При входе в переднюю канцелярии мы встретили двух граждан отправлявшихся для допроса. Один из этих граждан, по имени, как мне сказали, Буагюйон, служивший прежде на военной службе, подошел ко мне, и с самой изысканной вежливостью сказал:
— Как мне кажется, я имею честь говорить с гражданином исполнителем, не так ли? Если так, то позвольте спросить вас, гражданин, правда ли, что у вас на эшафоте почти тот же порядок, что и в танцевальном зале. Только что успеешь стать на место, а уже скрипка, то есть резак гильотины, начинает свою ритурнель, так что даже не успеешь пикнуть двух слов?
Я ответил утвердительно на этот вопрос. Тогда собеседник мой обратился к своему товарищу и сказал:
— Ну вот, видите, Дюпре, что я был совершенно прав, и вы очень дурно распорядились вашей ролью. Непременно нужно было попросить у Фукье разрешения гражданину исполнителю быть руководителем во время репетиций.
Жандармы скоро увели их, но смех издали доносился до нас. Они толковали со мной о своих театральных представлениях в тюрьме, сюжетом которых была обыкновенно смертная казнь, и которые доставляли огромное удовольствие заключенным. Веселость этих людей в такой обстановке меня окончательно поразила.
Сегодня были казнены: бывший депутат учредительного собрания Никола-Роми Лезюер из Сен-Менегу и один инвалид-солдат, занимавшийся вербовкой солдат для врагов республики.
29 брюмера. Двое казненных: офицеры Детар де-Бельекур и бывший чиновник при тюлберийском дворе Шарль Дюпар, обвиненный в заговоре 10 августа. Во время казни не было ничего особенно замечательного.
30 брюмера. Сегодня были принесены в Конвент вещи, конфискованные из бывшего аббатства Сен-Жермен-де-Пре.
1 фримера. Сегодня пришлось взять гражданина Буагюйона, который, как мы видели, так забавно расспрашивал меня о гильотине. Когда его привели к нам, он сказал:
— Сегодня вы просто удивитесь, как хорошо я изучил свою роль.
Вместе с ним отправлялся на казнь Жирей-Дюпре, осужденный за сообщничество с Бриссо в издании журнала «Патриот Франции». Дюпре призвал к себе парикмахера еще до отправления в трибунал и таким образом явился к своим судьям в прическе приговоренного к смертной казни. Явившись ко мне, он повернулся передо мной и сказал:
— Надеюсь, что я ничего не упустил из виду, кроме веревки, которой нужно связать мне руки, впрочем, эта обязанность составляет исключительно ваше право, — при этих словах он протянул мне руки.
Во всех словах и движениях его заметно было большое воодушевление. Вместе с этими двумя осужденными отправлялся на эшафот крестьянин Коломбье, уличенный в изготовлении фальшивых ассигнаций, все трое уселись в одну телегу. Крестьянин совершенно упал духом и все старался доказать Буагюйону, что он совсем невиновен. Буагиньон старался ободрить его.
Коломбье был казнен первым. Вслед за ним взошел на эшафот Буагюйон сохранивший до конца невозмутимое спокойствие духа Дюпре, взойдя после него на эшафот, хотел было что-то сказать народу, но нам был дан приказ помешать ему говорить. Пришлось схватить его и привязать к роковой доске. В это время он успел только несколько раз подряд воскликнуть: «Да здравствует республика!»
4 фримера. Сегодня мы совершили казнь бывшего подполковника Антуана де Тонтеля и бывшего контролера финансов Клемана Лаверди, уличенного в том, что он содействовал распространению голода во Франции, высыпая в пруд зерновой хлеб.
6 фримера. Вчера трибунал судил лиц, обвиненных в ложных показаниях в деле гражданина Лозана и гражданина Пранмезона. Двое из подсудимых были оправданы и освобождены, а третий, мыльный фабрикант Картеран Деворме, был приговорен к смерти. Казнь его была совершена сегодня.
7 фримера. Хлеб становится редкостью в городе. Чтобы добыть его, приходится долго в толпе ждать очереди у дверей булочных. Многие женщины приходят занимать места с вечера и иногда ждут очереди целую ночь, обыкновенно ожидающие дежурят и занимают свои места посменно. Грустное зрелище представляет эта толпа людей, не знающих, какая участь ждет их завтра, голодающие семейства. Впрочем, наши граждане всегда и во всем найдут себе случай позабавиться. Сегодня ночью, например, у дверей булочной на нашей улице дожидалось более пятисот человек, и, несмотря на холодную погоду, в толпе пелись песни.
Сегодня трибуналом были приговорены к смерти жандармский поручик Жак-Этьен Маршан, генерал Никола Полье-Ламарльер и бывший директор национальной типографии Эмьень-Алекси-Жак Аниссон.
9 фримера. Пять голов скатилось сегодня на помост эшафота. Двое из погибших были очень известные лица: один — бывший депутат Барнав, которого во время возвращения короля я видел в королевской коляске рядом с Марией-Антуанеттой, а другой бывший министр юстиции Дюпар дю-Тертр. Говорили, что Дантон пытается спасти Барнава; но при новом законе доноса ребенка было достаточно, чтобы довести человека до гильотины, так что его, при всем своем желании не могло спасти даже первое лицо в республике. Вчера я встретился с Фукье в то время, когда он входил в зал суда. Казнь должна бы была совершиться в тот же день, но так как заседание затянулось, то из-за позднего времени пришлось отложить казнь до утра. Осужденным пришлось прожить около суток в томительном Ожидании.
10 фримера. Сегодня мне пришлось отправиться из Консьержери на площадь Революции с двумя телегами. На этот раз со мной не было знаменитостей, которым одним пришлось бы предоставить честь занимать отдельную телегу. Зато количество жертв вполне вознаграждало любопытство зрителей, потому что в одной телеге помещалось пятеро, а в другой четверо осужденных, всего девять жертв в один день. В числе осужденных находились мать с сыном. Они так крепко обнялись друг с другом, что их пришлось оттащить друг от друга силой, чтобы иметь возможность связать им руки. Когда мать увидела, что волосы ее сына уже обрезаны, то из груди ее вырвался страшный, раздирающий вопль, как будто у нее вдруг разорвалось сердце. Мы были сильно смущены, когда она, обратившись к нам, стала доказывать, что республика должна довольствоваться ее головой и что мы должны пощадить ее сына.
— Ведь его непременно помилуют? Не правда ли?
Мне показалось, что в ней укоренилось убеждение, будто ее сына нарочно привезли сюда, чтобы произвести на нее сильное впечатление, но что его ни в каком случае не будут казнить. У меня не достало духу разубеждать ее в этом. Действительно, если недавно меня так потрясли преклонные годы моих жертв, то на этот раз не менее тронула меня молодость осужденного. Ему было двадцать три от роду.
11 фримера. Сегодня были казнены следующие лица: трактирщик Жан Вансено, родом из Гондрекура, обвиненный в лионском восстании; содержатель пансиона Пьер-Никола Обри, обвиненный в стремлениях содействовать восстановлению монархического образа правления, и виноторговец, содержатель трактира на Пуасоньерском бульваре, Себастьян Модюи, обвиненный в попытках поколебать верность солдат и в сочувствиях Дюмурье.
12 фримера. Сегодня утром двое осужденных, оба они сапожники, Бартелеми Судр и Гюльом-Жан Фламон, и оба приговорены к смерти за недобросовестное исполнение взятых ими подрядов. Стоит только вспомнить то жалкое состояние, в какое приведены наши храбрые солдаты, чтобы исчезло всякое сожаление к лицам, бессовестно обкрадывающих их. Вчера член Конвента Вулан в судейской комнате трибунала назвал казни на гильотине кровавым жертвоприношением. Я только вчера слышал об этом выражении от старшины присяжных, а сегодня слух об этом прошел по всему городу и везде повторяют это выражение. Между прочим, у нашего нового божества есть уже и свой жрец; это гражданин Робеспьер. Он говорил на собрании против предложений Клоотца и Шомека, и речь его встретила у публики большее сочувствие, чем у депутатов. Многие женщины также не очень жалуют Богиню разума и при всяком удобном случае поют ей не слишком лестные гимны. Беспрестанно отпускаются разного рода двусмысленности по поводу лицемерного усердия Робеспьера к новой богине. Впрочем, все это вовсе не мешает Робеспьеру пользоваться у толпы прекрасной репутацией.
13 фримера. Казнены: врач Антуан-Пьер-Леон Дюфрень за преступную корреспонденцию, с целью разжечь междоусобную войну и посягнуть на неделимость республики, и чиновник министерства внутренних дел Этвен-Пьер Гарно за стремление содействовать уничтожению народного представительства и восстановлению королевской власти.
Сегодня Коммуна издала распоряжение о том, что нужно для того, чтобы получить свидетельство на звание гражданина. Оказывается, что попасть в граждане весьма трудно. Из распоряжения этого видно, что для получения права гражданства необходимо: 1) Представить доказательство о внесении имени претендента в списки Национальной гвардии с 1790 г., если только он в это время мог уже пользоваться гражданскими правами; 2) Представить квитанции об уплате патриотических податей и контрибуции в 1791 и 1792 годах; 3) Не занимать с 10 августа в одно время двух разных должностей и не получать двух жалований; 4) Никогда не писать ничего против свободы; 5) Никогда не принадлежать ни к одному из предосудительных клубов, каковыми в Париже были Монаршьян, Фейльян, Сент-Шапель, Массьо и Монтеги; 6) Никогда не быть исключенным ни из какого демократического общества, каковыми в Париже были общества Якобинцев и кордельеров со времени их обновления; 7) Не находиться в числе лиц, подписавших один из предосудительных адресов, каковыми в Париже были прошения восьми тысяч и прошение двадцати тысяч, направленные против перенесения в Париж праха Вольтера и против дозволения священникам жениться; подпись на одном из этих адресов лишает прав на гражданство даже в том случае, когда кто-либо из подписавшихся тотчас же заявил свое отречение. Если бы этот декрет стали приводить в исполнение, то в числе подозрительных лиц оказалось бы, по крайней мере, три четверти парижского населения.
15 фримера. Сегодня я был в Консьержери, откуда предписано было взять бывшего генерала Жака-Огюста Рассе и бывшего начальника штаба г. Бриссака Луи Маргерит-Бернар д’Экур, обвиненных в сношениях с неприятелями республики, а также бывшую дворянку Шарлотту-Фелисите Лонне, по мужу Шарри, бывшую любовницу депутата Осселена. Только что я собрался было удалиться из Консьержери, как от публичного обвинителя пришло приказание подождать еще некоторое время. Привратник, стоявший на часах, сказал мне, что в Консьержери только что привели гражданина Рабо-Сент-Этьен и брата его Рабо-Помье и что Фукье только что представлял трибуналу для удостоверения личности первого из них, давно уже объявленного лишенным покровительства законов. Через какие-нибудь полчаса жандармы привели уже ко мне Рабо-Сент-Этьена, а Тирас передал мне предписание исполнить над Рабо смертный приговор.
Мы отправились. Рабо умер с большим присутствием духа.
17 фримера. Вчера вечером была осуждена госпожа Дюбарри, а сегодня утром состоялась ее казнь. Исполняя данное нам предписание, мы явились в девять часов утра, но как оказалось, пришлось дожидаться, потому что при осужденной находился судья Дениза и помощник публичного обвинителя Руайе, допрашивающие госпожу Дюбарри. В десять часов привели ко мне семейство Ванденивер, состоящее из отца и двух сыновей, все трое были осуждены как соучастники госпожи Дюбарри. Вместе с ними еще приведены были Бонардо и Жозеф Брюнио, уличенные в изготовлении фальшивых ассигнаций. Пока мы занимались предсмертным туалетом этих лиц, привели к нам в приемную канцелярию и госпожу Дюбарри. Она от волнения едва могла держаться на ногах и шла, придерживаясь за стену. Мне не приходилось видеть эту женщину около двадцати лет и я, вероятно, не узнал бы ее. Заметив меня сзади ряда осужденных, стоявших со связанными уже руками, она ахнула, закрыла глаза платком и вслед за тем бросилась на колени с криком:
— Нет, я не хочу, я не хочу!
Почти тотчас вслед за теми она встала и сказала мне:
— Скажите мне, где здесь судьи, я еще не все рассказала, не во всем созналась. В это время у Ришара были Денизо и Руайе, пришедшие к нему с двумя или тремя депутатами, желавшими видеть шествие на казнь бедной госпожи Дюбарри. Денизо и Руайе явились по первому требованию, но отказались возвратиться с осужденной в канцелярию и потребовали немедленных объяснений. Тогда госпожа Дюбарри сообщила о нескольких драгоценностях, спрятанных в ее доме, и не отданных на сохранение частным лицам. Свой рассказ она беспрестанно прерывала рыданиями, а временами начинала даже бредить как бы в горячке. Гражданин Руайе, записавший ее показания, подал было ей перо и спросил: «Все ли вы сказали?» — предложил подписать протокол, но она с ужасом оттолкнула бумагу и объявила, что ей нужно еще многое сказать. При этом ясно видно было, что она усиливалась придумать еще что-нибудь. Наконец Денизо и Руайе встали со своих мест и резко объявили подсудимой, что ей необходимо подчиниться требованиям справедливости и мужеством перед смертью искупить преступления во время жизни. Дюбарри, казалось, была уничтожена этими словами и неподвижно сидела на своем месте. Один из моих помощников, сочтя это время очень удобным для исполнения своих обязанностей, подошел было к осужденной с ножницами. Но только что он успел раз щелкнуть ножницами, как она вскочила со своего места и энергично оттолкнула его. Пришлось связать ее при помощи двух других помощников. После этого она позволила делать с собой что угодно, и только так горько плакала, как мне никогда не случалось видеть. На улице собралось очень много зрителей; не меньше того, чем их было при казни королевы и жирондистов. Громкие крики этой толпы не могли заглушить стонов жертвы, постоянно раздававшихся во время переезда.
Нам было дано приказание казнить ее последней, но когда мы сошли с телеги, секретарь сказал мне, чтобы я распорядился так, как нахожу удобнее. Подсудимая при виде гильотины упала в обморок, и я приказал тотчас же внести ее на эшафот. Но едва только она почувствовала прикосновение к себе, сознание снова явилось к ней, и, несмотря на то, что была крепко связана, она оттолкнула моих помощников и стала кричать:
— Нет, нет, погодите! Еще минуту, господа палачи, еще хоть минуту, прошу вас!
Помощники потащили ее, но она продолжала отбиваться и старалась укусить их. В это время у подсудимой проявилась необыкновенная сила. Несмотря на то, что помощников было четверо, им пришлось употребить не менее трех минут на то, чтобы втащить ее на эшафот. Вверху на платформе эшафота снова повторилась прежняя сцена; подсудимая сопротивлялась и в то же время рыдала так громко, что стоны ее, вероятно, долетали даже на ту сторону реки. Наконец кое-как удалось привязать ее к доске, и дело было кончено. После нее казнены были прочие осужденные.
18 фримера. Сегодня был казнен Жан-Батист Ноэль, депутат Вожа, объявленный лишенным покровительства законов. Дорогой он все расспрашивал меня, правда ли что госпожа Дюбарри так сильно струсила перед казнью, а потом спросил, хорошо ли мы вытерли резак гильотины после вчерашней казни, потому что «не годится мешать кровь честного республиканца с кровью продажной женщины». Вместе с ним был казнен еще один осужденный, приговоренный трибуналом к смерти за фальшивые ассигнации. Сегодня в Консьержери был зарезан бывший министр Клавьер.
20 фримера. Сегодня казнено шестеро осужденных: Жак Дезаль, ювелир и поставщик одежды для армий республики, бывший приемщик платья Филипп Рига, распоряжавшийся экипировкой войск и трое портных, изготовлявших платья для войска, Антуан Пужоль, Мишель-Жозеф Буше и Шарль-Антуан Пинар. Все шестеро были приговорены к смерти за недобросовестное исполнение подряда.
21 фримера. С настоящего времени вопрос о том, как добыть себе обувь, перестает быть маловажным делом. Конвент издал указ, запрещающий башмачникам и сапожникам работать для кого бы то ни было, кроме защитников отечества. За нарушение этого указа положена конфискация незаконно изготовленной обуви, и, кроме того, десять ливров штрафа в пользу доносчика. По этому поводу пущены в ход разные шутки о босых ногах. Впрочем, все эти шутки передаются потихоньку; видно, становится тяжело на сердце у самых беззаботных людей. Сегодня двое осужденных.
22 фримера. Гражданин Шомет начинает преследование девушек, доведенных крайностью до небезупречного образа жизни. Не лучше ли было бы начать преследование этой язвы общества с попыток уничтожить бедность, с которой трудно ужиться непорочности, там, где она еще есть и при которой, упав раз, почти невозможно подняться. Если подобные попытки удались бы, то тогда можно было бы начать требовать от этой женщины, чтобы она отказалась от позорного ремесла, которое ей все-таки дает хоть кусок хлеба. Как бы там ни было, но благодаря предписаниям Коммуны попали на гильотину две такие женщины: вдова Клер Севень, по мужу Лорио, и Катерина Гальбург. Обе они не отличались ни молодостью, ни красотой, но в последней была заметна какая-то жандармская удаль. Когда их ввели в приемную с двумя другими женщинами, вдова Лорио горько заплакала. Тогда Катерина Гальбург сказала ей:
— Расскажи-ка ему твою историю. Что же касается до меня, так для меня все равно. Околевать, так околевать, чем скорее, тем лучше.
Вдова Лорио объявила себя беременной. Моне отвел ее в канцелярию, а сам отправился к Фукье попросить у него разрешения отсрочить казнь вдовы Лорио.
Вдова Лорио получила отсрочку, а Гальбург, отправившаяся со мной, не переставала смеяться всю дорогу. Она не лезла в карман за словами и на всякую выходку против нее из толпы отвечала очень находчиво.
23 фримера. Вчера казнена публичная женщина, а сегодня взошел на эшафот вельможа старого времени, герцог Шателе. Этот вельможа, подобно многим другим, наделал гораздо больше вреда королевской власти, чем самые ожесточенные противники ее. Покойный король назначил герцога Шателе командиром полка французских гвардейцев, на место Бирона, командовавшего прежде этим полком. Распоряжение это возбудило большое неудовольствие гвардейцев, любивших прежнего своего командира Бирона. Кроме того, герцог Шателе своей строгостью и наказаниями еще более вооружил против себя солдат и тем самым облегчил труд заговорщиков, старавшихся возмутить этот полк. Это-то обстоятельство и было причиной того, что этот полк так горячо принял сторону народа. Шателе принесли на руках в приемную комнату, потому что ночью, чтобы избавиться от казни на эшафоте, он покушался на свою жизнь. Так как при нем не было ни ножа, ни кинжала, то он хотел вонзить себе в грудь острый осколок стекла, но стекло сломалось, не войдя глубоко в грудь. Когда таким образом эта попытка не удалась, то Шателе, надеясь истечь кровью, нанес себе множество небольших ран осколком стекла, оставшимся у него в руках. Но все эти усилия привели только к тому, что Шателе сильно ослабел и не мог держаться на ногах, так что пришлось принести его. Несмотря на все это, Шателе был очень спокоен. Дорогой, видя его бледность, я предложил было ему платок, чтобы остановить продолжавшую литься кровь, но он оттолкнул мою руку и сказал:
— Оставь, пожалуйста! Ведь я тебя же избавляю от лишней работы.
На площади он собрался с последними силами и сам бросился на доску эшафота с криком: «Да здравствует король!»
25 фримера. Двое осужденных: бывший прокурор прежнего Мобежского превотства, Франсуа-Ксавье Брюньо — за ношение белой кокарды и эмигрант Пьер-Жак-Шарль Порше.
26 фримера. Сегодня были казнены бывшие служители герцога Монморанси, несколько недобросовестных подрядчиков и двое изготовителей фальшивых ассигнаций. При настоящем правительстве очень не редко случается, что прислуге приходится разделять участь господ, правду говорят, что у нас теперь царство равенства.
28 фримера. Сегодня были арестованы: военный комиссар Венсан, командир революционной армии Ронсен и начальник роты головорезов Мэйльяр. Эти господа вообразили, что они вправе делать все, что им вздумается. Наследовавшие от прежних аристократов все их сумасбродные замашки, они только тем и занимались, что всячески притесняли и нарушали спокойствие мирных граждан. К сожалению, еще нужно употребить много труда, чтобы при настоящем положении очистить Париж от всякого рода паразитов.
30 фримера. Сегодня нам пришлось взять бывшего маркиза, Ань-Клода Таррагон, некогда служившего капитаном в 6 пехотном полку. Таррагон был обвинен в сношении с братьями бывшего французского короля, а также с Буилье и Лафайетом. Вместе с Таррагоном были приговорены к смерти: бывший прокурор прежнего парижского парламента Луи-Жиль-Камиль Файель за участие в заговоре и обвинитель при уголовном суде в Камбре Игнаст-Туссен Конвей за сношение с врагами республики.
31 фримера. Общество якобинцев продолжает очищать себя. Не дальше как на этих днях оно исключало из своей среды всех дворян и капиталистов. Вследствие этого присяжные Антонель и Дизу, помощник публичного обвинителя Роуйе, Дюбуа-Крансе, Барьер, Монто и многие другие поставлены в очень затруднительное положение. В описываемое несчастное время патент на звание якобинца ценится несколько дороже всякого рода грамот, бывших в таком уважении каких-нибудь два года тому назад. Действительно, между этими двумя документами была небольшая разница: Диплом якобинца предоставлял право жить, а дворянская Грамота почти равнялась смертному приговору.
Сегодня, проходя мимо кафе «Кретьянк», я случайно встретился с гражданином Гюфруа, депутатом Конвента и журналистом. Выходя из кафе, он громко кричал, и мне показалось, что он пьян. Заметив меня, Гюфруа обратился к окружавшим его гражданам и, указывая на меня, сказал:
— Вот настоящий головорез республики! Он так ловко подбривает аристократов, что нечего бояться за действие гильотины. По-моему, он самый почтенный деятель на пользу республики. Если у него много работы, значит, дела идут на лад?
Вслед за тем он стал приглашать меня вместе в кафе выпить, но мне стало стыдно за него и я удалился.
1 нивоза. Месяц начат мной казнью трех человек: одного священника и двух женщин. Жертвами моими сегодня были: священник ордена иезуитов Жюльен д’Ервиль, бывшая монашенка Мари-Анн Пулен и Маргарита Бернар, служанка госпожи Пулен. Все трое жили в одном из домов орлеанского предместья и священник, ходивший в женском платье, выдавал себя за сестру госпожи Пулен. Священник часто служил обедню, на которой присутствовали еще трое или четверо богомольцев, участвовавших в секрете. Комитет Орлеанского предместья с давнего времени начал подозревать и однажды вечером решился подослать к госпоже Пулен доверенную женщину. Женщина эта сказала госпоже Пулен, что знает о пребывании в этом доме священника и убедительно просит прислать его к мужу, который очень болен и не желал бы умереть, не приобщившись св. тайнам. Госпожа Пулен прямо отказалась от всего этого и ни в чем не призналась. Тотчас по удалении подосланной женщины Пулен начала уговаривать священника не ходить, потому что знает ее мужа как отъявленного патриота и помнит, как он отличился своим святотатством в кафедральном соборе. Священник возразил на это, что чем более кто-нибудь оскорбляет величие Божие, тем более тот нуждается в напутствии духовного пастыря. Вслед за тем священник отправился в дом к женщине, согласившейся играть такую гадкую роль в этой комедии, и был там арестован.
2 нивоза. Сегодня был казнен только один преступник.
3 нивоза. Колло д’Эрбуа, отправленный в Лион, как кажется, выводит там из употребления гильотину за то, что она убивает за один раз всего только по одному осужденному, а он находит гораздо удобнее расстреливать преступников.
4 нивоза. Показания госпожи Дюбарри не спасли ее, а только погубили еще двух человек. Сегодня утром я казнил бывшего комиссара флота Жака-Этьен Лабонди и лакея Дюбарри Дени Морена, первый из них был осужден за то, что ссужал деньгами и вообще общался с врагами республики, а второй за то, что скрывал драгоценные камни и деньги, составлявшие собственность нации. Вместе с ними была казнена вдова Маделен-Кароли-Гамарин Адам, бывшая прежде замужем за Луи-Франсуа Граво и уличенная в сношениях с неприятелем, а также мелочный торговец Жак-Жером Лафос-Делатуш за недобросовестность при подряде.
5 нивоза. Сегодня пятеро осужденных: негоциант Этьен Теисье за сношение с неприятелем; ткачи Михаил Курте, Петер Ветцель, Михаил Бург и кровельщик Бернар Гоуртс за покушение против свободы и безопасности французского народа. Все они, кроме Бурга, старавшегося ободрить своих товарищей, сильно упали духом. Странно, что тем людям, для которых жизнь состоит из ряда тяжких трудов и лишений, часто кажется гораздо труднее расстаться с жизнью, чем тем, кому действительно стоило бы пожалеть о ней…
6 нивоза. Сегодня утром мы казнили семерых субъектов, осужденных трибуналом накануне вечером.
9 нивоза. Сегодня казнен бывший мэр Страсбурга Дитрих. В то время когда я ему стал связывать руки, он сказал мне:
— Тебе пришлось казнить много искренних республиканцев, но в твои руки до сих пор еще не попадался человек, более меня любящий свое отечество.
Во время экзекуции он показал большое присутствие духа. Несколько раз повторил он, что самое искреннее его желание заключается в том, чтобы Эльзас был вечно связан с Францией неразрывными узами. На эшафоте он громко воскликнул: «Да здравствует республика!».
10 нивоза. В прошедшем месяце было получено предписание от прокурора Коммуны принять меры к устранению крови, которая во время казней обыкновенно текла ручьем по доскам гильотины, так что собаки среди белого дня собирались кучами лизать эту кровь. Чтобы устранить это неудобство, вырыта была яма, закрытая железной решеткой. Но кровь свертывалась чересчур быстро, застаивалась в яме, разлагалась, и вследствие этого зловоние распространялось по всем окрестным местам. Вчера ночью я взял четырех землекопов и велел им значительно углубить главную яму, кроме того, велел вырыть пять новых ям меньшего размера и соединить их с главной желобами. Говорят, что депутат Конвента Шабо, обвиненный в казнокрадстве, нашел было средство отравиться в Люксембург, где находился под арестом, но страдания от отравы были так сильны, что у него не достало духу выносить их; он позвал к себе на помощь и таким образом отсрочил свою смерть на несколько дней.
11 нивоза. Сегодня погиб на гильотине еще один из наших генералов. Не далее как вчера трибунал изрек приговор генералу Бирону, а сегодня мне пришлось уже отправиться за ним в Консьержери. Когда я пришел, он сидел в комнате Ришара и с большим аппетитом кушал устрицы. Заметив меня, он промолвил: «А, это ты!» и вслед за тем прибавил:
— Ты, верно, позволишь мне доесть последнюю дюжину устриц?
— Я к вашим услугам, генерал, — отвечал я.
Он засмеялся и сказал мне:
— Нет, черт возьми, братец! К сожалению, выходит, что не ты, а я должен быть к твоим услугам. Вслед за тем он окончил свой завтрак с изумительным спокойствием и все время толковал нам о том, как он явится на тот свет поздравить своих знакомых с новым годом. Спокойствие свое он сохранил до конца. По дороге нам попался какой-то солдат, крикнувший Бирону:
— Прощайте, генерал!
— Прощай, товарищ! — ответил на это Бирон.
Впрочем, на этого солдата не посыпалось по обыкновению ни толчков, ни оскорблений. После казни госпожи Дюбарри в толпе стало проявляться меньшее ожесточение против осужденных. Если бы все жертвы эшафота шли на казнь с такими же криками и сопротивлением как она, то верно гильотина просуществовала бы не очень долго.
12 нивоза (1-е января по прежнему счету) и 13 нивоза. В эти дни казнены: сборщик податей в округе Ласси Шарль-Мари Барре, участвовавший в заговоре против неделимости республики, бывший дворянин Пьер-Франсуа де Фолле за попытки содействовать успехам вандейских бунтовщиков; бывший дворянин Шарль-Луи Фавероль за участие или содействие заговору против спокойствия и неделимости республики, открытому в Лионе. За то же преступление была казнена Агата-Жоливе, бывшая замужем за гражданином Баро и разведенная с ним. Наконец, в это же время погиб на эшафоте бывший викарий в Сен-Никола-де-Шан, Птер-Иоахим Ван Клемпут за стремление распространять в народе фанатические идеи.
14 нивоза. Сегодня казнены: военный комиссар Шарль-Антуан Боньфуа и агент правительства для управления национальными имуществами Франсуа-Жан-Луи Дютрамле, оба они были обвинены в недобросовестности и лихоимстве при управлении казенными обозами, бывший дворянин, каноник в кафедральном соборе в Труа Антуан-Луи де Шампань за участие в заговоре с посягательством на верховные права города и со стремлением к восстановлению королевской власти.
15 нивоза. Сегодня я заплатил тридцать су за номер журнала, выходящего под редакцией Демулена. Это уже пятый номер. Для разноски этого журнала не достает всех разносчиков Дезеня. В деле Гебера, кажется, нашла коса на камень, и всякий с радостью бросается на этот журнал, чтобы похохотать над тем уроком, который дан в нем Геберу Камилом Демуленом. Когда такой безупречный гражданин стал поговаривать о милосердии, то лица у всех как будто прояснились и повеселели. Все убеждены, что друг Демулена Дантон также за него и по всей вероятности слова их найдут полное сочувствие у тех людей, которые каждое утро только и слышат о новом крещении республики на гильотине. Впрочем, нужно еще знать, допустит ли Робеспьер этим двум лицам получить таким путем такую большую популярность. Между тем, в ожидании перемен казни идут своим порядком.
16 нивоза. Сегодня на основании вчерашнего приговора трибунала был казнен генерал Лукнер; ему уже семьдесят два года от роду и он очень дряхл и ходит, согнувшись от старости, несмотря на это он не потерял присутствия духа перед смертью.
17 нивоза. Сегодня мне пришлось проводить на эшафот трех лиц, носивших одно и то же имя и между тем не находившихся друг с другом ни в каких родственных связях. Было ли то простой случайностью или шуткой одного из секретарей публичного обвинителя. Я знал этих господ; некоторые из них были еще очень молоды и умели делать смешное даже там, где смех вовсе неуместен. Вот имена этих казненных: бывший маркиз и капитан карабинеров Камил Сапи-Сусин Болонь; бывший унтер-офицер французской гвардии Жан-Батист Болонь; бывший викарий при Бисетре Никола-Венсан Болонь-Дюплан. Кроме них, в тот же день была казнена бывшая дворянка Мария-Луиза де-Кан, по мужу Жильбер-Грассен.
19 нивоза. Сегодня казнен бывший комиссар исполнительной власти Жан Мандрильон, уличенный в сношениях с Брунсвиком и в участии в деле Дюмурье. Вместе с ним казнены: бывший депутат Конвента Клод-Огюстин Инбер за подделку фальшивых паспортов и Катерина Бетрингер, по мужу Лавиолет, за сношения с неприятелями республики.
20 нивоза. Сегодня казнена Мари-Эме Леруа, по мужу Фоше, занимавшаяся сбором денег с подписчиков Парижской газеты, выходившей под редакцией Дюрозуа; вместе с нею казнен Жозеф Жируар, работающий в типографии того же журнала. Оба они были приговорены за участие в заговоре с целью нарушить спокойствие республики.
21 нивоза. Сегодня казнены бывший полковник и губернатор острова Сен-Люси Этьен Маноэль за участие в заговоре в колониях.
23 нивоза. Казнен Адриан Ламурет, конституционный епископ Лиона. В тюрьме он сказал между прочим:
— Чего пугаться смерти? Смерть не больше, как случайность в нашем существовании, а при помощи гильотины эту случайность встретить так же легко, как перенести щелчок по шее.
25 нивоза. Сегодня казнены: офицер парижской артиллерии Жан де Курман за участие в заговоре в пользу бывшего короля; Антуан Даван, комиссионер для раздачи съестных припасов, за заговор; бывший капитан флота Бернар Огюстин д’Абзас за сношения с неприятелем; бывший капуцин Венанс Дугадос за сношения с лицами, покушавшимися на неделимость республики и особенно за пособничество к бегству Биррото, объявленного лишенным покровительства законов.
26 нивоза. Сегодня утром казнены за заговор: негоциант Жан-Пьер Треильяр; викарий конституционного епископа в Бордо, Клод Голье, и юрист Пьер Дюкурно. Все трое осужденных, сидя в телеге, пели песню, сочиненную ими в тюрьме.
28 нивоза. Сегодня были отвезены на двух телегах и казнены на площади Революции следующие лица: негоциант Жан-Жак Дебон за участие в заговоре; экономка Катерина Юргон, по мужу Фурми, парикмахер Жан-Батист Бассе, парикмахер Гюильом Лемиль и жена его Елизавета-Франсуа Бавиньи; все они были обвинены в заговоре, с целью провозгласить королем Капета-сына; бывший дворянин и командир корабля «Республика» за то, что, приняв начальство над вандейцами, осмелился поднять оружие против республики; начальник морского ведомства Антуан-Ганри-Луи де Вернейль и бывший командир корабля Джон-Барт, оба за сношение с вандейскими бунтовщиками. Вместе с ними казнен сержант третьего батальона Луи Боннейль.
29 нивоза. Сегодня казнен племянник человека, имевшего полное право жаловаться на прежнее правительство; это был Жан Виссек, бывший барон Латюд, служивший прежде майором в одном кавалерийском полку. Вместе с ним был казнен за заговор конфоланский судья Жан Бабола-Ферди.
2 плювиоза. Сегодня годовщина тому роковому дню, когда нам пришлось везти на эшафот короля. Сегодня утром жена моя, проснувшись в одно время со мною, была так бледна и так встревожена, что легко было догадаться, что тяжелые сновидения беспокоили ее ночью. Мне самому ночью пришлось видеть во сне картину этой роковой казни. Жена моя, встав с постели и наскоро одевшись, начала молиться. Я в это время ходил взад и вперед по комнате, но жена заметила, что и мне не мешало бы помолиться в такой день.
Сегодня мне пришлось отвести на эшафот четырех лиц; вот их имена: земледелец Жан-Шарль Тибо за убеждения, не мирящиеся со званием гражданина; торговец сукном Марк-Этьен Катрмер за недобросовестность при подрядах; лейтенант флота Жан-Мари де л’Еклюд и торговец шелковыми товарами Бернар Сабле за подделку фальшивых ассигнаций.
3 плювиоза. Сегодняшние жертвы эшафота: командир морской артиллерии на корабле «Ориент» Миль Бланмар; лейтенант того же корабля Этьен Фиме, второй канонир того же корабля Антуан Гардине; экипажный командир Мишель Жакелен и канонир морской артиллерии Игнанс Везон. Все они были приговорены к смерти за восстание в Тулоне.
4 плювиоза. Казнены: торговец лесом Клод-Антуан Бернар, за покушение против целости и неделимости республики и преподаватель Томас-Луи Лефевр за заговор. Кроме них, по приговору уголовного суда казнен негоциант Жозеф Буржуа за распространение фальшивых ассигнаций.
5 плювиоза. Сегодня казнены следующие лица: Виктор-Мельхиор Рембо, по прозванию Тулонский-Рембо — за участие в тулонском возмущении; бывший дворянин и командир 4-го драгунского полка Лоран Миго — за сношения с неприятелем и муниципальный чиновник из Монтарши Никола Руард, известный также под именем Бернара — за участие в заговоре.
13 плювиоза. Сегодня я возвратился из Бри, где у нас свой дом. Мне пришлось там прожить три дня, и это время совсем отбило у меня охоту ездить туда. Правда, слово «братство» и там красуется на фасаде общественного дома; но этого братства вовсе незаметно в сердцах жителей, так же как не заметно у них и признаков патриотизма. В то время как в Париже самые бедные люди жертвуют последним достоянием и даже у самых бесчувственных людей временами появляются порывы великодушия, жители деревень только и думают о том, как бы поскорее разжиться. Продажа государственного имущества вовсе не удовлетворила их, а только возбудила в них большую алчность. Злоумышленным барышникам закон изрекает смертную казнь; основываясь на этом, необходимо было бы устроить по гильотине в каждой деревне, потому что нет ни одного мызника, который бы не зарывал и не прятал зернового хлеба из боязни не быть вынужденным вывезти этот хлеб на рынок и обменять его там на ассигнации, которые здесь можно только навязать силой, пригрозивши смертью. Правда, в больших селениях существуют революционные комитеты, но крестьяне составляют как бы одну воровскую шайку, в которой никто не осмелится быть предателем. Деятельность же комитетов дает себя чувствовать только тем лицам, которые почему-либо не поладят с обществом, а также некоторым буржуа, получившим в наследство от аристократов пока одну только народную ненависть; в этих случаях общины действуют без всякой пощады. Так, например, недавно несколько жителей Куломье, из которых один был мне даже знаком лично, имели несчастье возбудить против себя ненависть каких-то негодяев и за то были приведены в Париж связанными, заключены в Консьержери, осуждены и казнены, и все это под предлогом никогда не существовавшего заговора.
14 плювиоза. Сегодня казнен бывший дворянин Жак-Бабень, уличенный в участии в заговоре против французского народа; вместе с ним погиб на эшафоте типографщик Франсуа Бодевень за противореволюционные выходки.
15 плювиоза. Сегодня по приговору революционного трибунала были отправлены на эшафот следующие лица: врач Эдм-Алекси Жилле; бывший прокурор Жан Батист Мильяр; бывший адвокат при суде в Труа Никола Парань и бывший помощник судьи при том же суде Никола Пэйльо; все четверо были обвинены в заговоре против свободы, безопасности и верховной власти народа. Вместе с ними казнены: бывший нотариус Шарль-Никола Дюфренуа за сношение с неприятелем и содействие эмигрантам и их сообщникам; бывший аудитор упраздненной в настоящее время счетной палаты Клод Ожье, за заговор с целью восстановить королевскую власть и гражданин Никола Врейльо за изготовление фальшивых ассигнаций.
16 плювиоза. Наши присяжные изрекают приговоры, не задумываясь о том, что и подсудимые, по-видимому, не слишком высоко ценят свою жизнь. Никогда еще равнодушие к жизни не доходило до такой степени. В прежнее время появление мое, бывало, наводило ужас на самых неустрашимых людей; в настоящее же время ни один из тех заключенных, с которыми я ежедневно встречаюсь в Консьержери, по-видимому, и не думает о том, что не далее как завтра я могу явиться за ним. Между этими заключенными есть даже такие, у которых достает духу улыбаться при встрече со мной и, признаюсь, эти улыбки производят на меня страшное впечатление. В числе заключенных встречаются такие субъекты, которые сохраняют самое полное хладнокровие и невозмутимое спокойствие, так что накануне казни ни в чем не изменяют принятых привычек и ведут себя так, как будто до завтрашнего дня им еще остается прожить целое столетие. В подобных субъектах бесстрашие, по моему мнению, доходит до высшей своей степени. Таков был, например, командир батальона св. Лазаря Монжурден, приговоренный к смерти за участие в смутах 10 августа. В продолжение шести недель, проведенных им в Консьержери, в нем ни разу не было замечено ни малейших признаков тоски и отчаяния. Когда его уведомили, что скоро его очередь отправляться в Трибунал, то он начал сочинять стихи и написал пять куплетов. Возвратясь из Трибунала после приговора, он написал еще четыре куплета. Ришар показал мне это стихотворение, и я нарочно списал его как вещь очень интересную. Автор этого стихотворения отправился на казнь вместе с Куртоне и дорогой оба они не переставали смеяться и шутить. Вскоре после казни автора весь Париж стал распевать стихотворение Монжурдена.
Глава II Дневник Шарля-Генриха Сансона (продолжение)
17 плювиоза. Сегодня пришлось казнить двух дам, игравших в прежнее время важные роли. Перед казнью они своим присутствием духа не уступали своему предшественнику гражданину Монжурдену. Эти дамы были: вдова бывшего маркиза де-Растиньяк Мария Габриэль Леша за посылку денег своему сыну, эмигрировавшему из Франции, и маркиза Марбеф (Генриетта-Франсуаз Мишель) за барышничество съестными припасами; вместе с ней был казнен ее фермер Жан-Жозеф Пэйфн. Кроме того, в тот же день казнены два изготовителя фальшивых ассигнаций Никола Арман и Жозеф Рено. Дорогой госпожа Марбеф все старалась ободрить фермера Пэйфна и между прочим сказала ему:
— Ну рассуди, мой милый, не все ли равно, что умереть сегодня, что через двадцать лет?
Фермер, не показывающий особенного присутствия духа, отвечал на это:
— Если бы это было в самом деле все равно, так я уж лучше согласен через двадцать лет.
19 плювиоза. Сегодня были казнены следующие лица: Елизавета Паулина Ган, бывшая прежде замужем за графом Лораге и разведенная с ним; управляющий госпожи Лораге Пьер-Луи Пьер, и конституционный священник из Мениля Пьер-Жозеф Пти; все они были обвинены в сношениях с неприятелями республики и в составлении заговора с целью нарушить спокойствие государства междоусобной войной.
20 плювиоза. Сегодня за участие в заговоре казнены следующие лица: маршал Жан-Жак де-Трусбуа, командир эскадрона в бывшем лангедокском полку; Жан-Цезарь-Марциал де Шервиль и бывшая дворянка Луиза-Маделен Деконбо. Вместе с ними казнен конституционный священник Шанвантского прихода Клод-Франсуа Курко за то, что убеждал одного из священников не вступать в брак, вопреки закону, дозволяющему брак духовный.
22 плювиоза. Кутон наделал в Лионе много шуму, но из этого вышло мало толку. Он очень громко угрожал всем и каждому, но угрозы его никому не стоили жизни; с трудом даже он решился уничтожить несколько домов. Но ход дела совершенно изменился, с тех пор, как его место заняли Калло и Фуше; газеты были наполнены списками граждан этого города, приговоренных к смерти. Гражданину Калло даже гильотина показалась не совсем удовлетворительным орудием казни и он начал расстреливать осужденных из пушек. Таким образом они казнили до двухсот человек. Говорят, что будто он сказал при этом: вот так-то лучше! Это будет послышнее и повпечатлительнее всех ваших ухищрений. Робеспьер и Кутон, говорят, сильно негодовали на это варварство, но их негодование оставалось совершенно безмолвным. В настоящее время вся республика управляется Конвентом, а Конвент, в свою очередь, подчиняется кордельерам; таким образом, Гебер, глава кордельеров, на деле выходит полноправным повелителем самодержавного народа. Это положение очень неутешительное.
23 плювиоза. Сегодня погибла на эшафоте Анна-Генриетта Бушнвен, бывшая баронесса де-Ваксанс; она была обвинена в переписке с кем-то из эмигрантов. Вместе с нею был казнен подполковник пятого батальона Соны и Луары Франсуа-Амабль Шапюн; он был объявлен соучастником Дюмурье.
24 плювиоза. Сегодня казнены следующие лица: секретарь ардемского муниципалитета Жак-Алекси Мезоннеф за участие в заговоре: бывший капитан бурбонского полка Клад-Валентин Милен-Лаброс за противореволюционные выходки; земледелец Жак-Филипп Ревессо, известный также под именем Гюо, за усилия помешать успеху вербовки рекрутов.
26 плювиоза. Вчера на утреннем заседании трибунала слушалось дело пятерых подсудимых. Прения затянулись, и один из присяжных трибунала Виллат обратился к президенту Дюма и сказал:
— Подсудимые дважды виноваты и, по моему мнению, совершенно уличены. Действительно, теперь уже пробил час, когда я имею привычку обедать, а они, как назло, составили заговор против благосостояния моего желудка.
Дюма повторил эту выходку в судейской комнате, но слова эти ни у кого не возбудили улыбки: мало того, двое из присутствующих, а именно товарищи Виллета Ноллен и Селье, решились даже высказать свое мнение о такой безнравственной выходке. Несмотря на то, вышеупомянутые пятеро подсудимых были обвинены и сегодня казнены.
27 плювиоза. Сегодня мне пришлось в одной и той же телеге везти на казнь отца с сыном. Это были Антуан-Франсуа Дорз, бывший прокурор дижонской контрольной камеры и сын его, Жан-Батист Дорз, служивший письмоводителем в той же камере. В тот же день был казнен банкир Иоган-Генрих Видензельд за пересылку эмигрантам золотых монет, спрятанных в коробочках с мылом и в помадных банках. По дороге к эшафоту этому банкиру крикнули из толпы:
— Намыль себе хорошенько рожу, Видензельд, а то, чего доброго, Шарло станет тебя брить и оцарапает.
29 плювиоза. Сегодня казнен Габриэль-Планше де Локассень, сын последнего тулузского синдика, за попытку восстановить королевскую власть во Франции. Сегодня же погиб на эшафоте бригадный генерал Альпийской армии Антуан-Огюст де-Гербье де-Летандюер, обвиненный в сношениях с неприятелем.
1 вантоза. Генерал революционной армии Ронзен и Венсан вышли из тюрьмы в прошлом месяце; в заключении остаются теперь только Граммон, Перейра и Денье. Никто не может себе объяснить, как это вздумалось другу Камилла, Дантону, действовать в пользу вышепоименованных освобожденных подсудимых. Ронсен принял свой прежний грозный вид; появление его заставило замолкнуть все слухи о проявлении милосердия в комитете. Вместо этого по секрету начинают поговаривать будто бы скоро новое правительство должно вступить у нас в свои права. Задача же этого нового правительства будто бы будет состоять в том, чтобы еще более усилить деятельность революционного правосудия, все еще действующего, по мнению яростных республиканцев, не довольно энергично, и таким образом радикально и быстро очистить республику от всех ее недоброжелателей. Говорят, что во главе этого правительства будет стоять Ронзен и при нем будет устроен военный суд, действующий без малейшего промедления и состоящий из главного судьи, цензора — обвинителя подсудимых, четырех судей, помощников их и секретаря. Несмотря на всю неправдоподобность этого слуха, общее уныние увеличилось. Сегодня были казнены негоциант Франсуа Жирио и дезертир из гусаров Госсене; последний отправился на эшафот так спокойно, как иные не отправляются даже на свадебную пирушку.
3 вантоза. Сегодня казнены следующие лица: торговец лошадьми Пьер-Этьен Шуазо, за недобросовестность в подрядах; начальник дивизиона артиллерии Андре-Жозеф Приссе и бывший военный комиссар Феликс-Жан-Батист Люни; оба они были уличены в сообщничестве с Шуазо.
4 вантоза. Были казнены следующие лица: бывший драгунский капитан Жан Фейлид и парижский нотариус Луи-Доминик-Огюстен-Предикан, обвинены в попытке подкупить одного из секретарей комитета общественной безопасности во время процесса Марбефа, казненного 17 плювоза. Вместе с ними в тот же день казнены; содержатель наемных карет Николай Манжен и племянник его Клеман Манжен, за то, что они скупали и продавали звонкую монету, вследствие чего падал курс ассигнаций.
6 вантоза. Сегодня казнены: бывший бригадный генерал итальянской армии Жан-Жак Дортоман, уличенный в предосудительных сношениях с неприятелем; бывший дворянин и руанский интендант Этьен-Томас де-Моссьон — за участие в заговоре против республики; парикмахер Жозеф Канельк за стремления восстановить во Франции королевскую власть; вдова Гальго, Варвара Смит за участие в заговоре.
8 вантоза. Дрова, доходившие в нивозе до четырехсот ливров за корд, в настоящее время все еще продаются не дешевле двухсот и двухсот пятидесяти ливров. Вот уже два дня, как снова начались холода. Так и кажется, что сама природа помогает людям истреблять друг друга. Набожные люди непременно сказали бы, что это сам Бог карает нас за грехи. В прошлом месяце, несмотря на караул, кому-то удалось утащить доски с гильотины. Сегодня, по дороге в Консьержери, мы нашли на мостовой человека. Он пошел было сам за водой на реку, потому что водовозы утроили цену за провоз, но на набережной упал и не мог подняться без посторонней помощи. Он нам сказал, что вот уже два дня, как он ничего не ел. Сегодня мы отправились к эшафоту с тремя телегами, наполненными осужденными разных полов и званий. Тут были мужчины, женщины и старики, журналисты, дворяне, духовные и купцы; всего было пятнадцать человек. По дороге из толпы одни нам кричали «Браво!», а другие приговаривали «В добрый час!».
10 винтоза. Робеспьер и Кутон больны, вследствие этого кордельеры делают все, что им вздумается. Вчера они объявили, что нужно исключить из членов партии Горы Камилла, Фабра и нескольких других. Пользуясь страданиями народа, которые действительно ужасны, кордельеры во всем обвиняют Конвент и требуют нового 2 июня. Что-то будет с нами, если эта партия одержит верх?
С тех пор как у нас введена в употребление гильотина, множество личностей стало ломать себе голову, как бы видоизменить и улучшить это орудие казни. В комитет по этому случаю поступило более двадцати проектов, но почти все они до того нелепы, что из двадцати стоило подвергнуть опыту только один. В этом проекте предлагалось устроить люк с левой стороны поворотной доски так, чтобы в момент казни этот люк открывался, и тело казненного само по себе скатывалось в приготовленную под эшафотом корзину и таким образом платформа не загромождалась бы трупами. Депутат Вулан и двое членов комитета пожелали присутствовать при этом опыте. Во время опыта механизм действовал плохо и мешки с песком, положенные на доску, два раза застревали в люке. Вулан спросил при этом, какого я мнения о новой гильотине. Я заметил на это, что это нововведение довольно опасно, и что если люк будет также неудовлетворительно закрываться, как он плохо открывается, то и исполнители и осужденные могут иногда проваливаться вслед за трупом, что будет очень неловко. В ответ на это Вулан сказал мне:
— Ты совершенно прав. Впрочем, трупы можно и уносить с платформы.
Мне нечего было возражать на это, и Вулан удалился. Сегодня нам было передано пятеро осужденных.
11 вантоза. Сегодня казнены: корнет Ноэль Дешан, признанный в революционном трибунале участником заговора против Франции, и бывший прокурор Лоран Ветран, известный также под именем Сенселя, за убеждения и непатриотические выходки.
13 вантоза. «Революционный трибунал сводит свои счеты с подгородными поселянами». Это выражение сегодня сказал в судейской комнате Кретьян тотчас после заседания. Действительно, я отправился сегодня к эшафоту с двумя телегами, наполненными исключительно поселянами.
14 вантоза. Сегодня были казнены следующие лица: Франсуа-Этьен Шанфлери, бывший капитан 10 кавалерийского полка, за переписку с кем-то из эмигрантов; бригадный генерал Северной армии Жан-Нестор Шансель за измену отечеству; бывший хорист, а впоследствии служивший во 2 драгунском полку Рене-Пьер Анжюбо за участие в заговоре и двое издателей-книгопродавцов, Жан-Франсуа Фрулле и Томас Левиньер. Последние двое были осуждены на смерть за издание в 1793 году книги, в которой была рассказана смерть короля. Книга эта в присутствии осужденных была сожжена на эшафоте.
15 вантоза. На вчерашнем заседании кордельеров было решено начать восстание. Возвращаясь из Консьержери, я шел по Арси, но не заметил никаких признаков движения. По-видимому, не было ни многочисленных сборищ, ни шумных выходок. Если весь сегодняшний день будет похож на утро, то авось Пер-Дюшень убедится, действительно ли в духе народа есть та решимость, о которой он говорил.
Сегодня нам опять пришлось казнить отца вместе с сыновьями. Это был бывший кавалерийский капитан Дюильеман Сен-Супле и сыновья его, старший Ань-Мишель, бывший викарий в Мокпелье, и младший Ань-Клод Гюильеман, занимавший должность шталмейстера при прежнем правительстве.
Сен-Супле-сын, посвятивший себя духовному званию, сидя в роковой тележке, старался ободрить отца и брата и не переставал говорить им о Боге.
Все это семейство во время казни показало большое присутствие духа. В один день с ними погибли на гильотине: слуга их, Лоран Брюсель; капитан 29 полка северной армии Антуан-Матье Дюфренуа, замешанный в деле Дюмурье и чиновник военной канцелярии Паком Сен-Ламбер за участие в событиях 10 августа.
16 вантоза. Вчера трибунал присудил к смертной казни Луи Робена за то, что он приклеил к стене церкви С. Жана следующую прокламацию: «Предшествующее десятилетие ознаменовалось смертью Людовика, прозванного нашими революционерами последним тираном; наступающее десятилетие народит сотни тысяч истинных тиранов. Долой клубы! Они — причина всех наших зол. Народ никогда и не думал отказываться от веры в Бога!» Автор этой прокламации, Луи Робен, был старик шестидесяти пяти лет, но несмотря на такие годы, отличавшийся юношеской восторженностью. Отправляясь из тюрьмы к месту казни, Луи Робен не переставал проповедовать толпе, что народ сам виноват, что он сполна заслужил своими преступлениями все настоящие несчастья, что ему нужно смириться и покаяться пред Господом Богом, чтобы сделаться достойным милосердия Всевышнего. В заключение он обратился ко мне и сказал пророческим голосом, что Бог, позволивший мне казнить Людовика XVI, возложил на меня обязанность казнить и похитителей власти и, наконец, покарает меня самого за мое святотатство.
Осужденный произнес все это с такой силой и с такою убедительностью, что я несколько растерялся и не мог найти, чем успокоить его. Луи Робен выдержал свою роль до конца, и когда ему уже связывали руки, он трижды воскликнул: «Да здравствует король!».
17 вантоза. Сегодня в три часа пополудни были казнены: главный инспектор почт в Париже. Клод Компаре, уличенный в сношениях с неприятелями Франции; секретарь бывшего принца Конде Жан-Мария Дюмешен за переписку с кем-то из эмигрантов и бывший дворянин Жильбер де-Грассен за противореволюционные убеждения.
18 вантоза. Сегодня ко мне явился какой-то иностранец, судя по выговору, англичанин и без всяких околичностей предложил мне десять фунтов стерлингов с тем, чтобы я позволил ему смешаться с толпой моих помощников и посмотреть на процесс казни. Разумеется, я был очень удивлен таким предложением и спросил у этого иностранца, неужели он как патриот-англичанин до того ненавидит французов, что находит удовольствие любоваться их душевными страданиями перед казнью? Англичанин ответил на это, что хоть он действительно не поклонник Франции и французов, но желает видеть гильотину в действии вовсе не потому, а из одного только любопытства, и что одно только это чувство заставило его решиться побывать в Париже, где он хотел поподробнее познакомиться с революцией, на которую теперь обращено внимание всего мира. «Знакомство мое, — продолжал он, — будет не полно, если мне не удастся видеть вблизи хоть одну из казней на гильотине». Я возразил на это, что подобное любопытство может обойтись очень дорого и что, так как мы находимся в войне с Англией, то его инкогнито, поддерживаемое так неудачно, легко может быть обнаружено; в этом случае г. англичанину трудно будет разубедить, что он не шпион, и придется сполна подчиниться обычной участи такого рода людей. В заключение я очень вежливо отказал англичанину в его просьбе. Англичанин выслушал меня с невозмутимым хладнокровием и когда я кончил, сказал мне, что он твердо решил увидеть процесс казни, и во что бы то ни стало побывает на гильотине.
Я не удержался и сказал ему на это:
— Смотрите, чтобы вам не пришлось прогуляться туда поневоле.
— До свидания! — резко ответил мне англичанин и удалился.
Сегодня были казнены бывший маршал и граф Луи-Дезакр де-Лэгль и вместе с ним Агнесса-Апександрина-Розалия Ларошфуко. Обе эти личности были обвинены в заговоре.
20 вантоза. Партия Ронзена и Гебера сделала попытку возмутить Коммуну. Она потребовала, чтобы объявление прав народа было отложено до окончательного истребления врагов нации. Вожди этой партии были выслушаны и этим все кончилось. Готовности действовать не высказал никто; даже сам Шомет, которого эта партия считала своим, остался спокойным. Говорят, что после заседания у Ронзена с прокурором Коммуны была горячая схватка, во время которой Ронзен чуть-чуть не ударил прокурора. Конвент ни на что не решился но, как кажется, партии Гебера приходится плохо. Сегодня утром распространился слух, что члены партии арестованы, впрочем, слух этот оказался ложным, потому что Венсана сегодня видели в судейской комнате. Сегодня на площади Революции нам было немного дела; пришлось казнить одного осужденного. Жаль, что подобный недостаток в жертвах случается так редко.
22 вантоза. Сегодня были казнены следующие лица: бывшая сестра общества посещения бедных в Сан-Дени, монахиня Жозефина-Аделаида Леклерк де-Глатиньи, приговоренная к смерти за то, что скрывала у себя неприсягнувшего священника; торговец винами Мартин Бланше, командовавший ротой артиллерии Национальной гвардии, обвиненный в недостатке патриотизма, потому что 10 августа он отказался двинуться со своими пушками на Тюльери и архитектор Александр-Пьер Кошуа за участие в деле Бриссо и господин Ролан.
24 вантоза. В ночь со вчерашнего на нынешнее число произведен был арест Ронсена, Венсана, Гебера, Моморо, Ломюра, Дюкроне, Анкара и многих других. Подробности, сообщаемые нам об их заговоре, невольно заставляют содрогаться. Говорят, что эти господа затевали возобновить ужасы сентябрьских дней и хотели разграбить монетный двор и государственное казначейство. Впрочем, радость, произведенная слухом об аресте этих личностей, была омрачена речью Сен-Жюста и особенно декретом Конвента, объявившим сообщником в преступлении всякого, кто вздумает укрывать у себя или где бы то ни было людей, лишенных покровительства законов. Вчера Конвент приговорил к смерти Пьера Веррье, фермера из департамента Об за противореволюционные выходки, а сегодня произнесен приговор бывшему советнику Жильберу Сушон за заговор против революции. Бедный фермер по дороге к эшафоту не переставал рассуждать с таким гневом, что очень напоминал собой сумасшедшего; он не переставал повторять все выходки, бывшие причиной его осуждения и все время твердил, что нацией управляют негодяи, которые вконец разорят всех землевладельцев и фермеров, что пока во Франции не будет короля, не будет и хлеба, что весь Конвент — сборище оборванцев и проч. Толпа во время переезда не переставала дразнить Веррье, как собаку, так что он сказал, наконец, что очень доволен своей судьбой и идет на гильотину без страха, что нация может, сколько душе угодно наслаждаться его кровью, но не увидит его денег, которые он успел бросить в реку перед своим арестом, чтобы только они не достались в руки таких негодяев и воров. Веррье так долго кричал, что наконец потерял голос и со злостью заплакал, убедившись, что недостаток голоса лишает его возможности отвечать на выходки.
26 вантоза. Сегодня ужасный день. На вчерашнем заседании трибунала было произнесено шестнадцать смертных приговоров. Еще вчера к двум часам у меня все было готово, но Фабриций заметил мне, что по случаю проливного дождя лучше бы было отложить экзекуцию до завтра, что исполнение приговоров правосудия должно происходить при свидетелях, что это внушает ужас при одной мысли об оскорблении величия нации, что завтра зато будет славный день и патриоты, верно, останутся довольны. Вследствие этого распоряжения сегодня утром я подъехал к Консьержери с четырьмя телегами; но оказалось достаточно и трех. По-видимому, Фабриций не ошибся, и толпа, которую он величал народом, осталась очень довольна кровавым зрелищем; впрочем, я начинаю замечать, что в окнах домов, мимо которых нам приходится проезжать, уже не видно ни одного человека. Экзекуция продолжалась тридцать две минуты.
27 вантоза. Каждый день рано утром я отправляюсь в Консьержери; заключенные с таким нетерпением допытываются известий о казненных накануне, как будто дело идет о благополучном прибытии куда-нибудь их родного брата. Я всегда сообщал то Ришару, то Ривьеру или Танто подробности последней поездки к эшафоту и самой казни, и эти подробности передавались потом заключенным. Сегодня были отвезены мною на эшафот следующие лица: бывший маркиз де-Сьеран, Пьер-Жак Годайль; он был членом прежнего провинциального управления в Монтобан и был обвинен в участии в заговоре, открытом в департаменте Геро; торговец оружием в Сент-Этьен, Шарль Каррье, обвиненный в доставлении оружия лионским бунтовщикам; мэр ингувильской общины Пьер Вюскине, обвиненный в противореволюционных действиях в своей общине. Вместе с ними был казнен бывший главнокомандующий Западной армией генерал Пьер Кетино.
28 вантоза. Сегодня были казнены: земледелец Жорж-Феликс Барбье, житель Сен-Сира, в департаменте Сены и Марны, обвиненный в стремлениях восстановить монархическую власть; сын его Луи-Густав-Огюст Барбье — за участие в замыслах отца; старший хирург 2 ангулемского батальона Жак-Батист Буассар — за несочувствие революции; капитан 2 батальона в Мерте Жан-Батист Валуа по прозвищу Тампет, за попытку поколебать в солдатах верность к республике; бывший дворянин и военный комиссар Пьер-Поль, Сен-Поль, замешанный в деле 10 августа; журналист Пьер Делен — за противореволюционные выходки; бывший дворянин и командир эскадрона в 7 кавалерийском полку Камил Сув — за участие в заговоре против революции.
29 вантоза. Сегодня на площади революции были казнены следующие лица: акушерка Жанна Елизавета Берто за то, что передала подложное письмо от Фукье-Тенвиля к Робеспьеру и обвиняла Робеспьера в заговоре; жена бывшего дворянина, служившего в лейб-гвардии, Луиза-Сильвия Шамборан-Вильвар за дерзкие выражения о революции; бывший священник в Иври Франсуа Леблон, за фанатизм и заговор. Священник Николай Дьедонне, за стремления к восстановлению монархической власти; чиновник национального казначейства Жозеф Дюрней за участие в заговоре; бывший казначей в Пуатье Жан Батист Гурсо де-Мерли тоже за участие в заговоре против свободы; бывшая монахиня Фонтеврольского ордена Марцелла-Эме Сасмер; бывшая дворянка Франсуаз Перигор за то, что помогала эмигрировать двум своим сыновьям; карабинер 4 егерского батальона Грегуар Лателиз, за попытку поколебать в солдатах верность республике. Все эти лица были приговорены к смертной казни во вчерашнем и в нынешнем заседании. Вместе с ними был казнен депутат Орнского департамента Клад-Луи Мазюйе, лишенный покровительства законов за действия свои 2 мая и 31 июня.
1 жерминаля. Сегодня утром начат был процесс Венсана, Гебера и других кордельеров. Говорят, что этот процесс будет тянуться на протяжении нескольких заседаний. Быть может, при этом поступят так, как поступали в других подобных случаях, и трибунал будет решать ежедневно по два, по три дела до открытия прений по главному делу. Во всяком случае, если мне в это время и придется совершать ежедневно обычное свое путешествие к эшафоту, то, по крайней мере, не придется считать жертвы дюжинами. Сегодня было двое осужденных: перчаточник Луи-Габриэль-Жак Филиппоно и продавец ликеров Бенуа Нэ, — оба за изготовление фальшивых ассигнаций. По возвращении с площади Революции я получил приказ от Фукье-Тенвиля быть постоянно на настоящем процессе: вследствие этого я вошел в зал суда. На скамье осужденных сидело двадцать человек. Гебер был очень бледен, смущен и, начиная говорить что-нибудь, заикался от волнения. Ронсен и Маморо как бы вызывали своих судей на бой. Маленький злодей Венсан вертелся, как бес. Паш, назначавший себя когда-то в великие судьи, не был упомянут в декрете. Исключение его из числа обвиняемых в этом случае было почти равносильно патенту на звание бессмысленного дурака, но Паш все-таки был доволен таким мнением о себе, потому что это спасало ему жизнь. Между прочим, никто хорошенько не знал, почему в число кордельеров попала госпожа Кетоно, казнь которой была назначена на другой же день. Риверьер сообщил, что в первые дни после своего ареста кордельеры не переставали спорить друг с другом и невольно пришли к убеждению, что они сами — причина своей гибели. Наконец Анахарсис Клоотц успел убедить их, что все подобные толки ни к чему не ведут и только делают их положение еще несноснее. Гебер, по прибытии своем в тюрьму, был очень грубо встречен прежними заключенными, попавшими в Консьержери большей частью по его милости. Ронсен взял на себя защиту Гебера, и таким образом произошло что-то вроде диспута между Ронсеном и одним из заключенных Колиньоном. Обоих, заспоривших чересчур горячо, посадили в «темную», и с тех пор Гебер и его друзья отделились от прочих заключенных и составили свой кружок. Банкиру Коку, устраивавшему для кордельеров столько праздников, также пришлось разделить их участь; впрочем, этот банкир не унывал и хотел продолжать играть свою прежнюю роль и в Консьержери. Он, между прочим, говорил, что когда состоится приговор, то он накануне казни своей и своих друзей задаст прощальную пирушку. По-видимому, осужденные хотели подражать поведению жирондистов перед смертью, но для этого было необходимо побольше душевной полноты и поменьше животного сластолюбия, так что задача эта оказалась невыполнимой для кордельеров. Во всяком случае, я готов держать пари, что если и состоится их прощальная пирушка, то, во всяком случае, она будет иметь очень мрачный характер.
3 жерминаля. Сегодня сын мой Генрих один хозяйничал на эшафоте; я по приказанию Фукье постоянно находился в суде: Фукье не любит томить свои жертвы, если только они налицо; а в том, что жертвы будут, нечего сомневаться. Пэр-Дюшень уже окончательно погиб в общественном мнении; о нем ходят самые неблагоприятные для него слухи.
Много горьких упреков пришлось выслушать Клоотцу за нелепую брошюру, а Реноден высказал даже предположение, что эта брошюра была написана с единственной целью возбудить коалицию государей Европы против Франции. Клоотц возразил на это:
— Кажется, меня нельзя подозревать в особенной симпатии к королевской власти. Будет очень странно, если меня, человека, которого сожгли бы в Риме, повесили бы в Лондоне, колесовали бы в Вене, в настоящее время приговорят к гильотине в Париже.
Клоотц был искренний фанатик и даже отчасти сумасшедший, которого следовало бы полечить холодной водой, но никак не гильотиной. Действительно, его поклонение богине Разума многим казалось возмутительным, но зато Клоотц далеко не был так кровожаден как его товарищи, и в сущности никому не сделал зла. Сверх того, нужно заметить, что во время суда стараются откопать все, говорящее против подсудимого, в каком бы роде не было это обвинение. Так я слышал, как Клоотца упрекали в том, что он по рождению прусский подданный, и родители его были богаты. Подобное обвинение нелепо и недобросовестно даже. Процесс, прерванный сегодня, будет продолжаться завтра.
4 жерминаля. Сегодня совершились казни подсудимых. Заседание открылось в 10 часов утра; президент Дюма произнес грозную речь и присяжные удалились в комнату для совещаний. В половине первого они публично объявили свое мнение. Из двадцати подсудимых девятнадцать были осуждены; оправдан же был только один, некто Лабуро, студент медицины. Жанна Латрейль, вдова покойного генерала Кетино, объявила себя беременной и получила отсрочку. Вероятно, приговор был напечатан заблаговременно, потому что не прошло и получаса после его произнесения как уже страшные вопли раздались вокруг судебной палаты. Мне отдано было приказание тотчас же вести на казнь осужденных. Фукье сказал между прочим:
— Всякая лишняя секунда их существования будет новым оскорблением величия народа.
Я тотчас же послал людей на площадь Революции. Генрих побежал на улицу Франсуа-Мирон, где со вчерашнего дня дожидались телеги совершенно готовые и с запряженными лошадьми. Генрих отправился бегом, и через полтора часа осужденные были уже введены в приемную.
Я сидел у Рошара в то время, когда меня уведомили о прибытии телеги. Выйдя посмотреть, все ли в порядке и проходя около телеги, я в числе своих помощников заметил совершенно незнакомого мне человека, с сильно надвинутою на лицо красной шапкой и с русой бородой. Незнакомец хотел было уже отойти, но я, вглядываясь, узнал в нем того самого англичанина, который был у меня несколько дней тому назад. Выбрав удобный случай, он подкупил моих помощников и явился, рассчитывая, что я дорогой уже не выдам его. Но я решился во что бы то ни стало переупрямить его. Я сделал вид, что принимаю его за помощника, роль которого он взялся разыгрывать, и так как налицо было пять телег, то я приказал англичанину вместе с одним из кучеров и лишней телегой отправиться домой. Он поколебался с минуту; видно было, что ему хотелось возразить на это распоряжение. Но я в это время взглянул на жандармов; англичанин решился послушаться и, уходя, сделал гримасу как бы желая сказать мне: до свидания!
Когда телеги остановились у эшафота, и подсудимые стали сходить с них, то Гебер, которого приказано было казнить после всех, до того ослабел, что пришлось посадить его на мостовую. Фукье, быть может, из сострадания к Клоотцу, велел казнить его первым, но Клоотц отказался, ссылаясь на то, что он хочет видеть, как будут падать головы его товарищей, и что он своим примером хочет поддержать присутствие духа у товарищей; в заключение он заметил, что право быть казненным прежде других составляет такую привилегию, от которой осужденный всегда вправе отказаться. Начался спор между мной и Клоотцем, но пристав подал мне знак согласиться с этой просьбой, и я уступил. Первым был казнен Деконб; после него один за другим были казнены Мазюэль, Буржуа, Амар, Леклерок, Дюбюиссон, Дюкрок, Кох, Анкар, Перейра, Дефье, Ломюр, Проли, Венсан, Момаро и, наконец, Ронсен, ни на минуту не потерявший присутствия духа. Когда таким образом осталось всего двое осужденных, Клоотц и Гебер, то я приказал своим помощникам, стоявшим внизу, привести Гебера. Несмотря на свое почти бесчувственное положение, Гебер понял, что смерть близка и с усилием пробормотал: «Подождите, подождите!» Услышав это, Клоотц быстро бросился к лестнице и несколько раз подряд воскликнул: «Да здравствует братство народов! Да здравствует всемирная республика!» Между тем, Гебера втащили наверх и привязали к доске гильотины: осужденный был совершенно без чувств. Доску повернули, и я подал знак помощнику своему Ларивьеру, державшему веревку от блока. Не знаю, не заметил ли моего знака Ларивьер или просто хотел угодить кровожадным инстинктам толпы, ожесточенной против Гебера, но он не послушался и не привел блок в движение. Тогда я сам бросился к нему, вырвал веревку из рук, и гильотина грянула. При этом звуке вся толпа, окружавшая гильотину, со страшным энтузиазмом огласила воздух криками: «Да здравствует республика!».
5 жерминаля. Вчера радость была видна на лицах у всех, а теперь, куда ни взглянешь, лица опять вытянулись. Прежде ходили слухи, что Робеспьер примирился с Дантоном, и что в залог этого примирения Дантон потребовал казни Гебера и его приверженцев, а Робеспьер потребовал непременным условием казни главных заговорщиков из роялистов, казнь депутатов, уличенных в лихоимстве и, наконец, казнь Шомета и Симонса, арестованных 28 вантоза. Уверяли, что после этих казней трибунал получил, наконец, предписание держаться обыкновенных законов правосудия. Этот слух, вероятно, был одной из причин невероятно огромного стечения народа к эшафоту во время вчерашних казней. Сегодня всех встревожило известие о неосновательности вчерашних толков, и стали ходить новые, очень зловещие толки. Говорят, что Робеспьер и не думал сближаться с Дантоном, и что казни врагов Дантона были устроены Робеспьером только для того, чтобы иметь возможность вернее нанести удар самому Дантону, и в то же время отчасти показать, что удары наносятся совершенно беспристрастно. На деле оказывается, что наше демократическое устройство имело очень важные недостатки: люди, добившиеся случайно власти, никак не хотят делиться ею с кем бы то ни было. Так вчера один из присяжных Ноден сказал следующие слова: «У Дантона голова слишком высоко выдается из толпы для того, чтобы ему идти за Робеспьером; вероятно, Дантона постараются укоротить и отрубят излишек». Говорят, что когда Дантону стали намекать на угрожающие ему опасности, то он выразился так: «Меня не посмеют тронуть, я неприкосновенен для всех как святыня; наконец, если бы я заметил, что у Робеспьера есть какие-нибудь замыслы против меня, то я растерзал бы его». Кажется, что Дантон жестоко ошибается; во Франции теперь существует одна святыня, повелевающая всеми — это гильотина. Впрочем, народному трибуну трудно знать истинные чувства нации. Кроме того, Дантон говорит и действует как простой смертный, а Робеспьер старается играть роль какого-то пророка. Этот пророческий тон производит сильное впечатление на массы и потому за ним должна остаться власть. Марату нужно было пасть под кинжалом Корде для того, чтобы стать идолом толпы, а Робеспьер уже при жизни имеет своих поклонников и поклонниц. Так, например, жена старшего моего помощника Деморе каждое утро молится на портрет Робеспьера, который она повесила вместо образа у изголовья своей постели, и подобных ей безумных личностей мы встречаем немало.
6 жерминаля. Сегодня нам пришлось казнить Жана-Луи Гутта, бывшего прежде конституционным епископом в Отюне и членом учредительного собрания. Вместе с ним казнены два брата Баллеруа, Шарль-Огюст и Франсуа-Огюст. Первый из них был прежде маркизом и генерал-лейтенантом, а второй маршалом и командором ордена св. Людовика; оба они были обвинены в сношениях с неприятелями с целью содействовать им в их борьбе с республикой. В тот же день погибли на эшафоте еще двое: Дени Жуазель, бывший камердинер брата покойного короля, обвиненный в стремлениях к восстановлению королевской власти во Франции и Этьен Тири, квартирмейстер 8 гусарского полка, обвиненный в том, что он самовольно назвал себя депутатом и комиссаром комитета общественной безопасности и, пользуясь этим подложным званием, совершил много насилий и угнетал граждан.
7 жерминаля. Повсюду ходят слухи, что в комитетах уже начались прения об аресте Дантона. Мне тоже кажется, что, вероятно, скоро начнут грызться наши большие собаки, потому что мелкие собачонки разлаялись что-то очень громко. Бесцеремонный Вилат не далее как вчера при всех находившихся в судейской комнате объявил, что «через каких-нибудь восемь дней к нам приведут Дантона, Камилла и Филиппо». Если эти личности будут арестованы, то им придется винить самих себя, потому что толки об их аресте слышны повсюду и есть еще полная возможность спасаться бегством. Впрочем, люди, подобные Дантону, не решатся бежать.
Сегодня была казнена Клавдия-Мария Ламберти, по мужу госпожа Вильмен, обвиненная в сообщничестве с Полиньяком и в противореволюционных стремлениях, и Генрих Моро, обвиненный в участии в заговоре, составлявшемся с целью помешать казни покойного короля.
8 жерминаля. Сегодня совершена казнь бывшего капуцина Жана Батиста Песселе, приговоренного к смерти за попытку поколебать верность волонтеров, которых он уговаривал перейти в ряды неприятелей республики. Вместе с ним был казнен бывший драгунский капитан и генерал баварской службы Жан Перне за то, что он рассказывал, будто бы один из депутатов Конвента накупил себе в окрестностях Бессениля поместий на девятьсот тысяч ливров, что будто эти деньги были им наворованы за какие-то пять или шесть месяцев и что вообще в Конвенте нет ни одного честного человека.
9 жерминаля. Гебер и его партия были выданы гражданином Лабуро, который, несмотря на свой сорокапятилетний возраст, назвал себя студентом медицины. Он донес о заговоре кордельеров, выставил своих друзей злодеями, а потом неудивительно, что трибунал оправдал его. Третьего дня этот Лабуро с торжеством был введен к якобинцам. Лежандр, занимавший в этот день место президента, обнял Лабуро и воспользовался этим случаем, чтобы высказать признательность трибуналу за его правосудие. Бедный Лежандр! Быть может, и тебе придется скоро на собственном опыте убедиться, какова эта справедливость.
11 жерминаля. Сегодня утром Дантон, Камилл Демулен, Лакруа и Филиппо были арестованы на своих квартирах и отвезены в замок Люксембург.
Вчера и сегодня было казнено семеро осужденных.
12 жерминаля. Настоящий президент якобинского клуба и член Конвента Лежандр не был арестован вместе с Дантоном, как об этом пронесся слух вчера. Ришару уже отданы приказания на счет новых заключенных. Он перевел в другое место Бейссе, занимавшего комнату Гебера, освободившуюся 4 числа: кроме того, у него наготове еще 6 пустых камер в Консьержери. По всему видно, что они будут переведены сюда сегодня вечером или утром завтрашнего дня и немедленно после этого начнется и сам процесс. Когда обвиняются подобные лица, у нас дела не затягиваются.
Сегодня нам пришлось казнить бывшего священника Еложа Шнейдера, занимавшего в последнее время должность публичного обвинителя в Страсбургском революционном трибунале, который при таком обвинителе обратился в настоящий вертеп разбойников. Шнейдер страшно злоупотреблял вверенной ему властью, удовлетворяя свои порочные наклонности.
Прибыв на место, он обратился ко мне и проговорил: «Милостивый государь, милостивый государь» сам не сознавая, о чем хочет сказать мне. До него были казнены: приказчик Луи Симон Колливе, обвиненный в сочувствии королю во время событий 20 июня и 10 августа; бывший дворянин Шарль-Броше де Сен-При, за участие в заговоре против свободы народа; бывший дворянин и отставной президент контрольной палаты Шарль-Виктор-Франсуа де-Саллабери, за сношения с вандейскими бунтовщиками и за намерение сдать им город Юлуа, в котором он занимал муниципальную должность.
13 жерминаля. Дантон и его сообщники сегодня ночью были переведены в Консьержери, а завтра начнется их процесс в отделении трибунала, заседающем в зале свободы. Вместе с ними будут судить депутатов, обвиненных в лихоимстве. Всего будет пятнадцать подсудимых.
14 жерминаля. Сегодня казнены: продавец скота Жан Маске, за участие в заговоре с целью распространить голод в Париже, продавая по высокой цене скот, назначенный на убой и задерживая прибытие транспорта со съестными припасами; бывший дворянин Этьен-Жак-Арман-де-Ружмон за поступки, противные духу революции.
Глава III Процесс Дантона, Камилла Демулена, Геро-де-Сешеля, Филиппо, Базира, Шабо и др
Процесс Дантона, Камила Демулена, Геро-де-Семеля, Филиппо, Базира Шабо и др.
Мемуары Шарля-Генриха Сансона не дают мне почти никаких данных относительно процесса дантонистов. Между тем этот процесс имел огромное значение для моего деда. По нескольким фразам его дневника нам уже стало ясно, что в недрах Конвента начиналась страшная борьба, от которой неминуемо должны были зависеть увеличение или уменьшение деятельности гильотины. В самом деле деда моего сильно должна была интересовать судьба тех, которые хотели сделать из исполнителя не истребителя побежденных, как это было до сих пор, а только законного мстителя за общество. Из рассказов отца моего мне хорошо известно, что Шарль-Генрих присутствовал на каждом заседании трибунала, и ежедневно вечером за семейным столом сообщал семейству подробности процесса с необыкновенным воодушевлением. Быть может, что то особенное усердие, с которым он следил за делом, и было причиной пробела в его журнале. Как бы там ни было, но важность обстоятельства, как мне кажется, возлагает на меня обязанность рассказать об этом событии, по крайней мере, настолько подробно, насколько рассказаны дедом даже второстепенные обстоятельства. Надо согласиться, что как ни резко обвиняли Дантона за его политическую деятельность, как ни мало высказалось симпатий к личности знаменитого трибуна, все-таки его процесс остается одним из важнейших процессов революционного периода. До сих пор революция губила только тех, кто давал хотя бы какое-нибудь право считать себя в числе врагов ее, но с этого времени она уже поднимает руку сама на себя и начинает губить собственных сподвижников. Общество людей даровитых, энергичных с сильной волей, образовавшееся с целью ниспровергнуть старое, в настоящее время вследствие самой победы своей начало разлагаться. Самые твердые опоры нового здания, воздвигнутые на развалинах старого порядка вещей, теперь, в свою очередь, начали падать, и само здание начинает колебаться на своем основании, так что недалеко уже то время, когда достаточно будет малейшего толчка, чтобы обрушить его. Поэтому я считаю необходимым передать главные подробности процесса и затем снова обращусь к запискам Шарля Генриха Сансона, из которых узнаем последние минуты знаменитых подсудимых.
Я уже сказал выше, что Дантон, Камилл Демулен, Филиппо и Лакруа были арестованы в ночь с 10 на 11 жерминаля. Мера эта возбудила оживленные прения в комитетах. Некоторые историки утверждают, что Робеспьер вовсе не желал подобной меры и только после горячих споров уступил настоятельным требованиям своих товарищей, доказывавших, что мера эта необходима для безопасности республики.
Если это и действительно было так, то все это не что иное, как очень ловкий маневр Робеспьера. Очень вероятно, что настоящие террористы Амор, Вуллан, Вадье, Бильо и другие взяли на себя инициативу при аресте Дантона; но как бы то ни было, подчинялся ли Робеспьер чувству личного честолюбия, действовал ли он только как беспристрастный защитник известной политической системы, во всяком случае ненависть и озлобление к Дантону были так кстати при том положении, в котором находился Робеспьер, что трудно допустить, чтобы возражения его были совершенно непритворны. Впрочем, он сам взял на себя труд показать, насколько в самом деле он принимает близко к сердцу участь осужденных. Когда на заседании 11 числа Лежандр во имя правосудия потребовал для своих друзей права подвергнуть суду своих товарищей, кто первым воспротивился этому? Робеспьер и его речь, отрывки из которой я приведу ниже, была первым резким обвинением и по духу своему совершенно справедливо может назваться предшественницею неумолимого обвинительного акта Сен-Жюста.
Дантон держал себя все время с достоинством, и благодаря тогдашнему его поведению, быть может, современное потомство сотрет кровавые пятна, которые легли на имя Дантона после сентябрьских убийств. Действительно, в это время Дантон был истинным защитником начал великодушия и умеренности. Если в этой сильной личности мы замечаем громадные недостатки, то они искупаются и великими достоинствами. У Дантона достало духу хладнокровно смотреть, как реками лилась кровь разгар борьбы, но ряд юридических убийств последнего времени возбудил в нем отвращение, близкое к негодованию. При всем том он не был даже настолько зол, чтобы от души ненавидеть своих врагов. Что касается Камилла Демулена, то недаром же общественное мнение с таким воодушевлением встретило те превосходные страницы, в которых Демулен развивал чувства истинного патриотизма и возмущался современным ходом дел. После этого нет ничего странного, что комитетам так захотелось стереть с лица земли этих двух людей, желавших положить конец кровавому царству ужаса, которое революционеры-фанатики сделали нормальным порядком дел во Франции. Стремления Робеспьера, как мне кажется, были еще дальновиднее, жестокость была только прямым следствием их и была необходимой принадлежностью его политики. Робеспьер настолько умен, что сам хорошо понимал, какой огромной популярностью будет пользоваться тот, кто избавит страну от царства ужаса, этой страшной химеры, равно давившей всех, как правых, так и виноватых. Роль избавителя Робеспьер приберегал для себя и только выжидал удобного времени; Дантон вздумал предупредить Робеспьера, и это вменилось ему в преступление.
Дантон без всякого сопротивления отдался агентам Герона, арестовавшим его и отправившим в Люксембург Камилл Демулен, наоборот, в минуту ареста отворил окна и стал громко звать к себе на помощь против насилий тирании. Убедившись, что никто не является к нему на помощь, он решился отдаться агентам и попросил позволения взять с собой несколько книг. Вслед за тем он достал из своей библиотеки «Юнговы ночи» и «Размышления Гервея», обнял жену и сына, спавшего в колыбели, и отправился. Арест Филиппо и Лакруа совершился без всяких затруднений. В тот же день обычные формальности были соблюдены, и заключенные получили разрешение выходить на большой двор внутри тюрьмы. Состояние духа каждого из арестованных было совершенно различно. Камилл Демулен был грустен, задумчив и как бы убит горем; Лакруа также потерял присутствие духа, Филиппо казался спокойным и готовым на самопожертвование; Дантон, быть может, с целью поддержать мужество своих друзей, проявлял стоицизм и отличался неестественной веселостью.
Весть о прибытии этих людей, еще недавно столь могущественных, быстро разнеслась по тюрьме, и все сбегались, чтобы посмотреть на них. Геро-де-Сешель, находившийся в то время на тюремном дворе, узнал Дантона и поспешил заключить его в свои объятия. Некоторые из заключенных, забыв, что эти противники их арестованы за то, что во имя человеколюбия защищали интересы побежденных, позволили себе издеваться над их несчастьем. Один из них, указывая на рослого и широкоплечего Лакруа, выразился так: «Вот славный был кучер».
На такую насмешку Дантон презрительно усмехнулся и, обращаясь к окружающим, сказал: «Когда уже сделал глупость, то надо подчиниться ее последствиям, и всего лучше смеяться над ней. Я сожалею о вас всех; если благоразумие не одержит верх, то вас ожидает нечто еще худшее». Когда же кто-то спросил его, как он, Дантон, мог дать себя обмануть Робеспьеру, то он отвечал: «Я не думал, чтоб этот негодяй так легко захватил меня, но, во всяком случае, предпочитаю умереть на гильотине, чем самому быть палачом». Американец Томас Пайн заключен был в Люксембурге; Дантон, встретившись с ним, пожал ему руку и сказал: «То, что ты сделал для счастья и свободы твоей родины, то же старался и я сделать для своей, но безуспешно; мне не было удачи, но я не стал поэтому более виновным. Меня обрекли на казнь, и я взойду на эшафот без трепета».
Между тем в Конвенте Лежандр, один из друзей Дантона, дерзнул принять на себя защиту осужденных. Он взошел на кафедру и голосом, полным волнения, которое он и не старался скрывать, воскликнул: «Граждане, четыре члена нашего собрания сегодня ночью арестованы. Я знаю, что Дантон в числе их; имена других мне неизвестны. Да и какое дело до имен, если они виновны? Но я требую, чтобы арестованные члены наши предстали перед нами, мы их выслушаем и оправдаем или осудим… Сознаюсь, что не могу верить в виновность Дантона, и повторяю, он столь же непорочен, как и я. Его заковали в кандалы и вероятно опасаются, чтобы ответы его не разрушили всех возведенных на него обвинений».
Лежандру отвечал один из представителей Горы, Файо, возразивший против его предложения; но собрание было взволновано, и необходим был голос более могущественный, чтобы победить волнение, которое могло решить дело в пользу обвиненных. Робеспьер взошел на кафедру. Сперва выразил он удивление тому волнению, которое обнаружилось в Конвенте; потом спросил, следует ли заключить из такого волнения, что несколько личностей, по его мнению интриганов, одержат верх над родиной их; наконец, обратившись к Лежандру, сказал:
«Лежандр как будто не знает имен тех, которые арестованы: имена эти известны всему Конвенту: друг его Лакруа находится в числе их. Почему же делает он вид, что не знает этого? Потому что он очень хорошо знает, что только бесстыдный человек может защищать Лакруа. Дантона же назвал он вероятно потому, что считает имя это связанным с особым преимуществом; но мы не признаем никаких преимуществ, не желаем иметь никаких идолов. Мы увидим сегодня, сумеет ли Конвент разрушить идола, давно уже сгнившего, или же идол этот при своем падении раздавит сам Конвент и весь французский народ».
«…Но какое же мог бы он иметь преимущество? Чем Дантон выше своих сотоварищей? Чем он выше своих сограждан? Разве тем, что несколько личностей, отчасти им обманутых, стали его последователями, чтобы достигнуть богатства и власти?»
Далее он говорил, что не думал пожертвовать Дантоном: «Я получил несколько писем от друзей Дантона, выслушал от них много словесных объяснений. Они вообразили себе, что старинная дружба моя с ним, что верование в лживые добродетели побудят меня умерить мое рвение и мою страстную преданность свободе. Но я торжественно объявляю, что ни один из этих поводов не имел на меня ни малейшего влияния».
В заключение он потребовал предварительного вопроса по предложению Лежандра. Эта маккиавелическая речь имела сильное действие. Робеспьер весьма удачно связал Конвент с решениями комитетов; он возбудил всех жарких патриотов, успокоил боязливых, объявив им, что число виновных незначительно, и дал им понять, что после них не потребуется уже новых казней. Сен-Жюст окончил то, что начато было Робеспьером.
Между речью Робеспьера и рапортом Сен-Жюста было то расстояние, которое отделяет холодное и рассчитанное честолюбие от фанатизма. Тот, который выразился, что «республика есть не сенат, а добродетель», был вполне искренен в ненависти своей к Дантону, который и не заботился о том, чтобы скрыть свои слабости и пороки. С дикой яростью кинулся он на жертву, которую предоставляли ему; это очевидно было из каждой строки его рапорта, где сталкивались и перемешивались правда и ложь, нелепое и правдоподобное: это была смесь суровых убеждений, страшных нетерпимостей, низкой лести, безумных обвинений; и в этой смеси, чтобы быть еще больше уверенным, что никто не примет на себя защиту его жертвы, он окончательно смешивает ее с грязью, упоминая о воровстве, слово, останавливающее всякие симпатии. Рапорт свой Сен-Жюст представил с холодным и резким красноречием, которое отличало его от других ораторов того времени. Представители слушали его, опустив головы, подобно школьникам. Смущение было общее; это новое вторжение террора в Конвент охлаждало всякое мужество, и ни один голос не поднялся в защиту обвиненных; даже Лежандр более трех раз отрекся от того, учеником которого был, и декрет был принят с энтузиазмом ужаса.
На другой день, 12 жерминаля, обвинительный акт Фукье Тенвилля, многословный список с обвинениями Сен-Жюста, передан был обвиняемым, и второй том записок о тюрьмах говорит следующее о том впечатлении, которое произвело чтение означенного акта:
«Когда заключенные получили обвинительный акт, Камилл стал с яростью и негодованием ходить взад и вперед по комнате; Филиппо, взволнованный, сложил руки и обратил взоры к небу, Дантон же улыбался и насмехался над Камиллом Демуленом. Потом он пошел к Лакруа и спросил его мнение.
— Я скорей обрежу себе волосы, чтобы Сансон не прикасался к ним, — сказал тот.
— Будет еще интереснее, когда Сансон займется нашими горловыми венами.
— Я думаю, нам следует отвечать только перед комитетами.
— Да, ты прав, надо постараться растрогать народ».
Но волнение, на которое рассчитывал Дантон, уже проявилось. Весть об аресте, о заключении Камилла, ставшего в последнее время весьма популярным, произвела глубокое впечатление. В продолжение дней, 11 и 12 жерминаля, множество народа прогуливалось в садах Люксембурга, и отец говорил мне, что многие останавливались перед этими гранитными стенами, безмолвно взирая на них и как бы ожидая, что при одном звуке голоса Дантона стены этого нового Иерихона разрушатся и рассыплются.
Мысли Камилла, с душой более нежной, заняты были только теми, кто был ему дорог; он думал о любимой им Люсиль, о маленьком своем Горасе, воспоминание о котором разбивало все его мужество. Жена его в отчаянии бродила по аллеям Люксембурга, держа на руках своего ребенка, а он, прильнув лицом к оконным решеткам, проводил дни в том, что старался увидеть ее в толпе. Одно время к нему возвратилось вдохновение, и в ночь с 11 на 12 он начал писать последнее воззвание патриотизма и негодования к тиранам; он прервал свою работу, чтобы уснуть, но, проснувшись, уже не продолжал ее, а написал письмо жене. История сохранила это письмо. «Никогда, говорит Луи Блан, не вырывались более раздирающие вопли из глубины души, за которую смерть боролась с любовью». Вот это письмо.
«Декади, 12 жерминаля, 5 часов утра. Благодетельный сон прекратил на время мои мучения; когда спишь, то чувствуешь себя свободным и не чувствуешь своего заключения. Небо сжалилось надо мной. Несколько минут тому назад я видел тебя во сне, я обнимал по очереди тебя, Гораса и Даронну, которая была у нас; но наш малютка лишился одного глаза через попавшую на него мокроту и этот случай разбудил меня. Я снова увидел себя в своей темнице. Начинало светать; так как я не мог уже видеть тебя и слышать твои ответы (ибо во сне ты и мать твоя говорили со мной), я встал, чтобы поговорить с тобой письменно. Но когда я открыл окно, то мысль о моем одиночестве, страшные решетки, запоры, разделяющие нас — все это уничтожило твердость духа моего; я залился слезами, или, вернее, я стал громко рыдать, восклицая в глубине моей темницы: „Люсиль! дорогая Люсиль! Где ты?“ (здесь видны следы слез). Вчера вечером у меня была подобная минута, и сердце мое сжалось, когда я увидел в саду матушку твою; невольно упал я на колени у самой решетки, сложил руки, как бы умоляя ее о сожалении, ее, которая, как я убежден, стонет и горюет не менее нас. Вчера видел я ее горесть (опять следы слез) по ее платку и по вуали, спущенной ею, чтобы не видеть тягостного для нее зрелища. Когда вы придете, то пусть она сядет ближе к тебе, чтоб мне вас лучше было видно; я думаю, в этом не может быть ничего опасного. Дорогая моя Люсиль! Вот я и вернулся ко времени нашей первой любви, где меня интересовал каждый, кто только выходил из вашего дома. Вчера, когда вернулся гражданин, носивший тебе письмо мое, то я сказал ему: ну что, видели вы ее? — то же что я говорил и аббату Ландревилю, — и я останавливал на нем взгляд свой как будто на платье его, на всей его личности оставались какие-либо следы твоего присутствия… Я открыл в своей каморке щелочку, приложил к ней ухо и услышал стоны; я попытался заговорить и в ответе услышал голос страждущего больного. Он спросил, как меня зовут, и я ответил ему. — О Боже, воскликнул он, услыхав мое имя, и снова упал на кровать, с которой было привстал; и я явственно услышал голос Фабра д’Еглантина. „Да, — сказал он, — я Фабр; но ты, как же ты здесь? Разве совершилась контрреволюция?“ Но мы не смеем разговаривать из опасения, чтоб ненависть не отняла у нас и это слабое утешение, и чтоб, если нас услышат, не разлучили и не усилили за нами надзор. Пусть бы так жестоко поступали со мной Питт или Кобург, но мои сотоварищи, но Робеспьер, подписавший приказ о моем аресте, но сама республика, наконец, после всего, что я для нее сделал… Я предвижу ожидающую меня участь. Прощай, моя дорогая Люсиль, и простись за меня с отцом моим! Во мне ты видишь пример человеческого варварства и людской неблагодарности; мои последние минуты тебя не обесславят. Ты видишь, что мои опасения были основательны, что я верно все предвидел! О, дорогая моя Люсиль! Я рожден был, чтоб быть поэтом, чтобы защищать несчастных, чтобы сделать тебя счастливой! Я мечтал о республике, которую все обожали бы! Я не мог думать, чтобы люди были так жестоки и несправедливы! Да и как вообразить себе, чтобы несколько шуток в рассказах моих против сотоварищей, вызывавших меня на это, изгладили бы совершенно воспоминание о моих заслугах? Я не скрываю, что умираю жертвой этих шуток и моего расположения к Дантону. Я благодарю моих палачей за то, что они дают мне умереть с ним и Филиппо… Прости, милый друг, настоящая жизнь моя, которую я утратил с той минуты, когда нас разлучили; я забочусь о своей памяти, хотя скорее следовало бы мне позаботиться, чтобы о ней забыли. Дорогая Люсиль, умоляю тебя, не призывай меня твоими воплями, они проникли бы даже в гробницу мою и раздирали бы сердце мое. Живи для Гораса, говори ему обо мне! Ты скажешь ему то, что он теперь не может услышать, что я горячо любил бы его! Несмотря на горькую судьбу мою, я все-таки верю в Бога! Кровь моя омоет мои ошибки, слабости человечества; а то, что во мне было хорошего: добродетели мои, любовь к человечеству — за это Бог вознаградит нас. Придет день, когда я увижусь с тобой, Люсиль! При моей чувствительности разве такое большое несчастье смерть, избавляющая меня от зрелища стольких преступлений. Прощай, дорогая Люсиль! Прощайте, Горас, Аниста! Прости, отец мой! Я чувствую, как жизнь убегает от меня; я вижу опять тебя, Люсиль! Руки мои обнимают и прижимают тебя к сердцу и голова моя, отделенная от туловища, покоится на груди твоей! Я умираю!»
В ночь с 12 на 13 обвиненные переведены были из Люксембурга в Консьержери. Проходя под сводом, который уже суждено было ему пройти только на казнь, Дантон сказал окружавшим его: «В такое же время основал я революционный трибунал, и прошу в этом прощения у Бога и людей. Я взойду на эшафот за то, что пролил несколько слез о судьбе несчастных. Перед смертью единственное мое сожаление будет о том, что в жизни ничем не мог быть полезным».
13 жерминаля они предстали перед судом. Состав трибунала был предметом особой заботливости комитетов. Присяжные были тщательно избраны; взяли тех, которые уже доказали на деле рвение свое при расстреливании несчастных, приводимых перед их судом. Это были Треншар, Реноден — правая рука Робеспьера, Виллат, Люмиер, Дебуасси, Субербиель, Ганней, который, по словам Мишле, был идиотом, и не понимая ни вопросов, ни ответов, осуждал на смерть всех без разбора; наконец крепчайший из крепких бывший маркиз Леруа де Монфламбер, гражданин 10 августа. Председательствовал Герман; судьями же были Массон, Денизо, Фуко и Бравэ.
Чтобы оправдать обвинения Сен-Жюста, включили в процесс Дантона тех представителей, которые обвинялись в лихоимстве: Шабо, Делоне, Базира, почти уличенных в том, что первые двое из жадности, третий — из слабости торговали своим влиянием в деле акций индийской компании; Фабр д’Еглантин, сообщничество которого в этом деле осталось недоказанным, но пера, которого Робеспьер боялся почти столько же, как пера Демулена. Приняв за основу лихоимство, в котором обвиняли Лакруа и Дантона за время командировки их в Бельгию, легко было установить подобие сообщничества между ними и вышеназванными лихоимцами. Не так легко было приобщить к этому же делу Геро де-Сешеля, арестованного по неопределенным обвинениям комитета общественной безопасности и преимущественно за то, что он дал у себя убежище изгнаннику; а также Филиппо, виновного в том, что Робеспьер называл филиппотиками резкие статьи, которыми он клеймил образ действий агентов республики во время Вандеи; но решили обойтись без правдоподобия и, прибавив к кучке обвиненных одного датчанина, одного испанца и двух немцев, составили такое целое, которое вполне оправдывало данный ему громкий титул: заговор иностранцев.
Их было тринадцать. После допроса Фукье заметил, что забыли двоих обвиненных: Люилье, генерального адвоката в Парижском департаменте и Вестермана, 40 лет, бригадного генерала; за ними послали в Консьержери, и таким образом число обвиненных возросло до пятнадцати.
Камилл имел ссору с Реноденом у якобинцев, которая окончилась схваткой; увидев его на скамье присяжных, он предъявил отвод. Но Реноден нужен был своим товарищам и, несмотря на правильность отвода, трибунал не принял его и решил приступить к прениям.
На обычные вопросы об имени и месте жительства Дантон отвечал: «Я Дантон, достаточно известный в период революции; жилище мое скоро будет вечность, имя же мое сохранится в пантеоне истории».
Камилл же, в свою очередь, сказал: «Мне тридцать три года, критический возраст для революционеров, Геро де-Сешель: меня зовут Иоанн-Мария, я заседал в этом зале, где пользовался ненавистью парламентских».
Фукье Тенкилль приступил к чтению своих комментариев на рапорт Сен Жюста. Обвиненные потребовали сообщения им самого рапорта, и их требование было удовлетворено. Несколько выписок дадут понятие об этом оригинальном документе.
«Дантон, ты объявлял себя сторонником умеренных принципов, и твоя мужественная наружность, по-видимому, скрывала слабость твоих советов. Ты утверждаешь, что строгость правил возбудит слишком много вражды против республики. Пустой примиритель, все твои выступления на кафедре начинались с грома, а ты старался примирять ложь с истиной… Тебе все было с руки; Бриссо и сообщники его выходили всегда довольные тобой. С кафедры ты давал им благие советы, чтобы они долее скрывали свой образ действий. Ты угрожал им без негодования, но с родительской добротой и ты скорее давал им советы, чтобы повредить свободе, чтобы спасти себя и лучше обмануть нас, вместо того чтобы дать республиканской партии совет на их погибель. Ты говорил, что ненависть невыносима для твоего сердца, а нам ты говорил, что не любишь Марата. Но разве ты не преступник уже потому, что ненавидел врагов своей родины? Разве человек личными своими наклонностями определяет равнодушие или ненависть, а не любовь к родине, которой ты никогда не чувствовал? Ты старался быть примирителем подобно Сиксту пятому, который представлялся простачком, чтобы достигнуть цели. Разразись же теперь перед правосудием народа, ты, который никогда не решался громить врагов отчизны».
«Ты с ужасом видел революцию 31 мая. Геро, Лакруа и ты потребовал головы Генрио, который служил свободе, и вы поставили ему в вину одно движение, сделанное им, чтобы избегнуть ваших притеснений… Разве ты с того времени не отправлял посланника к Петиону? Разве ты не противился наказанию депутатов Жиронды? Разве ты не защищал Штейнгеля, который допустил убийство патриотов на аванпостах армии, у Э-ла Шапель? Став защитником всех преступников, ты никогда не был таким же для патриота. Ты обвинял Ролана, но скорее как желчного безумца, нежели как предателя; у жены его ты находил только претензии на остроумие. Ты накинул плащ на все преступные действия твои, чтоб лучше их скрыть».
«Как дурной гражданин, ты принимал участие в заговорах; как дурной друг, ты два дня тому назад дурно отзывался о Демулене, твоем орудии, которое ты же и погубил; злой человек — ты сравнил общественное мнение с блудницей, ты выразился, что благородство смешно, что потомство и слава не более как глупости».
Далее, нападая на Камилла и Фабра, рапорт говорит: «Камилл Демулен, бывший сначала обманутым, а потом ставший сообщником, был, как и Филиппо, орудием Фабра и Дантона. Последний рассказал как пример благодушия Фабра, что, находясь у Демулена в то время, когда тот читал бумагу, в которой предлагалось устроить комитет милосердия для аристократов, а Конвент называл судилищем Тиверия, Фабр начал плакать — крокодилы также умеют плакать! Так как у Камилла недоставало характера, то воспользовались его гордостью. Он нападал на революционное правление и его последствия. Он дерзко говорил в пользу врагов революции, предложил учредить для них комитет милосердия и высказался весьма немилосердным к народной партии».
«Царство преступления миновало, и горе тому, кто бы стал принимать его сторону! Политика его обнаружена в настоящем ее свете. Да погибнет все, что преступно! Республика создается не умеренностью, а жестокой строгостью, непреклонной в отношении ко всем изменникам и предателям… Можно отнять жизнь у таких людей, которые, как мы, решались на все из-за истины, но нельзя вырвать сердца их, нельзя уничтожить гостеприимный кров, под которым они находят убежище от рабства и стыда увидеть, что перевес на стороне зла».
Как уже сказано выше, соединив в один процесс три категории обвиненных, которых проступки были разнородны, Фукье следовал обычной тактике революционного трибунала, заключавшейся в том, чтобы заглушить у публики всякое чувство сострадания через сопоставление таких обвиненных, популярности которых можно было опасаться, с такими, к которым сострадание невозможно. Камилл, Филиппо и Лакруа, увидев себя поставленными на одну скамью с негодяями, энергично протестовали против этого; Дантон молчал, и только презрительная улыбка виделась на его полных губах. Когда Камилл продолжал настаивать на своем протесте, Дантон убеждал его сесть, говоря: «Пусть они делают свое ремесло; все, что они могут сделать, это убить нас; обесславить же нас не в их власти».
Начались допросы. Фабр д’Еглантин объяснил подделку декрета, в которой обвиняли его; он объявил, что бумага, о которой говорили, но которую ему не показывали, была не более как проект, составленный по рассуждениям комитета и в котором заключались те изменения, какие могли быть следствием тех рассуждений. Шабо объявил, что он вступил в это дело только с целью узнать все нити его для подробного о нем доноса; Делоне и Бази объявили, что не имели даже и понятия о деле.
В отношении к Лакруа, Филиппо и Сешелю дело было чисто процессом направления и наклонностей; обвинялись их мнения и даже голоса, поданные ими как народными представителями. Они были не только самые преданные, но и самые замечательные из друзей Дантона; они, конечно, не могли заменить его, но могли сделаться вождями той части Конвента, которая не расположена была к суровым формам, к правам последователей Робеспьера, к кровавой политике террора, считавшей, что если Франции следует быть республикой, то такая республика должна принять за образец скорее Афины, чем Спарту. Подобно всем второстепенным деятелям известной партии, они высказали наибольшее рвение в нападении; Филиппо в своих статьях, в речах своих на Конвенте и у якобинцев восставал против образа действий представителей, отправленных в разные местности с поручениями; один из первых он заклеймил их прозвищем проконсулов. Фукье поставил и это ему в вину.
— Если, — возразил Филиппо, — заявить правительству о нарушениях, совершающихся его именем, есть преступление, то я действительно виновен. Но разве мы до того уже испорчены, чтобы принимать действия добродетельные за преступления? Я доставил правительству важные сведения о возмутительных поступках, совершавшихся в Вандее, и я горжусь этим. Настояния мои в комитете не имели успеха и, желая исполнить свое назначение, я написал всю правду Конвенту, я донес на комитет общественного спокойствия. Я раскрыл планы интриганов и тем исполнил свой долг. Я не унизил народное представительство и горжусь тем, что писал.
Дошла, наконец, очередь до Дантона. Герман основательно опасался той минуты, когда он начнет говорить. Действительно, не успел этот титан революции сказать слово, как все изменилось: при звуках его голоса судьи становились обвиняемыми, обвиняемый становился судьей, присяжные Германа склоняли голову перед львиной наружностью того, кому они не смели смотреть в глаза.
«Голос мой, который столько раз имел случай раздаваться в защиту прав народа, легко опровергнет клевету. Низкие люди, которые клевещут на меня — разве они посмели бы напасть на меня лицом к лицу? Пусть они назовут себя, и я в ту же минуту предам их унижению, которое должно быть их уделом… Голова моя отвечает за все: жизнь мне уже в тягость и я спешу избавиться от нее».
Герман, проникнутый ужасом, прерывает его словами «что смелость есть признак виновности, спокойствие же — необходимое качество невиновного».
«Конечно, возразил Дантон на такое замечание президента, личная смелость подлежит осуждению, но в такой никогда не обвинить меня; смелость же народная, которой я столько уже представлял примеров, которую я применял для пользы общественного дела, — эта смелость позволительна, необходима и ею я горжусь! Когда я вижу, что меня так тяжко и несправедливо обвиняют, разве я могу укротить осаждающее меня чувство негодования? Разве от такого революционера, как я, можно ожидать ответа хладнокровного? В революции люди, подобные мне, неоценимы: на их челе неизгладимыми буквами наложил гений республики печать свободы… А ты, Сен Жюст, ты дашь ответ потомству за клевету, которую ты пустил в ходе против лучшего друга народа. Пробегая этот страшный рапорт, я чувствую, что все мое существо содрогается».
Герман снова остановил его; он, быть может, опасался, что, покончив с Сен Жюстом, Дантон стал бы нападать на Робеспьера и что глава их партии не был уничтожен при таком нападении. Он пригласил обвиняемого высказывать более умеренности для своей же пользы и выставил ему примером образ действий Марата в подобном же случае, желая, вероятно, дать этим понять, что подобно Марату, он мог выйти оправданным, а быть может, и торжествующим.
Можно предполагать, что Дантон в некоторой степени попался в расставленные ему таким образом сети, ибо он начал обсуждать одно за другим те обвинения, которые возводил на него рапорт Сен Жюста, но скоро горячность его натуры взяла верх: «Когда я бросаю вызов моим обвинителям, — воскликнул он снова, — я действую с полным сознанием. Пусть мне назовут их, и я уничтожу их. Низкие клеветники! Выходите, и я сорву с вас маску, которая скрывает вас от общественной мести».
Лакруа советовал Дантону растрогать народ, и народ был уже более чем растроган; все сердца трепетали и в зале и вне его, ибо мощный голос трибуна через открытые окна проникал дальше Сены. Судьи были ошеломлены; Герман напрасно приводил в движение свой колокольчик. «Разве ты не слышишь меня?» — сказал он Дантону.
«Голос человека, защищающего свою жизнь и честь, должен покрывать звуки твоего колокольчика», — отвечал Дантон.
Под предлогом, что он должен быть утомлен, ему не позволили продолжать. Герман допросил Геро де-Сешеля относительно переписки его с Демуленом, об участии, которое он принимал в отступлении пруссаков. Он возобновил старое дело о воровстве — орудие весьма уже ослабленное жирондистами, против которых оно служило.
Перейдя к Демулену, он обвинил его в попытке унизить своими статьями народное представительство.
Он сказал: «Я представлю образчик безжалостных насмешек, с которыми вы нападали на декреты самые благонамеренные». И он начал читать красноречивый памфлет, основанием которого служило негодование Камилла при издании закона о подозрительных.
«Приходилось высказывать радость при смерти друга или родственника, чтобы не подвергнуться опасности погибнуть самому. При Нероне многие из тех, родных которых он умертвил, благодарили богов и зажигали иллюминации. Приходилось, по крайней мере, иметь внешний вид открытый и спокойный и опасались, чтобы сама боязнь не сочлась за преступление».
«Все возбуждало подозрение тирана. Если кто из граждан становился популярен, — его считали соперником государя, могущим возбудить междоусобную войну. Если же, напротив того, вы стали бы избегать такой популярности, не отходя от своего домашнего очага, то эта уединенная жизнь обращала на вас внимание, и вы становились подозрительным».
«Если вы были богаты, то представлялась опасность, чтобы народ не был подкуплен вашей щедростью. Опять подозрение»
«Если вы были бедны, то тем более были причины непобедимому императору бдительно наблюдать за вами. Самые предприимчивые люди всегда те, которым нечего терять».
«Если у вас был характер мрачный и меланхолический, то утверждали, что именно вас беспокоит благополучное течение общественных дел».
«Один страдал из-за имени своего или своих предков, другой из-за красивого летнего жилища своего; Валерий азиатский из-за того, что сады его приглянулись императрице; Статиций из-за того, что лицо его не понравилось ей; наконец, многие пострадали без того, чтоб когда-либо узнали причину тому».
«…Каковы обвинители, таковы же были и судьи. Трибуналы — покровители жизни и собственности, превратились в бойни, где то, что носило название казни и конфискации, было только убийством и грабежом».
«Тот, который высказал столько смелости на бумаге, не имел ни того личного мужества, которым обладал Дантон, ни твердости Филиппо и Лакруа; он не отрекся от того, что писал, но не высказал великодушное чувство, руководившее им, — а в этом и заключалась вся слава его».
Герман ставил в вину как Лакруа, так и Сешелю знакомство их с Дюмурье; он привел объяснения, вырванные у Мячинского, надеждой продлить несколькими днями жизнь свою.
Лакруа потребовал вызова свидетелей, объяснив, что те, кого он выставит не возбудят подозрений, ибо он возьмет их из среды самого Конвента.
Фукье дал ему на это ответ, замечательный по бесстыдству софизма, на котором основано было возражение. Он сказал:
«Так как вы требуете от меня формального ответа, то я объявляю, что согласен на допрос ваших свидетелей, кроме тех, однако, которых вы бы призвали из среды Конвента; в этом отношении я должен заметить, что обвинение против вас, вытекая из всей массы Конвента, возбраняет каждому из членов его стать свидетелем с вашей стороны; ничего не было бы смешнее как предполагать, чтоб ваши же обвинители, и притом лица, облеченные вашей властью, стали содействовать оправданию вашему, тогда как они обязаны действовать лишь в пользу интересов народа и ему только обязаны отчетом в своих действиях».
Тем не менее, Фукье обещал представить это на разрешение Конвента, и затем стали продолжать допрос. Вестерман, подобно Лакруа, изобличенный показаниями Мячинского, весьма основательно заметил, что ему следовало дать очную ставку с его обвинителем тогда, когда тот еще был в живых.
Дело принимало оборот неблагоприятный для тех, которые решились погубить Дантона и приверженцев его; и на заседании 14 числа их беспокойство было очень сильным. Дантон говорил все с большей энергией, его известность, столь необыкновенная стойкость обвиняемого перед трибуналом, наводившим трепет на всех и каждого, — все это привлекло огромную толпу слушателей, и при каждом восклицании этого мощного голоса слышно было, как в плотной толпе пробегал ропот, верный предвестник народного волнения и тех неудержимых рукоплесканий, которые могли прервать заседание и сделать осуждение невозможным. Присяжные стали беспокоиться один из них, Ноден, сказал даже: «Невозможно, однако, отказать ему в допросе его свидетелей»
Заседание поторопились закрыть, Фукье поспешил в комитеты, Герман отправился к Робеспьеру этот, следуя всегдашней осмотрительности своей, запер свои двери; более раздраженные, оставшиеся Тьюлери одни, стали угрожать Фукье, который осмеливался сделать предложение, чтобы удовлетворили требование обвиненных.
Герман и Фукье составили письмо, которым при первом ропоте Дантона или его приверженцев должны были потребовать содействия Конвента; и в эту самую ночь пришла мысль превратить в заговор то глухое волнение, которое из города перешло и в тюрьмы.
Со своей стороны, обвиняемые ясно видели, что общественное мнение на их стороне, и что почва под их ногами становится тверже; мужество возвращалось к слабым, смелость необузданных приобретала еще большей силы, предвидя близость торжества. В начале заседания 15 числа требования их о вызове свидетелей стали более настоятельны и даже повелительны.
Раздались крики, брань, всеобщий шум — то есть все то, чего только и ожидал Фукье. Он вынул приготовленное письмо, громким голосом прочел его и тотчас отправил в комитеты.
Письмо было следующего содержания:
«Страшная буря разразилась с самого начала заседаний. Обвиняемые требуют, чтобы выслушали свидетелей в их пользу, депутатов: Симона, Куртуа, Леньело, Паниса, Фрирона, Ленде, Калона, Мерлена, Госсюэна, Лежандра, Робена, Групильо, де-Монтегю, Роберта Линде, Лекуентра, Бриваля и Мерлена Тионвилльского; они взывают к народу, полагая, что их требование не удовлетворяется; несмотря на твердость президента и всего трибунала, их настойчивые требования препятствуют заседанию, и они громко объявляют, что не замолкнут, пока не допросят их свидетелей или не издадут формальный декрет; — поэтому мы просим определенно указать нам, как действовать по такому требованию, так как судебный порядок не дает нам никакого повода к отказу».
Одновременно с этим письмом комитет получил известия из тюрем.
По этому предмету существует два мнения: одни полагают, что Люксембургский заговор был вполне делом агентов — подстрекателей, которых полиция содержала в тюрьмах. Другие же утверждают, что действительно существовала мысль о восстании и что мысль эта возбуждена была великодушной Люсиль. Бедная женщина, отвергнутая Робеспьером, отказавшим принять ее, обезумев от горя, составила план броситься в среду народа и потребовать от него спасения первых проповедников свободы. В тревожном состоянии своем, ревностно отыскивая заступников для своего Камилла, она сообщила о своем намерении Диллону, другу своего мужа, содержавшемуся в Люксембурге; она умоляла его оказать ей содействие; она возбудила опасения его за повторение сентябрьских событий; она подкрепила его мужество, спросив его: неужели он выкажет менее энергии, нежели женщина? Диллон же доверился одному негодяю по имени Лафлот, который на другой же день и донес на него.
Донос, переданный привратником Люксембурга полицейским чиновникам, отправлен был Вичеричем в комитет общественной безопасности.
Имея в руках эти два документа, Сен Жюст взошел на кафедру и чтоб легче добиться гибели врагов своих, он позволил себе даже бесстыдную ложь относительно письма Фукье. Он начинает так: «Публичный обвинитель революционного трибунала уведомил, что возмущение обвиняемых прервало заседание суда до тех пор, пока Конвент не примет надлежащие меры». Затем, предупреждая верховное решение присяжных, он продолжает: «Разве когда-либо невинный возмущался против закона? При такой дерзости их не требуется уже других доказательств их преступных деяний… Несчастные! Сопротивляясь закону, они тем самым сознаются в своих преступлениях». После того он изображает фантастическую картину опасностей, угрожающих отечеству; он вызывает тень Катилины; он называет обвиняемых коноводами тюремного заговора; письмо Вичерича прочитывается одним из секретарей, и Конвент принимает следующий декрет:
«Национальный Конвент, выслушав рапорты своих комитетов общественного спокойствия и общественной безопасности, постановляет, чтобы революционный трибунал продолжал следствие по предмету заговора Лакруа, Дантона, Шабо и других, чтобы президент употреблял представленные ему законом меры для внушения должного к нему и революционному трибуналу уважения, и для прекращения всякой со стороны обвиняемых попытки к нарушению общественного спокойствия и преграждению правильного течения правосудия.
Определяется, что каждый из обвиняемых в заговоре, который будет сопротивляться или оскорбит народное правосудие, немедленно будет изъят из прений».
Трое из членов комитетов: Амар, Вулан и Давид, в пылу ненависти своей к Дантону, вызвались передать этот бесчеловечный декрет революционному трибуналу. Луи Блан говорит, что Вулан, передавая декрет Фукье-Тенвиллю, воскликнул: «Они в наших руках, разбойники! Вот что облегчит ваше дело». А Фукье, родственник Камилла Демулена, которому был обязан местом своим в революционном трибунале, отвечал с улыбкой на устах: «Да, нам это было нужно!»
Мишле утверждает, что эти три члена Конвента, не могли воспротивиться желанию своему порадоваться отчаянию своих врагов; в то время когда Фукье читал декрет, они показали лица свои у окошка печатника Никола, комната которого помещалась за скамьями присяжных. Дантон узнал их и воскликнул, показывая их Демулену: «Посмотри на этих подлых убийц, они преследуют нас до самой смерти».
Чтение доноса Лафлота, присоединенного к декрету, еще усилило отчаяние несчастного Камилла. Доносчик объявлял, что жена Демулена предлагала Диллону тысячу экю, чтобы задобрить публику в революционном трибунале; несчастный понимал, что это был смертный приговор Люсиль, и при одной мысли об этом он воскликнул, ломая руки: «Чудовища! Им мало убить меня, они хотят умертвить и жену мою!»
Дантон вскакивает на скамью свою: резкими отрывистыми фразами, отличавшими его красноречие, он то взывает к совести судей и присяжных, то дает волю своему негодованию и предает проклятию тиранов; предрекая будущее, он восклицает: «Бесстыдный Робеспьер, эшафот ожидает тебя! Ты не останешься безнаказанным! Ты последуешь за мной!» Наконец, обращаясь к народу, он спрашивает, неужели народ допустит совершиться беззаконию, он убеждает его объявить, требовал ли он чего другого, кроме применения принадлежащего каждому обвиняемому права призывать свидетелей своей невиновности. Лакруа говорит: пусть нас ведут на эшафот; мы уже довольно жили, чтобы умереть со славой! Народ волнуется и ропщет. Герман угрожает. Камил высказывает ему оскорбительные дерзости и, разрывая бумагу, на которой приготовил свою защиту, бросает куски ее перед судилищем. Тогда Фукье-Тенвиль, поднявшись с места, требует исполнения декрета Конвента; судьи решают, чтобы обвиняемые были изъяты из прений и по приказанию президента жандармы входят, чтобы увести их в Консьержери.
Это совершилось не без труда. Дантон, стоя на скамье с разгоревшимся лицом, разражался в самых резких апострофах; Лакруа уничтожал Фукье своими сарказмами; Вестерман не переставал произносить самые страшные ругательства; Камилл Демулен, ухватившись за спинку скамьи обвиняемых, защищался против тех, которые хотели увлечь его; трем жандармам едва удалось справиться с ним. Фабр д'Еглантин, бывший больным с самого начала процесса, встал со своего места и воскликнул: «Смерть тиранам!» Наконец успели вывести их всех, и впечатление было столь сильно, что после выхода их в зале воцарилось на несколько минут мрачное молчание, которого никто не смел нарушить; президент, судьи, присяжные — все, бледнее смерти, — смотрели друг на друга, как ошеломленные. Наконец, по требованию Фукье, присяжные объявили, что они имеют достаточное понятие о деле; Герман сделал вывод из прений и присяжные удалились для совещания. Они вернулись в 3 часа утра и объявили решение свое, которым все обвиняемые, кроме Люллье, признавались виновными; трибунал приговорил их к смерти и Фукье потребовал, чтобы вследствие тех насильственных действий, в которых они оказались виновными, приговор этот объявлен был им в тюрьме.
Глава IV Продолжение журнала Генриха Сансона
16 жерминаля. Согласно полученному от Фукье приказанию я оставался вчера до самого вечера в доме правосудия. Не имея возможности, как в предшествовавшие дни, войти в зал Свободы, где разбиралось дело граждан депутатов и где стечение народа было значительнее, чем когда-либо, я вернулся в 9 часов. Сегодня утром я пришел в Консьержери, и у самого входа один из жандармов, ударив меня по плечу, сказал: «Сегодня тебе крупная пожива!», а Ривьер прибавил: «Они все осуждены». Он ошибался, ибо Люллье был оправдан, но он был так ничтожен, что позволительно было забыть о нем. У Ришара уже было много народа, чтобы видеть, как будут выходить осужденные; это, вероятно, были зрители из важных особ, ибо тюремные ворота еще не были открыты, и они, вероятно, провели тут ночь. Войдя во двор, чтобы пройти в трибунал, я встретил Роберта Вольфа, который пригласил меня идти с ним. В его комнате занимались помощник его Дюкрей и еще другой чиновник; Фабриций Парис ходил взад и вперед по комнате. Глаза у него были красные, он весь был расстроен, бледен и губы его дрожали, как в лихорадке. Увидев меня входящим, он взял шапку и сказал: «Я ухожу». Дюкрей обернулся к нему и спросил: «Ты подпишешь?» «Нет, тысячу раз нет, — возразил Фабриций, — скорее дам отсечь себе руку». Он ушел со слезами на глазах. Это меня не удивило, ибо он был большой приятель Дантона, и мужество его весьма обрадовало меня. Фукье, двоюродный брат Демулена, оказавшего ему немалые услуги, смотрел на дело иначе. Скоро пришли Леско Флерио, помощник обвинителя и двое администраторов из департамента. Леско спросил меня, тут ли мои тележки, и я ответил ему, что сейчас будут; тогда он приказал мне сойти вниз и ждать, что я и исполнил.
Уже прошел добрый час, когда жандарм пришел за мной от имени обвинителя. В кабинете его я нашел многих граждан, в числе которых узнал представителя старика Вадье, и товарища его Амара, Коффингала, Артура, Германа и других, имена которых были мне неизвестны. Хотя Фукье находился налицо, но приказания отдавал мне Леско Флерио. Он объявил мне, что осужденные возмутились против трибунала, и должно предполагать, что возмутятся и против исполнений приговора, я не должен был забывать, что господство должно было оставаться на стороне народного правосудия; для предупреждения борьбы со всей массой осужденных, мне выдадут их поодиночке; я должен схватить их как только они покажутся и связать насильно или добровольно; для содействия же мне в случае надобности будет находиться отряд решительных жандармов. На вопрос гражданина Амура о том, крепки ли мои лошади, другой помощник обвинителя Лиендон отвечал утвердительно, а Леско Флерио добавил, что в случае, если бы осужденным удалось взволновать народ, тележки мои должны были ехать, рысью или в галоп вместе с конвоем, и что в случае нужды жандармы употребят в дело свое оружие для того, чтобы лошади бежали скорее. Он сказал еще, что на площади все должно быть исполнено быстро, и что республика будет спасена лишь тогда, когда падут головы осужденных. Потом зашла речь о числе нужных тележек. Я назначил три, Леско объявил, что достаточно было двух; Коффингал же полагал, что надо употребить только одну; ибо в случае, если толпа вздумает освободить осужденных, конвою легче будет защищать одну тележку, нежели несколько. Тут некстати было объяснять те мучения, которые терпят осужденные, стесненные на одной тележке, но я заметил, что если сбудутся опасения Леско Флерио и если придется ехать скорее, то помощники мои, которые идут пешком, не поспеют на свои места к гильотине; наконец решили использовать две тележки и мне позволили удалиться после того, как Лиендон повторил мне все наставления своего товарища.
У самого выхода я нашел множество жандармов и несколько канониров революционной армии. Они составили густую цепь вдоль решетки, разделявшей выход от первой комнаты. Спустя полчаса мимо их рядов прошел Табо; он казался совсем убитым и едва мог идти; причиной этому, вероятно, были, как страх, так и страдания, ибо он в Люксембурге принял яд, чтобы отравиться. Он как будто удивлялся и беспокоился, что видит себя одного среди нас, и несколько раз прошептал: «А другие?». Его связали и обрезали волосы; еще не закончили эту операцию, как явился Базир. Табо встал и побежал к нему, приближая лицо свое, чтобы поцеловать его. Он грустным голосом, в котором слышалось слез больше, чем видно было их на глазах, сказал: «Бедный Базир, из-за меня ты должен умереть». Базир прижал его к груди, не говоря ни слова.
После того привели обоих Фрей, народного представителя Делоне, бывшего аббата Эспаньяка и Дидериксена; их вызывали в приемный покой, не говоря для какой надобности, прочитывали им приговор и потом переводили в ту комнату, где мы их ожидали. После них один за другим явились Филиппо, Лакруа, Вестерман и Фабр д'Еглантин; два тюремщика поддерживали последнего, который, по-видимому, был болен. Во время приготовления к казни он объявил, что имеет еще сообщение самому Фукье или одному из помощников его; но ему ответили, что это невозможно. Тогда Фабр сердито топнул ногой, воскликнув: «Недостаточно зарезать меня, нужно еще и ограбить того, кого умерщвляют». Потом, возвышая голос, он прибавил: «Я торжественно протестую против действий негодяев, заседающих в комитетах, которые украли у меня и удерживают у себя комедию, совершенно непричастную к делу». Лакруа глядел на всех мрачным взором. Филиппо был совершенно спокоен.
Фабр еще говорил, когда мы услышали большой шум. Раздался голос Дантона и все смолкли, чтобы лучше слышать слова его. Живость, с которой он выражался, препятствовала пониманию всех слов его, и часто они походили на рычание. Но ясно было слышно следующее: «Я знать не хочу твоего приговора и не хочу слушать его; нас, революционеров, судит потомство, и оно поместит мое имя в Пантеон, а ваши имена в гемонии».
Когда Дюкрей возобновлял чтение, он опять прерывал его, горячась и все более и более разражаясь бранью против тиранства, против трибунала, который он называл местом непотребства, против народа, который обвинил в глупости. Его не могли заставить замолчать, и Дюкрей должен был закончить чтение без того, чтобы его слушали; наконец, Дантон тюремщиками и жандармами выведен был к нам. Как только он увидел нас и других осужденных уже связанных, лицо его вдруг совершенно изменилось, и нельзя было вообразить, что это тот самый человек, если бы он не был запыхавшийся от только что вынесенной схватки. Он принял вид совершенно равнодушный, почти холодный; спокойными шагами приблизился ко мне, опустился на стул и сорвал ворот своей рубашки, сказав мне: «Делай свое дело, гражданин Сансон». Я сам приготовил его; волосы у него были жесткие и крепкие, как щетина. В это время он продолжал говорить, обращаясь к своим друзьям; он сказал: «Это начало конца; они теперь станут казнить представителей кучами; но в этом не заключается сила. Комитеты, управляемые безногим Кутоном и Робеспьером… если б я еще мог оставить им свои ноги, они бы еще некоторое время продержались… но нет… и Франция проснется в потоках крови и…» — спустя некоторое время он еще воскликнул: «Мы сделали наше дело, пойдем спать».
Геро де-Сешеля и Камилла Демулена привели вместе. Первый казался совершенно равнодушным, второй плакал и говорил о своей жене и ребенке такими словами, которые невольно вызывали слезы; но как только увидал он нас, он так же быстро преобразился, как и Дантон, но совершенно в другом смысле; он бросился на прислужников, как будто он был палач, а они осужденные; он оттолкнул и стал бить их; одежда его разорвалась во время схватки, для прекращения которой пришлось принять участие жандармам. Он был невысокого роста, не особенно силен, но, тем не менее, сопротивлялся так же долго, как самый сильный мужчина. Правда, это была одна из таких минут, когда душа человек переходит в мускулы его. В одну минуту вся одежда его была разорвана в клочья. Чтобы обрезать ему волосы, пришлось держать его силой на стуле четверым; то он кидался вперед, то бросался назад, толкая державших его, из которых двух или трех свалил на землю. В борьбе он бранил нас, не переставая: друзья пытались успокоить его; Фабр словами весьма нежными, Дантон повелительным голосом; последний сказал ему: «Оставь этих людей, зачем трогать служителей гильотины? Они исполняют свое ремесло, исполняй и ты свой долг». Тогда слезы градом полились из глаз Демулена и он воскликнул: «Люсиль, ко мне, Люсиль!» Как будто несчастная жена могла услышать его. Видя, что она не идет к нему, он как бы хотел сам идти к ней и усилия его, а с ними и борьба, возобновлялись с новой силой.
Наконец все было готово. Дюкрей, остававшийся все время тут, подал сигнал к отправлению. Каждого осужденного поместили между двумя жандармами, а остальные жандармы составили цепь. В таком порядке мы вышли из тюрьмы.
Представители и Вестерман поместились на первой повозке; я сел на передок; Генрих и один из помощников сзади; на вторую повозку сели четыре помощника с остальными осужденными. Конвой был такой же многочисленный, как у королевы и жирондистов. Дантон стоял в первом ряду позади меня; рядом стоял Геро де Сешель; потом Фабр, Камилл и Филиппо; один Шабо сел, и, по-видимому, он очень дурно себя чувствовал, ибо его рвало несколько раз во время пути. Базир наклонился к нему, помогая поддерживать его и стараясь подкрепить его мужество.
В ту самую минуту, когда двинулись в путь, Дантон воскликнул: «Дурачье, на нашем пути они будут кричать: „Да здравствует республика!“, а между тем через два часа у нее уже не будет головы».
Когда въехали на бульвар, Камилл Демулен предался отчаянию. «Разве вы не узнаете меня, — восклицал он, высовываясь из повозки, — меня, пред голосом которого пала Бастилия? Не узнаете вы меня? Я первый проповедник свободы: статуя ее скоро будет обагрена кровью одного из ее сынов. Ко мне, народ 14 Июля, не допусти, чтобы меня умертвили».
Ему отвечали ругательствами; тогда он пришел в еще большее ожесточение и я опасался, чтобы он не бросился под колеса повозки. Помощник должен был приблизиться к нему, чтобы обуздать его; ему угрожали, что прикуют его к повозке, но напрасно. Дантон, ясно видя, что народ, который окружал их, даже не тронется, нагнулся через Филиппо и сказал Камиллу: «Замолчи, неужели ты надеешься растрогать всю эту сволочь?», а Лакруа говорил: «Успокойся, старайся, лучше внушить им уважение, чем возбуждать их сострадание».
Дантон был прав; выезжая из Консьержери, мы были окружены тем народом, который ожидал нас тут по приказу; толпа окружила конвой плотной массой и все время издавала такие громкие восклицания, что для граждан, стоявших вдоль домов или у окон, не было никакой возможности расслышать слова осужденных.
Проезжая перед кофейной, мы увидели сидящим на подоконнике одного гражданина, который срисовывал осужденных. Эти все подняли головы и прошептали: «Давид!». И действительно, я узнал его по кривому рту. Дантон возвысил голос и воскликнул. «Вот и ты, лакей; поди, скажи своему господину, как умирают воины свободы!» Лакруа также крикнул ему и назвал его негодяем, но Давид продолжал рисовать.
В доме Дюплея все было заперто, двери, окна и ставни. Осужденные давно уж искали дом этот и, подъехав к нему, разразились насмешками перед этими немыми и мрачными стенами. «Низкий тартюф!» — говорил Фабр; Лакруа кричал: «Негодяй! Он прячется, как прятался и 10 августа!» Камилл говорил: «Чудовище, почувствуешь ли ты еще жажду, напившись моей крови; чтобы опьянеть, понадобится тебе еще кровь жены моей?» Голос Дантона покрывал все эти голоса; лицо его, обыкновенно красное, делалось фиолетовым, пена показывалась у рта, и глаза сверкали как уголья. «Робеспьер! — восклицал он, — ты напрасно прячешься; придет твой черед и тень Дантона возрадуется в могиле, когда ты будешь на этом месте». Ко всему этому он прибавлял страшнейшие ругательства.
До самой гильотины Дантон был все тот же. Переходя от сильнейшей горячности к спокойствию самому тихому; то раздраженный, то насмешливый он все время был до того тверд, что тот, кто бы взглянул только на него, мог бы подумать, что печальная повозка, на которой я вез его — это колесница триумфатора. Когда мы въехали на площадь, он увидел эшафот; краска с лица его исчезла, и глаза наполнились слезами. Внимание, с которым я смотрел на него, по-видимому, ему не понравилось; он грубо толкнул меня локтем и сказал мне с досадой: «Разве у тебя нет жены и детей?» На утвердительный же ответ мой он возразил: «И у меня есть! Думая о них, я снова делаюсь человеком». Он опустил голову, и мы услышали, как он прошептал: «Добрая жена моя, так я тебя и не увижу». Повозка остановилась и привела его в себя; он судорожно встряхнул головой как бы желая освободиться от неуместной мысли и сошел на землю, говоря: «Дантон, прочь всякое малодушие».
Делоне, Шабо, Базир, оба Фрея, Гуинак, Дидерихсен, Эспаньяк казнены были первыми.
Когда вошел на платформу Камил, то остановился предо мной и спросил, хочу ли я оказать ему последнюю услугу: я не имел времени ответить ему, но по лицу моему он понял, что мог на меня рассчитывать; он просил меня взять из руки его локон волос и отнести матери жены его, госпоже Дюплесси. Он плакал, говоря эти слова, и я чувствовал, что и у меня навертывались слезы. В это время подымали нож, поразивший Шабо; он взглянул на окровавленное железо и сказал вполголоса: «Моя награда, моя награда».
Взглянув на небо, он дал отвести себя на скамью, повторил несколько раз имя Люсиль, потом я подал знак, и нож опустился.
Фабр, Лакруа, Вестерман и Филиппо казнены были после Камилла, Вестерман крикнул несколько раз: «Да здравствует республика!» Фабр говорил самому себе: «Сумеем умереть», но волнение его было весьма сильно, и с трудом мог он обуздать его. Лакруа хотел говорить народу, но мы имели приказание препятствовать этому, и помощники мои увлекли его.
Потом взошел Геро де-Сешель, а с ним и Дантон, не ожидая, чтобы его позвали и без того, чтобы кто-либо посмел воспрепятствовать ему. Помощники уже схватили Геро, когда Дантон подошел, чтобы обнять его, и Геро не мог уже проститься с ним. Тогда Дантон воскликнул: «Глупцы! Разве вы помешаете нашим головам поцеловаться в мешке».
Он со свойственным людям его закала хладнокровием присутствовал при казни своего друга; ни один мускул лица его не дрогнул. Еще нож не был очищен, как он уже приблизился; я удержал его, приглашая отвернуться, пока уберут труп, но он пожал плечами с презрительным выражением, говоря: «Немного больше или меньше крови на твоей машине, что за важность; не забудь только показать мою голову народу; такие головы ему не всякий день удается видеть».
Когда, согласно желанию Дантона, обнесли голову его вокруг эшафота, то послышались крики: «Да здравствует республика!», но они издавались собственно из ближних к гильотине рядов.
Так как кладбище Мадлены, где погребены король, королева и жирондисты, закрыто было по приказанию департамента, то пятнадцать трупов дантонистов отвезли ночью на вновь устроенное для казненных кладбище близ заставы Монсо.
Я вернулся в шесть часов в дом правосудия за приказаниями на завтрашний день. Переходя мост на обратном пути, я встретил присяжных Дебуфссо и Виллата, шедших с членами коммуны Воканню и Ланглуа; они спросили меня, как умирал Дантон и я рассказал им то, что видел. Ланглуа прервал меня словами: «Еще бы, он совсем был пьян». Я заверил, что он пьян вовсе не был, и тогда они назвали меня негодяем, так что уходя я долго еще слышал ругательства, которыми они меня осыпали.
17 жерминаля. Я исполнил поручение, возложенное на меня несчастным Камиллом Демуленом. В квартире его привратник дал мне адрес гражданина и гражданки Дюплесси. Я не вошел в дом, а вызвал служанку. Не объясняя ей своего звания, я сказал, что присутствовал при смерти Демулена и что он просил меня передать медальон матери жены его. Я отдал медальон служанке и удалился. Не успел я сделать сто шагов, как услышал, что за мной бегут и зовут меня; это была та же служанка, сказавшая мне, что гражданин Дюплесси желает меня видеть. Я отвечал, что мне некогда, что я приду в другой раз; но в это самое время явился и сам Дюплесси; это был старик, с виду весьма почтенный. Я повторил ему то, что рассказал служанке; он отвечал мне, что вероятно я имею ему передать еще что-нибудь, и что он обязан мне благодарностью. Я продолжал отказываться, извиняясь моими занятиями, но он настаивал, прохожие останавливались и прислушивались к нашему разговору. Они могли узнать меня и потому я счел за лучшее уступить и пошел за Дюплесси. Он хотел взять меня под руку, но я уклонился и под видом того, что в узкой улице нам нельзя было идти рядом, я держался все время позади. Он жил на втором этаже; меня ввели в хорошо убранную комнату, он указал мне на стул и, опустившись сам в кресло, стоявшее перед столом, заваленном бумагами, закрыл лицо руками. Услышав крик ребенка, я увидал в углу колыбель с закрытыми занавесами. Дюплесси подбежал к ней и достал из нее маленького мальчика, который казался больным и продолжал стонать. Показывая мне его, он сказал: «Это сын их».
Голос его дрожал от слез, но глаза были сухи. Он повторил: «Это сын их», и поцеловал ребенка с видом отчаяния. Потом, уложив его обратно в колыбель, он сказал мне: «Вы были там, вы видели?» Я сделал утвердительный знак. «Он умер мужественно, как республиканец, не правда ли?» Я отвечал, что последние слова его были о тех, кто были ему дороги. После довольно продолжительного молчания, ломая себе руки и побледнев, как полотно, он воскликнул: «А она? А дочь моя, бедная моя Люсиль? Неужели они будут и к ней также безжалостны, как были к нему? Разве для двух несчастных стариков не слишком уже будет оплакивать двоих? Считаешь себя философом, и огражденным разумом от этой идеи уничтожения… Но разве есть место для философии и для благоразумия, когда угроза касается родного сына или дочери! Когда видишь, что бессилен защитить его, сразиться и пролить за него кровь… Боже! И думать, что нам не суждено принять ее последний вздох; что она будет мучиться два часа, тогда как мы в безопасности в этом доме, где она родилась, посреди этой мебели, на которой она резвилась, у этого камина, который согревал ее! И сказать, что, быть может, менее счастливая, нежели Камилл, она не будет иметь для передачи нам своего последнего прощания другого посланца, кроме гнусного палача, который поразит ее».
Я чувствовал, как дрожь пробежала по моему телу и как волосы мои холодели. Он ходил взад и вперед по комнате, встряхивая седыми волосами своими, сжав кулаки, с мрачным и жестоким выражением лица.
Проходя перед бюстом свободы, который стоял на камине, он с ожесточением свалил его на пол, разбил на куски и стал давить осколки ногами. Я был поражен в сильной степени и не находил слов утешения или надежды, сожалея лишь о том, что уступил его настояниям. В это самое время послышался звонок, и вошла женщина лет пятидесяти, еще прекрасная, но с лицом, расстроенным от отчаяния. Она опустилась в объятия Дюплесси и воскликнула: «Она погибла; через три дня она должна предстать перед судом» Это была мать жены Демулена. Меня объял ужас при мысли быть узнанным этой женщиной, которую я только что лишил счастья ее дочери и которую, вероятно, мне же придется лишить и самой дочери ее, и я убежал, как будто совершил какое-либо преступление. Никогда я не страдал столько, как в присутствии этих несчастных.
18 жерминаля. Вчера явился в Конвент один великодушный гражданин и предложил содержать гильотину на свой счет! Сегодня казнены: Сен-Жермен Дантон и Елизавета Лакоре, его теща, оба обвиненные в заговоре против свободы; Бернар Перрюшо и Этьенн Музен, нотариусы из Дижона, уличенные в сношениях с врагами республики; Карл Лавилетт, администратор Монтаржиского округа, уличенный в сообщничестве по попыткам к освобождению бывшего короля в дни 20 июня и 10 августа; Ламотт де-Сенон и Сузанна, жена его, заговорщики; Жюльен, хирург Монтаржиского округа; Бизо, мэр и инженер Монтаржиса и Варенн, казначей того же округа, — все трое уличенные в том, что принимали участие в заговоре федералистов.
19 жерминаля. Дорваль, дворянин и офицер; Лардин, землевладелец, и жена его, обвиненные в том, что говорили в пользу распада народного представительства и восстановления королевской власти.
20 жерминаля. Вдова Демулена содержится в Консьержери вместе со своими сообщниками по так называемому Люксембургскому заговору. Завтра они должны предстать перед трибуналом вместе с Шометом, бывшим Епископом Гобелем, представителем Симоном и многими другими. Сегодня Мария Боннер, осужденная на смерть как заговорщица, объявила, что она беременна и казнь отсрочена.
23 жерминаля. Сегодня мы казнили Клода Сушон, бригадного генерала пиренейской армии; он осужден за то, что после своей отставки старался привлечь к себе отряд из 4000 человек и артиллерийский парк, чтоб идти на Бордо и присоединиться к федералистам. Это был человек великой храбрости; он умер мужественно, восклицая: «Да здравствует республика!»
Глава V Продолжение журнала Генриха Сансона
24 жерминаля. Сегодня в 10 часов утра окончен процесс вдовы Демулен; а в 5 часов пополудни окончены жизнь и страдания ее. Когда она прибыла в Консьержери, то все были тронуты одним видом ее отчаяния. Одно время ее считали помешанной, и хотя это была весьма слабая надежда, но думали, что это спасет ее от эшафота. Но мысль увидеться со своим Камиллом упорно держалась в расстроенном мозгу ее и эта мысль до того укрепила ее, что перед трибуналом она совершенно пришла в себя, и с большой энергией и живостью отвечала на вопросы президента Дюма.
25 жерминаля. Сегодня утром я послал волосы вдовы Демулен отцу и матери ее. Я отдал их Савояру, за которым ходил к заставе Св. Якова и с которым говорил довольно долго, чтобы убедиться, что он меня не знает и не будет в состоянии передать им имя того, кто послал его. Вероятно, одна бы мысль быть мне чем-нибудь обязанными была бы им ненавистна. Пустое тщеславие показать гражданину Дюплесси, что тот, который называется палачом, сохраняет все-таки некоторые чувства, уподобляющие его прочему человечеству, показалось мне недостаточным поводом к усилению горести несчастных родителей. Но им следовало иметь часть волос их дочери, ибо я заметил, что она отрезала их на передней части головы. Сегодня казнены: Мориссе, житель Монтаржиса, за неверность в поставке обуви защитникам отечества и Боссю, прокурор Монтаржиской общины, сообщник его.
26 жерминаля. Далансон де Невиль, бывший граф; Мария и Виктория Лескаль, бывшие дворянки и Рейе, уличенные в том, что, когда пруссаки занимали лагерь Луны, имели сношения с изгнанниками; Мария Галлей, бывшая монахиня в монастыре Св. Лазаря, виновная в том, что во время заседания трибунала издавала восклицания, призывавшие к восстановлению королевской власти.
27 жерминаля. Шамбюр, директор почты в Аррасе, уличенный в речах, призывавших к восстановлению королевской власти; Сюлро, столяр, уличенный в том, что служил в рядах Вандеи; Кассегрень, священник из Питивье, обвиненный в антиреволюционных действиях.
28 жерминаля. Сегодня много говорят о новом декрете, который будто бы издается по предложению Сен-Жюста, чтобы поставить вне закона всех иностранцев и бывших дворян, которые в течение десятидневного срока не выедут из Парижа, а также из укрепленных и приморских городов. 17 жерминаля не было никого, кто бы мог без улыбки говорить о заговоре Дантона, Геро де-Сешеля и Камилла; сегодня же этот заговор стал до того важным, что приходится верить ему или умереть. Дюфурни в разговоре с Вадие вздумал играть роль неверующего и тот нисколько не медля донес на него якобинцам по требованию Робеспьера, оскорбленного таким сомнением. Дюфурни изгнали из общества и, дай Бог, чтобы наказание это не усилилось. Вчера я видел, как арестовали несчастного булочника, сказавшего в одной кофейной, что Дантон стоил больше, чем Сен-Жюст. Сегодня мы казнили семерых осужденных.
30 жерминаля. С тех пор как Дюма заменил Германа в представительстве трибунала, приговоры еще более ускоряются, что уже казалось невозможным. Вчера приговорили к смерти семнадцать человек, которых и казнили сегодня утром.
1 флореаля. Сегодня трибунал судил во имя революции тех, которые сами судили во имя правосудия, а я сегодня вез на эшафот тех самых судей, которых декреты исполнял столь долгое время. Я был очень тронут, когда увидел их возвращавшимися из трибунала в числе двадцати пяти членов парламентов парижского и провинциальных, идущих рядами, с президентами во главе их, молчаливых и серьезных, как будто они шли на какую-нибудь церемонию. Имя правосудия имеет характер столь возвышенный, что он сообщается тем, которые служили ему; этот характер не мог быть изглажен и приговором, а потому, когда их привели в зал смерти, то я был как ошеломленный перед президентом Бошар де-Саррон, который протягивал мне руки, чтобы я связал их. Он заметил мое волнение и сказал: «Делай то, что повелевает закон; закон и несправедливый все-таки остается законом!»
2 флореаля. Якобинцы занимались крупным делом, Сборщик их секции, чиновник характера задорного и беспокойного, заключил, что патриотизм не должен освобождать от обязанностей платить наемную плату, особенно когда она следует в государственную казну. Согласно этому, он написал обществу требование недоплаченных казенных денег, следовавших нации как владелице помещения якобинцев; негодование было общее и нимало не потеряло силы от участия в том Колло Дербуа, который, выразив чувства всего собрания, положительно требовал, чтобы виновного предали суду революционного трибунала, который и примет на себя покончить расчеты. Таким образом, мы вернулись к тем временам, когда важные господа выбрасывали своих кредиторов из окон с той только разницей, что теперешнее окно называется гильотиной. Сегодня казнены шестеро.
3 флореаля. Великие и добрые люди следуют на гильотину один за другим. Сколько их еще уничтожит она? Те, которые управляют нами, должны однако заметить, что эта каждодневная бойня сделалась в высшей степени ненавистна. Даже поклонники гильотины утратили жар и ожесточение, а что касается настоящих граждан, то теперь дело имеет совершенно другой вид, как в плювиозе. Когда проезжают повозки, то это похоже на следование чумы; двери, окна, лавки — все закрыто; на улице не видно ни души; и когда мы едем по ней с нашей свитой крикунов и фурий, то как будто выезжаем в город спящей красавицы. Сегодня мы казнили гражданина Ламоньона де Малерб, того, который во время королевского процесса так мужественно писал Конвенту: «Я два раза призываем был к совету того, которого вам предстоит судить, в то время когда этой чести добивались многие, и я обязан ему той службой и теперь, когда многие признают ее для себя опасной».
4 флореаля. Сегодня казнены шесть человек.
5 флореаля. Когда в прошлом году Прусский король вступил в Верден, жители поднесли ему ключи города, а жены и дочери их — корзины с цветами; последние присутствовали на балу, данном роялистским муниципалитетом неприятелю, и танцевали с прусскими офицерами. Подвергнутые за это суду революционного трибунала, тридцать четыре гражданина и гражданки Вердена осуждены были на смерть. Молодость четверых из них: Маргариты Лажирозиер и трех сестер Ватрен могла бы служить им извинением, но это смягчающее вину обстоятельство допустили только для двух семнадцатилетних девушек, которых все-таки присудили к шестичасовой выставке у гильотины и к двадцатилетнему заключению.
6 флореаля. Сегодня в 10 часов утра Клара Табульо и Варвара Генри выставлены были на гильотине, где вчера казнены были мать и сестры их. Они должны были оставаться там в течение шести часов; но спустя час Варвара Генри упала в обморок и пришлось развязать ее, чтобы привести в чувство. Клара же Табульо была так бледна, что все замечали, что и она скоро лишится чувств. Стали кричать в толпе: «Довольно!», но если принять во внимание расположение умов, то этот, хотя и сдержанный крик, мог подкрепить благородное сердце. Генри отправился в дом правосудия, чтобы известить Фукье Тенвилля о происходившем; Ноден отдал ему приказание развязать молодых девушек и передать их жандармам, чтобы отвести обратно в тюрьму, что и исполнено было в половине первого часа. В четыре часа казнены десять человек.
7 флореаля. Лекарь, землепашец из Боннекура; Савуа, артиллерийский фурман; Ламберт, мясник из Сенли; и Гено, занимавшийся виноделием в Ивон ла Монтане, уличенные в заговоре против верховной власти нации, казнены сегодня вместе с Лебо, купцом, Ноде, столяром, и Усталем, водоносом, осужденными на смерть революционным трибуналом за подделку ассигнаций.
9 флореаля. Сегодня гражданин Фукье показал человеческие чувства; это случай такой редкий, что необходимо занести его в мои заметки. Когда беспорядки вынудили его продать свое место прокурора в Шателе, то Ангран д’Аллерей оказал ему некоторые услуги; Фукье вспомнил об этом. Ангран содержался в Пор Либр; это был старец совершенно безвредный и уважаемый всеми, и должно было думать, что о нем забудут. К несчастью, достаточно не только иметь врага между чиновниками комитета общественной безопасности, но и того, если имя заключенного не понравится кому-либо из граждан, чтобы направить его тотчас же в Консьержери, а оттуда — на эшафот. В подобном случае чиновник выставляет его бумаги на вид, и когда они три или четыре раза попались на глаза начальникам, то они отправляют их к публичному обвинению. Вероятно, подобным же образом предан был суду и д’Аллерей, ибо Фукье доказал, что не желает его смерти, замолвив за него слово Селье, одному из менее ожесточенных присяжных. Когда Дюма допрашивал д’Аллерея, который обвинялся в том, что доставлял помощь своим сыновьям-эмигрантам, Селье заметил, что, быть может, обвиненный и не знал о существовании закона, запрещающего всякое сношение с взявшимися за оружие против своей родины; Ангран оттолкнул эту руку, которая протягивалась для спасения его, и с большой твердостью отвечал, что немногие оставшиеся ему дни жизни не стоят того, чтобы выкупать их ложью, что он знал закон, но что, по его мнению, законы природы имеют преимущество перед законами республики. С ним вместе казнен Аймонд де-Николаи, бывший первый президент Верховного Совета. — Ривьер рассказывал мне, что когда де-Николаи прибыл в Консьержери, то страдал ревматизмом в плече, и на предложение доктора Баяра лечиться, отвечал: «Не стоит того, болезнь недалеко от головы; одна унесет другую».
10 флореаля. Гамен, учивший бывшего короля слесарному мастерству и донесший о существовании железного шкафа и интересных бумаг в нем заключавшихся, еще не получил вознаграждения за свою измену, что было однако совершенно справедливо. Он обратился в Конвент с просьбой, в которой, чтобы еще более подкрепить права свои, присовокупил к своему поступку клевету, обвиняя Людовика XVI в том, что тот имел намерение отравить его. Вследствие рапорта Мюссе, собрание приняло просьбу Гамена, и он получит несколько сот ливров дохода и добьется чести быть провозглашенным в декрете Иудою-предателем.
11 флореаля. Сегодня казнен Станислав де-Ланжанери, бывший кавалер ордена св. Людовика, уличенный в том, что был одним из рыцарей кинжала. Давно уже не случалось нам иметь дело с одним только осужденным, и потому те, которые обыкновенно сопровождают нас, покинули нас на дороге, как бы не желая беспокоиться из-за такой безделицы.
12 флореаля. Сегодня казнены шестнадцать человек.
13 флореаля. Сегодня казнены только трое.
14 флореаля. Сегодня мы отвезли на площадь Революции трех офицеров и гренадеров, которые одни 10 августа защищали короля. Их было 12.
15 флореаля. Сегодня во исполнение решения трибунала казнены тринадцать человек, уличенные в заговоре против свободы и безопасности французской нации и в суждениях, призывавших к уничтожению народного представительства.
17 флореаля. Сегодня Конвент издал декрет о предании суду революционного трибунала главных откупщиков; гражданин Дюпен составил рапорт, в заключение которого приведено девять обвинительных пунктов. Их не спасут двадцать два миллиона, которые они предоставили нации. В доме правосудия говорили о процессе сестры покойного короля Елизаветы, который скоро должен начаться. Ее переведут в Консьержери, дети же останутся в Темпле. Вчера казнено девять осужденных, сегодня двадцать три, из которых двенадцать присланы Бернаром де Сентом, командированным с особенным поручением в Кот д’Ор.
18 флореаля. Процесс бывших откупщиков начался сегодня. Их призвано перед трибуналом тридцать два человека. Лиендон и Ноден поддерживают обвинение; председательствует Коффингаль. Между тем Фукье оканчивает счеты депутатов во втором отделении.
19 флореаля. Сегодня утром произнесен приговор над откупщиками. Четверо освобождены от суда: Санго, Деланж-сын, Бевефэ и Дегант. Все остальные числом 28 приговорены к смертной казни и казнены сегодня же в 2 часа пополудни; осталось произнести приговор шестерым. Один из них, Лавуазье, был ученый химик. Он просил у президента Коффингаля пятнадцатидневную отсрочку, чтобы довершить открытие, которое должно интересовать нацию, но Коффингаль ответил ему; «Народ не имеет надобности в химии и ему нет дела до твоих открытий».
20 флореаля. Сегодня вечером Елизавету привезли в Консьержери. Пока приготовили комнату в женском отделении, она оставалась в Греффе, где сын мой и видел ее. Она очень бледна и похудела. Она сидела, читая молитвенник и как бы не замечая происходившего вокруг нее. Сегодня ночью ее должен допросить Фукье Тенвилль. Завтра начнется сам процесс.
21 флореаля. Я присутствовал при начале заседания, на котором осуждена сестра покойного короля. Председательствовал Дюма; на скамьях находилось 15 присяжных; Лиэндон поддерживал обвинение; Елизавете дали кресло, что при президентстве Дюма удивило меня. Множество слухов ходит по поводу этого процесса. Есть люди, полагающие, что Робеспьер посетил Елизавету в Темпле и дал ей понять, что от нее только зависит взойти снова на престол своих предков, отдав ему свою руку; что она прогнала его и что справедливое негодование ее будет причиной ее смерти. Надо быть очень простым, чтобы допустить возможность подобной попытки в человеке, ум которого никем не оспаривается. Другие напротив того уверяют, что в комитетах он постоянно противился началу ее процесса, признавая его бесполезность. Судя по вниманию Дюма к одной женщине, я также на стороне последнего мнения. Принцесса держалась перед трибуналом вовсе не так, как Мария-Антуанетта. Одна с гордым и смелым взглядом и высокомерной усмешкой вполне имела вид королевы. Принцесса же со взорами, постоянно обращавшимися к небу, улыбкой на устах, даже когда Фукье обвинял в участии во всех заговорах ее семьи и выбирал самые бранные названия, походила скорее на святую, сошедшую рая. Она с большим спокойствием присутствием духа отвечала на все вопросы. Когда ее спросили, зачем она сопровождала Людовика во время бегства его в Варенн, то она отвечала: «Все побуждало меня последовать за братом; я сочла за долг свой не покидать его ни в этом, ни в других случаях». Когда же Дюма заметил ей, что она принимала участие в оргии телохранителей и Фландрского полка, она отвечала:
«Мне совершенно неизвестно, происходила ли эта оргия или нет; я объявляю, что меня и не извещали о ней и что я и не думала принимать в ней участие».
Дюма доказывал, что ответы Марии-Антуанетты обнаружили виновность Елизаветы.
«Вы не можете отрицать, — прибавлял он, — что в рвении вашем оказать услугу врагам нации вы взяли на себя труд жевать пули, назначенные для патриотов, чтобы они вернее наносили им смерть».
Такое бессмысленное обвинение не нарушило однако спокойствия подсудимой: она без раздражения или нетерпения отвечала:
«Все возводимые на меня обвинения суть не более как клевета, не имеющая и тени вероятности».
Так как заговор никогда не бывает без соучастников, то к принцессе присоединили еще 23 обвиненных, и я оставил заседание, когда приступили к допросу их. Тогда был час пополудни; около трех часов Деморе, остававшийся в зале, сошел и сказал мне, что все осуждены после совещания, продолжавшегося только двадцать пять минут. Он принес мне приказание приступить к немедленному исполнению приговора.
Как глава заговора, который признан был присяжными, она должна была быть казнена последней. В этом отношении Дюкрей дал мне весьма строгие наставления. Она оставалась на месте, окруженная жандармами в то время, когда казнили спутников ее. Я несколько раз смотрел на нее, она не переставала молиться, обернувшись лицом к эшафоту, но не подымая глаз. Молодой Монморен и Лот, слуга, кричали: «Да здравствует король!» что возбудило в публике большое негодование. При каждом падении ножа народ стал аплодировать и кричать: «Да здравствует нация!» Принцесса, углубившаяся в размышления более возвышенного свойства, совершенно равнодушно слушала эти крики и рукоплескания; она оставалась неподвижной подобно статуям веры, лица которых не могут иметь другого выражения как любовь к Богу. Когда пришла ее очередь, она взошла по ступеням весьма медленным шагом, слегка содрогаясь; голова ее была опущена на грудь. В ту минуту, когда она подошла к ножу, один из помощников хотел снять платок, покрывавший ее плечи. Она сделала невольное движение и воскликнула с необыкновенным выражением стыдливости: «О! Ради Бога!» Вслед за тем нож упал и отсек ей голову. Она погребена в Муссо вместе с другими казненными в одиннадцать часов вечера; на тело ее насыпано было много извести, подобно тому, как сделано было для короля и королевы.
Глава VI Продолжение журнала Генриха Сансона
Мрачное небо, под которым мы живем, кажется, начинает проясняться. 18 числа Робеспьер произнес речь, в которой действительно выказал много красноречия, быть может, потому, что был искренен. Вследствие этой речи те же представители, которые рукоплескали отречению Гобеля и представлениям, бывшим последствием его, объявили декретом, что французский народ признает существование Всевышнего и бессмертие души. Многие дозволяют себе шутки по этому предмету, но все те, которые страждут и смею думать, что и я в числе их, считают себя несколько утешенными. Провозгласить существование высшего существа — это равносильно обязательству вернуться к справедливости — закону Всевышнего дай, Господи, чтобы это осуществилось в самое непродолжительное время. Сегодня казнено восемь человек, обвиненных в заговорах.
23 флореаля. Моя вчерашняя молитва не была услышана, ибо мы предварены были самим Фукье запастись новыми помощниками. Говорят, что заключенные в темницах волнуются, что надо очистить тюрьмы, что там составляются заговоры для ниспровержения республики. Тут нет ничего удивительного, ибо по тому, что я вижу в Консьержери, легко угадать, что происходит в других местах заключения. Везде помещены агенты, вся обязанность которых состоит в том, чтобы заставлять заключенных разговаривать; они возбуждают их надеждой получить свободу; это довольно легко, ибо в настоящее время свобода и жизнь — это одно и то же. Затем, руководясь одной надеждой, одним словом шпион зарабатывает свои деньги, донося на несчастного и законное желание освободиться и избегнуть гильотины, обращается в обширный заговор. Я собрал шестнадцать человек. Что всего грустнее — это то, что все касающееся нас, учреждается таким образом, как будто должно существовать в том же виде на вечные времена. Половина нашего состава должна находиться всегда налицо до конца заседаний; приготовительный туалет женщин должен непременно производиться в посте привратников; прислужники должны сопровождать осужденных на казнь не по произволу чиновников, а по очереди, что вызвало весьма скандальные рассуждения. Сегодня казнены семь человек.
24 флореаля. Сегодня казнены: Можер, бенедиктинец; Гарде и Петон, почтальоны из Вильнева, уличенные антиреволюционных суждениях; Суан, драгунский квартирмейстер, виновный в заговоре против единства республики; Лангу, доктор; д’Аво, дворянин из Риома и жена его; Луге, муниципальный офицер в Сюиредане и Убелески из Диеппа.
25 флореаля. Сегодня мы казнили д’Арленкура, генерального фермера и отца того, который казнен 19 числа. Это старик семидесяти лет. Санкюлоты более раздражены против тех, которые обвиняются в подделке табака, чем если б им сказали, что они превращали в камень хлеб, питающий нас всех.
26 флореаля. Сегодня казнены: Шиавари, пехотный капитан; Тассен, законовед; Менье, депутат учредительного собрания; Фиссар, нотариус; Генри, писец Неварденского трибунала; Бласс, администратор Бичского округа, обвиненные в заговоре против верховной власти нации, и Бернар, продавец сукна, уличенный в недобросовестной поставке.
27 флореаля. Сегодня казнены семь человек.
28 флореаля. Дера, портной и Леруа, поставщик, обвиненные в растрате денег и злоупотреблении при поставках. Пегрилья, житель Аннеси, — уличенные в сношениях с неприятелем, в распространении антиреволюционных статей и растрате денег республики.
29 флореаля. Сегодня казнены сын Буррея Барбарон, бывшего президента, казненного первого числа этого месяца, с ним казнены десять лиц, осужденных революционным трибуналом и двое приговоренных уголовным судом.
1 прериаля. Сегодня казнены девятнадцать человек, из которых четырнадцать высланы в Париж представителем Бо из Лотского департамента.
2 прериаля. В этот день были казнены десять человек.
3 прериаля. Сегодня казнили Лефло, главного таможенного начальника в Трегье.
4 прериаля. Имена казненных в этот день: Анатоль Дофли, военный комиссар; Александр Прованшер, чиновник комиссариата; Жан Франсуа Лемаркан, подрядчик; Жорж Жозеф Фортен, комиссариатский чиновник — обвиненные в вероломных действиях и в неисправных поставках.
5 прериаля. В жертву деспотизма комитетов совершено много убийств; они осуществили эту тиранию, о которой мечтал Марат; удивительно ли после этого, если повторяют беспрестанно, что притеснители находятся вне закона человеколюбия, удивительно ли, что пример Шарлотты Корде нашел подражателей, а убеждение в справедливости расправы кинжалом многих последователей. Ночью третьего дня один человек покушался убить Колло-д’Ербуа; вчера молодая девушка хотела убить кинжалом Робеспьера. Убийца Колло Оверниат по имени Ладмираль; он жил в одном доме с ним по улице Фавар № 42. Говорят, что Ладмираль имел намерение убить или Робеспьера, или Колло, пожалуй, даже обоих. Весь день он прохаживался около Конвента и вошел туда, намереваясь напасть на представителей в самом собрании, но в то время их там не было. Ему надоело слушать речь Барриера, он вышел, тщетно старался проникнуть к Дюплею и, вынужденный отказаться от мысли соединиться с ним, пошел домой и стал ждать Колло. Колло пришел в час пополуночи; Ладмираль, живший на пятом этаже, караулил его на лестнице; он видел, как служанка шла со свечой, чтобы посветить своему господину; быстро спустился через три этажа и в то время как представитель народа поднимался на свою площадку, он выстрелил в него из пистолета раз, потом другой; но оба раза промахнулся, и Колло остался невредим. Он бросился на убийцу; а тот спрятался на свой чердак. Колло, который действительно очень храбр, старался выломать дверь; но в это время на крики служанки и жильцов в доме явился патруль. Гражданин Жоффруа, слесарь, вынудил представителя отойти от дверей, и впустил туда сначала прибывший караул, потому что Ладмираль, вооружившись ружьем, грозил убить всех. И действительно, сам же гражданин Жоффруа, схвативший убийцу, был ранен, по словам одних, штыком, по мнению других, пулей из ружья.
6 прериаля. Теперь известно имя молодой девушки, хотевшей убить Робеспьера; ее зовут Сесилией Рено, ей двадцать лет, она дочь торговца бумагой на улице Лантерн. Комитет общественной безопасности расспрашивал ее. Конвент определил, чтобы всякий день составлялись бюллетени о состоянии здоровья гражданина Жоффруа, раненного Ладмиралем; так делалось прежде, когда короли или принцы находились при смерти. Кажется, однако, что рана вовсе не опасна. Возможность быть мучеником за отечество, которой подверглись Ранго и Робеспьер, приобрела им много завистников; теперь их комитетские товарищи видят кинжалы во всех косых взглядах. Вуллану хочется также разыгрывать роль жертвы; по его словам, какая-то женщина хотела умертвить его; она теперь в Консьержери и сегодня или завтра должна предстать перед трибуналом. Но судя по слухам, Вуллан старался видеть опасность там, где ее вовсе не было. Его убийца — несчастная женщина, которую смерть мужа или любовника лишила рассудка; она написала Вуллану письмо, в котором после нескольких упреков умоляла его соединить ее с любимым человеком. Кто хочет убить, тот; конечно, не станет угрожать; но как бы там ни было, ее желание скоро исполнится. Казнены в тот же день: Шарль-Бираг де Гильеден, дворянин и мушкетер; Жан-Жак Кювье, архитектор и член Ванвийского революционного комитета; Пьер Прюдом, торговец рыбой, и Франциска Ламбер, его жена, Камилла Пенрар, прачка, Маргарита Августина Демо, жена кожевника Геберта — обвиненные в заговоре, имевшем целью восстановить королевскую власть.
7 прериаля. Сегодня казнены: Шар-Мориц-Луи-Мильсан, редактор журнала «Креол-Патриот» и капитан Сен-Домингской милиции, обвиненный в заговоре против республики. Конвент издал декрет, запрещающий брать в плен англичан и ганноверцев; надо знать, будут ли солдаты слушать это приказание.
8 прериаля. Настроение якобинцев и Конвента, дышащее кровью и убийствами, должно было отозваться и в трибунале. Сегодня из двадцати шести обвиненных оправданы только двое, а остальных мы препроводили на гильотину.
9 прериаля. Страшные кинжалы гражданки Сесилии Рено оказались просто двумя небольшими закрывающимися ножиками — один с черепаховой, другой — с перламутровой ручкой, похожими на ножи, употребляемые для еды детьми, и могли поранить только руку вздумавшего употреблять их для убийства.
Но так как на вопросы Вадье Сесилия отвечала чрезвычайно гордо, что, идя к Робеспьеру, хотела только видеть, каковы бывают тираны; и очевидно, что она ожидала ареста, потому что перенесла свои пожитки из дома в кафе Рауси; — то весьма мудрено понять, почему она так плохо вооружилась, питая замысел, который так трудно было исполнить. Можно, кажется, предполагать, что ум ее расстроен; это самое справедливое объяснение ее поступка; но Робеспьер не уступит одному Колло славы мученика, умершего за отечество; он очень хорошо понимает всю выгоду, особенно если к этой славе прибавить возможность остаться в живых; и конечно, процесс Сесилии должен пойти своим порядком. Производятся большие аресты. Ривьер говорил мне, что сообщников находят даже в темницах.
В течение двух дней в Консьержери помещено более сорока узников. Сегодня были казнены четырнадцать человек, все бедные люди или жители деревень.
11 прериаля. Трибунал не заседает в десятый день декады; прежде случалось иногда бывать на площади Революции в утро этого Дня; теперь же вышло постановление не делать этого впредь. Хотя законом определено, что обвиненные революционным трибуналом должны быть казнены в 24 часа, но те, над которыми приговор будет произнесен вечером девятого дня, должны прожить до первого дня декады.
12 прериаля. Сегодня тринадцать осужденных.
13 прериаля. Сегодня столько же, как и вчера.
14 прериаля. Агенты комитета, которых мы прежде называли просто шпионами, присоединяются к толпе, сопровождающей нас на площадь Революции. Они составляют всякий день рапорт о том, что происходило вокруг эшафота. Если они отдают верный отчет во всем виденном и слышанном, то те, кто их посылает, остаются, я думаю, не совсем довольны. Народ все с большим отвращением смотрит на эту бойню.
16 прериаля. С некоторого времени характер Консьержери совершенно переменился. Вначале учреждения революционного трибунала эта тюрьма имела вид лагеря накануне битвы; лица у узников были оживлены, они прохаживались гордо и спокойно, весело разговаривая между собой, некоторые смеялись, пели и пили; большинство, казалось, пренебрегало смертью, парящей над их головами и от которой они были отделены только помостками эшафота. Когда, возвратясь с места казни, я рассказывал тюремному помощнику обо всем происходившем, а он спешил сообщить им мои слова, я слышал, как они аплодировали всем мужественно расставшимся с жизнью с неменьшим энтузиазмом, как им аплодировали и на площади; и я видел, как некоторые из них, подняв стаканы, пили в честь освобожденных товарищей. Но после казни Дантона Консьержери утратила этот характер, она стала, как была и прежде, самой мрачной из темниц. Заключенные грустны, угрюмы, ходят молча, стараются избегать друг друга из недоверия и еще из той потребности углубиться в самого себя, которую чувствует человек при последнем часе жизни. Вместо веселых криков наступило молчание, прерываемое лишь шумом шагов тюремщика или часовых; они не стараются узнавать ни о чем, совершающемся вне тюрьмы; кажется, они не смеют даже желать контрреволюции, которая одна может спасти их. С тех пор как они потеряли лихорадочную бодрость, поддерживавшую их, между ними появилась болезнь, от которой многие умирают.
17 прериаля. Гражданин Робеспьер вторично и единогласно избран президентом Конвента. Несмотря на такое единодушие, комитеты, по-видимому, разъединены так же, как были перед смертью Дантона. Билло-Варенн, Колло. Вадье, Алар, Вуллан негодуют на господство, которое присвоил себе Робеспьер в Конвенте, и внутренне обвиняют его, что он действительно оказывается таким, как представлял его Цецил Рено. Баррер, колеблющийся между двумя партиями, готовый стать на сторону сильнейшего, в рапорте своем о покушениях английского правительства несколько подтвердил эти слухи, выразившись, что иностранцы говорят о нас и о наших солдатах не иначе, как: солдаты Робеспьера, правительство Робеспьера. Этот негодует на то, что он называет клеветой и объявил о том некоторым из своих приближенных. Те, которым есть охота надеяться даже тогда, когда нет никаких надежд, утверждают, что он воспользуется этой враждебной демонстрацией, что разорвать связь с террористами и принять роль, которую не хотел предоставить Дантону; они говорят, что в речи, с которой как президент Конвента, он обратится к народу в праздник Всевышнему Существу, он, наконец, произнесет слово: «милосердие». Такое слово в его устах было бы приговором. В настоящее время все исходит от него и все склоняется к нему: семьдесят три депутата, заключенные за 31 Мая, находятся в живых лишь по его милости; умеренность его относительно их дает ему сильное большинство в Конвенте. Через посредство своих агентов, размещенных им повсюду, он господствует везде в Коммуне, в революционном трибунале, у якобинцев; при содействии Генрио и Лебо, начальника Марсовой школы, учрежденной 11 числа этого месяца, все войска находятся в его руках; поэтому не подлежит сомнению, что он может предписать свою волю не только комитетам, но и самой Франции. Захочет ли он это сделать?
18 прериаля. Дни следуют один за другим, но разнятся между собою. Сегодня еще двадцать один осужденный. Есть люди, которые полагают, что можно сродниться кровью; но это невозможно, когда то кровь — кровь наших близких. Я говорю не о себе, а о моих помощниках, за которыми я наблюдаю с тех пор, как нас заставляют казнить целые повозки мужчин и женщин; двое состоят при мне уже двенадцать лет, четверо были прежде мясниками, двое, по крайней мере, не стоили и веревки, на которой бы следовало их повесить, и из всех них нет ни одного, лицо которого оставалось бы бесстрастным по окончании каждой казни. Публика всего этого не видит: я же замечаю, что сердце их трепещет, а нередко дрожат и ноги. Когда все кончено и на эшафоте видят они только трупы казненных, они смотрят друг на друга с удивлением и как бы с беспокойством. Они, конечно, не отдают себе отчета в том, что чувствуют, но самые разговорчивые немеют; лишь выпив свою порцию водки, они снова приходят в себя. Если такое впечатление производится на нас, то каковы должны быть чувства народа. В числе казненных сегодня находился Лавалетт, бывший виконт и гвардейский офицер, о котором рассказывают страшную историю. Он содержался в Бурбе вместе с женой. Однажды, когда он играл на дворе в мячик, один из сторожей подходит к его жене Лавалетте и просит ее позвать своего мужа. «Для чего?» — спрашивает она, и этот низкий глупец отвечает ей: «Чтобы предстать на суд и оттуда идти на казнь». — Удар был так ужасен, что бедная женщина помешалась.
Глава VII Продолжение журнала Генриха Сансона
21 прериаля. Вчера происходило празднество Всевышнему Существу; в честь его привезли цветы за десять лье в окружности, но слова милосердия, которых ожидали, не были произнесены, хотя они, вероятно, более приятны были бы тому, кого прославляли, чем кучи роз, колосьев и т. п., которые носили по улицам. Мы разобрали накануне ночью эшафот и убрали до последней дощечки его, и это немало содействовало подтверждению слухов об амнистии. Страшная яма, где бродит столько человеческой крови, скрыта под досками, покрытыми песком, но невозможно было уничтожить издаваемое ею зловоние. Бедные мертвецы из глубины могилы своей протестовали против почестей, которые воздавались бесчеловечными людьми Господу правосудия и милосердия. Как ни блистательно было это празднество, но не все вынесли из него благоприятное впечатление. Говорят, что для конвенционистов праздник этот скорее был праздником раздора. Если Робеспьер не вызвал на свет лучшую прерогативу царской власти — милосердие, то он, по-видимому, присвоил себе высокомерные приемы ее. Свобода, которую обещает нам девиз республики, до этого времени была до такой степени химерою, что едва можно придавать серьезное значение последним словам девиза: сомнительное равенство, которое еще остается нам, и братство, которого нам не достает. Из всей программы осталось лишь последнее: Смерть! ибо, что касается равенства, то надо сознаться, что Робеспьер обошелся с ним совершенно произвольно, стараясь отличить себя от своих товарищей. Его упрекают в том, что он заставил Конвент ждать его на амфитеатре, что ушел слишком далеко вперед от других представителей во время процессии из Тьюлери к полю Союза, чтобы показать их перед народом стадом, покорно следующим по стопам своего повелителя: даже обратили внимание на изысканность его наряда и громадный объем букета, который он держал в руке; это для многих республиканцев служит очевидным признаком того, что он метит на королевскую власть. Если они не ошибались, то Робеспьер упустил удобный случай; судя по тому, что я сам слышал в толпе, я думаю, что народ, опьяненный казнями, ждал лишь одного слова, чтобы он провозгласил его. Представится ли ему подобный случай? Прохожие, видевшие чистой площадь, без гильотины, необычайно изумились, увидев на другой день на своем месте. В полночь мы начали восстанавливать постройку, когда проходили запоздалые гуляки с гирляндами, и в четыре часа пополудни нож падал уже двадцать два раза.
22 прериаля. Сегодня трибунал продолжал судить подозрительных, которых прислали в Париж представители, находящиеся в командировках по Департаментам. В этот день предстали перед судом тринадцать жителей города Кона; десятеро осуждены и с ними трое уроженцев из других городов.
23 прериаля. Мы очень далеки от 19 числа и от надежды, которую внушало празднество дня, следовавшего за этим числом. Революционный трибунал преобразовался, но не так, как все хотели и желали, как не смели требовать. По новому декрету строгости усилятся, как бы это не казалось невозможным; судьи, присяжные, которых мы обвиняли в бесчеловечии, сочтены за умеренных и заменены другими. Чего же нам ожидать от тех, которые заняли их места? Самые отчаянные революционеры содрогнулись; Рюамис воскликнул: «Если этот декрет будет принят, то я застрелюсь!» Лекоентр потребовал отсрочки, и только сам Робеспьер, которому многие приписывали мысли милосердия, увлек большинство в пользу декрета. Новый трибунал разделится на отделения, в каждом будет трое судей и, по крайней мере, семь присяжных. Из этой организации явствует, что четыре отделения сразу могут посылать жертвы свои на гильотину.
25 прериаля. Жалобам граждан улицы Оноре, которые не могли более сносить проезда наших повозок, дано удовлетворение. Третьего дня, когда я уже хотел ложиться спать, меня потребовали в дом правосудия, где Ройе и два администратора коммуны приказали мне перенести гильотину с площади Революции на площадь бывшей Бастилии. Плотники работали при свете факелов целую ночь. Дабы дать казням усиленную деятельность, вероятно, признано нужным доставить зрелище их зрителям, которых чувства еще не притуплены; рассчитывали на граждан патриотической части города, трудолюбивых, но бедных работников, чтобы составить публику более горячую, чем жители Тьюлерийского квартала: но очень ошиблись. Мы прибыли через улицу Антуан с семнадцатью осужденными на трех повозках. Когда мы выехали с улицы Антуан, нас встретили крики, брань и даже свистки. Этот народ не такой боязливый, как публика площади Революции и, увидев, что несчастные, которых мы везли, не имели в наружности своей ничего аристократического, никто не стеснялся жалеть их и громко выражать мысли свои. Чем далее мы ехали, тем неблагоприятнее становилось впечатление. Я видел мужчин в рубахах, подпоясанных рабочими фартуками, отыскивающих в толпе жен своих и уводивших их с собой силой или по доброй воле. Когда вошли на эшафот последние из осужденных, толпа была малочисленнее, чем была последнее время на площади Революции, и если не считать наших наемных обыкновенных крикунов, то площадь была почти пуста. Комитетские шпионы, которых мы знали как нельзя лучше, казались совершенно сконфуженными; они предполагали, что народ выпряжет лошадей из повозок и на себе повезет к гильотине врагов своих, а народ этот дал хороший урок тем, кто думал, что знает его. Поэтому под предлогом, что место первой победы над тиранами не должно быть осквернено кровью аристократов, отказались от повторения этого опыта. Ночью мы перенесли эшафот на площадь Революции, его поставили в ограде прежней заставы. Мы будем отправлять трупы на кладбище Св. Маргариты в Монтрельском отделе. Жители предместий, которые увидят проезд осужденных, увидят еще раз трупы их. Судя по вчерашнему их поведению, я сомневаюсь, чтобы такое зрелище долго приходилось им по вкусу.
Хотя декрет о революционном трибунале уже издан, но, тем не менее, в Конвенте прения не прекращались. Враги того, что называли триумвиратом, проснулись несколько поздно. На заседании 23 числа они протестовали против закона, уничтожающего неприкосновенность представителей народа и отдающего их в полную власть комитетов и Фукье Тенвилля, предоставляя первым осуждать их на гильотину без предварительного совещания с Конвентом. Робеспьер не присутствовал на этом заседании, и после речей Бурдона и Мерлена Конвент решил сохранить права своих членов неприкосновенными. На другой день 24 числа Кутон упрекал собрание в высказанной накануне слабости; потом держал речь Робеспьер; он восстал против воображаемой опасности, он говорил, что это дело партии, желающей унизить народное представительство. Бурдон думал, что узнал себя в числе портретов, сделанных им о вождях этой партии. Он обратился к Робеспьеру, который воскликнул: «Я не назвал Бурдона! Горе тому, кто сам называет себя». Эти слова раздались на собрании подобно гулу, и собрание преклонилось перед волей господина и унизилось до того, что отменило решение, принятое им накануне.
26 прериаля. Революционный трибунал отбросил всякий стыд. В прошлом месяце он оправдал Фрето, советника парижского парламента. Такое снисхождение было неприятно Фукье, но он скоро нашел средство восстановить то, что, по мнению его, как публичного обвинителя, могло быть лишь следствием ошибки. Он объявил, что дело дурно обсуждено и снова отослал в суд Фрето, который вследствие такого решения не мог уже избежать осуждения. Два раза не представляются такие счастливые случаи. Тот же трибунал, который мстил за обиды, наносимые нации, делается, таким образом, мстителем по вражде друзей его. Он осудил Казеса, и все знают, что он был обвинен по доносу сына Вадье, которому этот несчастный отказал в руке своей дочери. С Фрето и Казесом казнены сегодня еще тридцать четыре осужденных, из них двадцать шесть были советниками или президентами Тулузского парламента.
27 прериаля. Сегодня я получил сведения о телохранителях, которые, как говорят, сопровождают повсюду Робеспьера. Я встретил его в весьма уединенном месте, и спутниками его были лишь два пса: черный и белый — правда роста и силы весьма почтенных. Мартын предложил мне сегодня утром занять мое место. Я согласился, ибо давно уже обещал моим маленьким племянницам сводить их за город и сам очень рад был хоть на один день забыть гильотину. Мы прошли Клиши и направились по тропинке между рожью еще зеленой, но испещренной цветами. Дети прыгали от радости, прося позволить им набрать букет для своей тетки; они не стали ждать ответа и кинулись сквозь колосья. Пока они топтали рожь, я бранил их; они были так счастливы и так гордились собираемыми цветами, что мои замечания не имели на них никакого влияния, и чем больше видели они цветов, тем более хотели срывать их. Таким образом, мы дошли до дома, называемого Планшетт и расположенного на небольшом расстоянии от Сены; мои старые ноги утомились больше, чем молодые; я сел на край оврага, а дети продолжали бегать. Они увидели дикие розы и хотели достать их для букета, но эти цветы были не так беззащитны, как васильки, и дети только оцарапывали себе руки о шипы. В это время я увидел идущего по дороге гражданина, за которым следовала большая собака. Он увидел детей и любезно поспешил им на помощь. Он сорвал цветы, которых им так хотелось, и дал их каждой поровну. Я видел, как они целовали его, а потом приблизились ко мне, болтая, между тем как он улыбался. Тогда я узнал его. Он одет был в синюю одежду, потемнее той, которую я видел на нем 20 числа этого месяца, в желтых брюках и белом жилете. Волосы его были расчесаны и напудрены с некоторым кокетством, он держал шляпу свою на конце маленькой трости, которую положил себе на плечо. Походка его была очень твердая, голову свою держал он несколько назад, но лицо его имело благодушное выражение, что меня чрезвычайно удивило. Он спросил меня, мои ли это дети. Я отвечал, что это мои племянницы, он наговорил мне комплиментов об их наружности, пересыпая их вопросами, с которыми он обращался к детям. Мария сделала небольшой букет из цветов, которых я был хранителем, и подала его ему; он принял и воткнул в петлицу своего платья, он спросил ее имя, чтобы помнить ее, когда цветы завянут. Бедная девочка не остановилась на своем имени, которого было бы достаточно, а сказала также фамилию, и я никогда не видывал, чтобы человеческое лицо так внезапно изменилось. Он вскочил, как будто наступил на змею; лоб его покрылся морщинами, из-под насупленных бровей он не спускал с меня глаз, его темный цвет лица стал еще мрачнее; он уже не улыбался, и только прямая почти незаметная линия, означая место рта его, придавала всему лицу его неизъяснимую суровость. Он сказал мне отрывистым голосом с гордостью, которую я не ожидал встретить у проповедника равенства: «Вы…!» Я поклонился, и он не закончил своей фразы. Некоторое время он стоял, задумавшись, несколько раз хотел, по-видимому, говорить. Он, очевидно, боролся с отвращением, которое не в силах был победить. Наконец он наклонился к детям, поцеловал их с особенной нежностью, кликнул свою собаку, поспешно удалился, не глядя на меня. И я сам вернулся домой полный разных дум и спрашивал себя, следовало ли смеяться или плакать такому отвращению человека убивающего — от топора, который служил ему для того, чтобы убивать. Быть может также, что увидев меня, он вспомнил об угрозах Дантона.
28 прериаля. В настоящее время в тюрьмах содержится 7321 заключенный; но заговоры доставляют возможность скоро избавиться от излишка. Начали с Бисетра, откуда сегодня взято для казни 37 человек; другие из этого же дома ожидают своего осуждения. Выбор негодяев, которые почти все в прежнее время осуждены были как воры и убийцы, без сомнения, был сделан не без умысла. Этим надеются заглушить интерес, который могли бы возбудить те, которые последуют за ними, а в таких не будет недостатка; снова распускают слух, что заключенные волнуются, а мы уже знаем, что это значит. Как бы оно ни было, вот как происходило дело в Бисетре. Два слесаря, Люкас и Бален, оба осужденные, один на десять, а другой на восемнадцать лет каторжной работы, за воровство, подготовили свой побег. Они получили в хлебе пилу, которой начали перепиливать решетку окна, выходившего на караульный двор. В восторге от близкого освобождения они имели неосторожность сказать громко, что на другой день они будут свободны, и предложили некоему Валаньос, живописцу, бежать вместе с ними. Это был шпион; он расспросил их подробно и возразил, что, выйдя на двор, им придется обмануть бдительность караула. Люкас отвечал: «Это мне нипочем, я отделаюсь от них по-английски». Валаньос сделал свой донос. Дюпомье, полицейский чиновник, произвел обыск в комнате, где содержались оба осужденные; он нашел там пилу и лестницу, сделанную из разрезанных и связанных полос полотна. Люкас и Бален, увидев, что намерение их открыто, оскорбили Дюпомье и осыпали его угрозами. Из этого плана побега, из выражений, употребленных этими негодяями под влиянием досады и злости, Дюпомье и помощник его Валаньос состряпали романтический заговор, который клонился не менее как к тому, — я руководствуюсь текстом приговора, — чтоб прорваться через тюремный караул, овладеть гражданами, составляющими вооруженную силу Бисетра, отправиться в Конвент и зарезать там народных представителей членов комитетов, вырвать у них сердца, изжарить и съесть их, а самих заключить в бочки, снабженные кольями! Нет уже более таких несообразностей, которые трибунал не признал бы возможными, когда дело касается того, чтоб послать на гильотину тех, которые обвиняются в них. Все те из заключенных, которых Валаньосу вздумалось оговорить, осуждены по вышеозначенным доводам и казнены сегодня.
29 прериаля. Страшный день! Гильотина пожрала человека. Силы мои истощились и я едва не упал в обморок. Мне показывали распространенную в городе карикатуру, на которой я изображен гильотинирующим самого себя на поле, покрытом обезглавленными трупами. Если нужна только моя голова для уничтожения гильотина, то я готов принести ее в жертву, и в этом отношении карикатурист не ошибся.
Я не хвастаюсь чувствительностью, которая ко мне не идет, я слишком часто и близко видел страдание и самую смерть моих ближних, чтобы так легко расчувствоваться. Если то, что я чувствую, не есть жалость, то это результат моего нервного расстройства, и быть может, это рука Создателя наказывает меня за низкое послушание тому, что так мало походит на правосудие, которому мне суждено служить. Не могу себе объяснить этого, но с некоторого времени каждый день, когда приходит час казни, меня нестерпимо мучает дрожь. Как только я вхожу в Консьержери, лихорадка бьет меня еще сильнее, и я чувствую как бы огонь под кожей своей. При всей моей воздержанности я становлюсь как бы пьяным. Люди меня окружающие, мебель, стены — все пляшет и вертится вокруг меня, а в ушах раздается глухой гул, похожий на мольбы и жалобы. Несмотря на все мои усилия, я не могу снова возвратить себе полное сознание или хоть несколько укрепиться. Руки мои дрожат и притом до такой степени, что я вынужден был отказаться обрезать осужденным волосы и связывать им руки. Они стоят одни в слезах, другие молящиеся, все они понимают, что живут последний час, и я один не могу осознать действительности всего происходящего на моих глазах. Я веду их на смерть и мне не верится, что они скоро умрут. Это как бы сон, от которого бы хотел оторваться, но не в силах. Я присутствую при приготовлениях казни, не отдавая себе отчета в том, что будет дальше, исполняя свою службу с механической точностью автомата, но без того, чтобы рассудок понимал то, что делает рука. Потом звук падающего ножа приводит меня в себя. Я уже не могу слышать его без содрогания, без того, чтобы меня не бросило в холодный пот; тогда мною овладевает какое-то бешенство, не думая о том, что я должен бы, прежде всего, проклинать самого себя, я внутренне проклинаю этих жандармов, которые с обнаженным оружием привели этих несчастных со связанными руками; этот народ, который бессмысленно глядит на смерть их, не дерзая сделать какие-либо движения, какой-либо жест для спасения их; проклиная самое солнце, которое освещает все это. Наконец я ухожу, разбитый душевными волнениями, порываюсь плакать, но не могу выжать слезу из глаз моих. Никогда все эти чувства не были так сильны, как сегодня. Ладмиралю Сесили Рено дали большой кортеж негодяев, которых по обыкновению называли их сообщниками, хотя многие из них находились уже в тюрьме, когда двое были арестованы.
С 23 числа комитет общественной безопасности вследствие рапорта комиссии, заседающей в Лувре, составляет и посылает в трибунал списки казненных. Арест Нидена и Антонелля, двух присяжных, которые не допускали, чтобы право революционное стояло выше прав закона, доказал, что трибунал этот был лишь пустым призраком, служившим для прикрытия. Но, проповедуя у якобинцев против снисходительности, Робеспьер, тем не менее, воздерживается присутствовать при тех заседаниях, где составляется ближайший список посылаемых на гильотину; то есть он оставляет своим сослуживцам постыдную роль палачей, а сам готов показать руки свои чистыми от всей пролитой крови. Но его тактику поняли; испугавшись сперва, они попытались обратить против него то оружие, которое он оставил им, чтобы погубить их. Они придали большую гласность процессу, названного ими процессом убийц Робеспьера, как будто Колло не раньше подвергся нападению.
В это дело они вмешали двух женщин по фамилии Сент-Амарант, с которыми Робеспьер-сын имел сношения, и распустили разного рода слухи; говорили, что одна из этих женщин была любовницей отца, который потребовал головы ее за то, что в одной из оргий она подслушала тайну его на королевскую власть; что младшая Сент-Амарант осуждена была на смерть потому, что отвергла предложение Сен-Жюста.
Все это рассказывали в Консьержери и вокруг эшафота, но, однако не эта маккиавелевская уловка комитета произвела самое глубокое и тяжелое впечатление. Гражданка Сент-Амарант-мать содержала игорный дом, который посещали многие из значительных лиц и множество интриганов: Дантон, Геро де Сешель, Лакруа, Робеспьер-младший, Дефие, Проли и известный барон Бац, которого полиция никак не могла изловить. Дочь ее, молоденькая и красивая собой, которая содействовала привлечению игроков, вышла замуж за Сартина, племянника бывшего начальника полиции. По закону о подозрительных не только арестовали всю семью, но и всех, кто имел какое-либо к ней отношение, даже косвенное: Марию Гранмезон — бывшую актрису итальянского театра и любовницу Сартина, а также служанку ее Марию Бушар, этой было восемнадцать лет, но не казалось и четырнадцати. Она была такая худенькая, тоненькая и миниатюрная, что даже тигр сжалился бы над ней. Когда она сошла в Грефф и подала свои руки Ларивьеру, чтобы он связал их, этот обернулся к Деморе, моему старшему помощнику, и сказал ему: «Это, верно, для шутки?» Деморе пожал плечами, а дитя, улыбаясь сквозь слезы, отвечало нежным голосом: «Нет, это совершенно серьезно». Тогда Ларивьер бросил веревки и воскликнул: «Ищите другого, кто бы стал связывать ее. Это не мое ремесло нянчить детей!» Она была спокойна и почти весела. При отправлении произошло некоторое замешательство, заказаны были красные рубахи только для Ладмираля, Сентенакса и для четырех Рено, когда пришел из комитета приказ надеть их на всех 54 осужденных без исключения. Пока пошли за ними, Мария Бушар села у ног Гранмезон, которая была совершенно как убитая, и старалась утешить ее. Она еще спросила позволения сесть вместе с ней в повозку, в чем ей не было отказано. Я думаю, что если бы она попросила даровать ей жизнь, то едва ли кто бы то ни был поколебался разрезать связывавшие ее веревки и занять ее место. То, что мы перечувствовали, отразилось и в народе. Толпа была весьма значительна и соответствовала блеску самой казни. Отряд жандармов и пушки, сопровождавшие нас, вызвали на улицу всех парижан. В первых повозках было пять или шесть женщин, все молодые и красивые, и как всегда вид их располагает к жалости, но когда показалась Мария Бушар, то негодование было общее. Отовсюду слышался ропот, и более чем в десяти местах кричали: «Не надо детей!» В Антуановском предместье женщины, стоявшие у окон, складывали руки, с живостью говорили между собой и показывали не нее пальцами, многие плакали. Я сам во время проезда и на площади ни разу не посмел обернуться в ее сторону. В Консьержери я взглянул на нее и мне показалось, что черные глаза ее говорили мне: «Ты не умертвишь меня!» И однако она умерла. Она взошла на эшафот девятой. Когда она прошла мимо меня, ведомая помощниками, я сделал движение в ее сторону, движимый каким-то инстинктом, сильно борясь против внутреннего голоса, говорившего мне:
— Разрушь гильотину скорее, нежели допустить, чтобы она взяла это дитя!
Помощники подвели ее, я слышал ее голос, сказавший: «Хорошо ли я так стою?» Я поспешил обернуться, глаза мои заволокло каким-то облаком, и я чувствовал, как колени мои дрожали. Мартен скомандовал вместо меня и сказал мне:
— Ты болен, ступай домой, я останусь один.
Я сошел с эшафота, не говоря ни слова, и удалился, не оглядываясь. Галлюцинации не покинули меня за весь день; они были так сильны, что на углу улицы Сентанж, когда подошла ко мне нищая просить милостыню, то мне показалось, что это она, и я едва не упал навзничь. Сегодня вечером, садясь за стол, я утверждал жене моей, что вижу на скатерти кровавые пятна.
30 прериаля. Сегодня декада, не было казней. Я провел весь день дома, где читал газету.
5 мессидора. С первого по четвертое казнено 92 осужденных.
6 мессидора. Боязнь смерти побудила одного из заключенных в Маделонетской тюрьме повеситься. Вот простота Грибуля, оправданная весьма мрачным образом. Прежде чем повеситься, он написал Робеспьеру письмо следующего содержания: «Добродетельный Робеспьер, позаботьтесь о моей жене, которой нечем будет существовать». Это уже второй, который таким образом сам идет навстречу смерти. Бывший слуга герцога Каньи, некий Куни, заключенный в Порлибр, уже зарезался бритвой, оставив завещание такого содержания: «Это полицейский комиссар моего квартала желает, чтобы я попал на гильотину. Он говорит, что я негодяй, что я украл у своего господина все, что имею. Это неправда, но он зажимает мне рот, когда я хочу отвечать. Я соблюдал экономию для моих племянниц и для одного сироты, которого презрел. Я передаю их на попечение Национального Конвента и прошу привратника отнести это завещание в комитет общественной безопасности». Сегодня казнены 25 человек.
8 мессидора. Сегодня казнены прочие заключенные в Бисетре, замешанные доносами Валаньоса. Между ними находился прежний народный представитель Осселен, в небольшом доме в окрестностях Марли скрыл он изгнанницу — госпожу Шарри. Этот великодушный поступок стоил ему сперва свободы, а потом жизни. Он имел неосторожность доверить свою тайну одному несчастному, которого считал своим другом. Этот, представленный госпоже Шарри, влюбился в нее и сделал ей постыдное предложение. Она отвергла его, и на другой день убежище ее окружено было солдатами; ее арестовали, отвели в трибунал и казнили.
Так как в то время закон, осуждающий на смерть всякого, кто даст убежище изгнаннику, не был еще издан, то Осселен присужден был к 10 годам заключения в кандалы и помещен в Бисетр вместе с разбойниками. Прежнее его положение, а в особенности связи его с партией Дантона, указывали на него тем, которым поручено было очистить темницы; его включили в число заговорщиков, которые, по мнению Фукье, хотели нанизать на иглы сердца членов комитета и скушать их. Решившись избавить себя от казни, он достиг того, что вырвал большой гвоздь из стены своей тюрьмы и в три приема воткнул его себе в живот, но все-таки не смог умертвить себя. Т*., доктор в Консьержери, высказал в этом случае здравый смысл и человеколюбие; правда, это продолжалось недолго. Когда пришли за Осселеном, чтобы вести его в трибунал, Т*. объявил, что это бесполезное варварство, что раны, которые Осселен нанес себе в живот, осуждают его на скорую смерть, вернее всякого судебного приговора. Но трибунал неохотно отказывался от единственной головы, которая придавала хотя некоторое значение мрачной жертве в Бисетре. Лиендон настаивал, Осселена отнесли в суд, и Дюма принял стоны его вместо показаний. Когда вынесли его, он упал в обморок. Ему дали понюхать уксус, и он пришел в себя; обводя глазами всех окружающих его, он сказал: «Что ж эта смерть, разве не придет она!» Он попытался освободить руки свои из рук помощника, который схватил их, чтобы связать; он намеревался сорвать повязку со своей раны. Т*., смотревший за ним, сказал ему: «Будьте спокойны, отсюда до гильотины далеко, и прежде чем вы прибудете туда, если только не свершится чудо, то вам не придется иметь дело с ней». Предсказание его сбылось лишь наполовину. Когда мы прибыли, Осселен, которого поместили в повозку, не подавал признаков жизни; глаза его остановились, губы посинели, рот раскрылся, зубы стиснулись. Считая его мертвым, я приказал Деморе покрыть труп и оставить его в повозке, но Т*., сопровождавший нас, утверждал, что он еще жив и что следует исполнить приговор. Я отказывался, и тогда он сказал мне: «Глупец, если он умер, то разве не все равно, что он явится на тот свет с головой под мышкой, а если бы мы оставили ее при нем, и он неожиданно воскреснул бы, то, наверное, это наделало бы хлопот и мне, и тебе!» Его отнесли наверх, но ни один мускул лица его не содрогнулся, когда упал нож; и чтобы ни говорил доктор, мы убеждены, что обезглавили труп.
Журнал моего деда оканчивается на 9 мессидоре без объяснения причины такого прекращения. Он не отличался чувствительностью, но, тем не менее, его мужество, бесстрашие духа его при виде смерти не могли противостоять силе впечатлений, перенесенных им накануне. После казни красных рубах он слег в постель вследствие кризиса той болезни, которая несколько месяцев спустя вынудила его отказаться с своей должности. Мой дядя, заменявший его в подобных случаях, заметил, что в это время, самое жестокое из всего революционного периода, старый, палач, видимо, страдал под гнетом чувств, походившими на угрызения совести. Он был бледен, взволнован, беспокоен, он искал уединения, и однако нередко уединение было для него поводом к необъяснимому испугу. При всяком неожиданном шуме он вздрагивал. Он не рассказывал более жене и детям те сцены, которым был свидетелем. Симпатия, ненависть, сожаление, раздражение, которым он в прежнее время давал свободное течение, казалось, изгладились из души его, чтобы оставить ее под гнетом того, что я не смею назвать ужасом, но что, наверное, было отвращением и для приказывавших, и для исполнявших. С такими мыслями под влиянием болезни, которая овладевала им, понятно, что он не решался среди вечерней тишины и уединения, вызывать привидения, порожденные утром ножом его. С последних дней прериаля имена осужденных лишь иногда замечались в его записках. Правда, что в это время гильотина была построена на коммерческом основании, и что, когда сам хозяин воздерживался, то его непременно заменял бухгалтер. Делоре, о котором говорит Шарль Генрих Сансон, и внук которого в настоящее время палач в Бордо, исполнял одновременно должности старшего помощника и приказчика. Акты раздевания трупов, составляемые им каждый вечер, были собраны в один реестр, остававшийся в руках палача. По этому реестру составил я те списки, которые не сохранились дедом моим, причем старательно сличил их с журналами того времени и со списками, не заслуживающими особой веры Прюдома. Я отсылаю к концу этого труда полный мартиролог страшных месяцев мессидора и термидора и буду продолжать мою историографию эшафота при помощи других документов, оставленных отцом моим.
Глава VIII Рукопись отца моего. Служба его в артиллерии
Я должен был передать в точности и без перерыва журнал Шарля Генриха Сансона. Этот печальный некролог, отмечающий ежедневно жертвы страшной эпохи Террора, составляет каждодневную ведомость эшафота с 1793, и в этом отношении я признал за ним историческое значение, не позволявшее мне искажать его. Поэтому я в точности сохранил содержание его и надеюсь, что читатели одобрят это. В этом каждодневном отчете встречаются некоторые наставления, написанные в часы отдыха и уединения человеком, облеченным столь страшной обязанностью. Его заметки кратки, сжаты, как и должен был быть в то время баланс гильотины; рука, утомленная казнями, едва сохраняет достаточно силы, чтобы писать, а немая совесть не смеет вопрошать. Тот, который держит этот список казней, едва смеет бросить боязливый взгляд вне своего печального горизонта на те события, которые совершаются вокруг него. Чувствуешь, что он живет в страшное время, когда всякий закрывает глаза, чтобы не видеть и не чувствовать себя живущим.
Отдохнем от этого ужасного чтения. Рукопись моего отца, гораздо позже написанная, но касающаяся событий того же времени, доставит нам эту возможность. Она объясняет интересные подробности о перемене общественного мнения в пользу палача.
Республика обходилась с нами лучше, чем монархия. Она дала нам слишком важную роль и слишком часто прибегала к нашим услугам, чтобы не понимать этого. Это бесспорно единственная эпоха, когда отвращение, соединенное с нашей должностью, почти смолкло. Вместо неизбежного отвращения, которое мы всегда внушали, нередко видели во время Террора как народные представители, клубные ораторы, знаменитые своим цинизмом, самые отъявленные из санкюлотов, считали за честь фратернизировать с палачом: свобода, равенство, братство и смерть.
Уже дело не касалось этих боязливых приговоров совета и парламента, едва решавшихся запрещать называть нас палачами; дело клонилось к тому, чтобы поискать нам славное прозвище, вполне достойное величия нашего назначения. Весьма серьезно предлагали на будущее время называть палача: мстителем народа, одеть его в серьезный костюм, который бы указывал всем на него, как на одного из важнейших особ всей нации. Известный артист, живописец Давид, поверил всему этому и явился к моему деду, чтобы переговорить относительно этого костюма, рисунок, которого он не погнушался сделать, руководствуясь в этом случае воспоминаниями о лекторах римской древности. Шарль-Генрих Сансон отклонил честь такого одеяния и выразил желание оставаться при той одежде, которую носил.
Но это были лишь меньшие почести, которые оказывали деду моему; часто, отправляясь на казнь со своим мрачным экипажем, в то время когда еще народ не утомился ежедневными казнями, он слышал на пути своем одобрительный ропот. Несколько раз фурии гильотины едва не делали ему овацию. Некоторые из помощников были в связи с ними, и это было соединение смешного с отвратительным.
Спешу перейти к другому предмету и к образам, менее отталкивающим. Я предоставлю говорить отцу моему, который расскажет нам полученное им в то время выражение симпатии, более лестное.
В одно из воскресений октября месяца 1793 года пробили сбор всем гражданам нашего отдела, и я вместе с прочими отправился в церковь Св. Лаврентия. После собрания, когда я выходил с несколькими друзьями, ко мне подошла довольно многочисленная компания, состоявшая большей частью из ремесленников, среди которых я заметил несколько знакомых лиц. Один из них от имени всех обратился ко мне со следующими словами:
— Гражданин Сансон, мы принадлежим к числу тех, которые должны образовать новую роту канониров нашего отдела. Прежняя отправилась сегодня в армию, нам разрешили составить новую и вот позволено нам собраться сегодня для избрания офицеров. Мы знаем вас с давнего времени и нам бы очень лестно было видеть вас с нами, равно как и лиц, сопровождающих вас.
Если бы этот человек не назвал меня по имени и не выразился, что как он, так и его товарищи давно меня знают, то я бы счел все это за ошибку, и чтобы не рисковать быть узнанным впоследствии поспешил бы отказаться самым положительным образом; но сознаюсь, меня тронула эта предупредительность и я хотел отклонить предложение со всевозможной вежливостью. Я дал им заметить, что уже принадлежу к национальной гвардии, где занимаю должность сержанта, так как несколько знаком с пехотной службой, но что не имею ни малейшего понятия о службе артиллерийской.
— Что за важность! — воскликнул смеясь один молодой человек с открытым лицом. — У нас хороший учитель и в месяц вы будете знать столько же, сколько и мы. Вы умеете ездить верхом и фехтовать. Это главное для воина. Что же касается чина, то вам неизвестны наши намерения, прибавил он, ударяя на последнее слово, — примите наше предложение и увидите, что не раскаетесь в этом.
Я попытался сделать несколько возражений, но их так живо оспаривали и так убедительно упрашивали меня, что пришлось уступить. Впрочем, в подобное время было не совсем осторожно противиться народным демонстрациям, ибо из благоприятных они могли стать враждебными и обратиться против того, кто не сумел ими воспользоваться. Малейший случай был достаточен для того, чтобы обвинить вас в недостатке патриотизма и смотреть на вас как на подозрительного.
Таким образом, я и отправился с новыми моими товарищами в то место, где должны были происходить выборы офицеров для этого артиллерийского отряда. Очень удивлен был я, когда увидел тотчас по моему прибытию, что все собрание выбрало меня президентом, а одного из друзей моих — секретарем. К нам присоединили 4 счетчиков голосов, и выбор начался с должности капитана. Удивление мое еще более возрастало, ибо я не замедлил убедиться, что все голоса клонились в мою пользу. Это меня тронуло и польстило мне; но чувствуя себя неспособным исполнять должность, о которой не имел ни малейшего понятия, я старался отклонить от себя честь избрания. Все мои доводы ни к чему не привели; меня обвиняли в излишней скромности и провозгласили против воли. Дядя мой, бывший вместе с нами в то время, избран был лейтенантом, а тот из друзей моих, который исполнял обязанности секретаря, — старшим сержантом. Последний, будучи еще очень молод, не в состоянии был скрыть свой восторг. Это был некто Массон, юноша весьма неглупый и несколько образованный. Он обыкновенно занимался у прокуроров, и я познакомился с ним у того, который вел дела нашего семейства. Наши годы и характеры сходились, и мы скоро тесно сдружились. Он почти каждое воскресенье приходил обедать к отцу моему, который в этот день принимал немногих своих друзей. После одного из таких обедов и случилось с нами рассказываемое мною приключение, которое нас обоих возводило на ступень неожиданных воинских почестей.
Массон был не нашего отдела; он жил на острове Сен-Луи и опасался, что это обстоятельство лишит его избрания; но скоро он успокоился, ибо в те времена на такое обстоятельство не обратили ни малейшего внимания.
Что же касается меня, то на другой день после выборов я поспешил отправиться к одному из сержантов моей роты, который был канониром и как нельзя лучше понимал артиллерийские приемы. Я стал учиться у него, и нескольких уроков было достаточно для ознакомления меня с этого рода службой; но недостаточно было уметь повиноваться, необходимо также уметь командовать. Я более всякого чувствовал необходимость этого, так как сразу попал на высокое место. Поэтому я старался изучить у других товарищей все, что касается артиллерийского дела, наконец, дошел до того, что мог вступить в командование, не рискуя подвергнуться насмешкам.
Правительство, имевшее на нас свои виды, заботилось, впрочем, и само о том, чтобы довершить обучение артиллерийского отдела парижского гарнизона, к которому мы принадлежали: назначено было несколько преподавателей. Когда мы дошли до того что могли порядочно маневрировать, то соединили наши 4 роты: северную, бондийскую, бон-нувель и монконсамбльскую, вооруженные каждые двумя пушками, и приказано было им на обширном поле делать различные эволюции, входившие в состав артиллерийской службы. Выбранное для этого место был бульвар Бонди, где учение проводилось два раза в неделю. Между тем, я несколькими завтраками привлек нашего учителя, старого сержанта канонира, и достиг того, что он занимался мной отдельно, чтобы я мог с честью оправдать звание начальника. Он прилагал к этому делу много старания, а я много доброй воли, так что делал довольно значительные успехи.
Скоро пришлось использовать нас в деле, и когда несколько рот получили приказание отправиться в Вандею, а другие — в Лион, куда направлялись значительные силы, моя роты, бывшая 48, послана была вместе с другой в Бри, где вспыхнуло возмущение, заставлявшее опасаться, чтобы мятежники не попытались сделать из этой провинции новую Вандею.
Опасения эти были совершенно ребяческие, так как если волнение было неожиданно, то, тем не менее, легко было подавить его. Говорили, что 20 ООО жителей Бри и окрестностей Куломье взялись за оружие по голосу духовных лиц, предводительствуемых и поддерживаемых самыми влиятельными личностями страны. Когда мы прибыли, то накануне уже все было окончено, и для усмирения этого страшного возмущения оказалось достаточно гарнизона Куломье, то есть одной роты егерей 16 полка. Рота эта состояла только из 84 человек, но что особенно замечательно, это то, что когда вспыхнуло возмущение, капитан и два лейтенанта были в отсутствии, и младший лейтенант, мальчик не более пятнадцати лет, выступил во главе своего отряда против скопища, которое считали столь многочисленным. Такая смелость имела полнейший успех. Встреча произошла на поле, между Мопертюи и Куломье, и как только увидели, что их атакует слабый отряд кавалерии, они расстроились и обратились в бегство, дав только несколько выстрелов, ранивших, к счастью, весьма немногих. Тогда егеря развернули фронт и погнали перед собой остатки мятежной толпы, которая побросала оружие и без сопротивления дала гнать себя до Куломье, где ее заключили в церковь Сен-Фуа, так как тюрьма была слишком мала для такого большого числа народа. В самом деле тут было всего восемьсот человек: мужчин, женщин и детей.
Когда мы прибыли, то так как опасались возобновления нападения со стороны беглецов, рассеянных накануне, которые, быть может, вздумают попытаться освободить узников, нас выстроили в ряды перед церковью, в которую они были заперты. С нами было шесть пушек, шесть зарядных ящиков и две походные кузницы, каждая с закладкой четырех лошадей, всего же пятьдесят шесть лошадей. Мы зарядили пушки картечью и поставили их перед дверьми церкви, угрожая стрелять при малейшем признаке возмущения.
Такое решительное действие наше имело влияние на толпу и достаточно было для погашения восстания в самом зародыше. Впрочем, мы имели с собой пятьсот человек пехоты и эскадрон кавалерии, что с нашей артиллерийской командой и местным гарнизоном составляло войско около девятисот человек. Такая сила, хорошо обученная и со строгой дисциплиной, была слишком достаточной для усмирения смут, даже более значительных, ибо мы только что видели, как отряд из 80 егерей под предводительством 15-летнего мальчика обратил в бегство бесчисленную толпу, взяв 800 человек в плен. За это молодой герой осыпан был со всех сторон шумными поздравлениями, к которым мы искренне присоединили и наши. Всего неприятнее было положение капитана и двух лейтенантов, когда они вернулись на свой пост, ибо они упустили случай отличиться, которым воспользовался их юный сослуживец.
Когда умы успокоились, то это сосредоточение, слишком обременительное для такого небольшого местечка, было распределено отрядами по окрестностям. Один отряд послан был в Ферте Гоше, другой в Фармутье, третий в Розе ан Бри. Что касается меня, то я остался в Куломье с главными силами. Мы составляли штаб числом около 30 офицеров; мы все вместе обедали и между нами царило полнейшее согласие. Годы мои и странные времена, в которые мы жили — все содействовало тому, что я забывал о дне, когда мне гораздо труднее будет найти себе общество между своими ближними.
Я ревностно занимался моей службой, соблюдал строгую дисциплину, часто делал в моей роте учения, чтобы она не утратила тех немногих познаний, которые имела, и чтобы приучить наших лошадей к маневрам, а также, чтобы внушить к нам почтение в народе на случай, что оставшиеся в среде его недовольные вздумали бы снова произвести возмущение. Но я должен сказать, что большинство горожан благоприятствовало нам; только сельское население вначале несколько косо посматривало на нас, но вскоре и оно к нам привыкло.
Что всего удивительней, это то, что в продолжение 6 месяцев, которые мы пробыли в Куломье, мы не имели с гражданскими властями ни одного важного столкновения, подобного тем, которые почти повсеместно поселяют раздор между властями — военной и гражданской. Между тем революционный комитет в Куломье был весьма странно составлен: президентом его был маленький горбун, до того напыщенный своим званием, что можно было думать, что это-то и раздуло горб его. Эта личность не умела ни читать, ни писать, но это не помешало ему издать приказание, по которому все письма с почты должны были проходить через его руки, прежде чем быть доставляемы по назначению.
В то время я вел большую переписку, как с моим семейством, так и с несколькими друзьями, которых оставил в Париже, так что стал одной из главных жертв произвола горбатого тирана. Ему передали одно письмо, адресованное мне, и он имел дерзость распечатать его; но чему трудно и поверить — это тому, что, так как ни он, ни его сослуживцы не могли разобрать ни слова, то они имели бесстыдство потребовать меня к себе, просить, чтобы я им прочел содержание письма. Признаюсь, я едва сдержал свой гнев и негодование, и вместо объяснений, которых от меня требовали, разразился упреками и жалобами на такое злоупотребление власти, с иронией поздравляя их, что необразованность их, по крайней мере, обеспечивает их скромность. Я угрожал им, что доведу о таких действиях их до сведения моих начальников, которые, наверное, примут мою сторону, и мне удалось напугать их до такой степени, что они отдали мне письмо с просьбой не давать никакого хода делу, в котором с их стороны было ошибочное мнение о добром патриоте.
Я очень рад был, что дело этим кончилось, ибо письмо было от моей матери и содержало несколько сожалений о жертвах той эпохи, которые могли бы не понравиться их безукоризненному цинизму. После того я не мог без содрогания вспомнить об угрожавшей им опасности.
Пребывание мое в Куломье, продолжавшееся шесть месяцев, не ознаменовалось больше никакими другими приключениями. Наконец я получил приказание отправиться в Розеан Бри в качестве временного начальника с двадцатью пятью артиллеристами и тридцатью человеками пехоты под командой подчиненного мне лейтенанта. Там я оставался только три недели, пока меня сменила другая рота. Затем я вернулся в Париж, где мне пришлось принять участие в событии, которое заставило меня горько сожалеть о чине, который мне так приятно было принять. Я обязан рассказать это событие для сына моего как доказательство, что никогда не избегнешь судьбы своей.
Глава IX Тюремные заговоры
Я приведу в свое время рассказ, о котором упоминает мой отец, но прежде мне необходимо продолжать историю этих времен с той эпохи, на которой остановился журнал Шарля Генриха Сансона.
Юридическая Сен Бартелеми достигла своей апогеи. Страшный способ спасения, называемый Террором, получил те усовершенствования, которых был достоин. Личный состав его доносчиков, судей, присяжных, обвинителей, палачей делал свое дело с невозмутимой регулярностью, и все шло как хорошо устроенная машина.
Те, которые сообщали ему это движение, сами подпали тому обаянию, которое хотели вдохнуть всей Франции. Ни телохранители, ни придворные не препятствовали новым тиранам входить в непосредственные отношения с народом; от них не могли укрыться чувства толпы, и поэтому они могли видеть, что недалеко то время, когда отвращение займет место жалости. Совесть их, вероятно, не осталась нема; быть может, она говорила им яснее их же шпионов; но кровь, подобно вину, производит опьянение и притом более ужасное. Люди 93 года не могли избегнуть того бреда, который побуждает убийцу колоть кинжалом тело, уже давно лишенное им жизни; тайный голос говорил им, что в тот день, когда они допустили пасть головам Дантона и Демулена, они пропустили час отступления. Раз, направившись по этому пути, они шли вперед ослепленные, смущенные, предвидя падение свое, предусматривая пропасть, но все еще под влиянием жажды истребления, которая давала место лишь одному чувству ужаса.
Для этих грозных конвенционистов, перед которыми Европа преклонила уже одно колено, была угроза гораздо более страшная, чем голос их совести, чем негодование общественного мнения; эта угроза заключалась в отсутствии Робеспьера.
Он покинул залы Комитета, не показывался более в Конвенте и только лишь изредка посещал своих друзей якобинцев, господство его было так сильно, что достаточно было ему отвернуться, чтобы возбудить трепет тех, которые избегали его взгляда, чтобы заставить их видеть во сне тени Дантона, Камилла, Фабра, д’Эбера, Шометта и многих других, погибших, потому что этого желал Робеспьер.
Чего хотел он? Что требовал он? По какому пути желал он, чтобы все направилось? Или еще раз требовалось поднести ему головы 73 жирондистов, переживших 31 Октября, и от которых он уже великодушно отказался? Разве нужно было, чтобы те, которые служили его политике в Горе, но которые в то же время думали сравниться с ним в патриотизме и перещеголять его строгостями, пошли, покорные, броситься под колеса колесницы этого Жатерна, где добыл бы он новую дань голов, ему должную? Будет ли это на правой стороне Конвента или на левой?
Подобное сомнение было ужасно и труднее было перенести его, чем немедленную поскрипцию.
На решениях и образе действий комитетов отозвалось волнение, производимое в умах этим сомнением; этому-то волнению, равно как и принципам нравственного порядка, о котором я говорил выше, и следует приписать учащение казней в течение месяцев мессидора и термидора.
Не успев проникнуть в тайны политики Робеспьера, они думали найти спасение в законе прериаля, — обоюдоострое оружие, которое триумвиры дали им в руки лишь в надежде, что они обрежут им пальцы: они стали преувеличивать строгости этого закона. Быть может некоторые, подобно Амару или Вадье в деле красных рубах предполагают, что пролитая кровь всегда падет на настоящих авторов убийственного кодекса; но другие, как Билло, Варенн, Коло и прочие, остаются убежденными, что у них нет помощника вернее смерти, что победа останется за теми, которые ранее других, поднимая кровавое знамя ужаса, дадут республике наибольшее число залогов, и они стараются удлинять списки, доставляемые им луврским комитетом, которому поручено избирать жертвы на другой день.
Со своей стороны партия Робеспьера, которой, конечно, он не сообщал своей сокровенной мысли, не соглашается уступить свое место. Те и другие соперничают страшными патриотическими истреблениями и за все это отвечают несчастные подозрительные; головами их отмечается число очков, выигранных каждой партией. Бессетрскому делу, подготовленному комитетом общественной безопасности, робеспьеристы отвечают делом люксембургским; цифре 74 они могут противопоставить число 154; людям, опозоренным прежними осуждениями — почтенных судей, дворян, священников, важных особ, одним словом, настоящих аристократов.
Это был сладкоречивый Герман, который взял на себя дело привести заговор к концу и выжать из него столько крови, сколько было возможно. Один из администраторов Люксембурга Вуильчерич, который был знаток в этом деле, устроив уже большой заговор Диллона и жены Демулен, значительно содействовал ему в настоящем случае. Вуильчерич приискал себе и помощников; некоего капитана Бойенваля, которого революционная армия признала недостойным оставаться в рядах ее; Басиро, памфлетиста, известного по печальной славе своей жены Оливы, процесса ожерелья; привратника по имени Верней; наконец, бывшего адъютанта Карта Амана, человека, готового на всякое злодеяние. Собравшись на совещание, эти четыре разбойника делают свой выбор; не только знатные имена или качества указывают им лиц для доноса, но тут также играют роль капризы, личная месть и любовные мечты. Этот считается заговорщиком, потому что отказал одному из них понюхать табаку из своей табакерки, тот — потому что не был щедр в отношении к привратнику; третий — потому что он муж женщины, которую Бойенваль удостаивал своим вниманием; все, наконец, потому, что питали сокровенное желание не сгнить в темнице и не погибнуть на гильотине.
И все это история, но когда пишешь ее, то невольно думаешь, что все это сон.
Когда число заговорщиков достигло число 154, то остановились; такой итог казался достаточным для первого опыта и умение Бойенваля и K° приберегли для другого раза. Составленный таким образом список, во имя комитета общественного спокойствия послан прямо из полицейского бюро, в котором председательствовал Герман к Фукье Тенвиллю, чтобы он был представлен Луврской комиссии и комитету общественной безопасности.
В это время твердый Фукье подвержен был обморокам, правда, чисто нервным; несколько дней перед тем он рассказывал одному из членов комитета, что по дороге в Тюльери ему показалось, что Сена течет кровавыми струями, и пока он говорил это, собеседник его увидел, что он стал бледнее смерти и волосы стали дыбом на голове его. Действительно ли он уступал болезненному расстройству мысли или хотел возобновить хитрость, употребленную им в дело при бессетрском процессе, но в заговоре Люксембурга он имел мысль судить одним разом всех 154 обвиненных и велел для этой цели построить в зале Свободы особую эстраду, ступени которой достигали до потолка. Комитет общественного спокойствия, в котором в отсутствие Робеспьера господствовал Кутон, во имя триумвирата призвал к себе Фукье и приказал ему отказаться от мысли об эстраде.
Люксембургские заговорщики разделены были Германом на три категории, которые должны были быть судимы в три заседания.
Первая категория предстала на суд 19 мессидора; или Фукье хотел искупить неудовольствие, причиненное им робеспьеристам, или же пример Германа увлек его, но никогда, даже перед революционным трибуналом, ни одно дело не было ведено с таким пренебрежением самой обыкновенной справедливостью. Выступает обвиненный по фамилии Морен, но имя, несхожее с тем, которое только что прочел Греффье; он протестует; Фукье читает обвинительный акт, исправляет имя и требует, чтобы осудили Морена, присутствующего на заседании; одного привратника по имени Лесенн он приказывает заключить в тюрьму за ложное свидетельство, так как он мужественно объявил, что заговор существовал лишь в воображении доносчиков. Призвали этих доносчиков; их показания тем более оказались точными, что будучи ложными, заблаговременно согласованы ими между собой во всех подробностях. На скамьях находилось 59 обвиняемых. И 59 отправлены на гильотину.
21 мессидора пришел черед второй категории, тут было 50 обвиненных. Заседание было тем замечательно, что двое были оправданы: один из них был, правда, мальчик 14 лет. В числе осужденных находилось семейство Малесси, состоявшее из отца, матери и дочери.
Третью категорию люксембургских заговорщиков судили на второй день, 22 мессидора. В этой категории находился Лекрер де-Бюффон, сын знаменитого естествоиспытателя; когда он взошел на эшафот, то остановился на платформе и воскликнул с тоном упрека: «Я сын Бюффона». Другой, Карадек де ла Шалоте, находился в признанном всеми состоянии умопомешательства.
Начиная с 15 мессидора, число ежедневных жертв никогда не падает ниже 30, а иногда даже достигает цифры 60. Все славные имена прежней монархии занимают свои места в мартирологе; но не без удивления замечают, и это характеризует страшное увлечение, господствовавшее при этих осуждениях, что имена простого народа, бедняков, солдат, земледельцев, почти постоянно составляют большинство смертного списка. Действительно ли эти люди дали законные поводы к строгостям революции в отношении к ним, которых она хотела освободить? Едва ли. Если элемент пролетариев и бедных достиг такой значительной пропорции в некрологе Террора, то это лишь доказывает, что личная ненависть при содействии доносов должна была давать эшафоту столько жертв, как и патриотические увлечения; революция предоставляла власть низшим классам общества; но как в этих, так и в верхних слоях власть эксплуатировалась теми же страстями. Донос служил верным и удобным способом избавить от врага, соперника, а нередко и от друга; между подозрением и гильотиной стояло одно лишь слово Фукье Тенвилля. Весьма многие не могли устоять против искушения безнаказанно удовлетворить своим неприязненным чувствам или своей зависти, и таким образом в эту горестную эпоху нельзя было даже рассчитывать на незначительность или низкое положение свое в обществе, чтобы избежать гильотины.
Способ, которым очистили люксембургскую тюрьму, довольно хорошо удался и не замедлили применить его и к другим местам заключения; число заключенных превышало цифру 8 тысяч. Снова бюро Германа приняло или скорее возбудило доносы и два новых представления комедии или вернее трагедии Люксембурга привели на скамьи трибунала 51 лицо из тюрьмы Кармской и 77 — из Сен-Лазарьской.
На другой день, 6 термидора, настала очередь сен-лазарских заключенных. Лепщик по имени Манини и слесарь Фокери были агентами-подстрекателями этого заговора. Они, впрочем, не обладали искусством Бойенваля и Босира. Они утверждали, что им обещали большие деньги за то, чтобы они согласились перепилить решетки одного окна первого этажа. Басня эта представлялась нелепой с первого же взгляда, ибо это было единственное окно, снабженное такими решетками, и потому предпочтение заключенных к этому именно окну было, по крайней мере, весьма неловким. Окно это, правда, находилось против террасы, с которой было легко спуститься в поле, но оно отделялось от нее открытым пространством в 25 футов, и часовой стоял день и ночь именно под решетчатым окном. Они старались облегчить несообразность своей басни удостоверением, что заключенные имели в виду не только выйти на свободу, но и намеревались перерезать всех членов комитетов, Конвент, национальную гвардию, а может быть и всех французов. Такое заверение избавляло их, конечно, от всяких вероятностей. В довершение своей неловкости они выставили главами заговора заключенных без всякого значения, что не избавляло трибунал от упрека, что он приносит в жертву простолюдинов, а оказывает снисхождение высшим классам — упрек, который ему сделали только что в Конвенте. Герман исправил такую оплошность, дал подстрекателям в помощь двух шпионов, которых правительство содержало в Сен-Лазаре. Этим способом получили список более приличный.
7 термидора снова заговор лазарской тюрьмы доставил жертв на эшафот. Уже не только знатные особы занимают скамьи осужденных: аристократия таланта имеет тут своих представителей в лице Андре Шенье и Руше. Первому было всего 31 год. Не на эшафоте, а входя в суд, Шенье воскликнул, ударив себя по лбу: «А между тем у меня тут что-то было». Он простился с жизнью гораздо ранее, чем произнесен был приговор. Он слишком хорошо знал тех, которых называл палачами-законописцами, чтобы считать их способными на великодушие, надеяться, что они простят поэту, стихи которого навеки их пригвоздили к позорному столбу. Вместе с Шенье и Руше, барон Тренн окончил на эшафоте 70-й год своей романической жизни, исполненной приключениями. Знаменитость другого рода, советник Гесман, герой памфлетов Бомарше, тоже принадлежал к этой категории. В числе 24 осужденных замечательны также маркизы Монталамбер и Рокилор, герцог Креки, граф Бурдель и др.
Другие, осужденные вторым отделением трибунала, вместе с 22 сен-лазарского заговора составляют цифру казненных 8 термидора — 53.
9 термидора оба отделения собрались на заседание; на скамье первого было 25 обвиненных, на скамье второго — 22. Как в том, так и в другом отделении толпа народа была значительно менее обыкновенного. Инстинкт сказал народу, что в Тюльери разыграется драма более ужасная, чем там, и толпа теснилась на Гревской площади, где было заседание коммуны и в Национальном саду, на улицах, прилегающих к залу Конвента. Судьи и присяжные казались мрачными и неспокойными, от времени ко времени им передавали бумаги, и, просматривая их, они становились еще более озабоченными. Несмотря на всеобщее невнимание, прения шли своим порядком. Присяжные удалились для совещания. Принадлежащие к первому отделу скоро вернулись, и Девез прочел решение, объявлявшее, что все обвиненные, за исключением Луи Жозефа Авиа-Тюро, земледельца, признаются виновными. Президент приготовил смертный приговор, когда внезапно дверь отворилась, вошел агент Конвента в сопровождении жандармов и прочел Дюма декрет о его аресте.
В то же время осужденные услышали распространившийся в публике слух, что Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон также арестованы, и заметно было, что судьи и присяжные также были все бледны, как будто им только что прочли смертный приговор.
Луч надежды несколько облегчил их волнение. Один из всех, тут находившихся, Фукье оставался бесстрастным; что ему было за дело до господина, лишь бы ежедневная жатва была обильна) Он подал знак; трое присяжных преодолели свое волнение и произнесли приговор; жандармы увели осужденных. В темных коридорах, ведущих к Консьержери, они догнали сплошную массу, из которой слышались сдержанные рыдания. Это были 22 осужденных второго отделения, приговоренных к смерти, кроме одного: обе толпы смешались и продолжали спускаться. Они шепотом говорили о том, что слышали и ждали с трепетом, что товарищи их подадут им надежду на спасение жизни.
Перед ними открылась дверь и их втолкнули в зал, где они увидели несколько человек, ожидавших их — это были палач и его помощники.
Глава X 9 и 10 термидора
В прошлой главе я упомянул, что сомнение относительно действительных намерений Робеспьера, становилось для членов Конвента более страшным, чем была бы для них немедленная проскрипция.
Но искусное маскирование триумвиром своих действий должно было обратиться против него самого.
Первоначально противники его были друзья Дантона и Камилла; несколько депутатов, которым снисходительность его к 73 не дала забыть 31 Мая, и представители, на которых он нападал прямо вследствие образа действий их во время возложенных на них командировок. Его претензии на неподкупность, его драматические и решительные формы, приобретенный им авторитет, замечательные достоинства его как государственного человека, указывавшие на него для занятия первой роли, равно как и честолюбие его и презрение к предрассудкам правосудия и человеколюбия — все это доставило ему множество завистников; когда каждый опасался, что свобода их в опасности, равно как и головы их, — то и те и другие соединили свою вражду.
Во время отсутствия Робеспьера они множились числом и набрались смелости. Подстрекаемый Варрьером, Вадье нанес ему жестокий удар, о котором мы сказали выше. Робеспьер явился в комитет высказать свои жалобы; он завладел документами и унес их, и один член на требование Фукье этих документов для начала дела отвечал: «Мы не можем начинать процесса, он этого не хочет». Но такие аристократические приемы только с большей ясностью доказывали близость опасности; они обнаруживали, что угроза висела не только над теми, которые несколько раз нападали на него, но и над членами комитетов, которым ставилось в вину его отсутствие, одним словом над всеми, которые прямо или косвенно участвовали в приготовлении против него враждебных действий. Первые: Фуше, де Нант, оба Бурдона, Жавог, Жюфруа, Панис, Фрерон, Таллиен, Лежандр — уже поняли это; они сильно давили на своих товарищей, доказывая им, что если они даже откажутся от наиболее компрометированных, то это все-таки не спасет их самих. Таллиен был самый упорный; ему приходилось защищать две жизни: свою и любимой им женщины госпожи де Фентенуа, дочери банкира Кабаррюс, арестованной по непосредственному приказанию Робеспьера и которая из тюрьмы своей писала Таллиену: «Я умру со стыдом, что любила такого низкого человека, как вы».
Скоро почти вся Гора соединилась в одной мысли, что падение триумвиров, — ибо когда говорили о Робеспьере, то Сен-Жюст и Кутон всегда подразумевались, — признается необходимым для общего блага. Но тем не менее поддерживаемые членами, оставшимися ему верными, Робеспьер еще господствовал над собранием, и надо было обеспечить себе содействие этих членов.
Поле, как покорное стадо, довольствовалось тем, что втихомолку горевало об ужасах, при которых его заставляют присутствовать, но никогда негодование его не приняло размера даже самого почтительного протеста; эти немые были самые ревностные при подаче голосов в пользу Робеспьера и самые восторженные при рукоплесканиях ему. Того, непроницаемость которого всегда оставляла дверь открытой для надежды, они вероятно предпочитали Билло Варенном, Вуланом Амаром, провозглашавшим вечность этого железного века.
Фушье и Таллиен, взявшиеся склонить этих членов на свою сторону, принялись за дело со слабой их стороны — низости. Мужество умеренной части Конвента уничтожено было вместе с жиронденами; ни сожаления или угрызения совести, ни стыд или негодование господствовали над этими смутными симпатиями, — а самое простое из всех чувств человеческих, — боязнь. Им дали читать списки мертвых, в которых стояли имена самых влиятельных членов Поля; их убедили, что Робеспьер замышляет против них второе издание 31 Мая. Они долго колебались поддержать тех, которые намеревались вступить в схватку с триумвирами, но, по-видимому, на их решение имело весьма мало влияния та мысль, что первым результатом торжества будет разрушение эшафота. Когда вспоминали о гильотине, то у всех была только одна мысль — избавиться от чести появиться на ней.
Комитеты нанесли первые удары; они предложили в законе прериаля изменение несколько неопределенное, но которое при всем том устанавливало робеспьерское происхождение этого закона; они упразднили главное полицейское бюро, состоявшее под ведением Германа, и присоединили его к комитету общественной безопасности, — а также удалили из Парижа часть канониров, числящихся по отделениям, начальником которых был Генрио и взгляды которых были слишком на стороне Робеспьера.
И этот со своей стороны готовился к борьбе; он вызвал Сен-Жюста из армии и, доверяясь своему ораторскому обаянию на Конвент, он приготовил речь, которая должна была снять маску с его врагов и уничтожить их. 5 термидора попытка к соглашению в среде комитетов послужила лишь к тому, чтобы сильнее выказать господствовавшее между членами их несогласие; 6 и 7 взволновались якобинцы и восстали против направления противников Робеспьера, а 8 произошло между обеими партии первое столкновение.
Действия противников Робеспьера были, конечно, секретны: «Необходимо было хитрить с тираном, опиравшимся на популярность», — говорил Барриер. Совещания коалиции происходили втайне, тем не менее, народ как предчувствовал событие; в воздухе носились признаки борьбы, готовившейся разразиться. 8 термидора в Конвенте было огромное стечение публики. Она запрудила трибуны, заняла все коридоры и теснилась вокруг самого здания. Для публики ожидаемое зрелище было не просто турниром, а боем, и одним из тех, в котором решаются судьбы великого народа, смертельный поединок не только для противников, но и для зрителей.
После рапортов по прошениям разного рода Робеспьер взошел на трибуну и начал свою речь. Речь эта — усердный труд нескольких недель, тем не менее, была весьма темна: казалось, что он обдумывал ее так долго именно с целью запутать мысли того, кто должен был ее произнести. В ней содержался параграф о каждой из партий собрания; он льстит, возбуждает надежды каждой партии поочередно, говорит умеренным: «Я знаю только две партии — хороших и дурных граждан; патриотизм не может быть делом партии, а должен быть делом души; он состоит не в мимолетном увлечении, не уважающим ни принципов, ни здравого смысла, ни нравственности, а еще менее предании себя интересам одной партии. Изведав на опыте столько измен и предательств, я считаю необходимым воззвать к благородству и ко всем великодушным чувствам для защиты республики. Я чувствую, что везде, где встречаешь человека благонамеренного, — где бы он ни сидел, — следует протянуть ему руку и прижать его к сердцу». Вслед за тем, как бы опасаясь оскорбить сторонников революционной строгости, он обращается в их сторону и говорит: «Ослабьте хотя на короткое время удила революции, и вы увидите, что деспотизм завладеет ими, и главы партии ниспровергнут униженное представительство». Все это приукрашено было личной апологией, которую так привыкли находить во всех речах Робеспьера. Несколько далее он стремительно опровергает возведенное на него обвинение в том, что он метит на диктатуру; но переходя быстро от защиты к нападению, он вызывает вечный призрак заговора, избавивший уже его от самых опасных его противников и, не называя никого, после неопределенных намеков на представителей, возвратившихся из командировок, равно на комитеты, задев мимоходом Камбона, он требует от Конвента уничтожения мятежа и наказания предателей.
По мнению Робеспьера, эта речь должна, без сомнения, служить вступлением в другую речь Сен-Жюста, которому он предоставлял указать головы жертв, должных пасть.
Лекуентр, один из тех, которому угрожало это, потребовал, чтобы речь Робеспьера была напечатана; это значило бы дать ей санкцию собрания. Бурбон воспротивился этому и потребовал передачи ее комитетам, что подвергало ее критике тех самых, на которых сделаны были в ней нападения. Завязались прения: речь Кутона увлекла большинство собрания и решено было не только напечатать речь, но и разослать ее во все коммуны республики.
Такой результат испугал представителей, существование которых могло зависеть от подобной же подачи голосов, вызванной влиянием другой речи; они вспоминали слова Дантона, вспомнили, что могут спастись только одной смелостью, и впервые Робеспьер встретил не только сопротивление, но и прямые точные обвинения. Камбон заканчивает свое объяснение следующим образом: «Настало время сказать всю правду, один человек парализовал волю национального Конвента, этот человек, речь которого вы только что слышали, Робеспьер, и так судите сами!» Бильо-Варенн восклицает: «Надо сорвать маску, какое бы лицо не прикрывала она, я желаю лучше, чтобы труп мой служил троном для честолюбца, чем чтобы я молчанием своим стал невольным его сообщником». Шарлье говорит: «Когда хвалишься, что обладаешь мужеством добродетели, но необходимо иметь и мужество правды». Наконец Тицион говорит, что невозможно понять, каким образом один Робеспьер будет прав между всеми его товарищами, что все предубеждения в пользу комитетов и что весь Конвент рукоплещет и определяет отмену решения.
Ропот, грозный и язвительный, пробежавший по скамьям Конвента во время этой первой стычки, мог показаться Робеспьеру предвестником завтрашней бури, но он, по-видимому, смотрел на это, как на мимолетный каприз, еще более укрепляющий повиновение собрания. Возвратясь домой, говорит Луи Блан, он был совершенно спокоен, без всякого волнения судил он о заседании, о его результатах, и сказал: «Я ничего больше не жду от Горы. Они хотят избавиться от меня как от тирана, но большинство собрания выслушает меня». Потом он вышел прогуляться на Елисейские поля со своей невестой. Некоторое время они шли молча, сопровождаемые верным Брунтом. Элеонора была грустна и задумчива, Робеспьер заметил ей, что солнце, садившееся в то время, было необыкновенно красным. «Это предвещает на завтра хорошую погоду», — сказала она.
После этой прогулки Робеспьер отправился торжествовать к якобинцам. Он прочел там речь свою, принятую восторженными рукоплесканиями. Энтузиазм породил резолюции самые грозные, предложено было освободить Конвент, как было сделано 2 июня, с другой стороны коммуна Кофингала опережала даже решения господина своего и ускоряла волнения. С ее разрешения Генрио послал избранному отряду национальной гвардии приказание быть наготове к 7 часам утра.
Двое членов комитетов Коло — д’Эрвуа и Бильо-Варенн — присутствовали на заседании якобинцев и удалились оттуда совершенно ошеломленные. Возвратясь в комитетский зал, они застали там Сен-Жюста, который с обычной дерзостью своей занял позицию в среде неприятельского лагеря, чтобы лучше наблюдать за ним. Вот как г. Тулонжон рассказывает происшедшую тут сцену: «В то время, которое предшествовало возврату Коло д’Эрвуа и товарища его, Сен-Жюст оставался пишущим у стола заседаний с другими членами. В пылу завязавшегося между ним и Сен-Жюстом разговора он поспешно отодвинул начатое им писание. Такое движение возбудило подозрение. Его собеседники схватили бумаги, и нашли донос на них, тогда они овладели его личностью, заперли двери и решились держать его на виду и не прекращать заседание всю ночь. Он сам обязался не делать из своего доноса никакого употребления, но утром, в то время как собирался Конвент, обманул бдительность карауливших его и скрылся».
Ничтожность инициативы и решительности, выказанная комитетами, усилила решительность представителей Горы. Они ясно видели, что комитеты помогут им при атаке, но не протянут им руки, если на них нападут триумвиры.
Заседание Конвента началось в 12 часов. Комитеты еще продолжали свои совещания, когда им дали знать, что, нарушив данное слово, Сен-Жюст читает в Конвенте свой рапорт; он прочел несколько строк, как Таллиен остановил его.
Я предоставлю дальнейший рассказ «Монитеру», который лучше меня даст понятие о настоящей сцене, одной из самых замечательных в новейшей истории.
Таллиен: «Я требую слова для поправки. Оратор начал с того, что назвал себя не принадлежащим ни к какой мятежной партии. Я говорю то же самое. Я также принадлежу только свободе… Вчера один из членов правительства уклонился от нее и произнес речь от своего имени; сегодня другой поступает таким же образом… Я требую, чтобы завеса была окончательно разодрана». (Рукоплескания весьма сильные и в несколько приемов).
Бильо-Варенн: «Я требую слово для того же предмета. Вчера в обществе якобинцев развивали намерения перерезать все Национальное собрание; я видел там людей, изрекавших самые низкие хулы против тех, которые ни разу не уклонились от революции. Я вижу на Горе одного из произносивших эти угрозы. Вот он!» Со всех сторон раздаются крики: «Арестуйте! Схватите!»
Его хватают и увлекают из зала при взрывах рукоплесканий.
«Вы содрогнетесь от ужаса, когда узнаете, что военная сила вверена рукам отцеубийцы, когда вам станет известно, что на начальника национальной гвардии донесено революционным трибуналом комитету общественного блага как на сообщника Геберта и гнусного заговорщика.
Когда Робеспьер объявил вам, что удалился из комитета, потому что его притесняли там, он позаботился высказать вам не все. Он не сказал вам, что встретил в комитете сопротивление, когда захотел издать декрет 22 прериаля, который в руках избранных им должен был стать таким пагубным для патриотов.
Хотели уничтожить, разрушить Конвент, и намерение было так действительно, что представители народа, которых хотели умертвить, окружены были шпионами. Низко говорить о справедливости и добродетели, когда попираешь их, когда высказываешься вследствие препятствия или противоречия».
Робеспьер бросается к трибуне. Большое число голосов: «Долой, долой тирана!»
«Я только что требовал, чтобы завеса была разодрана, я вижу с удовольствием, что это уже исполнилось, что заговорщики обнаружены, что они скоро будут уничтожены, и свобода восторжествует. (Громкие рукоплескания).
Враг народного представительства падет под ее ударами. Я сохранял молчание о том, что знал от близкого к тирану человека, что он составил список осужденных им. Но я видел вчерашнее заседание якобинцев, я видел образование армии нового Кромвеля, и я запасся кинжалом, чтобы поразить его, если Конвент не будет иметь достаточно мужества, чтобы арестовать его. (Громкие рукоплескания)… Станем обвинять его с благодарным мужеством в виду французской нации. Призываю ко всем друзьям свободы, ко всем старинным якобинцам, ко всем патриотам, чтобы они содействовали спасению свободы».
В заключение Таллиен предложил, арестовать Генрио и его штаб, а Билло-Варенн — арестовать Дюма, Буланже и Дюфресса. Эти предложения приняты при сильных рукоплесканиях и криках: «Да здравствует республика!»
Робеспьер, видя, что очередь приближается к нему, требует слова, но напрасно, голос его покрывается криками: «Долой тирана! Долой диктатора!»
Двое из членов комитетов, Баррьер и Вадье, Говорили долго с целью унизить Робеспьера, но не более чем накануне имели они намерение свергнуть его. Таллиен понял опасность такого положения и воскликнул: «Я требую слова, чтобы возвратить прения к настоящему их предмету».
Робеспьер: «Я сам сумею это сделать». (Ропот).
Таллиен: «Граждане, в эту минуту я обращу внимание Конвента не на сторонние факты, а исключительно на речь, произнесенную вчера здесь и повторенную у якобинцев. Там увидел я тирана, там увидел и весь заговор. В этой речи при содействии истины, справедливости и Конвента я найду орудие для того, чтобы побороть его, этого человека, которого добродетели и патриотизм столь много превозносились, но которого в памятную эпоху 10 августа увидели только три дня спустя после совершения революции; этого человека, который должен быть в комитете защитником угнетенных, оставил свой пост, чтобы явиться клеветать на комитеты, спасавшие нашу родину».
Атакованный этим, как ему известно было, безжалостным противником, Робеспьер теряет свое хладнокровие; он прерывает Таллиена криками и угрозами своими, чтобы добиться слова; собрание ропщет, и один из членов Горы, Луше, покрывая голосом своим шум и говор собрания, произносит эти слова, на которые никто еще не решался: «Предлагаю декрет об аресте Робеспьера».
Лозо: «Положительно доказано, что Робеспьер стремился к господству. Я на этом одном основании предлагаю арестовать его».
Луше: «Мое предложение поддерживают, следует отобрать голоса».
Робеспьер-младший: «Я также виновен, как и брат мой, я разделяю его добродетели, я требую подобного же декрета и против меня».
Робеспьер-старший: «Президент разбойников, предоставь мне право говорить или объяви мне, что ты хочешь зарезать меня».
Президент Коло звонит в колокольчик; Шарль Дюваль обращается к нему: «г. Президент, разве один человек может быть господином всего Конвента?»
Робеспьер, бледный и разъяренный, хочет прервать Бильо-Варенна, занявшего на трибуне место Таллиена, но старания его победить шум напрасны; от усталости ли или от волнения он издает лишь непонятные отрывистые звуки.
«Кровь Дантона душит тебя!..» — кричит ему Гарнье де-Сент.
За этим страшным восклицанием воцаряется молчание, и Робеспьер пользуется им: «Вы низкие люди!» — говорит он Горе, и, обращаясь к остальной части собрания: «К вам, людям непорочным, к вашей добродетели, обращаюсь я, а не к разбойникам…»
Тюрио, другой дантонист, занявший президентское место, после Коло д’Эрбуа, звонит и не дает Робеспьеру продолжать. Со всех сторон раздаются крики: «Арестовать, арестовать!»
Арест пускается на голоса и принято единогласно. Луше: «Мы подавали голоса за арест обоих Робеспьеров, Сен-Жюста и Куттона».
Лебо: «Я не хочу быть участником такого гнусного декрета, я требую, чтобы арестовали и меня». Фрерон: «Граждане сотоварищи! В этот знаменитый день отечество и свобода воскреснут из развалин своих».
Робеспьер: «Да, ибо разбойники торжествуют». Это было его последнее слово в Конвенте. Сознание господства своего над собранием было в нем так сильно, что он, по-видимому, не верил действительности всего происходившего. Несмотря на принятые декреты, несмотря на приказания Тюрио, оба Робеспьера, Сен-Жюст, Куттон и Лебо оставались на своих местах; крики негодования заставили их сойти с них, служители вывели их из зала и проводили оглушительными рукоплесканиями.

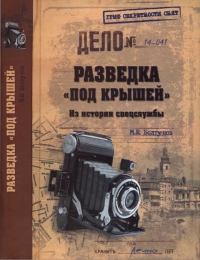


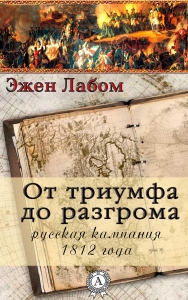
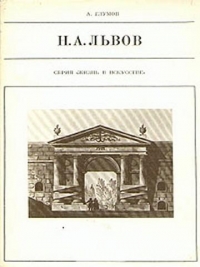

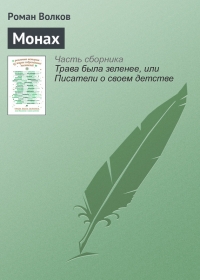
Комментарии к книге «Записки палача, или Политические и исторические тайны Франции, книга 2», Анри Сансон
Всего 0 комментариев