Александр Анненский Фанера над Парижем. Эпизоды
Середина 90-х, Испания, побережье Малграт де Мар
Надо было сделать усилие и открыть глаза. Сказать, что Алексу не хотелось этого делать, значило бы не сказать ничего. Хотя сыроватый еще после ночи крупный песок пляжа и заставлял время от времени инстинктивно менять положение, чтобы не простудиться, глаза при этом все равно оставались закрытыми, давая возможность пребывать в волшебном промежутке между явью и сном, выбираться из которого не имело никакого смысла. Спокойный размеренный шелест волн позволял представлять себе все, что было угодно, никак не лимитируя фантазию, а только что появившийся за морем красный кружок пиццы-солнца начинал уже несильно греть кожу, отчего томящая полудрема ощущалась еще больше.
В эти утренние часы длинный пляж, которым оканчивалась череда разновысоких отелей, был еще пуст, если не считать нескольких грязноватых чаек, роящихся в спутанных пучках выброшенных морем водорослей, да двух работяг в желтых комбинезонах, лениво утюжащих на минитракторе прибрежную полосу, делая вид, что очищают ее от накопившегося за вчерашний день мелкого хлама. Чайки пытались обогнать негромко урчащий трактор, забегая прямо перед его ковшиком, чтобы успеть подхватить потревоженные водоросли первыми, и одному из рабочих пришлось в конце концов спуститься с подножки и идти рядом, отчаянно махая на птиц пустыми пакетами для мусора, для убедительности снабжая и без того выразительные жесты крепкими испанскими словечками. Любопытно было бы узнать, насколько они совпадают с русскими аналогами, произносимыми в таком случае, но это было нереально – никого, кто бы мог адекватно перевести Алексу испанский мат, поблизости, естественно, не было. Птицы же, будучи местными, наверняка понимали адресованные им пожелания, но предпочитали этого не афишировать.
Вставать с песочного лежбища, уютно продавленного его сотней килограммов через велюровое пляжное полотенце, надо было так или иначе – скоро в его отеле начиналась процедура завтрака. Что он возьмет сегодня с более менее приличного для трехзвездочного отеля шведского стола – конечно, все, что вредно, – масло, нет, даже два двадцатиграммовых брикетика, ветчину, слегка резиновую, но, в общем, съедобную, сыр, омлет или сосиски… сосиски или омлет… нет, пожалуй, просто яйцо, помидорину, рыбу – если будет, конечно, что вряд ли. Выбор тут был, разумеется, далек от, например, внезвездного Steigenberger в Дюссельдорфе, где он жил как-то, сопровождая хамоватого татарина-нефтяника с его семейством – женой и парой дочерей. Ага, точно, тот попросил еще устроить девчонкам посещение вечером какой – то модной полузакрытой дискотеки, а на следующий день те пожаловались папе, что их так и не пустили… Кто же был виноват, что блядовитость обеих так и светилась на размалеванных физиономиях. А Алекс-то, как идиот, ходил туда днем объяснять, что вечером сюда пожалуют дочки настоящего миллионера из России… Вспомнилось, как тот поц, видимо, неожиданно для себя самого в результате приватизации оказавшийся владельцем какой-то татарской скважины, при которой раньше просто служил наемным директором, величественно отпускал его, Алекса, мановением руки, как личного шофера – «на сегодня свободен…». Самодовольный говнюк. Мысли путались, и все время хотелось опять уснуть.
Чьи-то шаги по песку пустого пляжа, не сами шаги, а звук постукивающих о босые пятки сандалий, все же заставил Алекса, потянувшись, открыть глаза. Ветерок с моря, лаская физиономию, уже предвещал очередной, не по-осеннему теплый день и надо было заканчивать валять дурака. Почему, впрочем, было надо – и кому? Ему – так нет, он, собственно, и оказался тут в не сезон для того, чтобы хоть временно избавиться от преследующего всю жизнь гнусного слова – надо… Что собственно надо ему – идти завтракать? А если не идти – что изменится? Через час захочется есть – ну и что, он пойдет на набережную и купит себе эти вкусные кусочки маринованного мяса на деревянных шпажках – пинчос и дешевое – по сравнению с Германией – виски в магазинчике рядом с его отелем. и все опять станет спокойно и хорошо. хорошо и спокойно… Недорогое виски имеет способность быстро нивелировать любые проблемы. Никто не знает, что он сейчас в Испании, главное – не знает жена, а его хэнди вынключен… Пусть поищет… Только ведь она не станет, наверное… Боже мой, когда-то же это кончится, когда-то все это обязательно должно кончиться. Если бы еще точно определить для себя – хочет ли он на самом деле, чтобы все это так и случилось?.. Или это так, обычное словоблудие. Если бы это было возможно, жизнь была бы другой, была бы совсем другой…
Высокий высохший старик шел медленно, с остановками, и Алекс не сразу даже понял почему. Лишь приподнявшись на локте и приглядевшись, он сообразил, что у того поверх рваной майки и шортов с бахромой змеится провод, раздваивающийся под подбородком на два обшарпанных наушника, комично удерживающихся на спутанных, давно нечесаных волосах. Другой конец провода уходил в длинную металлическую пал ку с коробочкой и полым кольцом на конце, которой старик тяжело водил перед собою из стороны в сторону, задевая песок. На плече висела грязноватая холщевая сумка с изображением головы Христа. Из-под одного из треснувших наушников, кое-как замотанного изолентой, можно было расслышать высокий ноющий звук, меняющийся в зависимости от положения кольца над песком. Было очевидно, что это допотопный металлоискатель, и его владелец внимательно вслушивается в возникающую полифонию тонов.
Старик поднял на Алекса глаза и постарался улыбнуться. На натянутой, задубевшей от морской соли и солнца смуглой коже проступила паутина глубоких морщин. Люди на юге становятся к старости матрицей прожитой жизни. Сейчас он поздоровается, последовательно переходя с одного языка на другой, ожидая реакции, присядет рядом и начнет говорить… А потом что-нибудь попросит… Для начала, возможно, протянет руку и назовет свое имя и придется руку эту пожать…
Когда-то, в другие времена, они с женой были в турпоездке в ГДР, и пожилая немка-гид по ошибке вместо очередного замка завезла их в другой, похожий, в котором, как выяснилось, теперь располагалась психушка. Когда не сразу сообразив, куда, собственно, они попали, и кто эти люди, чинно гуляющие в пижамах по аллеям неухоженного парка, «гидша», спохватившись, судорожно начала созывать разбежавшуюся по парку тургруппу в автобус, было уже поздно. Группа пациентов с разной степенью дебилизма в глазах собралась у дверей автобуса с иностранцами и преданно потянулась к редким гостям прощаться. Чтобы войти в автобус, нужно было пройти через строй вежливо улыбающихся людей в пижамах и каждому непременно пожать руку, откликаясь на вежливое немецкое «ч-у-у-с», что значило – «пока». Альтернативы не было – можно было, конечно, рискнуть и попытаться прорваться к двери, прижав руки и не останавливаясь, но это вполне могло вызвать адекватную реакцию со стороны вежливых хозяев территории. Стало немного страшно. Из их тургруппы поступить таким образом не рискнул никто – все, сцепив зубы, пожимали влажные ладони психически больных, стараясь максимально сократить по времени эту процедуру и мыча в ответ этот самый непонятный тогда «ч-у-у-с», ставший, спустя годы, таким привычным в их семье.
Но мысленно уже набросанный Алексом порядок развития событий сейчас неожиданно оказался нарушен – сделав очередное раскачивающееся движение, старик чуть вздрогнул от резкого изменения тона в наушниках. Даже Алексу через треснувший наушник было слышно, как прибор вдруг буквально запел на высокой ноте. Старик еще раз медленно повел металлический штырь из стороны в сторону, локализуя место, над которым сигнал был самым сильным, и замер. Потом поднял глаза и посмотрел куда-то назад, на единственный поблизости четырехзвездочный отель, перевел взгляд прямо на Алекса, словно ожидая реакции этого толстого иностранца на поведение своего обшарпанного детектора. Рабочие на своем уборщике успели уехать далеко вперед, и сейчас на всем ближайшем пространстве утреннего пляжа они были одни.
Алекс тяжело приподнялся и встал; заныла поясница – час на влажном песке, холод которого легко проникал через полотенце, явно не улучшил ее состояния. Старик, уже не обращая на него внимания, осторожно положил металлический штырь с кольцом, стянув с головы наушники, присел на корточки. Покопавшись в холщевой сумке, он извлек какое-то металлическое устройство, напоминающее маленький лоток с дырками, и подцепив им верхний влажный слой песка, стал медленно просеивать его, разминая плохо гнущимися пальцами падающие комочки.
Шестидесятые годы, Москва
Пытаясь вспомнить то время, очень быстро понимаешь, что целостной картины детства, школы, сейчас в голове уже не осталось. Так, отдельные вспышки, словно выхваченные мощным кинематографическим ДИГом из пелены, куда ушло уж совсем давнее прошлое. Впрочем, если суммировать, то кусочки эти все равно складываются в некую общую мозаику, дающую представление о том, как все это было тогда. Мы уже жили в многоэтажном доме на Профсоюзной, считавшейся главной магистралью знаменитого на всю страну столичного района Черемушки. Прямо под окнами располагался автобусный круг, с которого отправлялись по району рейсовые автобусы – смешные сегодня коробочки с узкими окошками. Выходя из плохо покрашенного подъезда, в котором на первом этаже то и дело хлопала тяжелая серая дверь лифта, можно было свернуть налево, в большую арку и тогда оказаться сразу на широкой улице, прямо у аптеки. Рядом был еще мебельный магазин, в который люди заходили, главным образом, чтобы повздыхать – даже немногие деревянные уродцы, выставленные тут в качестве образцов, приобрести сразу было нельзя – надо было выстоять долгую очередь у себя на работе и дождаться желанной открытки, на что подчас уходили годы. Пятачок перед деревянной дверью небольшой аптеки часто становился местом для милых забав ребят из нашего большого двора. Собственно, круглый год вариант был один и назывался он «гуманок», но в деталях, в зависимости от дня недели, можно было проявить фантазию. Главным было добыть в очередной раз где-нибудь пусть потертый, но все же не утративший своих родовых признаков пустой кошелек или портмоне. Как правило, кто-то утягивал столь необходимый предмет из дома, приобретая, таким образом, право на лидирующую на сегодня роль. Затем предстояло, как сказали бы в наши дни, промониторить окрестные газоны и двор в поисках основного составляющего действа – свежих собачьих экскрементов… Их следовало палочкой затолкать в кошелек таким образом, чтобы его очевидная припухлость будила в обнаруживших находку радужные надежды. Дальше, в зависимости от погоды и наличия времени, ситуация могла развиваться по двум направлениям, доставлявшим, впрочем, всем принимавшим участие в очередном психологическом эксперименте местным пацанам равное моральное удовлетворение. Можно было сразу незаметно уронить кошелек рядом с аптечной дверью, то и дело пропускавшей на улицу покупателей, и просто затаиться на газоне за ближайшими деревьями. В этом варианте оставалось ждать совсем недолго, наблюдая, кому из прохожих повезет первому… Наткнувшийся на ценную находку, оглядываясь, тот осторожно поднимал с асфальта найденное сокровище и, прикрывая спиной его от других прохожих, торопливо запускал туда пальцы, желая побыстрее узнать степень своего сегодняшнего везения. Медленно меняющееся выражение его лица служило потом поводом для обсуждения минимум пару дней. Второй, более технически изощренный вариант, состоял в том, что к плотно набитому кошельку привязывалась тонкая, почти незаметная нитка, позволяющая одному из команды в самый последний момент, слегка дернув, увести предмет вожделения у прохожего из под самого его носа. Не сразу сообразив, в чем дело, он удивленно оглядывался, а потом, пытаясь не обратить на себя внимание окружающих, начинал незаметно ловить прыгающий кошелек ногой, что продлевало нам удовольствие. Когда же после двух или трех неудачных попыток ему это удавалось, он с удовлетворением брал его в руки, предвкушая всю ценность победы над силами природы, и открывал – организаторы акции испытывали особое удовольствие от издаваемых им на всю улицу матерных криков восторга. Потом надо было выжидать минут десять, пока на отброшенный кошелек не обращала внимание новая жертва.
Еще одним развлечением, позволяющим скрасить после-школьное время, были игры в расшибалочку и догонялочку, привлекавшие в одинаковой степени как мальчишек из «приличных» семей, вроде меня, так и дворовое хулиганье. Суть первой заключалась в попытке перевернуть одну из лежащих на асфальте монет, попав по ее ребру другой, а по правилам второй надо было прицельно бросать выплавленную дома тяжелую свинцовую шайбу, стараясь попасть на асфальт таким образом, чтобы до искомой монеты можно было дотянуться максимально растопыренными пальцами руки. Тут, кроме глазомера, нужно было обладать известной гибкостью ладони, позволявшей покрыть максимальное расстояние между битой и лежащими на земле монетами. В случае неудачи эта история могла обернуться немалыми финансовыми потерями.
Сама по себе учеба в школе номер восемнадцать, до которой каждое утро надо было идти мимо кинотеатра «Молния» с меняющимися афишами над входом, особого удовольствия не доставляла. И сейчас, пытаясь мысленно вернуться в прошлое, вспоминаешь лишь то, что было связано с самим процессом учебы косвенно. Например, прямо перед школой было расположено большое незастроенное тогда поле, заканчивающееся лентой каменных гаражей, крыши которых были покрыты черным толем. Идти гулять «на гаражи» строго запрещалось, и потому всегда было желанным вариантом – с них можно было, рискуя нарваться на железяку или подвернуть ногу, прыгать в сугробы, прятаться и вообще ощущать себя где-то очень далеко от опостылевших уроков. Однажды, морозной зимой, мама везла меня через это самое поле на санках, а из каких-то подсобных сарайчиков, тоже ютившихся возле гаражей, навстречу выскочила тройка симпатичных поросят. Закутанный в обезьянью шубку и шарф, я начал им громко похрюкивать (каковой способности не лишился и до сих пор) и к моему, и маминому глубочайшему удивлению был принят за своего. Они пошли за нами до самого конца поля и грустно остановились только у начинающегося перед «Молнией» асфальта – поклонниками кинематографа они явно не были. Пожалуй, это был первый случай, когда я реально ощутил среди окружающих живых существ по-настоящему понимающие души…
А еще к нам в громадный московский двор время от времени заезжал настоящий старьевщик. Он сидел на телеге, в которую была запряжена худая спокойная лошадь и, дождавшись сбегающихся дворовых мальчишек, откидывал краешек большой тряпки, прикрывающей собранные за сегодня ценности, и начинал неспешную торговлю. Убей, что бы я вспомнил, что именно он ждал от нас – поношенных домашних вещей, пустых бутылок или что-то еще. – не помню. А вот то, что расплачиваться он был готов множеством крайне полезных вещей, приобрести которые где-то в ином месте было абсолютно нереально, в памяти осталось. Например, в обмен на некие ненужные «ценности» можно было при усилии заработать большой пугач из непонятного материала, имитирующего алюминий, реально громко стрелявший какими-то патрончиками или пистонами. Правда, за него (это запомнилось) того самого, чего он ждал, надо было принести очень много, и потому такая вещица для большинства ребят была почти недостижима.
В нашем дворе жила большая часть нашего класса, включая почти всех достойных внимания девчонок. В противоположном подъезде – через двор – обитала Лариса Власова. Спустя уже приличное число лет после школы, было у нас с ней что-то вроде романа. Закончив Инъяз, она работала в Интуристе и несколько раз проводила меня в абсолютно изолированный в те времена для публики отель на улице Горького, сегодня уже снесенный вредителем, многие годы занимавшим пост московского мэра. Тогда это был абсолютно закрытый валютный мир, куда доступ советским людям был практически закрыт; мы сидели с нею в баре на втором этаже, и через большие панорамные стекла была видна и тогда уже круглосуточно бурлящая главная улица столицы. Позднее я затащил ее в правительственный загородный пансионат «Лесные Дали», куда имел изредка доступ, благодаря знакомству с сыном первого замминистра высшего образования Красновым. И мы все-таки оказались в министерской постели на отдельной большой даче для особо ответственных, положенной заму союзного министра – четкая градация существовала и внутри огороженной территории пансионата. Однако идти до конца она все же не решилась, а потому мы, проведя ночь вместе, так и остались вроде как бы просто школьными друзьями. Через дом жила еще одна девочка, достойная внимания. Ее звали Ира, а фамилия была ну очень знаменитой – Косиор. Был такой первый секретарь ЦК компартии Украины, активный инициатор репрессий, в тридцатые годы – член всего, чего было можно, включая Президиум ЦИКа, и сам же впоследствии расстрелянный соратниками. В их небольшой квартире на втором этаже такого же дома, как наш, все крутилось вокруг Иркиной баб ушки, его вдовы, отбывшей ссылку в Казахстане, которой теперь, спустя десятилетия, полагались всякие льготы за сгинувшего партийного лидера. Строгая, всегда в наглухо застегнутом платье с воротничком-стойкой она одним своим появлением могла заставить гостей приумолкнуть и более или менее убедительно изображать почтенное внимание. С Ириной у меня тоже что-то, кажется, было – но тоже не слишком удачно. В соответствии с бабушкиным воспитанием она берегла себя для замужества. Мораль – неумно пытаться изменить статус школьных подруг на подруг просто – во всяком случае, если не планируешь на них жениться. Уже работая в АПН, я как-то в экстренной ситуации пригласил ее в командировку в Алма-Ату в качестве переводчицы в киногруппу. Она тоже заканчивала Инъяз. И имел потом втык за то, что привез свою любовницу, толком не знающую языка. Было бы, конечно, куда менее обидно, если бы не только второе утверждение соответствовало действительности.
На днях, случайно встретив знакомую фамилию в Интернете, я позвонил ей из Германии – спустя по меньшей мере четверть века – и она узнала голос. Живет в том же районе, правда, в другом доме. Преподает немецкий в школе, муж – физик, профессор, двое взрослых детей и уже годовалая внучка – ну просто ужас какой-то: Киса – бабушка.
К школьным временам относится и запомнившаяся первая попытка отстоять собственную точку зрения. Было это в четвертом классе. Увлекшись астрономией, я к тому времени пересмотрел множество популярных книжек об устройстве всей небесной механики и познании ее человечеством, начал зачитываться фантастикой, связанной с космосом, и ощущал себя абсолютно уверенно в этой области. Поэтому, когда на очередном уроке географии немолодая уже и, как выяснилось, не страдающая излишком образования, наша географичка, рассказывая о строении солнечной системы, вскользь сообщила классу, что солнце – это планета, я уже не смог сдержаться. На перемене я предельно вежливо проинформировал ее, что солнце – это совсем никакая не планета, а звезда. Географичка покраснела.
– Ты, Саша, самый умный, да? – она старалась говорить потише, чтобы не услышали другие. – Тебе чего – что-то непонятно? Я же, кажется, ясно сказала, что солнце – это планета, но самая главная. И твое мнение по данному вопросу мало кого интересует, – она уже начинала закипать. – Ты что, умнее педагога себя считаешь, да?..
Поскольку подтверждение этого логичного предположения могло бы привести к непредсказуемым последствиям, я на всякий случай отошел. А на следующий день, захватив из дома книжку, остановил учительницу в коридоре.
– Вот… – я торжественно развернул солидный иллюстрированный том. – Вот, посмотрите… тут написано: «Солнце тире звезда». Потому что планета светит отраженным светом, а звезда всегда своим.
От такой наглости географичка даже прислонилась к стене.
– Убери свою книжку, умник, и больше никогда не смей приносить ее в школу. Будет всегда так, как я сказала. А ты… ты в четверти у меня получишь… – она не договорила, потому что у классной двери уже собирались ребята, с любопытством прислушиваясь к нашей беседе.
Осознание, что даже абсолютно объективная истина в этой жизни вовсе не обязательно является очевидной для всех, произвело на меня тогда сильное впечатление. Правдой, оказывается, автоматически становилось то, что утверждал собеседник, занимающий более высокое положение. Я решил тогда, что, когда вырасту – сам никогда не буду настаивать, что есть только две точки зрения по любому поводу – моя и ошибочная. Теперь, анализируя, удавалось ли мне это, могу честно сказать – не знаю… возможно, нет… Но я действительно старался.
К временам далекого теперь детства относится и история с первой неосуществившейся мечтой. Однажды на излюбленном пятачке перед нашей аптекой я увидел чудо. На меня прямо по тротуару, сверкая включенными фарами, сам по себе двигался небольшой яркий автомобильчик, за рулем которого сидел мой ровесник. Небрежно развалившись, он время от времени распугивал нервно расступающихся прохожих громкими гудками, извлекаемыми из хромированного клаксона на стойке, и, очевидно, где-то внизу двигал велосипедными педалями, заставляя машину катиться сравнительно ровно. За автомобильчиком шла небольшая толпа ребят и взрослых, возглавляемая гордой мамой мальчика. Ничего подобного ни я, сын уже тогда известного в стране кинорежиссера, никто другой из нашего двора никогда еще не видел. До выпуска автозаводом АЗЛК танкообразного детского педального автомобильчика «Москвич», мало чем отличающегося от основной продукции автопредприятия, оставались еще годы, и эта штука была явно привезена из заграницы, судя по яркому дизайну, вполне вероятно, аж из самой Америки. С тех пор обладание подобным авто стало на ближайшие несколько лет основной целью моего существования. Я представлял, как подкатываю к нашему подъезду, куда там отцу на его «Победе» или студийном «Бьюике» с откидными палочками-поворотниками, – и гордо останавливаюсь в нескольких сантиметрах от крыльца, давя на громкий гудок и вызывая завистливые вздохи всего дворового сообщества. И сегодня еще, науправлявшись уже на дорогах множества стран всем, что двигается, от грузовиков до мерседесов различных моделей, я бы, наверное, с удовольствием променял бы любой из них на то сверкающее чудо из детства. Поставил бы в кабинете на полу перед стенкой с книжками и время от времени просто осторожно касался бы отполированного бока. Не случилось – как и многое другое.
В то время государство не любило переписываться со своими гражданами, и если какая-то официальная бумага вдруг обнаруживалась в почтовом ящике – значит, дело было достаточно серьезным. Именно так прореагировала наша семья, когда однажды отцу принесли стандартную повестку из военкомата с предписанием немедленно явиться туда, имея с собою ложку, кружку, смену белья и что-то еще столь же угрожающее. Он работал над очередной картиной – это была, кажется, «Княжна Мери», а может быть, уже и «Екатерина Воронина», да и возраст его был уже далек от призывного, так что мы переполошились ужасно. Отец уехал рано утром и не звонил в течение всего дня. Мы с мамой не находили себе места, слоняясь по квартире и строя ужасные планы сиротливой жизни без главы семьи. Наконец, когда рабочие часы всех учреждений уже истекли, мы не выдержали и спустились вниз, во двор. Казалось, на улице время пойдет быстрее. И тут наконец подъехала наша «Победа», и из машины вышел улыбающийся Исидор Маркович. Оказалось, вызывали его только для того, чтобы объявить о снятии с воинского учета по возрасту, а задержка была связана с тем, что военные не захотели отпустить известного режиссера без подробного рассказа о его кинофильмах. Ощущение страха однажды остаться вдруг без любимого человека врезалось тогда в детскую память надолго. Может быть, поэтому я впоследствии так тяжело переживал развод родителей и старался, как мог, восстановить то, что восстановить, очевидно, было невозможно.
Пришел день, когда я, упершись, заявил дома совершенно официально, что в школу я больше не ходок – терпеть все эту дребедень сил больше не было. Мне было, например, плевать на все тангенсы вместе с котангенсами – даже сегодня эти непонятные слова вызывают рвотный инстинкт, а, чтобы пол учить хотя бы тройку по алгебре или тригонометрии, надо было как минимум уметь отличить один от другого. Это оказалось выше моих сил – или, вернее, столько этих самых сил мне было обидно тратить на то, что, как было абсолютно ясно, в жизни мне никогда не пригодится. Однако тихая ненависть к советской школе вовсе не означала, что я не хотел учиться дальше – будущее было для меня очевидным – я хочу стать кинорежиссером как отец. А без ВГИКа это было невозможно.
Надо было что-то делать, и после скандалов и уговоров родилось логичное решение – устроить меня на работу. Таким образом, решались сразу две важные задачи – я оказывался и при деле, и начинал зарабатывать крайне важный в то время двухлетний производственный стаж, дающий основание для поступления в вуз по льготным по сравнению с выпускниками школ спискам. А получить аттестат о среднем образовании можно было параллельно работе в популярной тогда так называемой вечерней школе рабочей молодежи.
Однако оказалось, что существует проблема, препятствующая реализации этого замечательным плана, и проблема весьма серьезная. Ждать я не желал, а по существующему в СССР законодательству дети не могли официально работать на производстве до достижения ими хотя бы пятнадцати лет. Как и всегда помог отец. Он позвонил знакомому заместителю гендиректора «Мосфильма» Осману Хасановичу Караеву, и уже совсем скоро состоялось специальное решение фабричного комитета (фабкома) о моем зачислении на киностудию в качестве ученика радиомонтажера. Таким образом, я оказался, наверное, одним из очень немногих молодых людей в Москве, официальный рабочий стаж которых начался в советское время еще в четырнадцать лет, чем впоследствии всегда гордился.
Попав в «большое кино» – большое в буквальном смысле – Мосфильм уже тогда был одной из крупнейших киностудий на континенте – я с любопытством изучал бесчисленные коридоры и закоулки студии, заглядывал в гигантские павильоны, где шли съемки и находились производственные цеха. Причем делал это с куда большим энтузиазмом, чем те задания, которые мне поручали. А они сводились к пайке оторвавшихся проводков в радиосхемах, что наскучило мне довольно быстро. Запах канифоли раздражал глаза, а однообразность процесса мало чем отличалась от надоевших школьных занятий. Оценив мой угасающий энтузиазм к такой работе, руководство звукоцеха, куда я был официально направлен, перевело меня на другой участок – в шумовой кабинет тонстудии. Именно там и прошли мои два с половиной года работы на Мосфильме.
Сама эта работа была уникальна, о чем я впоследствии не преминул тиснуть статейку в популярную тогда в стране газетку «Советское Кино». Называлась она «Хозяева шума». Принявшие меня две дамы – толстенькая веселая, похожая на колобок Аллочка Мейчик и длинная сухая Ирина Кислова, перенесшая всю нерастраченную нежность незамужней девы на появившегося поблизости подростка, учили меня шумовому озвучению картин. Вся создаваемая на студии продукция непременно проходила через наш «шумовой кабинет». Морской прибой, возникающий при наклоне длинного ящика с сухим горохом, и скрип калитки, рождающийся от проворота с нажимом деревяшки в деревянной же колоде, смачная пощечина, возникающая на экране от шмяканья кочана капусты о булыжник, и цоканье копыт – подкова о камень – по брусчатке. Все это синхронно под изображение делали мы, глядя на идущий на кольце ролик с очередным эпизодом. Главным было, чтобы в момент записи в изолированном ателье не возникли посторонние шумы – к примеру, не заурчало в животе плохо позавтракавшего шумовика. Коллекция шумотеки студии была тогда крайне скромной, и сегодня, спустя много десятилетий, при просмотре старого фильма вдруг внезапно вспоминаешь, что это звяканье кандалов героя было, кажется, сделано мною куском металлической цепи, а скрип качающегося на ветру старого фонаря родился от подрагивания на весу пустого ведра. Все новые картины, правда, по кусочкам и, как правило, без реплик актеров, мы смотрели первыми, еще на стадии монтажа, и могли оценить, что ждет зрителей через три – четыре месяца после завершения работы. Словом, деятельность оказалась действительно творческой и очень интересной. Незаметно пробежал год, начался второй.
Параллельно я пошел учиться, как и собирался, в вечернюю школу – она находилась прямо напротив студии. Окна классов выходили на громадный участок правительственных дач за высоким каменным забором, существующий и сегодня, и прозванный народом поселком «Ленинские заветы». Летом, минимум два или три раза в неделю, было хорошо слышно, как там кто-то после очередного хрущевского приема громко командовал через динамики: «Машину военного атташе Норвегии – к подъезду!» Или «Машину посла Японии – к подъезду!». Что-то похожее по тональности промелькнуло потом в эпизоде «Июльского дождя» у Хуциева. Через год я получил свидетельство об окончании девяти классов – главным образом благодаря классной руководительнице Ате Андреевне, преподавательнице ненавидимой мною математики, сразу сообразившей, что ее наука не является предметом, которому предстояло определить мою судьбу, и очень спокойно, без обид, это обстоятельство воспринявшей. Я ей был бесконечно благодарен за это понимание. Однако для поступления в институт нужен был аттестат о среднем образовании – а это означало еще год зубрежки. Выход нашелся – к тому времени в Москве появились платные девятимесячные курсы по подготовке к экзаменам на аттестат экстерном. После их окончания группы обучавшихся прикрепляли к какой-нибудь средней школе, где местные преподаватели после экзаменов и выставляли оценки. Поскольку по определению считалось, что за девять месяцев нельзя полноценно освоить программу, было указание – оценок выше тройки не по одному предмету курсистам не ставить. Большинству окончивших курсы – людям, в основном, уже куда старше меня, в силу разных причин не получившим в свое время среднего образования, – нужен был лишь сам аттестат – независимо от указанных там оценок. Мне же по молодости показалось обидным, что законная тройка по математике будет соседствовать с такой же тройкой по литературе и русскому, о чем я и не преминул сообщить удивленным моей наглостью преподавателям. Сообразив, что я таким образом обозлив педагогов, могу испортить жизнь остальным курсистам, мне несколько работяг из группы быстренько пообещали устроить темную – сразу после экзаменов, прямо в школьном дворе. Аргумент показался мне достаточно убедительным, я плюнул на всю глубокую несправедливость бытия в лице недостойной оценки по любимому предмету и на всякий случай ретировался после экзаменов пораньше и черным ходом. Как потом мне рассказали лояльные соученики, с моей стороны это было сделано весьма мудро и уже тогда свидетельствовало о явном наличии глубоких аналитических способностей. Другими словами, когда вербально обещают набить морду, есть смысл в это поверить, не дожидаясь более весомых доказательств. Так что в валяющемся где-то аттестате об окончании средней школы у меня стоят исключительно тройки, правда, компенсируемые крупной надписью – «экстерном».
Конец шестидесятых, Украина
…Наверное, у меня все будет вполне прилично. Нет, не здесь – хотя и это не хотелось бы исключать. А ТАМ. Потому что я однажды сделал Доброе Дело. Возможно, конечно, и не однажды. Даже вполне вероятно. Нет, даже почти наверняка. Просто все остальное прошло мимо моего внимания, не отложилось в памяти – да и, слава Богу. А вот тот случай, когда мне, совсем еще мальчишке, удалось реально помочь человеку, помнится до сих пор, хотя с тех пор прошло уже ни много ни мало – больше сорока лет.
Все мы жили тогда в довольно странном государстве, лидеры которого на полном серьезе были убеждены в том, что достаточно повелеть однажды верить в единые ценности туркмену и эстонцу, и символом страны сразу станет знаменитый фонтан «Дружбы народов» на ВДНХ. Сама мысль о том, что при первом же ослаблении железного обруча власти, стягивающего в единую страну, как давно пересохшую бочку, целые народы, тара эта развалится на отдельные, не слишком притертые друг к другу дощечки, и прольется из нее вовсе не вино, а нечто совсем иное, выглядела невероятной. Были у такой организации народного бытия и вполне очевидные преимущества – повсюду существовала по своему логичная и жесткая вертикаль власти. Нынешний «национальный лидер», пытаясь выстроить что-то похожее, не понимает, что при существующих теперь пусть лишь зачатках демократии и приобретенных уже первичных навыках самостоятельного мышления, основываться лишь на страхе перед начальством невозможно. К целесообразности своей реальной ответственности – но вовсе не от вышестоящих, а от окружающих – люди должны придти сами через нормальное гражданское общество. Тогда же существовавшая система была удобна потому, что действовала по единым примитивным правилам, изучив которые в одном месте, можно было смело рассчитывать на успех в любом другом. Скажем, любое публичное выступление центральной газеты по тому или иному поводу неизбежно приводило к незамедлительной попытке властей так или иначе вмешаться в описанную ситуацию, наказать виновных, а маленькая заметка в самой «Правде» была уже судебным приговором последней инстанции, который просто подлежал незамедлительному исполнению.
Я начал писать – главным образом о кино; репортажи и заметки стали появляться в московской «Вечерке», в популярной газетке «Советское кино» и даже в самом органе Министерства культуры СССР – «Советской культуре».
За ударный труд на ниве советской публицистики был – после настоятельных напоминаний – вознагражден стараниями первого моего в жизни редактора Паши Аркадьева и зав. отделом Владимира Николаевича Шалуновского удостоверением внештатного корреспондента «Советской культуры»; мне тогда едва исполнилось восемнадцать лет. И вот, как однажды выяснилось, эта коричневая книжечка оказалась способной на серьезное дело.
В 68-ом, после долгих проверок подробнейшей анкеты, меня приняли ассистентом кинорежиссера, естественно, третьей категории (то есть – совсем за гроши) – на киностудию Минобороны, снимающую технические и учебные фильмы, большей частью закрытые. Я получил четвертую степень допуска к секретности, практически первоначальную, и мы поехали вместе с начинающим режиссером Проценко на место съемки в Полтаву, в артиллерийское училище, создавать учебное кино про систему наведения какой-то очень засекреченной «шилки» – самоходной зенитной установки. Лента носила захватывающее название, к сожалению, не сохранившееся в моей памяти, но звучащее приблизительно так: «Наведение и стрельбы из пушки ЗСУ-23-4» или, во всяком случае, что-то весьма близкое к этому, а литературным сценарием почти без поправок служила соответствующая инструкция, разумеется, тоже страшно секретная.
В один из унылых ноябрьских дней я забрел на главный городской почтамт – кажется, хотел купить открытки в Москву. За заляпанными чернилами деревянными прилавочками люди выводили тексты телеграмм и писем. Мне показалось, что сзади как будто кто-то тихо всхлипывает. Я оглянулся. Худой старик без шапки в застегнутом не на те пуговицы поношенном пальто несколько раз, щурясь, примерялся к графе в открытке, но так и не мог начать.
– Не вижу… ну совсем, слушайте, я уже не вижу… – он поднял слезящиеся глаза и замолчал. Я вызвался ему помочь.
– Таки правда? Ой, спасибо вам. – он закивал головой: – это сыну… Яшеньке… Меня не пускают, а это она ему отдаст. обязательно… может быть… – говорил он тихо, почти глотая слова. – Вы вот тут… только адрес… Это, где я живу… жил…
Руки у него слегка тряслись, и он вытер глаза рукавом своего пальто.
Еще через полчаса я с трудом уговорил его рассказать потрясшую меня историю короля Лира, выгнанного собственным сыном и невесткой из полученной когда-то им комнаты на улицу.
– И где же вы теперь спите? – спросил я. – Сейчас же уже холодно.
– О, тут все хорошо… вы не подумайте… все очень хорошо. Меня пока пускает в коридор одна славная женщина из нашей гемайды… да… Вы, наверное, не знаете, но евреи всегда помогут евреям… Главное, надо приходить не рано, чтобы не очень мешать.
Мне стало не по себе. Я представил, как мы сейчас выходим из теплого почтамта; я иду к себе в гостиницу, а он, опустив поздравительную открытку для сына в почтовый ящик при входе, остается на слякотной улице. Уточнив еще что-то, я сказал, чтобы он ждал меня, и пошел просить у сотрудницы почты лист чистой бумаги.
– Вот, – вернувшись, я положил его перед стариком. – пишите…
– Слушайте, что я должен писать, зачем? – заволновался он. – Не надо ничего писать. У Яшеньки могут быть неприятности… вы знаете, он ведь коммунист… и у них там очень теперь строго.
– Пишите, – настаивал я. – Я подскажу. Вернувшись в гостиницу, я раздобыл телефон председателя горисполкома и, набрав номер, сказал помощнику, что я – спецкор всесоюзной газеты «Советская Культура» из Москвы, находящийся в области с проверкой театров, хотел бы незамедлительно повидаться с председателем. Времени мало, поэтому мне будет удобно сделать это еще сегодня. Через три минуты мне перезвонила секретарша и сказала, что председатель меня очень ждет. Кто бы сомневался.
Если откровенно, то при всем моем безапелляционном напоре столичного журналиста на этого грузного украинского дядьку при галстуке, я рассчитывал максимум на то, что моему старику-ветерану, опасаясь громкой газетной заметки типа «Полтавский король Лир», найдут хоть какую-то койку на время, может быть, как-то немного помогут на первых порах прокормиться. Но, похоже, я недооценил тогдашнюю силу печатного слова.
Наша киногруппа уехала дня через три, а спустя еще неделю на оставленный мною домашний адрес пришла открытка из Полтавы с неразборчивым текстом, с трудом выведенным дрожащей рукой. Они дали ему отдельную комнату, прописали там, переоформили на новый адрес пенсию и купили еще из каких-то фондов немного мебели. Он писал, что невероятно счастлив, благодарил меня трогательными словами, которые я не слышал ни до, ни после и твердо обещал, что Бог мне впоследствии всенепременно отплатит… ну и так далее. Это было написано так просто, уверенно и искренне, что создавалось впечатление, что автору и в самом деле удалось согласовать свои обещания с их будущим Исполнителем.
Потом в течение еще лет пяти с завидной регулярностью к каждому государственному празднику мне приходили скромные открытки из Полтавы с чудесными словами, и я всегда отвечал. А потом открытки к праздникам приходить перестали. Самое страшное, что я сейчас не могу вспомнить его имени.
Семидесятые, Москва, район ВДНХ и другие
Когда я стал его студентом, Всесоюзный государственный институт кинематографии еще не имел, как сегодня, свой престижный титул Университета. Для сохранения уважения к старейшей в мире Государственной киношколе, существующей с 1919 года, во всем кинематографическом мире как-то вполне хватало фамилий ее отцов-основателей – Кулешова, Эйзенштейна и выпускников – Тарковского, Хуциева, Иоселиани и многих других. Только пару лет назад, когда пришла идея всегда скромное финансовое состояние учебного заведения (как, впрочем, и большинства учреждений культуры, довольствующихся крохами от миллиардов, идущих на не взлетающие ракеты и тонущие подлодки), – улучшить формальным переименованием в Университет, задумались. С упразднением слова «институт» – автоматически ликвидировался и знаменитый бренд – ВГИК. Вместо него получался никому не известный неудобопроизносимый ВГУК.
Со слоновьим изяществом светлые администраторские головы вуза нашли оригинальный выход из положения – в полном соответствии с народной мудростью о необходимости сохранить овечек и в то же время накормить голодных волков, решили последним просто отдать пастуха и собаку: и прежнюю аббревиатуру сохранить и новый статус с соответствующими зарплатами и ректорским «мерсом» приобрести. Отсутствие логики никогда не становилось препятствием для чиновников в нашей стране. Теперь – кажется, впервые в России – полное название государственного учреждения не совпадает с его аббревиатурой – зато ВГИК и при своем новом статусе Всероссийского государственного университета кинематографии, к счастью, не стал ВГУКом.
Другое дело, что при попытке хотя бы некоторую часть добытых вместе с новым титулом очень немалых средств использовать по назначению – на строительство нового учебного здания – старое, просуществовавшее не один десяток лет, почему-то тут же просело и дало опасную трещину. даже пришлось семестр заканчивать раньше, чем полагалось – не дай бог стукнет сверху кого-то из ректората, где потом новые светлые головы искать. Сейчас в подвесном застекленном переходе, ведущем из основного здания в учебную киностудию, табличка рекомендует не находиться больше, чем пяти, идущим одновременно.
Ну это, как любят теперь заканчивать передачи на ТВ, «совсем другая история…», а зубоскальство над родной «Альма-матер» простится, хочется верить, оптимисту из семьи, уже третье поколение которой скоро получит тут диплом. Теперь вот – уже университетский.
А тогда нас оказалось тринадцать. Собственно, творческий конкурс в те времена был немного выше, чем в наши дни – если считать с момента отправки работ на предварительный отбор, получалось человек семьсот на одно место на сценарном факультете.
Тринадцать… Жесткий мир кино за последующие десятилетия осуществит на моих глазах не слишком справедливую селекцию среди тех, кто пришел тогда в нашу киномастерскую с надеждой мир этот перевернуть. В искусстве, как бы ни банально звучала эта давно доказанная истина, будущее художника определяют далеко не всегда подаренные природой и развитые трудом способности. В таком же деле, как кинематограф, где в большинстве профессий просто невозможно реализоваться в одиночку, а лишь в кругу единомышленников, на постоянный поиск которых, по существу, и уходит жизнь – это правило, пожалуй, особенно наглядно и очевидно. Такая вот беда…
В размещенной сегодня в Википедии статье о нашем Мастере – Иосифе Михайловиче Маневиче, есть фото нашего, последнего его курса, сделанное перед самым выпуском. Там оказались не все, только девять студентов плюс, конечно, сам наш «Жозя», как между собой именовали Маневича в круге московских кинематографистов, и его постоянный «Фурманов» – приставленный к беспартийному еврею-профессионалу партийный помощник – «комиссар» по фамилии Диков. На фото не хватает троих из нашего курса.
Один из них – Хасанчик, кучерявый араб из Сирии, приехал в Москву за автомобилем. В те годы Советский Союз с легкостью принимал на обучение студентов из так называемых дружественных стран третьего мира, с энтузиазмом тратя на это деньги собственных налогоплательщиков. Руководители первого на планете социалистического государства были уверены, что вместе со знаниями по профессии за годы обучения гостям с легкостью удастся вдолбить и светлые коммунистические идеалы. Уж очень хотелось иметь свои «пятые колонны» на всех континентах. Для этого даже строились специальные ВУЗы вроде переехавшего потом на Ленинский проспект, неподалеку от моего дома, Университета Дружбы народов; финансировалось проживание и обучение десятков тысяч молодых людей из Африки, Азии и Америки, в отличие от настоящей, именуемой Латинской. Естественно, что жилось приезжим на порядок лучше, чем советским студентам – ведь воп рос с идеологией последних считался уже решенным, и лишние траты были тут ни к чему. Разумеется, ребята из цивилизованных государств, привлеченные тогдашним серьезным уровнем преподавания в шести – семи советских вузах и сами пожелавшие учиться в Союзе, могли это сделать исключительно за собственный счет.
Спустя годы, многие из выпускников советских вузов, получившие образование бесплатно, возвращаясь, очень быстро забывали сделанную им прививку социализма и прагматично устраивали собственное счастье по рецептам радостно проклинаемого в течение пяти лет капитализма.
Можно было только удивляться решимости нашего Хасана Юсефа, приехавшего в страну учиться специфической профессии, являющейся производной от языка, которым он почти не владел. Впрочем, с трудом и всегда с большим опозданием зачитывая свои наивные литературные опыты, кое-как переведенные на ломаный русский кем-то из его соотечественников, он не обижался на тройки по мастерству, ниже которых ему ставить просто не полагалось. Во всяком случае, будущее свое, как ему казалось, уже тогда он оценивал вполне адекватно, охотно делясь на паузах с нами своими творческими планами.
– Друг, я приеду, я первый профессиональный сценарист в стране буду, понимаешь? Один совсем такой, с дипломом. Хочу сразу «Мерседес» купить, какую-нибудь фильму только напишу – сразу куплю… только решить какой надо…
Получая с первого курса стипендию рублей под девяносто, по сравнению с двадцатью восемью, которые выплачивались нашим, – он чувствовал себя в Москве вполне комфортно, жил какой-то своей жизнью, успешно перепродавая что-то из привозимых вещей и появляясь на малопонятных ему лекциях лишь в самых крайних случаях.
Я не знаю, что сталось с ним потом, в круговерти событий на Ближнем Востоке последних десятилетий, осуществил ли он по возвращении свою заветную мечту. Думаю, да, если Аллах сохранил его. Правда, есть одно небольшое «но» – кинематографа, как такового, в Сирии тогда не было. Нет, кажется, и до сих пор. Хотя думается, вряд ли столь несущественное обстоятельство могло стать для нашего Хасанчика препятствием.
Нет на этом фото и Гали, изможденной девушки, которой ценой немалых усилий все же удалось к выпуску или, кажется, сразу после него, убедить зарегистрировать с ней брак сокурсника Владимира Лобанова, что, пожалуй, и стало для нее главным итогом пребывания в институте. Нет и самого Володи.
Много десятилетий спустя, совсем уже недавно, в период моей работы в телекомпании «Останкино», в мой маленький кабинетик на третьем этаже Телецентра пришла наша же киногруппа, работающая над популярным циклом об ушедших людях искусства для Первого канала. Часа полтора, пересаженный из кресла за столом на стул на фоне светлой стены, я добросовестно вспоминал еще одного своего сокурсника, волею судеб ставшего, безусловно, наиболее известным из всей нашей мастерской и успевшем до своего раннего ухода из жизни получить вместе с всесоюзной популярностью еще и несколько государственных премий. Я старался говорить честно о том, что запомнил за годы нашего общения, подчеркивая, что по ряду причин не относился к его самым близким друзьям на курсе; впрочем, и в ином случае не стал бы рассказывать больше, чем следует. Мне всегда казалось, что нет ничего хуже посмертных сплетен об известных людях, даже основанных на абсолютно достоверных фактах. Каждый имеет право на выбор своего пути и, если это не слишком ущемляет других, судить его позволительно только по результатам.
– Ну, вы можете, по крайней мере, сказать на камеру, что это была фигура, во многом равная Шукшину? – попросила редакторша, похоже, заранее уверенная в моем ответе. Логика была несложной, подтвердив исключительность личности, с которой запросто общался, я как бы ненавязчиво обращал внимание будущих зрителей и на собственную значимость. Не оправдал я ее ожиданий, лишь рассмеялся.
– Ну, что вы. это абсолютно разновеликие фигуры… Хотя один подобный человек, кстати, действительно был у нас на курсе, – попытался я объяснить, – настоящий талант, что называется, от земли, только звали его совсем по-другому – Володя Лобанов. Вот он, по-моему, и был у нас самым способным, только судьба сложилась у него иначе, чем у Валеры.
– Лобанов?.. – протянула редакторша, давая знак оператору выключить камеру. – Нет, не знаю… Впрочем, в любом случае, вы же понимаете, это не совсем по теме нашего кино…
Я понимал.
Наша мастерская уже ко второму году сама по себе несколько расползлась на группки, цементируемые, пожалуй, двумя обстоятельствами – сходным предыдущим «доинститутским» житейским опытом и местом нынешнего проживания. Конечно, это было абсолютно условное деление, во многом объясняющееся просто временем, проводимым вместе – либо в институтском общежитии, либо по дороге через город домой. То, что в маленьком творческом коллектив амбициозных молодых людей, каждый из которых искренне был в глубине души уверен в своих особых способностях, гарантирующих ему в будущем профессиональную востребованность, отношения и не могли оставаться простыми, сейчас-то кажется очевидным – иначе и быть не могло. Ведь процесс занятий по мастерству, помимо многого другого, строился как последовательное выполнение разнообразных творческих заданий – от немых этюдов до полноценных сценариев, – и их последующего еженедельного подробного обсуждения, критики на курсе. Конечно, каждому, прежде всего, была важна оценка мастера, всегда подводящего итог общему разговору, но не менее ревниво все относились и к замечаниями, высказанным сокурсниками. Не все из нас, конечно, были готовы сдерживать рвущиеся наружу эмоции. И часто просто не слишком вежливые слова, сказанные о дорогой тебе работе, могли надолго развести тех, кто только что входил в аудиторию друзьями.
Между прочим, это касалось в известной же степени и отношений с педагогами, кроме самого Мастера, которому прощалось практически все. Прямые идеологические наскоки недалекого комиссара мы быстро научились попускать мимо ушей – смешно было бы обижаться на обиженных коммунистическим Богом, но когда абсолютно безапелляционные суждения позволила себе явно неглупая аспирантка по фамилии Михальченко, то жестоко поплатилась.
– Я считаю ваше творчество бесперспективным, – резанула она как-то прямо в глаза на одном из обсуждений нашему Теду – Давиду Макарову, бывшему штурману из Одессы.
– Да меня мало колышет ваше мнение. – сказал Тед, не поднимаясь со своего места, и демонстративно начал что-то обсуждать с соседом.
Дама эта, несмотря на то, что пригласил ее сам Маневич (она, кажется, должна была у него защищаться), быстро стала пугалом в наших глазах, получила кличку героини как раз показанного на очередном просмотре фильма Хичхока – Ребекка и подверглась настолько явному презрению всего курса, что Иосифу Михайловичу, видимо, пришлось посоветовать ей больше слушать, чем говорить, а еще лучше – пореже появляться на наших занятиях. По-моему, кстати, она подвизается в институте до сих пор, пишет разработки о том, как стать сценаристом…
Володька Лобанов, житель дальней российской глубинки, с моей точки зрения, так же как Василий Макарович Шукшин, был рожден большим писателем. Бывает, что человек, выросший в далекой от искусства среде, неожиданно осознает собственное предназначение, чем глубоко поражает окружающих. С затруднениями формулирующий мысль на родном языке при наших коридорных спорах, всегда старающийся не стать объектом излишнего внимания, он, судя по зачитываемым ровным голосом работам, преображался, когда подходил к письменному столу. Писал просто и удивительно образно, лепил характеры героев, как Шукшин, казалось бы, всего лишь фиксируя отложившиеся в памяти наблюдения. Без намека на эмоции, он удивительно спокойно всегда относился к любым нашим резким суждениями, словно понимая, что не нам по большому счету судить им написанное. Одновременно открытый и замкнутый, он, конечно, тоже жил в общежитии, жил бедно, и видимо, ему не всегда хватало силы воли, чтобы противостоять традиционным предложениям обитающих там же сокурсников. У меня, влюбленного в Шукшина, всегда возникало ощущение, что у нас на курсе он самый талантливый, и ему предстоит занять серьезное место, правда, скорее, в прозе, чем в кино. Судьба рассудила иначе.
Он действительно впоследствии напишет несколько хороших сценариев, после первого из которых его на очередной волне «заботы партии о кинематографической молодежи», вопреки существующим порядкам, по единственному фильму даже примут в Союз Кинематографистов. Кстати, пробил и поставил его сценарий о «реальной жизни» «Семейная мелодрама» режиссер Фрумин, очень скоро уехавший из страны. Володе в голову такая идея, разумеется, не приходила. Было еще несколько добротных картин, здорово растянувшихся по времен и, но не одна из них на самом деле не стала даже приближением к открытию. Трудно сказать почему; проза его существовала сама по себе, мало управляя изображением. Ему не везло и в личной жизни. Сегодня о нем как о литераторе, увы, почти никто не помнит.
Словно контрастом его судьбе стала прожитая в кинематографе яркая жизнь другого моего сокурсника – Валеры Приемыхова, о котором и снимали упомянутый мной фильм. Приехав в Москву с Дальнего Востока, он оказался одним из самых возрастных студентов на курсе. Всегда держался по отношению к нам, москвичам, несколько отстраненно, стараясь никак не выказать какое-то затаенное неприятие к тем, кому в настоящее время жилось чуть комфортнее. О себе говорить не любил, и многие из нас лишь к концу учебы узнали, что у него, оказывается, уже есть одно высшее образование – он дипломированный актер, закончивший Дальневосточный институт искусств и уже успевший поработать на сцене профессионального театра на периферии. Кстати, это обстоятельство он по каким-то своим соображениям долго не афишировал и после окончания ВГИКа. Сказать, что его работы за годы обучения как-то резко выделялись среди других, было бы неправдой – так, во всяком случае, с моей точки зрения – достаточно проходные вещи, никак не свидетельствующие об особом литературном даре. Да его, возможно, и не было. Было вызывающее уважение трудолюбие и потом – везение. Наверное, за свою непростую предшествующую жизнь, он заслужил это. Кстати, Маневич, помнится, относился к Валере с уважением – может быть, потому, что тот был опытнее по жизни многих из нас.
Где-то в середине учебы ему вместе с еще несколькими нашими ребятами из общежития удалось найти считавшуюся по тем временам очень неплохую для студента подработку – он устроился кочегаром, потом дворником в какую-то районную контору, получил служебное жилье. Часто приходил на лекции не выспавшийся, иногда явно с сильного похмелья, но хвостов почти не имел.
Близко к себе он почти никого не подпускал, хотя в компаниях принять участие отказывался редко. На предложение завалиться в известный всем поколениям вгиковцев пивбар на ВДНХ откликался охотно.
Много лет спустя, Валера напишет: «…надо уметь быть одиноким, а значит, сильным и рассчитывающим только на себя. В принципе, человек ведь всегда одинок, каждый – это отдельная планета… Многие этого не понимают».
Не поспоришь, потому что правильно. Он понял это раньше многих из нас, так потом – несмотря на круговорот окружавших его людей – и старался жить.
Валера, насколько я его знал, человеком был довольно тяжелым, но при этом удачливым. Конечно, ему повезло со стартом, повезло с режиссером Асановой, отношения с которой он выстраивал во всех направлениях сознательно и методично. По мере роста известности его сложные взаимоотношения с женщинами и старыми друзьями, все чаще становившимися бывшими, не прояснялись. Он многое успел и не успел много…
ВГИК во все времена оставался институтом элитарным, а потому во многом – сословным. Конечно же, не единственным – МГИМО всегда был в этом плане еще более крутым. И если раньше вопрос о поступлении там решался, как правило, уровнем занимаемой в советской иерархии должности кого-то из членов семьи абитуриента, то сейчас еще и числом долларовых нолей на зарубежном счете. Но во ВГИКе совсем не значило, что те, кто не обладал громкой фамилий, но от природы имел дар видеть мир по своему, лишался возможности стать его студентом. Напротив, любое открытие истинного таланта всегда радовало настоящих мастеров из числа серьезных художников куда больше, чем подчас вынужденная услуга родственнику коллеги, с которым завтра предстояло взаимодействовать в достаточно тесном кругу людей, работающих в большом кино. Приехавший из алтайской глуши Василий Шукшин – пожалуй, самое яркое подтверждение этому, хотя можно было бы привести и еще десятки имен, ставших впоследствии первыми лицами отечественного кино. Замечательно, конечно, когда – что бывало не так уж и часто – явное наличие способностей еще и совпадало с уважаемой фамилией. Ну мог ли Сергей Аполлинариевич Герасимов (нет, он-то как раз мог – просто мудро не стал бы…) отказывать в приеме на свой курс дочери заведующего Отделом МИД СССР Наташе Белохвостиковой или сыну народного артиста Коле Еременко.
Эти ребята уже заканчивали тогда институт, и нам пришлось как-то втроем вести вгиковский киновечер в аудитории МВТУ им. Баумана. Я хорошо помню с каким восторгом принимала их уже тогда аудитория, состоящая из студентов и преподавателей. Не за заслуги же родителей, в самом деле.
Конечно, так бывало и бывает не всегда. Иногда отсутствие особых талантов с лихвой компенсируется умом, уникальной изворотливостью и оставшимися от родственников связями. К примеру, у нас на курсе училась очень умная девушка Маша Зверева, с лицом, похожим на мятую грушу – единственная, кстати, получившая впоследствии красный диплом за «правильный» сценарий. Еще при зачислении она благоразумно указала русскую фамилию мамы, отказавшись от не менее русской фамилии-псевдонима, в непростые времена предусмотрительно взятого ее отцом, довольно известным в Москве писателем. Все время студенчества она ходила в комсомольских активистках.
Кстати, ей принадлежит замечательный афоризм, часто потом мною повторяемый. На очередную цитату надоевшего Дикова о нашей гражданской и профессиональной ответственности («Помните, что вы же – инженеры человеческих душ…»), она негромко заметила: «мы – не инженеры, мы – техники-смотрители». Ближе к концу учебы, организуя экранизацию своего сценария, она сходила замуж на несколько месяцев за молодого режиссера, получившего право на дебют и поставившего ее сценарий. Потом быстренько осознав ограниченность перспектив молодого парня, которому эта работа не принесла особых лавров, талантливо поменяла его на другого молодого режиссера – обладателя уже одной из самых громких кинематографических фамилий – Чухрая… Ну, а дальше все пошло само собой. Как-то, когда уже много лет позднее умная Маша достигла высот административной карьеры и оказалась на выборной должности одного из руководителей Конфедерации, объединяющей все Союзы Кинематографистов союзных республик страны (приказавшей, естественно, долго жить вместе с СССР), я, сокурсник, с которым она вместе училась, попросил ее подписать положенную по уставу одну из двух рекомендаций для вступления в Союз.
– Знаешь, я бы для тебя с удовольствием, – мило улыбаясь и отодвигая чашку кофе за столиком буфета в фойе Белого зала СК, заторопилась она, – но никак не могу… Ведь сам факт моей подписи может быть воспринят как давление на приемную комиссию… ты же должен понимать…
Эта история потом стала известна в кинематографических кругах. А рекомендацию в Союз мне подписал тогда другой человек. Его звали Эмиль Лотяну.
В институте тогда училось много «кинодетей», особенно отличался киноведческий факультет, считавшийся – во всяком случае в те годы – рассадником «позвоночных». В одной только параллельной нам группе, на киноведческом, занимались большой добрый увалень Боря Андреев – удивительно похожий на своего отца, замечательного актера, Ира Баскакова – дочка первого зама председателя Госкино, Наташа Ермаш, дочь тогдашнего председателя кино Филиппа Ермаша, четырнадцать лет возглавлявшего советское кино. Кстати, ее брат Андрей позднее тоже закончил ВГИК, только режиссерский.
Наташа особенно не баловала институт своим посещением. Изредка ее привозила на занятия «Чайка», которую она, вероятно, по настоянию отца покидала еще на повороте, у Студии Горького. Грандиозный фурор среди мужской части студентов она произвела как-то, явившись на занятия в прозрачной блузке без бюстгальтера. Тогда подобное было еще в новинку и произвело на всех шоковое впечатление, хотя разглядывать, собственно, там было почти нечего. Тем не менее после первой же пары наш этаж, на котором занимались сценаристы и киноведы, отчего-то оказался переполнен операторами, художниками и экономистами, у которых неожиданно оказалась тут масса дел.
Во ВГИКЕ тогда преподавали очень разные люди и, соответственно, резко разнилось и наше отношение к ним. Была, помнится, немолодая тетка, всегда ходившая на лекции исключительно в мужском пиджаке, с гладко зачесанными назад волосами, носившая феноменально адекватную фамилию – что-то вроде Стучебниковой. Шепотом поговаривали, что еще недавно, в непростые времена, она писала, выживая из института, доносы на коллег – и достаточно успешно. Сотрудники недолюбливали ее и по старой памяти, кажется, даже побаивались. Само собой разумеется, что вела она курс «научного коммунизма». Поскольку сама эта дисциплина состояла из надерганных философских определений, вкрапленных в несколько кило демагогии, я пришел на заключительный экзамен, совсем не готовясь, и даже отвечать пошел, не использовав время для подготовки. Выслушав внимательно все, что я сказал, отвечая на вопросы из доставшегося билета, она внимательно посмотрела на меня.
– Все, что вы сказали, в целом верно, но я же вижу, что вы к моему экзамену совсем не готовились. Я не могу вам поэтому поставить высокую оценку…
Перспектива хватануть трояк в дипломе мне не улыбалась, и я возразил: – Но ведь я же ответил на все вопросы из билета. Хотите – спросите что-то еще, я готов.
– Я понимаю, вы ответите. У вас, молодой человек, просто хорошо подвешен язык. вот и все. – она с неприязнью потянулась к моей зачетке. – Но вы совсем не готовились. я чувствую…
Надо было идти до конца.
– Странно… Во-первых, я готовился… А потом, вы что, серьезно полагаете, что такой глубокий и важнейший предмет, как марксистско-ленинская философия, частью которой является научный коммунизм, можно освоить без серьезного осмысления и изучения, лишь умея говорить? Очень странно…
Похоже, только тут до нее дошло, что дешевле будет – разойтись по мирному. В зачетке появилась четверка.
К нашему счастью, подобных фигур было немного. Большинство преподававших нам людей являли собою поистине уникальных специалистов, на голову переросших те формальные преподавательские должности, в соответствии с которыми им платили не очень большую зарплату.
Вера Тулякова, высокая, всегда с большим вкусом одетая, красивая молодая женщина, вдова знаменитого турецкого поэта Назыма Хикмета, нашедшего в СССР политическое убежище, рассказывала нам о телевидении, читая курс «Основы телевизионной драматургии». Поскольку в СССР телевидение тогда еще только переживало этап перерождения из простого технического аттракциона в род серьезного искусства, естествен но, большинство ссылок и примеров было из практики других, незнакомых нам западных каналов, уже успевших определиться со многими закономерностями нового искусства. Я, между прочим, до сих пор с волнением пересказываю своим студентам сюжет пьесы американского теледраматурга Пэдди Чаевски, рассказанный нам Туляковой – так, как запомнился он тогда.
…В предрождественском Нью-Йорке на аж каком-то этаже небоскреба, в редакции крупной газеты, Редактор ругался с коллегой – ведущим Журналистом, наотрез отказывающимся сочинить по заказу какую-нибудь душеспасительную историю для праздничного номера. Циник и атеист, как и большинство талантливых людей, к тому же еще доведенный домашними разборками, журналист раздраженно объяснял, что вся эта, высосанная из пальца, дребедень с Рождеством придумана не для прославления вознесшегося мифического Бога, которого нет, а для радостей греющих на ней руки мелких и крупных торгашей, и вообще, любой здравомыслящий американец давным-давно осознал цену этим неумным сказкам и тем, кто их проповедует. Они ссорятся. Журналист, хлопнув дверью, спускается вниз, кутаясь в шарф. Выходит на предпраздничную улицу, засыпанную легким снежком, садится в метро. Поколебавшись, он все же решает ехать домой, на другой конец города хотя и знает, что там его никто не ждет – жена, забрав дочь, уехала из дома на праздники, а, возможно, и на куда больший срок.
Время уже довольно позднее; людей немного. На одной из остановок рядом с ним в вагоне присаживается высокий старик с пакетом рождественских безделушек. Они разговорились, инстинктивно определив, что каждый будет встречать это Рождество в одиночестве. Понемногу почувствовав, видимо, доверие к собеседнику, старик рассказывает журналисту, что много-много лет назад он был солдатом, служившим в американской армии в Европе во время Второй мировой. Уже когда бойня кончилась, его часть стояла в маленьком немецком городке, и он познакомился там с девушкой. Это была любовь с первого взгляда, и они провели вместе удивительную неделю. Ничего подобного до сих пор с ним не бывало. Он пошел к командованию с просьбой разрешить ему забрать девушку с собой, оформив все бумаги. Ему не отказали, но той же ночью пришел приказ, и его часть на транспортных самолетах спешно вывезли на родину. Потом много лет он искал ее. Он писал в Красный Крест, во множество других организаций. Он просил помощи у правительства новой Германии, но он знал только ее имя. Ее так и не нашли, как не старались. Прошли десятилетия – он так и не женился, не в силах забыть свою единственную в жизни любовь… Теперь ему осталось уже не так много времени, и это Рождество он вновь встретит один, думая о той девушке и подаренном ею счастье… Старику пора было выходить: «Приезжайте завтра, если захотите, – дернем по стаканчику и поболтаем.», – он сунул в руку журналисту карточку и, путаясь в своих пакетах, заторопился к выходу.
Журналисту предстояло ехать еще долго и, чтобы попасть на его Зеленую линию, надо было сделать еще одну пересадку. Поплутав по подземным переходам, он едва успел впрыгнуть в уже отходящий поезд. Сел на свободное место возле какой-то немолодой дамы, поднял уроненную ею книгу. Та поблагодарила, и в ее речи он уловил чуть заметный акцент. Рождество уже почти наступило, и особенно торопиться, собственно, было уже некуда. Они разговорись, в полупустом вагоне было не так уж много людей, которые в этот час уже никуда не спешат. Ну он-то – ладно, а она – ведь, наверное, ее-то дома ждут – дети, внуки, разве нет? Под стук колес она не сразу заговорила. Много лет назад она жила на другом континенте, в Европе, тогда шла большая война. Она познакомилась с одним парнем, он был американский солдат. Они полюбили друг друга, полюбили по-настоящему, и провели вместе удивительную неделю. Они хотели пожениться и быть вместе всегда. Но солдат неожиданно пропал. Ей сказали, что его часть вернулась куда-то в Штаты. Долгие годы она пыталась найти его, писала много писем в разные организации, в Министерство Обороны… Но она знала только его имя, и его не нашли. Тогда, спустя десять лет, она решила искать его сама. Вышла замуж за какого-то американца и получила право приехать сюда. Они развелись почти сразу, когда муж узнал для чего она это сделала. И все эти годы она была одна и искала того солдата. Но Америка – очень большая, и очень много бывших солдат носят такое же имя… Жизнь почти прошла, близких у нее не осталось, и это Рождество, наверное, уже одно из последних, она опять встретит одна.
– Хотите попробовать этот праздничный круассан? Его пекут в булочной прямо в доме, где я живу. – она протянула журналисту маленький пакетик с логотипом и адресом.
…Журналист вышел из метро, когда снег почти перестал. Прямо через улицу светились, как и в центре, празднично украшенные лампочками двери небольшой церквушки, слышно было как там в теплой тесноте заканчивалась рождественская служба.
Журналист медленно опустил руку в карман и вытащил визитку. Он опустил руку еще раз и достал мятый пакетик из булочной.
Не надо было особых усилий, чтобы понять, что такое в этом мире не случается само по себе.
Сначала он позвонил из автомата редактору и сказал, чтобы оставили место на полосе. Потом, помедлив, пересек улицу, поднявшись по ступеням, вошел в храм и встал рядом с поющими «Аллилуйя» Богу. Рождество наступало.
По-моему, сильная история, если так запала в память.
Наша светящаяся изнутри, замечательная Паола Волкова, ставшая позднее профессором и доктором искусствоведения, уникальным специалистом по творчеству Тарковского, тогда читала нам лекции по истории искусств. В полутемной аудитории менялись слайды с изображением фараонов, гробниц, пирамид, а Паола Дмитриевна как о само собой разумеющемся с конкретными цифрами очень спокойно объясняла нам, что сместить эту массу неподъемных камней при помощи канатов и противовесов, как рисовали в школьных учебниках, было, в принципе, физически невозможно, как невозможно это даже и сегодня с помощью современной строительной техники. И совершенно очевидно, что мог это сделать лишь сам фараон, наделенный неземными силами, символами управления, которыми являлись его странной формы посох и кнут… Она говорила все это настолько просто, убежденно и доказательно, что сомнения в реальности утверждений даже не могли возникнуть, и мы долго «отходили» после очередной лекции. Если сегодня все это уже не кажется чем-то необычным, то в те времена за все нематериалистические эти утверждения можно было запросто вылететь из советского, тем более идеологического вуза. Некая тайна запретного объединяла после лекций Волковой всех нас…
И, наконец, сам «друг парадоксов», «великий и ужасный», оставшийся в памяти многих поколений студентов киноинститута, Владимир Яковлевич Бахмутский, читавший нам историю зарубежной литературы. Кажется, уже тогда он был немолод, уж точно – не красив, на лекции часто приходил в одном и том же далеко не новом костюме. Даже если было твердо решено, что в этот день тащиться в институт – слишком большая нагрузка для неокрепшего студенческого организма, стоило только вспомнить, что сегодня в расписании Бахмутский, и здоровая лень куда-то исчезала, надо было бросать все и мчаться через весь город. На его лекцию, что совсем не было принято в институте, где целый курс вроде нашего состоял из тринадцати человек, в маленькую аудиторию подчас набивались люди и с других факультетов. Каждая фраза на потрясающем русском ловилась и тщательно заносилась в конспект, а за нею потоком шли новые силлогизмы, требующие немедленного осмысления, что оказывалось совсем непросто. Уже знакомый мир очередного мирового шедевра вдруг оказывался препарированным таким образом, что все менялось, находились новые объяснения поступкам героев, логика которых недавно казалась вполне доступной и однозначной. Возникали парадоксы, над которыми нужно было размышлять. Только полный идиот мог отправиться к нему на зачет или экзамен, проштудировав лишь учебник и хрестоматию. Он задавал такие вопросы, на которые нельзя было ответить, тщательно не прочитав весь текст произведения. Какого цвета был плащ у героя, в какую точно дверь зала он удалился, как называлась рыба, что подали ему на завтрак в том приморском трактире, и сколько именно бутылок вина (кстати, какого?..) осушил его слуга перед тем, как отправиться исполнять поручение. Его любили и боялись, любили за способность заставить мыслить и боялись за невозможность обмануть. Поистине энциклопедические знания всей мировой литературы, казалось бы, давали ему основание относиться к тем, кто знал куда как меньше по крайней мере со снисходительностью. Но он никогда этого не допускал. Его четверка радовала куда больше, чем пятерки многих других, потому что пробуждала самоуважение. Он отдал ВГИКу сорок пять лет своей жизни.
Хотя, конечно, взаимопонимание с каждым из преподавателей становилось весомой частью ежедневной жизни, главным оставался день, когда были занятия, обозначенные в расписании коротким словом – «мастерство». Его ждали, к нему готовились. В этот единственный день на неделе в институт приезжал мастер, и мы, расставаясь лишь на паузы, занимались профессиональной работой, говорили о тематике, разбирали написанные тексты на составные эпизоды, исследуя реплики, отмечая сюжетные просчеты и предлагая собственные варианты. Осознание того, что научить выбранной странной профессии невозможно, можно лишь помочь и подсказать, обратив внимание на проверенные временем особенности драматургического ремесла, пришло достаточно быстро. Крайне важным было изначальное доверие к рекомендациям мастера, которые можно было выполнить механически, из-под палки, ради оценки, оставаясь убежденным в собственной правоте, а можно, проанализировав, принять как свое и дальше двигаться уже по предложенному пути. Бывало по-разному, но в любом случае это здорово готовило к реальной жизни в отечественном кинематографе, когда приходилось проходить через гигантский частокол редакторского аппарата – объединения, киностудии, Госкино, где каждый кулик, оправдывая свое существование, считал себя обязанным настоять на «улучшении» и «совершенствовании».
Фамилия мастера, руководителя творческой мастерской, и после окончания института на многие годы оставалась частью твоих рекомендаций, и ответ на стандартный вопрос на студиях – «А вы у кого заканчивали?» – мог в равной степени сослужить как добрую, так и не слишком, службу. На тебя как бы переносилась частица заслуг и авторитета учителя или что, правда, было редким исключением, их отсутствие.
В этом смысле фамилия Иосифа Маневича всегда воспринималась весьма уважительно среди профессионалов, и то обстоятельство, что именно этот человек когда-то выбрал тебя из многих, возился с тобою несколько лет и дал возможность получить диплом кинодраматурга, ценилось высоко.
Кроме профессионализма, степени собственной отдачи ученикам, многие мэтры отличались и еще по одному критерию, осознание важности которого приходило лишь к концу учебы. Скажем, практически каждый из режиссерско-актерской мастерской Герасимова и Макаровой покидал институтские стены уже достаточно известным, обладающим реальным производственным опытом, профессионалом. Почти все ребята из этой мастерской в той или иной степени непременно задействовались в очередной работе мастера, выходящей потом на широкий экран. Если по каким-то причинам работы для ученика в самой группе Герасимова, работающего над очередным фильмом, не находилось, то он не считал зазорным порекомендовать его коллегам, а его рекомендация тогда стоила очень многого. Обласканный властью он мог в нашем кино почти все, и его слова часто становились решающими в судьбе молодого актера или режиссера. Причем поддерживал он, как правило, не только тех, кто, подобно ему самому, был готов стать абсолютным конформистом по отношению к существовавшей власти, но изредка и тех, чей талант явно выходил за рамки дозволенного.
Заведующая кафедрой кинодраматургии Кира Константиновна Парамонова вела аналогичную нашей сценарную мастерскую на один курс младше; меняя аудитории, мы часто пересекались с ее ребятами в течение учебного дня. Среди них, кстати, ходил и Сережа Бодров, невысокий, скромный парень, ставший впоследствии автором многих хороших картин и папой талантливейшего сына.
Говорят, что именно ее образ увековечил Александр Галич в знаменитой песне «Красный треугольник» со строчками о «товарище Парамоновой», недалекой представительнице номенклатуры. Так или иначе, в жизни бывший редактор Госкино, ставшая доктором искусствоведения, была умнейшей женщиной, адекватно оценивающей окружающую обстановку. Еще одна ее ученица уже более поздних лет Рената Литвинова напишет: «Кира Константиновна Парамонова постоянно возвращала все мои работы исчерканными красными чернилам и, так что моего текста уже не было видно. Она говорила, что так просто нельзя писать, это были не орфографические, а стилистические, как она считала, ошибки. И тогда я брала эти листочки, и ка-а-аждую свою фразу ей проговаривала на слух и ее убеждала. Она говорила: «вот, когда вы сами это вслух читаете, вы меня убеждаете, что только так и должно быть». И снимала с меня и эту ошибку, и эту ошибку, и через три часа в конце концов исправляла «три» на «пять».».
Так вот, Парамонова как мастер всегда делала для своих учеников максимум возможного, активно рекомендуя их работы во все мыслимые сценарные коллегии и объединения, во многих из которых состояла сама. К ней прислушивались, и это помогло стартовать многим из ее учеников. Все это знали, и к ней за помощью иногда приходили даже выпускники из других мастерских.
К сожалению, к моменту окончания курса, который оказался для него последним, наш Иосиф Михайлович, безусловно, давший нам очень много за это время, не был готов растрачивать и без того уже не слишком крепкое здоровье на суету вокруг своих выпускников. Уходя из ВГИКа в большой, достаточно закрытый профессиональный мир, мы могли рассчитывать только на собственные способности и везение, помогающие обрести единомышленников, без которых самореализация в кинопроизводстве невозможна в принципе. А с другой стороны, кто, когда и кому обещал, что будет по-другому?
На выпускной наша Бригита Круминя принесла в аудиторию большую тарелку, накрытую непрозрачной белой салфеткой, из под которой красиво свисали муаровые ленточки. Каждая из них, как она объяснила, в соответствии с неким латышским обычаем была привязана к большому печенью, собственноручно испеченному ею в форме самых разных животных. Каждому из нас предстояло, потянув за выбранную ленту, вытянуть себе, если не судьбу, то, по крайней мере, направление существования. Счастливые ахи и наигранные вздохи сожаления сопровождали эту одну из наших последних совместных процедур – в следующий раз мы – и то не в полном составе – встретились лишь через три года на похоронах Мастера. Я помню только, что Володя Лобанов вытащил тогда потрясающего благородного оленя с ветвистыми рогами, ему завидовали. Не помню, что досталось самой Бригите. Она сейчас – дипломированная сценаристка – один из редких в Латвии специалистов по культуре Японии. Я вытащил добротную, крупную свинью, положившую начало моей коллекции свиных фигурок из разных стран. Огорчился.
Так и живу.
Семидесятые, Москва и область, ст. Болшево
Он был высокий, в последние годы чуть склонный к полноте, почти всегда ходил в не застегнутом светлом плаще, полы которого от его быстрой походки расходились на лету. Пока народ у нашего подъезда собирался, рассматривая его личный черный «ЗИМ» и гадая о статусе его обладателя – иметь такой автомобиль в личном пользовании в то время могло лишь считанное число людей в стране – он шумно врывался к нам в квартиру на Профсоюзной и громко требовал обеда.
– Людмила, я со съемок, есть хочу.
Мама бросалась что-то быстро готовить на кухне, он хватал меня на руки и, высоко подняв, начинал кружить по комнате, едва не задевая моей головой люстру на потолке.
– Дядя Лень, отпустите. – молил я до тех пор, пока за меня не вступался отец. Только тогда я оказывался снова на ногах и должен был отвечать на сто вопросов об успехах за день.
Леонид Луков, народный артист, дважды Лауреат Сталинских премий, орденоносец – как непременно указывали тогда в титрах – был, пожалуй, одним из лучших друзей отца, с которым они долгие годы шли по жизни рядом. Его картины – «Большая жизнь» (1-ая серия) и «Александр Пархоменко» были известны каждому, а знаменитые «Два бойца» с Андреевым и Бернесом, снятые в 1943 году на Ташкентской киностудии, стали, пожалуй, самой любимой лентой эпохи войны. Кстати, там в совсем маленьком эпизодике – на лестнице в бомбоубежище с одной репликой: «Садитесь, товарищ боец», обращенной к герою Бориса Андреева, снялась в кино моя мама. Волшебство кинематографа и сегодня хранит ее живой и молодой.
Отец дружил с Луковым во все периоды очень непростой жизни режиссера. Когда тот только начинал работу в кино, в дни феноменальной популярности, когда обласканный властью и лично вождем всех народов Луков, облепленный приятелями-лизоблюдами, мог решать любые их проблемы, будучи вхож в самые высокие кабинеты страны, куда он еще иногда прихватывал с собою для наглядности Бориса Андреева или Алейникова. И позже, когда после выпуска на экран второй серии «Большой жизни» Луков попал в глубокую опалу, вызванную специальным постановлением ЦК партии, осуждавшим его «порочную» ленту вместе с картиной Эйзенштейна «Иван Грозный»; многие в студийных коридорах старались прошмыгнуть мимо, не пожав ему руки. Это была настоящая мужская честная дружба, основанная на общих профессиональных интересах и духовной близости двух художников.
Леонид Давыдович умер, когда мне было тринадцать лет, и я не забуду осунувшееся лицо отца, собиравшегося на похороны своего лучшего друга. Точно такое же поразившее меня выражение я видел у него в свои четыре года через иллюминатор маленького Ил-14, приземлившегося на поросшую травой полосу московского аэропорта, когда мы с мамой срочно прилетели с моря, вызванные телеграммой о внезапной смерти родного папиного брата, моего дяди.
Еще одним человеком из моей юности, оставшимся в памяти навсегда, был другой приятель отца кинооператор-постановщик Александр Ильич Гинцбург, кстати, снимавший тех же самых «Двух бойцов» и множество других известных картин. Он, к счастью, прожил значительно дольше Леонида Давыдовича и, кроме частых встреч, мне он запомнился одним комичным случаем, в чем-то послужившим мне примером на будущее в бытность существования всех нас в советскую эпоху тотального дефицита.
В брежневские времена, о которых до сих пор находятся любители поностальгировать, слово «купить» было практически вытеснено из лексикона людей. Непереводимый на иностранные языки в этом своем значении глагол «достать» вырастал подчас до смысла существования. В советских магазинах практически не было ничего за очень редким исключением, что можно было бы свободно купить за рубли. Кроме всевозможных спецраспределителей, которые были доступны лишь очень узкому кругу лиц, не купить, а только достать можно было хорошее лекарство, достойную книгу, сырокопченую колбасу, мебель, автомобиль, ковер, подписку на журналы, видеомагнитофон, путевку. Постепенно появлялись наработанные связи, основанные на взаимовыгодном принципе оказания услуг, и в Доме Кино лучшие места на всех премьерах в полном осознании своего достоинства годами занимали автослесари с подругами, парикмахерши, заведующие рыбными отделами гастрономов и другие очень уважаемые люди, без знакомств с которыми повседневная жизнь оказывалась совсем уж беспросветной. Людей было много, а хороших товаров и полноценных услуг совсем мало и поэтому ситуация, когда известный актер или писатель накануне своего дня рождения, лихорадочно листая записную книжку, вынужден был заискивать перед «завскладом», казалась естественной и вечной. Подвиг проклинаемого некоторыми нашими недалекими соотечественниками великого Гайдара, за пару дней сумевшего экономическими методами начать реформирование социальной лестницы страны, расставляя всех по общечеловеческим меркам заслуг перед обществом, увы, и в этой ипостаси до сих пор не осознан еще большинством отечественных «совков».
Вечный дефицит требовал воспитания в себе совершенно особенных способностей по его добыванию. Вариантов было много, и один из них мне однажды продемонстрировал Александр Ильич.
Как-то я попросил отца помочь мне реализовать пришедшую в голову идею о первой поездке за границу, кажется, в Венгрию. Очень занятый на съемках, он переадресовал мою просьбу своему приятелю Гинцбургу, как раз располагавшему тогда свободным временем. Александр Ильич охотно согласился помочь сыну товарища и взялся за дело с присущим ему энтузиазмом ко всему, что требовало нестандартных решений.
Наилучшим вариантом поездки для молодежи за рубеж тогда теоретически могла быть путевка Бюро международного молодежного туризма «Спутник», всесоюзной организации, существовавшей под покровительством комсомола. Стоили путевки тогда на порядок меньше интуристовских, распределялись строжайшим образом для поощрения ударников труда и комсомольских активистов и слыли жутким дефицитом. Естественно, назначаемые ЦК комсомола главные функционеры Центрального Бюро, обладая такими возможностями, были абсолютно недоступны для простых молодых людей и существовали в полной уверенности, что жизнь удалась.
Небольшой, ныне уже не существующий особнячок Бюро находился в нише перед выездом из центра на Большой Каменный мост, прямо напротив Боровицких ворот. Гинцбург, отдуваясь, поднялся вместе со мной на второй этаж, и мы вошли в роскошно обставленную приемную с видом на Кремль, где стены были украшены плакатами с ликующими африканцами и азиатами, которым повезло в жизни приветствовать советских молодых людей с комсомольскими значками.
– Здравствуйте. – громко произнес Гинцбург и ткнул мне пальцем в один из мягких стульев у стены. – Сиди здесь.
Одна из секретарш, сидевшая ближе к обитой мягкой кожей двери с резной табличкой «председатель», сочла возможным оторвать голову от бумаг.
– Вам что, товарищи? У нас нет приема. Обращайтесь, пожалуйста, в вашу первичную организацию… на производстве у себя…
Гинцбург, не удостоив ее взглядом, мельком посмотрел на обе двери, находящиеся в разных концах большой приемной, очевидно, взвешивая солидность обитающего за каждой хозяина кабинета и, приняв решение, направился именно к двери с табличкой. То, что он вычислил главного вовсе не по надписи, было очевидным.
– Стойте, туда нельзя. – испуганная секретарша приподнялась: – Товарищ, что вы делаете?.. Остановитесь немедленно…
Гинцбург обернулся. Казалось, вся его дородная фигура выражает неслыханное изумление по поводу того, что его все еще не узнали. Хорошо поставленным голосом он громко, как на актерских пробах, произнес только одну фразу:
– Я – заслуженный деятель искусств БССР и РСФСР, кинооператор Александр Гинцбург.
Это прозвучало так, что сомнений в том, что все присутствующие стали свидетелями главного событии своей жизни – второго пришествия – уже не оставалось. Особенно убедительно выглядела гордая буква «Б» в первой части титула.
– Но. там… там совещание. – забормотала секретарша уже вслед закрывавшейся за Александром Ильичем двери.
Минут через пять меня пригласили в кабинет, и, остановив действительно идущее совещание, начали подробно расспрашивать об удобной мне дате поездки и пожеланиях по маршруту.
Александр Ильич в дальнейшей беседе участия уже не принимал. Сидя в мягком кресле и отхлебывая из хрустального стаканчика холодный «Боржоми», он лишь изредка наклонял голову, как бы давая понять молодому функционеру, что тот в целом на правильном пути…
…Несколько десятилетий в нашем кино существовало слово, при котором у разных поколений кинематографистов теплели глаза и наплывали дорогие сердцу воспоминания. Мое, очевидно, стало одним из последних. Построенный еще до войны в стиле сталинского классицизма и потом реконструированный Дом творчества кинематографистов «Болшево» на протяжении нескольких десятков лет был для многих киношников уютным прибежищем и местом реализации замыслов. Не будет преувеличением сказать, что подавляющее большинство сюжетов, сценариев, режиссерских разработок отечественного кино рождалось именно тут, в скромно обставленных комнатах, на аллейках небольшого неухоженного парка, уступами спускающегося к поросшим кустарником берегам грязноватой Клязьмы. Существовали два круга для прогулок «большой гипертонический» и «малый гипертонический». От Москвы можно было доехать сюда минут за сорок на электричке, за столько же на машине, если не попасть в пробку на существовавшем тогда железнодорожном переезде, и это был оптимальный вариант вырваться за пределы душного города со всеми его ежедневными заботами и спокойно заняться своим профессиональным делом. Избавляясь от бытовых хлопот, сценаристы приезжали сюда работать над сценариями, режиссеры готовиться к запуску очередной ленты. Получить путевку чле ну СК на длительный срок сюда было непросто, зато начиная с пятницы творилось тут столпотворение – приезжали на выходные, кто на своих «Москвичах» и «Волгах», кто на студийных рафиках, с семьями, с детьми, собачками, а те, кто спокойно относился к сплетням, – и с новыми подругами. За некоторыми маститыми кинематографистами были даже неофициально закреплены небольшие деревянные домики, расположенные рядом с главным корпусом. Пожалуй, невозможно назвать более или менее известную кинематографическую фамилию из тех, кто хотя бы раз не появлялся тут. Здесь сочиняли свои сценарии Ежов, Черных, Дунский и Фрид, Габрилович, Шпаликов, Трунин, Володарский, Гребнев, работали режиссеры Кончаловский, Юткевич, А. Смирнов, Хейфиц, Анненский, Шукшин. Чтобы перечислить всех, надо просто скопировать весь справочник нашего Союза – не ошибешься. На базе Дома творчества проводились разнообразные встречи и семинары, например, главных редакторов киностудий СССР, молодых кинематографистов. Хорошее, «намоленное» было место.
В период очередных семейных разборок Дом творчества часто становился убежищем от семейных неурядиц, позволяя в более или менее приличных условиях и не за дорого пережить столь частые в среде киношников домашние неурядицы и даже разводы. Поскольку никаких мобильных телефонов не существовало, чтобы позвонить в Москву, надо было выстоять очередь в кабинку на первом этаже, где стоял единственный на весь Дом телефон с выходом в город, и потом долго накручивать диск старого аппарата, чтобы через поселковый коммутатор соединиться наконец с шестой попытки с нужным столичным абонентом. На пришпиленных прямо к стенке бумажках, а то и на самом обшарпанном столике, на котором стоял телефон, записывались нужные номера. Слышно было всегда плохо и приходилось кричать так, что даже через закрытую дверь кабины проходящие по коридору в столовую волей-неволей становились свидетелями не предназначавшихся для чужих ушей событий. Легко можно было узнать у кого и как идут дела.
У входа в столовую, где работавшие тут по много лет немолодые официантки, давно и хорошо изучившие характеры и вкусы большинства постоянных гостей, стоически терпеливо старались повкуснее накормить гостей в обед, вывешивалось объявление с названием фильма, который показывали вечером в маленьком подвальном кинозальчике Дома. Надо сказать, что картины были либо из числа отечественных премьерных, либо западные из спецхрана Госфильмофонда. Тогда в зал пускали только отдыхающих членов Союза, отказывая даже специально приехавшим на просмотр из Москвы, но мест все равно не хватало.
Много лет бывая тут поначалу, главным образом у отца, а потом и по своим делам, я вживался в общую атмосферу кинообщежития, где каждый был уверен в том, что знает цену каждому. Часто набор громких почетных званий и госрегалий не компенсировал ироничное отношение к заслугам того или иного коллеги, поскольку все были в курсе за что и каким образом получены те или иные награды. Правда, истинное отношение к человеку, руку которого только что с умело изображаемым уважением пожимал, высказывалось, как правило, за закрытой дверью своего номера, в компании родственников или уж совсем близких друзей. Считалось, что помочь в советском кинематографе может далеко не каждый, а вот навредить – почти любой.
Но было тут много людей, живших как бы вне этого мира интриг и подсиживания – одни, потому что давно уже были выше той планки, при которой повредить их работе мог отрицательный отзыв кого-либо, кроме члена Политбюро ЦК КПСС, другие – наоборот, потому что жили своим творчеством и сиюминутные соображения попросту оставались за предел ами их внимания. Надо сказать, когда окружающие осознавали, что подобная позиция – это не выбранная роль, а совершено искреннее мироощущение коллеги, то большинство проникалось к нему искренней симпатией – или, напротив, открыто демонстрируемым неприятием.
Работая над очередной картиной, Василий Макарович Шукшин редко выходил из своей комнаты. Выбираясь все же к обеду, он шел по коридору первого этажа Дома творчества, обязательно глядя куда-то себе под ноги, стараясь как бы вжаться в слабоосвещенное пространство, словно опасаясь встретить очередного знакомого, на пустой разговор с которым надо будет отвлечься и потратить время. Наверное, оставалось еще и что-то от комплекса сельчанина, оказавшегося среди горожан. Всегда скромно, если не сказать – бедновато одетый, в ношенном пиджачке и трикотажной рубашке с тремя пуговицами под воротником, он мало походил на большого писателя и замечательного актера – скорее, на местного ремонтника, только что закончившего работу в одном из номеров. Для полноты ощущения не хватало только фибрового чемоданчика для инструментов с оббитыми углами. Киношники за его спиной толкали приехавших на выходные жен или взрослых детей – «Шукшин…», и те, замерев, вглядывались в спину уходящего человека, книгами которого как раз зачитывались тогда в Москве…
Когда начинало темнеть, на небольшой открытой веранде, где полукругом были расставлены столы и стулья, постепенно начинала собираться публика, закончившая в основном сегодняшний трудовой творческий день. Кто-то приносил шахматы, кто-то просто обсуждал производственные дела на студии с приехавшими позднее. Женщины, взявшись под ручку, прогуливались вокруг дома по неровным тропинкам, сплетничая. Некоторые захватывали с собой чай в мельхиоровых подстаканниках из столовой, что запрещалось, и, достав привезенные родственниками сдобы и пирожки, приглашали коллег угощаться. Устоявшиеся за многие годы компании готовились расписать пульку, расчерчивая мятый лист из дефицитной пачки, приготовленной под сценарий писчей бумаги.
Невысокая, склонная к полноте женщина вывозила на веранду через двойной порожек – ей бросались помогать – кресло-каталку с больным мужем. Это Эдит Утесова, дочь Леонида Осиповича, выходила на вечернюю прогулку со своим мужем – режиссером и сценаристом документального кино Альбертом Гендельштейном, уже тогда тяжелобольным. Потом, всегда в сопровождении людей, появлялся и сам Леонид Осипович, устраивался за боковым столиком возле балюстрады, который специально старались не занимать. Разговоры на веранде сразу стихали, оставшиеся свободными стулья мгновенно оказывались расхватанными, и те, кто в виду отсутствия личного знакомства не мог себе позволить сидеть за столом, устраивались полукругом неподалеку.
Продолжая начатый еще по дороге на веранду разговор с кем-то из приятелей, Утесов начинал негромко говорить, и публика, затаив дыхание, старалась уловить каждое слово, произнесенное знакомым всем голосом. Уже через минуту территория Дома творчества содрогалась от первого взрыва хохота, люди торопились с прогулки на веранду, на ходу выспрашивая опередивших: «Что… что он сказал?».
– Ну вот. кто-то ему позвонил и спрашивает: «Как живешь?» – «Очень хорошо», – отвечает этот. Так звонивший говорит: «Простите, я не туда попал…» – и вешает трубку…
Говорит Утесов негромко, медленно, не просто рассказывает, а проигрывает всю историю.
«Еду давно уже в Одессе в трамвае. Контролер девушку, что рядом стоит, просит билет показать, она в слезы – выясняется, кошелек украли… Я спрашиваю – а сколько у вас там было? Двадцать копеек, говорит. Я ей дал двугривенный, она билет купила, едем дальше… На остановке мне уже выходить, она так вежливо до плеча дотрагивается: послушайте, а может, вы мне и кошелек отдадите?».
Импровизация Леонида Осиповича на тему «Я и мир» продолжалась. И через каждые пару минут ближний круг слушателей взрывался хохотом, затем, получив уточнения того, что недослышали, начинали смеяться и все остальные.
«Собрались грузин, армянин, украинец и еврей. Человек произошел от обезьяны. Хорошо! Но какая это была последняя обезьяна, после чего появился человек?
Грузин: «Шимпанзе!» Армянин: «Павиян!» Украинец: «Горилло!» «Не будем спорить, – сказал еврей. – Абрам-гутан!»».
После взрыва хохота – дальше…
«Мужичок спрашивает апостола Петра:
– Можно видеть Божью мать?
– Проходи направо…
Зашел. Сидит старая еврейка в очках и вяжет.
– Матерь Божья, скажи, как это ты родила от непорочного зачатия Сына Божьего?
– Откровенно говоря, мы хотели девочку!»
Конечно, для меня, по существу еще мальчишки, приезжавшего сюда изредка, главным образом в гости к отцу, многое из жизни Болшево оставалось за кадром. Выпускник предыдущей мастерской Маневича Эдик Тополь, который прожил тут многие годы, и позднее эмигрировав в Америку, сделал головокружительную литературную карьеру на антисоветских романах, рассказывал уже в наши дни:
«Был такой период, когда Юткевич, например, делал фильм «Ленин в Париже». Юлий Яковлевич Райзман делал фильм «Твой современник», а до этого он делал фильм «Коммунист». Кто-то еще делал, я не знаю, там Озеров делал «Покорение Европы», кто-то еще писал что-то такое очень партийно-направленное. Но если вечером, после одиннадцати, когда все затихало, пройти по коридору Дома творчества «Болшево» на цыпочках, то можно было услышать, как из под каждой двери доносился «Голос Америки», «Немецкая волна», «Би-би-си», «Голос Ватикана» – все вражеские голоса. Все слушали по вечерам вражеские голоса, а утром клепали советское кино.
И существовал еще в Болшево, как раз был открыт, закон Паши Финна. Закон гласил: всегда количество людей плюс две бутылки. Если это двенадцать человек, то этих четырнадцать, если это пять человек – семь, если это три человека – пять бутылок как раз. Это тогда называлось закон Паши Финна. Павел, не знаю как его отчество, честно говоря, очень худенький, даже весил меньше меня, но по возможностям своим превосходил всех, и принял этот закон. А мы этим законом злоупотребляли. Честно скажу, в Болшево по вечерам делать было особенно нечего. Здесь был бильярд, конечно, было кино, но были и всякого рода поводы, каждый раз находились, поскольку кто получил гонорары, у этого приняли картину или, наоборот, у этого не приняли картину, тогда тоже надо выпить, потому что фильм зарезали, дали поправки и так далее… Мы считали, за нами не так наблюдают старшие товарищи, но однажды, например, ко мне подошел Юлий Райзман и сказал: «Эдуард, это уже слишком. Ей пятнадцать лет». «Ну что вы. Ей уже восемнадцать». И Райзман пожал плечами и сказал: «Ну не может быть». Повернулся и ушел».
Многие вспоминают как вечерами в какой-нибудь одной комнатушке, куда набивалось человек по двадцать, слушали Галича, тоже члена Союза кинематографистов. На эти импровизированные концерты приходили какие-то незнакомые люди, все начинали бояться: свои ли это люди, могут ли они слушать Галича. По утрам он писал сценарий «Государственной границы» о чекистах, а по вечерам пел песни о тупости советского режима.
Годы шли, и Дом постепенно ветшал. На майские праздники 1977 года из Болшево мне дозвонился отец. Он только что закончил там режиссерский сценарий многосерийного телефильма «И снова Анискин» по глуповатой книжице популярного некоторое время литератора Липатова о деревенском «детективе» и должен был запускаться с картиной в подготовительный период, начал уже формировать съемочную группу. Разумеется, он прекрасно отдавал себе отчет в «ценности» такого литературного материала, но то, что он хотел ставить из классики, ему не давали, и опять надо было выживать…
– Приезжай, – попросил он, – пообедаешь тут со мною, погуляем. Вечером что-то обещают в кинозале…
Мой «Запорожец», похоже, обремененный собственным именем, по непонятным причинам в последние дни опять отказывался заводиться, а тащиться на автобусе, метро и электричке за город очень не хотелось. Я отказался.
– Увидимся же еще на неделе…
Через пару часов отец перезвонил еще раз.
– Слушай, ну давай приезжай сегодня… очень хочу тебя видеть, поговорим… Если не приедешь – жалеть ведь потом будешь. – сказал он.
И сегодня спустя почти три с половиной десятка лет я не перестаю думать о том, могло ли что либо измениться, если бы я согласился. Ну что стоило мне, молодому и здоровому, оторвать задницу от мягкого кресла и дойти до остановки автобуса, хорошо видной с нашего тринадцатого этажа. Я отлично осознаю, что ответа на этот вопрос не существует – во всяком случае, мне никогда не будет дано его знать – и все равно проклинаю себя. Много лет спустя я рассказал об этом своему сыну.
Лень оказалась сильнее. Я не поехал.
Часа через три в нашей квартире на Ленинском проспекте вновь раздался телефонный звонок. Не помню уже кто, кажется, женский голос, сказал, что звонят мне из Болшево от Исидора Марковича, и я должен немедленно туда приехать…
… Я прошел по пустому коридору первого этажа Болшево, толкнул дверь комнаты. Отец лежал на диване, головой к выходу, лицо было спокойным, рот чуть приоткрыт, глаза закрыты… В коридоре начинали собираться люди. через час пришла медицинская машина из местной больницы…
…В последующие лет пятнадцать я заставил себя приехать в Болшево только один раз на двадцать минут – в силу крайней профессиональной необходимости… Встреча та оказалась абсолютно бессмысленной.
С годами Дом творчества понемногу приходил в негодность, денег на ремонт уже не было. Контингент отдыхающих резко изменился, путевки начали продавать на сторону, начиналась новая эпоха, и большинству кинематографистов стало не до подмосковного Дома творчества. В конце концов Союз кинематографистов продал кому-то Дом отдыха в Красной Пахре с обязательством покупателей реконструировать Болшево и даже надстроить там третий этаж. Надо ли говорить, что едва начавшись, стройка тут же и закончилась – деньги бесследно исчезли. С 1994 года Болшево как такового не существует. Говорят, что идут какие-то вяло текущие судебные процессы по поводу земельного участка. Разумеется, надеяться, что жуликоватые управленцы, оказавшиеся сейчас у власти в СК, реанимируют старый Дом творчества, где рождалось отечественное кино, не приходится, у них теперь совсем иные заботы. Болшево больше нет.
Надо было решать вопрос с захоронением. Дело к тому же осложняли майские праздники. До тех пор, пока в социалистической столице не сталкиваешься с той или иной проблемой, невозможно даже себе представить все сложности ее решения. В начавшей необходимые хлопоты администрации отцовской киногруппы быстро осознали, что в нужные сроки проблему с подходящим кладбищем не решить. Опытный замдиректора сказал мне: «Съезди ты сам, Саня, к Михал Иванычу, он сейчас депутат Моссовета, он все расставит…».
Народный артист СССР, семидесятивосьмилетний Михаил Жаров, уже в который раз в жизни вновь должен был работать с отцом, исполняя главную роль участкового Анискина в новом сериале, и даже хотел принять символическое участие в постановке. Я позвонил ему, он чувствовал себя плохо, но сказал сразу – давай приезжай.
Утром поехал на Котельническую набережную. Грандиозный высотный дом над рекой – одна из знаменитых семи московских «сталинских» высоток, в котором в свое время получали квартиры как награды многие выдающиеся деятели искусства, актеры, писатели, выглядел тогда торжественно и строго – громадный, отделанный мрамором холл, пальмы в кадках. Выйдя из лифта, я позвонил. Дверь мне открыл кто-то из домашних, и Жаров сам, кутаясь в старый халат с шарфом на горле, вышел в узкий коридор большой квартиры.
– Пойдем. – он поманил меня в какую-то маленькую комнатку, заваленную книгами, плотно закрыл за нами дверь, показал на шаткий стул. Дышал он тяжело – то ли от сильной ангины, то ли уже просто в силу возраста. В комнатке было темновато и пахло лекарствами.
Я начал было объяснять, но Жаров быстро махнул рукой.
– Я знаю… несчастье… Сиди… и скажи мне толком – что точно надо…
Он достал откуда-то с полки потрепанные записные книжки с выпадающими страничками, начал их листать. Наконец, отыскав в перечеркнутых листках нужный номер, пододвинул к себе старенький телефонный аппарат.
– Это Жаров говорит… да, спасибо… Есть Владимир Федорович? В ЦК?.. А первый зам?.. Ну, соедините с ним…. погоди – как его отчество напомни… Да, сейчас, сейчас… Здравствуйте, это Жаров…
Он прижал трубку ладонью и начал что-то говорить.
– Нет уж, это пусть как семья хочет… И почетное звание тоже есть… да. Конечно. сессия?.. Я помню. Нет, я не уезжаю… Вам тоже. До свидания…
– Завтра с утра зайдешь к этому. говну собачьему… им заявление от родственников надо, – задыхаясь, он протянул мне нацарапанную на бумажном обрывке фамилию первого заместителя председателя Моссовета. – Вот, он все сделает… Скоро уже и я, видишь… – он закашлялся. – Позвонишь тогда?..
Заслуженного деятеля искусств России Исидора Анненского похоронили в земле только начинавшего тогда функционировать филиала Новодевичьего кладбища в Троекурово, это была первая урна в его истории.
Сам Михаил Иванович, не без труда добившись назначения себя режиссером-сопостановщиком при каком-то приглашенном профессионале, успел отсняться в той ленте про деревенского милиционера и ушел из жизни четыре года спустя. Каким-то образом, – говорила дочь, – врачи ухитрились пропустить банальный аппендицит. И Жаров умер от перитонита. Он не любил, когда его навещали в больнице. Даже жену в последний свой день заставил уйти из палаты: зачем на меня такого смотреть? На его рабочем столе осталась записка: «Ничего не трогать, скоро приду».
…В хорошо известном доме на Старой площади, где размещался Центральный Комитет КПСС, решили, что миру пора не только побольше слышать и читать о государстве победившего социализма, но и видеть воочию наши достижения. Кому-то удалось доказать «мудрецам» из Политбюро, что телевидение само по себе штука куда более убедительная, чем радиопередача или даже статья с фотографией. Было принято решение в крупнейшем информационном агентстве страны, формально «общественном» по своему статусу – АПН, на базе маленького отдела создать Главную редакцию телеинформации, которая содействовала бы приезжающим иностранным журналистам в организации съемок по всей территории Союза. Назначили начальника из своих – работавшего в ЦК молодого энергичного Анатолия Васильевича Богомолова. Этому неплохо образованному умному аппаратчику предстояло потом еще долго работать в области идеологии, побывать на руководящих постах на центральном радио и телевидении, быть главным редактором сценарной коллегии Госкино. Сейчас, полысев и слегка погрузнев, он завершает трудовой путь на тихой должности секретаря Союза журналистов.
Штат редакции формировали по принципу Ноя – каждой твари должно было оказаться по паре. Проверенную Библией пропорцию соблюсти почти удалось, и число отставных сотрудников КГБ, ГРУ и еще каких-то других спецслужб, как выяснялось впоследствии, приблизительно соответствовало в редакции числу профессиональных журналистов. Отмучившись перед отставкой пару лет на хозяйстве в отделениях Союза обществ дружбы или в торгпредстве в какой-нибудь из африканских столиц и уволенные за отсутствие мозговых извилин и дурное знание местного наречия, косноязычные бодрячки-подполковники уютно расселись на хорошо оплачиваемые руководящие должности. Но если их недавнее прошлое несложно было вычислить по единственному дежурному галстуку на несвежей рубашке, то о подробностях биографии других, более молодых, догадывались не все и не сразу.
Конечно, нужны были и профессионалы, знающие как делается телекинопродукт. Пришли люди с Центрального Телевидения, производственный отдел возглавил хамоватый, но знающий дядька со звучной фамилией Дуб. Пока не размножили стандартные бланки заявок на съемки, дискуссия о том, как правильно следует адресовать ему бумаги, ежедневно доставляла несколько веселых минут редакторам, обсуждавшим все возможные варианты склонения его фамилии.
Редакция делилась на отделы по языковому принципу – редакторы, знающие английский, работали с аккредитованными в Москве и приезжающими на события американцами, канадцами, англичанами и всякими иными «западниками», способными к контактам на этом языке. Большой отдел соцстран выполнял заявки коллег из «лагеря социализма», причем были в редакции люди, в силу своей биографии свободно владевшие польским, болгарским, румынским, сербским и другими не слишком распространенными языками.
Меня же взяли в сценарный отдел, который должен был принимать и утверждать литературные сценарии и сценарные планы для всех подразделений ГРТИ. Сама по себе работа была достаточно интересная и не слишком напряженная. Иногда даже выпадала пара забавных минут – помню, как мы на очередном обсуждении долго потешались над строчкой из одного опуса, гласившей: «а потом он пригласил нас домой, чтобы продемонстрировать свой хобби…». Собственно говоря, называть документ, на основе которого выезжала на съемки съемочная группа ГРТИ, полноценным литературным сценарием документального фильма было бы преувеличением. Это вполне объяснялось специфической технологией производства. ГРТИ получала обращение того или иного аккредитованного в Москве корреспондента с просьбой о содействии в организации съемок по той или иной тематике. Если сама идея, ориентировочный список объектов и кандидатуры героев, по мнению редакции, не содержали особой крамолы, которая могла бы скомпрометировать первое в мире государство победившего социализма (то есть предметом съемки не должны были стать уличные проститутки, бомжи, пустые полки в магазинах и т. п.), то соответствующий редактор или приглашенный им автор пытался изложить это в виде сочинения, приближающегося к некоему литературному образцу. Затем, после наших замечаний и поправок, текст уже под названием сценария уходил на согласование в существующие по всей стране Бюро АПН и соответствующий ЦК Республики или Обком КПСС, которым предстояло согласовать объекты и график съемок с местными спецслужбами. Разумеется, никто из иностранцев не стал бы обращаться к нам с заявками на выделение кинооператора и согласование съемок, имей они хоть какую-то возможность отснять все самостоятельно. Поскольку такого права они были изначально практически лишены, то, чтобы иметь необходимую картинку, были вынуждены прибегать к услугам нашей конторы, часто надеясь отыграться в своем комментарии к отснятому материалу. Но для того-то и ехал на съемку владеющий языком наш редактор, чтобы перекрыть любой шанс опорочить наше замечательное государство… Как-то работавший с американцами выпускник института военных переводчиков молодой редактор Петя Силантьев получил даже благодарность за то, что при отправке чудесным образом затерялся оригинал фонограммы с адекватным комментарием американца, и до Штатов добралось лишь вполне нейтральное изображение. Между прочим, через несколько лет лояльность Пети Родине была вознаграждена должностью заведующего Бюро агентства в Вашингтоне.
В связи с возрастающим интересом в мире к жизни достаточно закрытого СССР все большее число иностранных журналистов и мировых телекомпаний хотели иметь эксклюзивные кадры из этой страны, отснятые исключительно для них. Тем более что кинооператоры, работавшие в редакции, оказались вполне способными соответствовать западным телестандартам. Например, ставший фактически их лидером, как на протокольных съемках, так и при создании документальных фильмов, наш Боря Киладзе позднее, когда ГРТИ уже перестала существовать, оставался в кремлевском журналистском пуле еще лет пятнадцать.
Коллектив редакции постоянно рос, и вскоре маленький особнячок без вывески в самом центре Москвы на улице с ласкающим русское ухо названием Сивцев Вражек 25 стал действительно уже маловат. В подвальном этаже хранилась фирменная кино– и осветительная аппаратура на сотни тысяч долларов, а наверху помещались кабинеты начальства и собственно редакционные комнаты, в которых уже не хватало столов и телефонов. Редакции передали еще целое крыло на первом этаже жилого дома на Кутузовском проспекте рядом с метро, сейчас там головное отделение одного из банков. Огромные стеклянные окна, закрытые шторами, выходили частично прямо на проспект, а вход в редакцию, опять-таки лишенный какой-либо вывески, был сбоку. Сразу стало посвободнее, и наш сценарный отдел получил свою комнату с видом на спешащих по Кутузовскому прохожих.
Сложилось так, что в то время в ГРТИ приходили работать люди во многом неординарные. Например, в качестве директора киногруппы у нас появился «гимназист Валера» – Миша Метелкин, знакомый всей стране по роли в сверхпопулярной картине «Неуловимые мстители». Дальше актерская карьера у него как-то не заладилась, и после окончания экономического факультета ВГИКа он пришел к нам в редакцию. Работавшие с ним были довольны, поскольку ему удавалось преодолевать многие бюрократические препоны, просто, что называется, «торгуя лицом», – его узнавали и отказать уже не могли. В ГРТИ я познакомился с Женей Латием, тоже выпускником экономического факультета ВГИКа, ставшим, с некоторым перерывом, моим другом на несколько десятков лет вперед. Женька, у которого румынский язык был родным, неплохо говорил и на родственном французском, благодаря этому он работал некоторое время с собкором немецкого телевидения Вольфом, аккредитованным в Москве и тоже владевшим этим языком. Впрочем, тот скоро уехал, и Латию пришлось переключиться на контакты с братьями-румынами.
Помещение на Кутузовском представляло из себя несколько огромных смежных залов, проходя которые из конца в конец можно было приобщиться к делам и заботам каждого отдела. Однажды я стал свидетелем, как интеллигентная Эмма Милевская, руководительница польского отдела, едва сдерживаясь, отчитывала недавно пришедшего к нам на должность старшего редактора – блондина со стоячей шевелюрой.
Судя по тому, что сдержанная Милевская явно нервничала, сорванное задание было не первым, и первопричиной служило очевидное нежелание новичка включаться в скучноватую редакционной текучку, тем не менее требовавшую постоянной обязательности и собранности. Тот, соглашаясь с фактами, как-то равнодушно кивал головой и лишь иногда вяло пытался что-то возразить.
– Что натворил?.. – спросил я его, когда позднее в тот день мы столкнулись в холле у выхода. – Эмму завести… это надо постараться.
– Да ерунда. – он только махнул рукой. – Ну забыл. так, что теперь… мораль публично читать…
Кто мог в редакции предположить, что этот спокойный мужик, которому уже тогда было за тридцать, закончивший журфак МГУ, через несколько лет станет известен всему СССР. Его портреты с благородной сединой люди будут хранить как иконы, исцеляющие от всех сглазов и недугов. Как он объяснял впоследствии, собирая материалы в качестве журналиста о действующих шарлатанах и доморощенных целителях, он неожиданно почувствовал в самом себе «некую силу, насыщенность аномальной энергией». Заряженной им по телевидению водой сотни людей всерьез лечили мыслимые и немыслимые болячки, а его выступления собирали в залах по всей стране тысячи жаждущих. И сегодня еще имя здравствующего нашего тогдашнего коллеги – Алана Чумака – вызывает у людей множество полярных эмоций.
В болгарскую редакцию пришел щеголеватый паренек с модными усиками и хорошим болгарским языком. Рассказал, что журналист, был женат на болгарке, жил в Софии, теперь развелся и вернулся в Союз. По существующему тогда положению, человек, выезжавший на ПМЖ в другую страну – даже в такую «братскую» как Болгария, не мог оставаться членом КПСС или комсомола, о чем быстренько напомнили нашему комсоргу. У Сергея каким-то образом оставался на руках билет члена ВЛКСМ, и нас обязали проголосовать за его исключение задним числом. Билет он сдал. Мы искренне ему сочувствовали – человеку с таким пятном в биографии в любом советском государственном учреждении, а уж тем более – в такой идеологической организации как АПН, что называется, «ловить» дальше было уже нечего. Мало того, что он на долгие годы становился не выездным, но и внутри своей конторы рассчитывать даже на минимальное повышение ему не приходилось.
Наивные мы были люди… Пройдет не так уж много времени и вежливый малоразговорчивый Сережа Грызунов с неизменными поседевшими усиками станет. министром. Перед этим побывав в роли руководителя Бюро АПН на Балканах в нелегкие годы тамошних международных конфликтов, поработав в ряде изданий, он возглавил на некоторое время Госкомитет по делам печати страны. Феноменальный карьерный рост, для объяснения которого наш общий приятель Женя Латий любит использовать вполне адекватный жест, постукивая двумя пальцами по плечу: воображаемые звезды на предполагаемых погонах. Бог его знает какого точно ведомства были погоны Сергея, но, судя по всему, не самого последнего…
Жизнь в редакции продолжалась. К какому-то юбилею мне поручили написать сценарий документального телевизионного фильма об успехах страны – ГРТИ доросло уже до производства собственной продукции. На основе имевшейся архивной хроники мы с Латием – его назначили редактором – достаточно быстро смонтировали динамичную историю про достижения и успехи, называлась эта бодяга «Мы строим». АПН мгновенно разослало копии по всему миру. Картина к юбилейной дате и к нашему удивлению прошла в телеэфире минимум двадцати стран. Я получил «Золотое перо» АПН с записью в трудовую книжку, Женька – устную похвалу начальства. Зам. главного редактора со славной фамилией Дуб не преминул напомнить, что скромный авторский гонорар за фильм, который бы мне очень пригодился, следует полностью и срочно пожертвовать в какой-то там фонд, что скрепя сердце и пришлось сделать. Выбора, естественно, не было.
Между тем успех собственной продукции подвигнул начальство задуматься над продолжением ее создания с последующим предложением фильмов иностранным телекомпаниям. Я придумал тему получасового документального телефильма, съемки которого были в принципе недоступны иностранным журналистам – о подготовке летчиков советских ВВС. Ее легко утвердили, и мы с режиссером Олегом Ураловым поехали в Волгоград в знаменитое Качинское высшее военное авиационное училище летчиков – собирать материал.
Поездка это осталась в памяти надолго. На окраине города, за высоким забором, перед которым на постаменте был укреплен взмывающий в небо настоящий «Миг», шла совсем другая жизнь, как мне казалось тогда, далекая от столичных рефлексий и подковерной возни. Люди, однозначно выбравшие цель собственной жизни, последовательно и зримо шли к ее осуществлению. Им было нужно небо, и их учили быть там хозяевами. Кстати, любопытно, что в неофициальном трепе за столом многие преподаватели, старшие офицеры, тогда говорили – в общем, мы все-таки здесь учим их летать, убивать их научат в частях. Хотя в аудиториях на стенах висели плакаты с описанием и точными характеристиками секретных натовских самолетов. «Наверняка в западных летных школах висят точно такие же наши, считающиеся суперсекретными? – любопытствовал я. – На хрена же тогда вся эта дикая секретность, попытка скрыть то, что потенциальный противник на самом деле давно знает?» В ответ только пожимали плечами – так было всегда и так, очевидно, будет…
Конечно же, меня интересовал не столько во многом закрытый процесс обучения по спецпредметам, который все равно никто бы не разрешил снимать, сколько сама повседневная атмосфера жизни училища, конкретные судьбы курсантов и преподавателей. Постепенно выстраивалась линия рассказа, мы съездили на два аэродрома, где проходили учебные полеты – сначала на чешских учебных самолетах, а затем уже и на МИГах-спарках (инструктор-курсант), были в семьях живущих в городке офицеров-преподавателей.
Жили мы с Олегом в гостинице «Интурист», бронированной для нас местным Бюро АПН, в приличном двухместном номере в самом центре Волгограда. Если выходя из отеля приходило в голову повернуть налево, то через пару сотен метров оказывался перед большим универмагом, построенным уже после войны. Говорили, что из подвала, существовавшего именно тут, на этом месте, разрушенного здания выводят в старой хронике плененного маршала Паулюса. Вечерами мы покупали бутылку вина, трепались, смотрели небольшой телевизор. Обсуждали многое, Олег был на семь лет старше меня и то ли собирался жениться, то ли уже был женат на балерине. Кроме того, он в армии вполне сознательно вступил в КПСС, чем и гордился. Любил он с высоты своего возраста объяснить смысл жизни.
В большом номере с высоким потолком – гостиница строилась в самом конце пятидесятых – места было много, и каждый из нас устраивался в кресле перед телевизором, обсуждая прошедший день и намечая планы на предстоящий. Как-то разговорились о сохраняющемся с известных времен в стране тотальном наблюдении за иностранцами и необходимостью в связи с этим поменьше трепать языком.
– Чушь все это… – заметил Олег, с досадой комкая пустую сигаретную пачку. – Когда это было?.. Ну вот мы с тобою торчим тут в «Интуристе»… ну что, нас слушают, по-твоему, да? Да кому мы на фиг нужны!.. ну вот хочешь, поспорим… – он повернулся к решетке воздуховода, расположенной высоко под потолком. – Алло, ребята, если вы есть… у меня тут сигареты кончились, занесите нам в номер пару пачек, а?.. Да, я только «Космос» курю, не ошибитесь… Ну и что?… – он посмотрел на меня: – сейчас постучат в дверь, да?..
Прошло еще с полчаса и, конечно же, никто нам ничего не принес. Постебавшись еще над ленью местных спецслужб, мы допили вино и разошлись по постелям. Утром, позавтракав, торопясь на автобус, который должен был подвезти нас до военного городка, Олег и я на секунду задержались у стойки регистрации на первом этаже, где у администратора был маленький буфет, хранивший, кроме минералки и лимонада, еще разнообразные табачные изделия.
– Подожди, я иду… Мне две пачки сигарет, пожалуйста… – Олег, роясь в портмоне, отсчитывал мелочь. – Сейчас…
Пожилая администраторша, взглянув на бирку сдаваемого нами ключа, почему-то не стала открывать застекленный шкафчик, а наклонившись куда то-под стойку, достала и, глядя на Олега, положила перед ним одну за другой две пачки «Космоса».
– Рубль сорок, пожалуйста…
Мы ошарашено переглянулись. Я поднял глаза на выставленные для продажи сигареты – там было все что угодно, кроме «Космоса».
… Я написал тогда хороший сценарий, назывался он «Право на крылья» – видимо, слишком хороший для информационной редакции. На нем по справедливости стояла и фамилия Олега, но это вызвало эмоции у отставника, занимавшего должность редактора-консультанта и как бы курировавшего проект, – почему не он? Начались тупые придирки, происходящие от неспособности уловить разницу между привычным отчетом резидента о контактах и творческим произведением, призванным, кроме всего прочего, настроить режиссера, передать атмосферу и тон будущего киноповествования. К примеру, против строчки в сценарии «…от частых встреч с небом у летчиков с годами голубеют глаза…» на тексте на полном серьезе появилось замечание еще одного «специалиста»: «А если глаза карие, как у большинства латиноамериканцев?». То есть каждый намек на образное решение воспринимался дилетантами как нечто, подлежащее последующей буквальной реализации, и доказывать, что это лишь литературный киносценарий документального кино, было абсолютно бессмысленно.
Единственным выходом, как дали нам понять, было включение в соавторы этого самого малограмотного дяденьки. Но тогда выпадал режиссер. Ситуация складывалась так – либо на первую страницу вписывается этот тип по фамилии Егоров, либо вся работа идет в корзину, и Олег лишается возможности снимать. И хотя решение о замене его фамилии в качестве соавтора, чтобы спасти кино, мы принимали вместе, Уралов на меня, видимо, обиделся.
Сценарий сразу был утвержден, и группа поехала на съемки. Фильм стал для Олега во многом определяющим, его купили для телепоказа много стран.
Испаноязычный коллега, озаботившийся цветом глаз пилотов из моего сценария, всегда с энтузиазмом клеймивший на всех собраниях «капов», призывая к постоянной бдительности, по рождению был из ввезенных в СССР во времена войны с Франко испанских детей. После первой же разрешенной поездки домой по приглашению родственников, он, вернувшись в Москву, быстренько сдал партбилет коммуниста и стал сотрудничать с АПН уже в качестве представителя испанского агентства. Говорят – сам не видел – каждый раз он непременно въезжал во двор под окна особнячка на Сивцевом Вражке, чтобы все бывшие сослуживцы могли рассмотреть представительскую модель редкого в те годы в столице «Мерседеса». Возможность поменять принципы на «мерс» через определенное количество лет будут искать в стране многие.
Позднее, когда наша контора перестанет существовать, Олег Уралов перейдет на работу в ЦСДФ – Центральную студию документальных фильмов и вскоре станет там секретарем парткома (пригодится партбилет, армейский подарок…). Уже опираясь на это положение на студии, пробьет для себя полнометражную картину о Юрии Андропове, сняв ее с большим пиететом к главному КГБшнику страны. И тут же автоматом получит должность заместителя председателя Госкино, то есть заместителя министра. Я побывал потом как-то вечером по делам у него в кабинете в Малом Гнездниковском переулке… Стены были отделаны темным деревом, стояли глубокие, отполированные многими задницами кожаные кресла для посетителей. На столике под левой рукой – «вертушка» с гербом. На тяжелом дубовом столе были разложены бумаги, и Олег говорил тихо, как подобает начальству.
Я подумал тогда, что впоследствии во время служебных командировок он, наверное, никогда больше не пытался заказать сигареты в номер.
А замечательную, так запомнившуюся мне Качу, хранящую русские летные традиции с момента ее открытия Великим Князем в 1910 году и подготовившую для Отечества 342 Героя Советского Союза, 17 Героев Российской Федерации, 12 маршалов, 300 генералов и пять космонавтов, расформировали в одночасье решением правительства в 1998 году. Действительно, ну на хрена козе баян. Куда как важнее заниматься поиском национальной идеи…
…Говорят, что владелец «Нью-Йорк Таймс», как-то повесив телефонную трубку, вернулся за домашний обеденный стол:
– Звонил Президент Соединенных Штатов.
– И что ему от тебя надо?… – спросила мама.
Ценность самого факта владения информацией, возможность управления ею в разной степени осознавалась властями всегда. Десятилетиями существовал в СССР так называемый «белый ТАСС» – секретный вестник мировой информации, который распространялся исключительно среди элиты – тех, кому особо доверяли. Стопки отпечатанных на множительной технике листков делились не только тематически – по континентам, странам, проблематике, но и по цвету бумаги – каждый из ответственных чиновников получал тот вариант информации по событию, который был ему положен по занимаемой должности. От лишь чуть более подробных по сравнению с общедоступными газетными публикациями новостей до скрупулезного анализа реальных, подчас замалчиваемых фактов, о которых страна не должна была даже догадываться, причем с возможными прогнозами аналитиков предстоящих в связи с этим событий. Каждое утро вестники эти доставлялись в идеологические учреждения, редакции, агентства спецсвязью, фельдъегеря же и забирали стопки просмотренных листков на следующий день. По утверждению гендиректора ТАСС Игнатенко, он отменил эту практику лишь в августе 1991 года – если согласиться, что именно в этот момент он мог что-то самостоятельно отменить.
Однажды меня позвали к шефу. Плотно закрыв две двери предбанника его небольшого, но уютного кабинета, я устроился на стуле сбоку от длинного стола, пытаясь вспомнить свое последнее по времени прегрешение. Но оказалось, что это приглашение, наоборот, свидетельство особого доверия к молодому, с ленцой, но жутко способному редактору. (Как это у английского философа Юма: «…так трудно говорить о себе, не предаваясь тщеславию…»).
Оказывается, принято решение дать достойный отпор средствами телевизионного кино отщепенцу Сахарову А. Д., продолжающему свои клеветнические выступления в западной печати. Для чего необходимо создать убедительный телевизионный фильм, раскрывающий истинное положение вещей, опровергающий заявления вышеупомянутого ученого, вставшего на путь прямого подрыва социалистических основ нашего строя. (Это я уже от себя; Богомолов, как я говорил, был человеком совсем неглупым; видимо, не считал и меня полным идиотом и дежурными формулировками не пользовался). Короче говоря, нужен хороший сценарий. Разумеется, работа эта крайне ответственная – поэтому основным автором назначен Владимир Борисович Ломейко, главный редактор главной редакции стран Западной Европы АПН. А мне предстоит всячески ему помогать. Для чего вначале следует съездить на Пушкинскую в основное помещение Агентства и представиться.
Анатолий Васильевич снял трубку и набрал внутренний номер Ломейко, сказал тому что-то хорошее обо мне и уточнил время, когда тот был бы готов меня принять.
Владимир Ломейко оказался человеком весьма демократичным. Я знал о нем только, что он – германист, совсем недавно возглавлявший Бюро АПН в ФРГ и до сих пор часто выступающий с комментариями в западной прессе. Выглядел он классно – безукоризненно сидящий очень дорогой костюм, солидные роговые очки. Он вышел к дверям в приемную перед своим маленьким кабинетом, чтобы встретить меня. По советскому табелю о рангах нас – начинающего редактора и члена Правления АПН – разделяло пространство, равное Большому каньону.
– Привет… Ты извини, совершенно неожиданно меня в ЦК вызывают… Ты вообще в курсе темы… последние заявления Андрея Дмитриевича знаешь?
То, что он назвал Сахарова по имени-отчеству, меня удивило. Тем не менее отвечать на его вопрос следовало, подумав: было ясно, что единственным доступным мне источником подробной информации по этой теме могло быть только «враждебное» радио, типа «Голоса» или «Свободы». С другой стороны, сказать в этой ситуации «нет» – тоже было бы странным. Я пробормотал что-то неопределенное. Ломейко, похоже, оценил мою скромность.
– Знаешь, давай так… Ты иди пока к нам в Первый отдел. помнишь, на каком этаже? Я позвоню. Они тебе там все подберут… А потом вместе обсудим…
Я не помнил по той простой причине, что до сих пор никогда там не бывал. За неприметной белой дверью, открывающейся на звонок, оказался небольшой предбанничек с откидывающимся в глухой стене железным окошком. В углу стоял стол. Изучив мое удостоверение, мне выдали под расписку тонкую пачку листков уже упомянутого «белого ТАССа». Это оказались переводы нескольких интервью академика американским журналам. Выносить их – даже в коридор – было, как мне объяснили, нельзя и, примостившись за столом, я, ощущая себя допущенным к страшным государственным секретам, начал читать.
«…Какие же внутренние реформы в СССР представляются мне необходимыми, – говорил журналистам Сахаров. – Вот они:
1) Углубление экономической реформы… полная экономическая, производственная, кадровая и социальная самостоятельность предприятий.
2) Частичная денационализация всех видов экономической и социальной деятельности, вероятно, за исключением тяжелой промышленности, тяжелого транспорта и связи.
3) Полная амнистия всех политзаключенных.
4) Закон о свободе забастовок.
5) Серия законодательных актов, обеспечивающих реальную свободу убеждений, свободу совести, свободу распространения информации.
6) Законодательное обеспечение гласности и общественного контроля над принятием важнейших решений.
7) Закон о свободе выбора места проживания и работы в пределах страны.
8) Законодательное обеспечение свободы выезда из страны и возвращения в нее.
9) Запрещение всех форм партийных и служебных привилегий, не обусловленных непосредственной необходимостью выполнения служебных обязанностей. Равноправие всех граждан как основной государственный принцип.
10) Законодательное подтверждение права на отделение союзных республик, права на обсуждение вопроса об отделении.
11) Многопартийная система.
12) Валютная реформа – свободный обмен рубля на иностранную валюту.».
Странно сегодня перечитывать эти постулаты в качестве документа с грифом «сов. секретно». С тех времен ехидная История сумела сделать так, что они, став лозунгами перестройки, успели оказаться полностью реализованными, стать повседневностью, а потом вновь в большинстве своем превратиться в актуальные призывы на транспарантах.
Но и тогда я не понимал, что же тут вредного, что надлежит опровергать в фильме, и как можно это сделать.
Сегодня, возвращаясь в те времена, со страхом осознаю, что находясь в том своем положении, скорее всего бы, попробовал… Попытался бы найти какую-то наиболее приличную форму, если таковая существует для опровержения правды, и попробовал. Стандартное оправдание: не я такой – времена не выбирают… как у Шварца в «Драконе»… Но Бог уберег.
Владимир Борисович Ломейко, доктор исторических и политических наук, стал Чрезвычайным и Полномочным Послом, представителем СССР и России в ЮНЕСКО. Был, кстати, вторым мужем дочери Андрея Громыко. Ушел из жизни чуть больше года назад. А то гнусноватое кино мы с ним так и не сделали, судьба, к счастью, избавила меня и его от греха. Не сложилось. Теперь вот понимаю, что к счастью.
Двухтысячные, Западная Европа
Километров за тридцать до Парижа начали попадаться вырванные с корнем деревья на обочинах, разрушенные легкие навесы остановок, поваленные фонарные столбы. Ураган тут случился буквально пару дней назад, и власти не успели до конца ликвидировать все его последствия. Если конструкции и деревья, препятствующие движению, оперативно убрали, то остатки веток, какие-то булыжники и прочий мусор, видимо, принесенный порывами сильнейшего ветра, еще сохраняли для проезжающих картину стихийного бедствия, которому подверглись окрестности французской столицы в преддверии нового 2000 года. Кажется, даже автомобильный поток, обычно нарастающий по мере приближения к метрополии, был на этот раз не таким напряженным, хотя из-за непривычной грязи и не высохших луж на улочках небольших городков водителю нашего автобуса приходилось снижать скорость. Немцы не отрывались от окон, обсуждая увиденное – Германию, к счастью, ураган на этот раз почти обошел стороной.
Логично было считать случившиеся французские неприятности частью большого списка проблем, предрекаемых прессой человечеству при смене веков; слово «миллениум» за последние дни уже стало наиболее употребительным на газетных страницах. Кто-то со страхом ожидал мирового компьютерного сбоя и связанных с этим столкновений поездов, падения самолетов, техногенных аварий и отсутствия горячих круасанов в ближайшей к дому булочной. Кого-то посетила мысль привести в порядок все дела в ожидании если не визита фискального ведомства, то, по крайней мере, второго пришествия.
К тому же списку неадекватных проявлений человеческой мысли относилась, как казалось вначале, и посетившая нас в самую последнюю минуту идея встретить предстоящую смену одного века другим как-то необычно – все-таки шансов на то, что такая возможность для нас повторится, было не очень много.
Но, как оказалось, обо всем следует заботиться заранее. Все поездки с более или менее приемлемыми условиями пребывания оказались давно раскупленными, а останавливаться на праздники в похожих на школьный пенал номерах парижских двухзвездников после ночного переезда не хотелось. Мы записались в лист ожидания в своем турбюро, но его хозяйка, пожилая дама, отчего-то почтительно именовавшая меня титулом «господин доктор А.» с непременным немецким ударением на втором слоге фамилии, ничего не могла пообещать. К тому же на Францию в преддверии нового года налетел ураган, и по немецкому телевидению целый день показывали, как мучаются бедные французы под проливными дождями со снежными зарядами и срывающими черепицу порывами ураганного ветра. Короче, мы решили, что если не найдется к празднику хотя бы более или менее приличный номер, то привезенная мною недавно из Москвы бутылка хорошего «Абрау-Дюрсо» будет распита дома, в Баварии. Но комната в самый последний момент нашлась, ураган как будто стих, и теперь отечественная бутылка мирно дремала в сумке в чреве туристического автобуса, ранним декабрьским утром подъезжающего к столице Франции.
Можно по разному относиться к небольшому городу Парижу. Если абстрагироваться от елея путеводителей и попытаться не воспринимать его как символ из числа тех, которые по словам француза Флобера: «нельзя касаться… потому, что их позолота остается на пальцах», то можно открыть для себя множество проявлений совсем непростого для жизни, но живого города, очень толерантного практически всем вызовам времени и остающегося при этом сугубо национальным. К примеру, с каждым годом все более заметное «почернение» толпы на улицах за счет без особого труда вливающихся в мегаполис жителей бывших французских колоний и, казалось бы, ослабление, таким образом, самой идентичности столицы компенсируется стойким нежеланием почти повсюду общаться на любом языке, кроме французского.
Впрочем, уйти от прошлого им все равно невозможно… Достаточно, как писал я в книжке «Париж» об этом городе, каждому провести несложный тест, результат которого легко предсказуем. Припомните известные имена самых прославленных иностранных деятелей культуры и искусства всех времен и народов. А теперь вспомните национальность или гражданство каждого из них, язык, на котором их шедевры создавались и обсуждались, место на планете, где впервые были они обнародованы. Нет сомнения, что в подавляющем большинстве случаев ответ будет один и тот же – Франция. Через жизнь проходят с нами имена писателей этой земли: Дюма, Золя, Мопассана, Бальзака, художников: Монэ, Ренуара, Матисса, Сезанна, композиторов и исполнителей: Берлиоза, Бизе, Леграна, Пиаф, Азнавура, модельеров: Сен-Лоранна, Диора, Шанель, Живанши.
Практически, каждый из них, так или иначе, был связан с Парижем.
Великая культура великого народа – и когда в полной мере осознаешь это, начинаешь снисходительнее относиться к достаточно очевидному франкофонству, так естественно проявляющемуся у большинства жителей этой страны. Что ж, они имеют, в конце концов, на это право потому что, как никто, удивительно бережно относятся к собственному прошлому и настоящему, ревностно охраняя свое уникальное культурное наследие от чужих, главным образом «заатлантических» веяний. И, может быть, не получив подчас вразумительного ответа на улице на свой несложный вопрос, стоит попенять на самих себя, что собираясь сюда, вместо всегда выручавших английских фраз, не удосужились на этот раз подучить пару-тройку французских выражений?..
И живут в этом городе во многом по-своему. Описание утра по-парижски: «Я встаю, съедаю круассан, одеваюсь и еду домой».
Следует помнить, что решившись прокатиться по Сене на речном трамвайчике, надо быть повнимательнее на открытой палубе при проходе под многочисленным мостами – на головы пассажиров имеют обыкновение случайно падать пластмассовые стаканчики с недопитой колой или кусочки вкусной пиццы, причем молодежь, роняющая их, испытывает видимое удовольствие, несколько контрастирующее с ощущениями тех, кому сувениры достаются. Зато прогуливаясь по центру можно не смотреть себе под ноги, ребята из городской спецслужбы, занимающейся уборкой экскрементов, оставленных местными собачками на тротуарах, одетые в зеленые издалека видимые комбинезоны, ходят – а большей частью – ездят на громадных малошумных тоже зеленых мотоциклах и мотороллерах, оборудованных особыми пылесосами, состоящими из громадного заплечного ранца и специальной длинной трубы-хобота, управляемой вручную. На небольшой скорости, даже не останавливаясь, они направляют эту трубу на обнаруженное сокровище, втягивая его вместе с воздухом в недра пылесоса.
Тонкие ценители и знатоки французской кухни непременно потащатся в одно из заведений, отмеченное звездой Мишлена (если повар вчера уже не унес ее с собой, на что имеет право). А стоит предпочесть ресторанчик у станции метро «Одеон» Roger 1а Grenouille; на полу там – прибрежный песок, а стены украшены разнообразными морскими атрибутами, безделушками и старинными литографиями, и приходят сюда за потрясающими лягушачьими лапками в кляре с чесноком, напоминающими нежнейшие ножки цыпленка, счет за которые с салатом и вином редко превысит сорок пять евро на морду лица.
Если случится чудо, и по протекции старого еврея из Полтавы меня допустят хотя бы до приемной Рая – я уже знаю, какую музыку за дверями я там услышу. Километров за тридцать от Парижа есть Диснейленд, а там – аттракцион, может быть, самый детский из всех там имеющихся. Народ усаживается в большие лодки, они медленно вплывают под своды и плывут караваном вперед, а сбоку, вверху, справа и слева движущиеся фигурки взрослых и детей, одетые в национальные костюмы, на фоне узнаваемых местных достопримечательностей машут гостям под национальную музыку. А фоном всего этого путешествия звучит под высокими сводами фантастически чистая и светлая мелодия, песенка, освобождающая душу. Я о ней.
Улетали мы тогда из Парижа через «Шарль де Голь», и Андрей весь путь до аэропорта бережно прижимал к себе огромный блестящий шар в форме сердечка с пляшущим на нем Микки и надписью Disneyland. Он сказал, что обязательно довезет его до дома и покажет всем друзьям в нашем московском дворе. Но уже при регистрации нам объяснили, что в самолет с ним ни за что не пустят – из-за перепада давления он непременно лопнет, и мало ли как прореагируют на громкий хлопок другие пассажиры. Мы летели Аэрофлотом, и я пообещал, что попробую договориться с командиром корабля. В коридоре, упирающемся в раздвижной трап, ведущий на борт, собирали посадочные талоны и выстроилась приличная очередь. Откуда-то сбоку быстрым шагом подошли несколько мужчин в строгих костюмах и галстуках, говоривших по-русски, от которых попахивало дорогим коньяком.
– Ну вот… видите, как удачно… счастливо вам, значит, долететь… Гаврил Харитонович… Анатолий Александрович… пакеты не забудьте… – они начали прощаться, и я узнал среди них Гавриила Попова и Анатолия Собчака. Видимо, провожающие из посольства всю дорогу переживали, что мэры российских столиц могут опоздать из-за затянувшихся проводов.
Попов встал в очередь прямо за нами, но раскрепощенный Собчак подхватил его за локоть.
– Ну куда вы, Гавриил Харитонович. в самом деле… нам не сюда… пойдемте…
– Так. Анатолий Александрович, тут люди. неловко… – Попов как-то замялся.
– Пошли-пошли… – Собчак чуть не с силой подхватил его под локоть. – Товарищи, вы передавайте Юрию Алексеевичу мою благодарность… приветы!.. все… спасибо… – он махнул остающимся.
– Гавриил Харитонович… скорее…
Очередь, в которой многие соотечественники узнали хорошо знакомые по телеэкранам лица, молча наблюдала за происходящим. Люди переглядывались.
– Вот и перестроились, – усмехнулся кто-то.
У стойки, где собирали посадочные талоны, я попросил позвать кого-нибудь из экипажа. Андрею все-таки разрешили взять его шарик с мышкой. Минут через тридцать полета шарик, прижавшись к потолку, медленно испустил дух. Но Андрей тогда уже спал со счастливой улыбкой…
…Мы бросили сумки в отеле и побежали к метро. Вышли в центре на Трокадеро, 16-й округ. На станциях метро уже появлялись объявления о предстоящих вечерних ограничениях на выход и вход. Отсюда, сверху были видны большие электрические часы на Эйфелевой башне, отсчитывающие обратное время до Сильвестра – Нового года. Начинало смеркаться, и народ потихоньку кучковался и двигался вниз поближе к золотой карусели, к башне. На зеленой траве у подножия еще были большие проплешины, свободные от толпы, но было очевидно, что исчезновение их – вопрос часа-полутора. Субтильные полицейские в пилотках не спеша расставляли легкие заграждения, перекрывая ими ответвления, ведущие на боковые улицы. Становилось очевидным, что совсем скоро спуститься к газонам у подножия башни станет проблематично, и народ уже целенаправленно двинулся по пока доступным маршрутам вниз к спусками. Разноязыкая толпа постепенно вливалась на сохранившие траву поляны, кто-то проходил дальше, кто-то устраивался на земле в самом начале. Стелились предусмотрительно захваченные туристические коврики, кое-кто заранее начинал сервировать импровизированный стол, хотя сидеть на подмерзшей земле было холодно. Чтобы пройти дальше, приходилось уже обходить, а то и перешагивать через чьи-то ноги, извиняться, продираясь между членами уже начинающих праздновать компаний. Наконец достигнутая точка на поле показалось приемлемой – отсюда нависающая над головой башня была уже достаточно близко, и в то же время до нее и вокруг оставалось достаточно пространства, чтобы оценить все нюансы обещанного грандиозного фейерверка по поводу свалившегося на человечество миллениума. Сейчас на фоне быстро темнеющего неба рассчитанная компьютером подсветка делала ее фантастически ажурной и легкой, похожей на элемент продающегося в Бельгии прозрачного кружева. Что-то случилось с часами на башне, отсчитывающими время до полуночи, но густеющая толпа восприняла это спокойно. Теперь, когда не просто изменение местоположения, но и даже легкое перемещение в сторону становилось уже практически невозможным из-за стоящих рядом людей, оставалось только набраться терпения и ждать.
Люди переговаривались, знакомились, звонили по телефонам друзьям и родственникам в разные концы света, непременно упоминая на множестве языков, что находятся в этот час перед самой la tour Eiffel. Справа от нас тройка крепких парней в похожих кожаных куртках, отхлебывая из пластмассовых стаканчиков водку, поочередно отзванивались в Челябинск, громко комментируя свои ощущения в полной уверенности, что вокруг одни иностранцы.
– Знаешь, почему они здесь?.. – шепнул я Валентине. – Это награда, на прошлой неделе они завалили у себя главного инженера фабрики – конкурента, и босс наградил их недельной поездкой в Париж на Новый год. ну, пока все успокоится…
– Перестань. Не говори ерунды… – она прислушалась к сочному отечественному мату. – И почему обязательно главного инженера?..
Перенося тяжесть с одной ноги на другую, посматривая на небо, я вместе со всеми ждал прихода нового тысячелетия. Если вспомнить, что всю сознательную жизнь слышал, что будущее наступит в 21 – м веке, и вдруг, резко осознав, что до него остается уже меньше часа и ты почти наверняка окажешься в этом завтрашнем мире – начинаешь ощущать уважение к факту собственного существования. Надо же, тебе тоже позволили. Ну наверняка не просто же так.
…Однажды, в первый и последний раз проведя неделю в знаменитом Биаррице на юго-западном побережье, где когда-то отдыхала царская семья, и в наши дни в своем маленьком домике работал Василий Аксенов, мы возвращались в Германию на машине вместе с сыном, Валентиной и кошкой. Я уговорил всех, не заезжая в Париж, заглянуть в Сент-Женевьев-де-Буа, километрах в тридцати к югу от мегаполиса. Искали долго – навигатор никак не мог справиться с французским вариантом названия и водил нас вокруг да около. Наконец показалась знакомая мне невысокая белая стена с распахнутыми арочными воротами. С трудом убедив кошку подождать, мы оставили машину прямо на обочине узкой дороги и вошли на территорию кладбища.
Справа от небольшой Успенской церквушки с синим куполом расходились тропинки между могилами. Русских начали здесь хоронить с 1929 года, сегодня здесь уже тысяч пятнадцать соотечественников. Боже мой, как нелегко ходить тут узкими тропинками, читая фамилии на плитах и крестах. Иван Бунин, Мережковский, Гиппиус – это как бы оттуда, из минувшего, как и главные фамилии России: Оболенские, Волконские, Шереметевы, Меншиковы, Толстые, Потемкины – ладно, это вроде бы не мы еще все так устроили… Как и с военной элитой – офицерами Деникина, добровольцами Белой армии, знаменитыми генералами. А как же Рудольф Нуриев, Виктор Некрасов, ВГИКовец Андрей Тарковский… Как же Александр Галич – он жил в кооперативном доме кинематографистов у метро «Аэропорт», где жил одно время и отец, я встречал его в «Болшево»… Это уже «наши дни»… Черный мрамор, черный шестиконечный русский православный крест на могиле Александра Аркадьевича… Какая возникает злость на страну, отказавшуюся от своих лучших сынов, и боль за нее, негодование за искалеченную историю великого государства…
Андрей ходил по кладбищу, как завороженный, уже в машине долго молчал. Я не стал тогда спрашивать, о чем он думает… я и сам знал – о нашем отъезде из России.
Оставалось уже несколько минут до полуночи. Толпа на газонах смотрела на башню, отсчитывая вслух истекающие секунды. Наконец забегали белые огни, как бы имитируя старт космической ракеты, они поползли вверх по башне, охватили весь ее корпус, небо над городом вспороли пронзительные лазерные лучи, и башня неожиданно ощетинилась, как новогодняя елка, вылетающими вправо и влево в темное небо яркими ракетами фейерверка. Тысячная толпа взвыла и зааплодировала, люди обнимались. Мы тоже выстрелили из заветной российской бутылки с шампанским и разлили шипучее вино по приготовленным заранее стаканчикам. Пенящиеся капли выхлестнулись за края и скатились на траву. Волны фейерверка с башни, меняя цвета и форму, пересекались в небе, меняя фон, становясь все разнообразнее, взрываясь и нарастая… Хотелось орать и толкаться. Свершилось: в Париже, в Европе, на планете наступил 21 – й век.
Потом по темным, будто вымершим улицам самого престижного квартала столицы Франции, люди возвращались, распевая песни и отпуская шуточки по поводу хозяев абсолютно темных окон солидных серых особняков. Сильвестр, в отличие от Рождества, дома здесь не праздновал никто. Большинство, начав сразу после салюта, все еще пытались дозвониться до своих родных – французские провайдеры, похоже, были явно не готовы к лавине вызовов, обрушившихся на сети сразу после полуночи. Звонки постоянно срывались, и приходилось, вручную отыскивая другого национального оператора роуминга, пробовать еще и еще. Наконец мне удалось соединиться с Германий, где Андрей встречал Новый год с друзьями, стало спокойнее. Но тут с нарастающей убедительностью дала о себе знать проблема, подумать о решении которой непредусмотрительным французам даже не пришло в голову. Изможденная многочасовым ожиданием салюта и нагруженная выпитым спиртным многотысячная толпа начала активно искать возможность дать выход бродившей внутри энергии. Однако сволочным парижским властям даже в голову не пришло расставить по мере продвижения гуляющих на улицах переносные кабинки с туалетами. Группкам субтильных ажанов в ехидных пилотках, с дежурной улыбочкой отмахивающимся от иностранцев, разыскивающих ближайшую станцию метрополитена в надежде воспользоваться туалетом там, указывая направление, не приходило в голову добавить, что станции давно уже закрыты. И, когда с трудом доковыляв до ближайшей, все убеждались, что и она перегорожена мобильными решетками, негодование выливалось во всеобщий стон разочарования. Но бесконечно так, разумеется, продолжаться не могло… И город пал… Под смех и улюлюканье друзей, хорошенькие студенточки просто присаживались под очередное деревце и спускали джинсы, а парни на тротуарах открыто соревновались на дальность попадания. Похоже, что эту новогоднюю ночь, как и утро наступающего дня, Париж запомнил надолго. Не выказать солидарность с народом было бы проявлением явного высокомерия, чего я, естественно, допустить не мог. Солидный кусок фундамента дорогущего серого особняка, оказавшегося по пути, моими усилиями стал гораздо чище.
На площади Звезды, уже практически на Елисейских полях, группа молодых арабов, опасливо оглядываясь по сторонам, продавала изголодавшимся куски дымящегося жареного мяса, приготовленного прямо на грязных металлических листах и столовое вино из больших бутылей. Покупая, никто не решался спросить о том, как именно называлось мясо недавно.
Такси не ловились, мы прошли еще один квартал, на стоянках нервничали большие очереди. Усталые люди в нарушение всех правил местного этикета пытались остановить попутки, но все машины были забиты спешащими продолжить праздник парижанами. Наконец, проезжавший мимо негр в потрепанной маленькой «Хонде» с интересом выслушал мое сообщение на трех языках о страстном желании оказаться вот в этом отеле и милостиво запустил нас внутрь, подвинув какие-то лоскутные одеяла на заднем сиденье. Он поехал по кольцевой, огибая полгорода, но через полчаса привез нас в узнаваемый квартал почти напротив нашего отеля. Три минуты я уговаривал его взять деньги, но он не согласился. Уже совсем рассвело, вокруг было новое тысячелетие и город Париж. Очень хотелось спать.
Конец семидесятых. Москва, Одесса, весь мир
Просто все как. Разделить прожитое на периоды и прикинуть – но откровенно, для себя – если бы появилась возможность в точности повторить что-то из того, что однажды уже происходило, но в точности, ничего не меняя. Если захочется – не самое плохое, значит, время было; хорошее даже время…
В просторной приемной с окнами во всю стену, выходящими прямо на проспект Маркса, стояло множество стульев, и я сел на один из них. Вокруг сидели, дожидаясь приема, еще человек десять – одни в кабинет направо, другие, как и я, налево. Солидные мужики, все при галстуках, с подобающими кожаными папками, пару человек в морской форме с погонами с какими-то толстыми золотым полосками. Было любопытно наблюдать, как кое-кто явно мандражировал в ожидании предстоящей беседы, – это легко ощущалось по бесцельному передергиванию молнии на папке, бессмысленному перекладыванию подготовленных бумаг. Из коридора быстрым шагом в приемную вошел маленький коренастый человечек в сером костюме со звездочкой Героя на лацкане. Все сидящие на стульях вместе с секретаршами тут же встали и вытянулись.
Встал, разумеется, и я – это было первое правило, с которым пришлось познакомиться в полувоенной системе Министерства.
– Тимофей Борисович. – бросилась к вошедшему одна из секретарш, но он остановил ее жестом руки.
– Десять минут ни с кем не соединять. – он быстро прошел вперед направо, и секретарша осторожно прикрыла за ним тяжелую дверь. Народ, выдохнув, медленно опустился на свои места.
Я видел Тимофея Борисовича Гуженко, министра морского флота СССР, тогда первый и последний раз в жизни. Депутат, член ЦК КПСС, Герой Соцтруда и прочая-прочая, он просидел на этом месте ни много ни мало, шестнадцать лет и говорили, много сделал для отрасли. Снимут его с работы за гибель того самого «Адмирала Нахимова», которому мне еще предстояло подарить полгода своей жизни – так вот пересеклись судьбы.
В тот день мне было «налево» – по просьбе отца со мной согласился пообщаться хозяин кабинета напротив – первый зам. министра Морфлота Владимир Иванович Тихонов.
…Когда к концу 76 года на нас обрушилось пренеприятное известие о ликвидации нашей Главной редакции телеинформации АПН, народ, погрустив, засуетился в поисках новых мест в жизни. Никто не знал, чем было продиктовано решение ЦК о ликвидации успешно работающей конторы на важном фронте идеологической борьбы с проклятыми буржуинами, но факт оставался фактом – не прошло и четырех лет с момента ее создания, как ее существование было признано нецелесообразным. Впрочем, существенные перемены и сокращения касались всего Агентства, да и в других аналогичных учреждения предстояла перетряска – наверху явно что-то менялось. Надо сказать, что у советской власти были свои плюсы – не дозволялось выбрасывать народ совсем уж на улицу – со всей Москвы в принудительном порядке были собраны все имевшиеся на тот период вакансии, хотя бы отдаленно напоминающие должности увольняемых по сокращению, и кадровики, не ленясь, выписывали всем направления на предмет собеседований на новых местах. Другое дело, что предлагаемые должности, как правило, были далеко не столь престижны, как работа в АПН, да и оплачивались похуже, но, во всяком случае, многие, не имевшие других возможностей, сотрудники соглашались и на них. Разумеется, каждый вначале попытался использовать личные связи для нового трудоустройства, зная при этом, что может рассчитывать на нужные характеристики из АПН. Кое-кому удавалось найти даже должности за границей, изначально считавшиеся лучшим вариантом. Мой и Жени Латия приятель Игорь Маймистов, как не удивительно, нашел такой вариант через районный военкомат – устроился журналистом на радиостанцию «Волна», вещавшую в Группе советских войск в Германской Демократической Республике.
Мои сценарные дела шли тогда не шатко не валко. Двухсерийный дипломный сценарий о революции 1905 года, за который я получил «отлично» в институте, вроде бы приглянулся начинающему режиссеру Роману Балаяну, снявшему много лет спустя замечательную картину «Полеты во сне и наяву». Он пригласил меня в Киев на студию Довженко. Я жил некоторое время в какой-то большой квартире, мы пытались запустить картину, но, как часто бывает в кино, все так ничем и не закончилось. Гонорары за сценарии документальных фильмов были нерегулярными и особого дохода не приносили. Словом, с одной стороны надо было не потерять редакторский оклад как важную составляющую бренного земного существования. С другой, сам факт упразднения редакции и связанный с этим чуть более быстрый порядок оформления специальной характеристики-рекомендации, без которой нельзя было получить право работать за рубежом, было грех не использовать. Мне пришла в голову достаточно оригинальная для того времени иде я – попробовать устроиться на какой-нибудь советский пассажирский теплоход, совершающий рейсы по морям и океанам планеты. Я узнал, что на самых крупных из них издаются, например, судовые газеты для пассажиров, на должности редакторов которых, впрочем, ТАСС обычно направлял своих сотрудников. Возможно, существовали и какие-то иные вакансии, на которые я бы мог претендовать. При любом раскладе это была поистине уникальная для человека с советским паспортом возможность увидеть мир. Ведь даже упрощенный порядок означал лишь некоторое сокращение сроков оформления нужных бумаг, но вовсе не ликвидировал хотя бы одну из положенных ступеней длинной бюрократической лестницы, по которой предстояло идти.
Сейчас это кажется злой шуткой, но в те времена, чтобы просто выехать за рубеж предстояло просить своего непосредственного руководителя написать на тебя подробную характеристику-рекомендацию по утвержденному образцу (вместо знакомой по «17-и мгновениям» фразы: «…В связях, порочащих его, замечен не был.» обязательно следовало записать формулировку: «Морально устойчив, политически грамотен».), подписать ее у секретаря парторганизации редакции, секретаря комсомольской организации, председателя профкома, дождаться для этого положительного решения бюро комсомола и партбюро. Затем процесс продолжался уже на стадии всего Агентства – следовало заручиться подписью руководителя АПН, секретаря партийного комитета, комсомольского секретаря и председателя профсоюзного комитета… Все это скреплялось выпиской из номерного протокола заседания партийного комитета Агентства. После этого документы направлялись в районный комитет КПСС по месту нахождения организации, где соответственно рассматривались на заседании так называемой выездной комиссии с непременным вызовом на нее выезжающего. После появления на бумаге подписи секретаря райкома КПСС и печати, если речь шла о служебной командировке, документы еще уходили в выездной отдел ЦК КПСС или, как у нас писали во внутренних официальных бумагах, – в Инстанцию (непременно с большой буквы). Процесс этот, как правило, длился значительно больше месяца, а тут в связи с необходимостью трудоустройства увольняемых несколько сокращался. Практически во всех рассмотрениях и заседаниях должен был участвовать сам соискатель – убеждать в необходимости поездки и отвечать на каверзные вопросы… Не затаить после всего этого марафона мысли стать «отщепенцем» и «предателем социалистической Родины», стоило немалого труда. Тем более что действовала эта бумага лишь определенный короткий промежуток времени. После этого весь процесс надо было начинать сначала.
– Ну а то, что зарплата у нас небольшая… не смущает тебя? – зам. министра повернулся в кресле.
– Я переживу, Владимир Иванович… – честно отрапортовал я. – Рублей двести, наверное, будет?.. А нет – тоже не страшно.
– Да может, даже и чуть больше. с валютой. – Тихонов переглянулся с начальником управления кадров Черноморского морского пароходства Лисюком, который как раз оказался в Москве у него в кабинете и которому он меня только что представил… – Ну раз уж отец мне твой сказал – о море мечтаешь… – он посмотрел на Лисюка: – Владимир Николаевич, ты реши там у себя вопрос…
– Сделаем. – он посмотрел на меня. – Вы подождите, я сейчас…
В приемной он раздобыл для меня у секретарши экземпляры подробнейшей анкеты.
– Вот. Заполните все и приезжайте. Как писать – знаете, наверное? Характеристику не забудьте… Надо будет только потом подождать, пока вам визу откроют.
Но оказалось, что дело обстоит совсем не так просто. Слетав в Одессу и оставив анкету вместе с выездной характеристикой из АПН, я стал ждать. По наивности мне казалось, что вопрос со мною решится быстро, вроде бы – такой блат. Однако неделя проходила за неделей, месяц за месяцем, а обещанной открытки из отдела кадров так и не было. В эти месяцы умер отец, мы остались с мамой вдвоем, помогать больше было некому. Главную редакцию телеинформации АПН ликвидировали, пробивать очередной сценарий короткометражки удавалось не всегда. На мои регулярные, пару раз в месяц, звонки Лисюку тот отвечал, что ответа пока нет. Однажды в ответ на мои настойчивые расспросы о причинах столь долгой задержки прямо сказал:
– Вы же поймите, это не мой вопрос. Будет решение – тогда пожалуйста…
– Владимир Николаевич, ну хоть подскажите – что мне-то делать в этой ситуации?.. – взмолился я.
Лисюк как-то замялся, видимо, в душе поражаясь моей недогадливости и не имея возможности сказать мне это прямо.
– Ну, я не знаю… Если бы позвонили сюда… ну, по линии наших соседей…
Я поблагодарил его и задумался.
Когда-то, много лет назад, по всему Союзу прогремела история с четырьмя нашими солдатами, дрейфовавшими сорок девять дней в открытом океане на небольшой барже, сорвавшейся с швартовых на Курилах. Их спасли американские моряки, и пока военный корабль вез ребят в Штаты, наши лихорадочно решали, как на эту историю реагировать – объявить их предателями или героями. Решили, все же лучше – героями, и отечественная пресса взорвалась статьями и фотографиями Зиганшина, Поплавского, Федотова и Крючковского. На всех фото первых полос газет и даже на плакатах на афишных стендах в Москве они стояли в обнимку с высоким улыбающимся человеком в светлом плаще. Подпись объясняла, что это встретивший смельчаков Генконсул СССР в Сан-Франциско А. А. Кардашов. Сводный брат мамы (у них были разные отцы), мой дядя, потом в течение нескольких лет служил первым секретарем нашего посольства в Токио. Как-то он забежал к нам перед очередной краткосрочной командировкой, кажется, в Ливию, и я выпросил посмотреть его зеленый диппаспорт. Он был выписан уже на совсем другую фамилию.
Короче говоря, дядя перезвонил маме тем же вечером и, смеясь, рассказал, что в Одессе умоляли только не вешать трубку – два человека были брошены на срочный поиск моего личного дела, лежащего среди множества других в многочисленных шкафах. Как я понял, найдя, проверять просто уже не стали – открытка об оформлении выездной визы пришла мне до конца этой же недели. Когда я предстал перед Лисюком буквально через несколько дней после последнего разговора и положил ее на стол, он искренне удивился.
– Что… уже?
– Спасибо большое, Владимир Николаевич, за совет. Мне бы сразу знать…
Мне показалось, что он меня зауважал.
Хотя главная проблема была решена, бюрократические формальности на этом не закончились. Выяснилось, что по правилам я должен выписаться из Москвы и прописаться по отделу кадров пароходства. Кроме того, сдав фотографии, следовало подождать паспорта моряка, а пока озаботиться оформлением санпаспорта, что подразумевало прохождение серьезной медицинской комиссии и проведение множества при вивок в специальной бассейновой поликлинике моряков. Приходилось все время летать из Москвы в Одессу, там жить в гостинице, а денег уже не было. Чтобы заработать на авиабилеты, я все чаще по вечерам занимался частным извозом на своем ушастом «запорожце». Три-четыре часа мотания по Москве с пассажирами давали в итоге возможность покупки очередного билета на самолет.
Наконец все вроде бы было готово. Я получил назначение на должность администратора пассажирской службы на «Максим Горький» – самый большой и лучший из всех существовавших в то время пассажирских лайнеров СССР, совершающий кругосветные рейсы под фрахтом немецкой фирмы «Некерманн». Прилетев в Одессу за двое суток до прихода «Горького», я шиканул и остановился на этот раз в знаменитой гостинице «Лондонская» (в тот период, кажется, она была временно лишена своего исторического названия и именовалась «Одесса»). Один из лучших номеров на втором этаже с тремя огромными аркообразными окнами имел выход на длинный балкон прямо над главным входом – с него за столетними платанами Приморского бульвара угадывался морской порт. Любое посещение балкона с лежащей внизу Одессой, таким образом, укрепляло ощущение, что жизнь удалась.
По адресу, знакомому каждому одесситу – переулок Нахимова дом два, где находился отдел кадров Черноморского морского пароходства, мне выдали последнюю бумажку – направление на судно. Была уже глубокая осень, и в парке рядом круглые сутки глухо ухали солидные местные голуби. Полтора дня без особой цели я мотался по городу, который полюбил еще в тринадцать лет, когда отец снимал тут «Первый троллейбус». Теперь мне было двадцать семь, и я, как эти голуби, пыжился сознанием собственной значимости – в кармане у меня лежал бордовый «Паспорт моряка», и я уходил в кругосветное плавание. Начиналась совсем новая незнакомая жизнь.
…Поразительное обстоятельство, о котором раньше не задумывался, советское время не оставило не одной стоящей книжки о жизни и работе экипажей на отечественных пассажирских судах загранплавания. Нет, кажется, и не одного художественного или документального фильма того времени, главными героями которого были бы члены команды именно «пассажиров». Даже просто как фон, на котором разворачиваются события, повседневное бытие этой категории людей, отсутствует в произведениях искусства тех лет в принципе. Есть замечательные вещи о моряках торгового флота, особенно созданные ими самими. Одни книги капитана Виктора Конецкого – до тех пор, пока писал он о том, что знает досконально – чего стоят. «Три минуты молчания» Георгия Вадимова – один из высоких образцов русской прозы, просто и искренне говорящий о буднях тех, кто ловит в море рыбу. И только взаимоотношения людей, работавших на пассажирских судах страны, так и остались практически почти вне поля внимания литераторов и кинематографистов.
На мой взгляд, можно предположить, что произошло это вовсе не в силу их малочисленности по сравнению с другими профессиями. В конце концов, шпионов, описание судеб которых с разной степени талантливостью заполонило прилавки и экран – у нас в то время вряд ли было намного больше. Отсутствием драматических коллизий сам материал уж точно никогда не страдал – свидетельствую как дипломированный специалист в этой области. Тут было все – любовь и ненависть, подлые интриги и фанатичный патриотизм, жертвенность, глупость, предательство и верность. Сама по себе закрытость темы, трудность практической реализации – скажем, в кино? Но как же тогда многочисленные книжки и фильмы про колонии и тюрьмы – об их существовании в замечательном мире социализма, как ни странно, пусть и с нравоучительным подтекстом, говорить в принципе было можно.
Сейчас, пытаясь проанализировать причины, начинаешь думать, что, возможно, дело заключалось в том, что сама ситуация давала стороннему наблюдателю ежедневный повод задумываться о противостоянии двух миров, двух образов жизни. Речь вовсе не шла о некоем подспудном классовом антагонизме богатых и тех, кто их обслуживает, существующем в любом обществе. Просто каждый день автоматически проявлялось различие между существованием самых обычных людей, принадлежащих к свободному миру, и тех, кто в силу своего рождения изначально принадлежал к несвободным, каждый, даже самый маленький шаг которых, был заранее расписан и регламентирован. Ну не мог никоим образом совершающий круиз полицейский из Баварии поверить, что выполнение его просьбы при расставании к хорошо обслуживавшей его с женой официантке – оставить домашний адрес, чтобы можно было прислать рождественскую открытку, будет стоить той закрытия визы и запрета на профессию. Честный ответ убирающей каюту пенсионеров из Голландии стюардессы о зарплате ее родителей на родине приведет к немедленному переводу той на портомойку. Нельзя было и помыслить, к примеру, о совместной прогулке по городу, куда приходил пароход, пассажира и члена экипажа – последний мог выйти на берег на несколько часов только в составе тройки, возглавляемой старшим, имеющим полномочия в случае необходимости немедленно вернуть его на борт.
Любопытно, это ощущение своей неполноценности вовсе не обязательно адекватно осознавалось большинством самих работающих тут людей, и это было важно. Ситуация «поражения в правах» представлялась советским гражданам лишь естественными и логичными издержками весьма престижной работы на пассажирских судах заграничного плавания. Кстати, людей, вынужденных жить многие годы по этим законам, было не так уж и мало – только один сменный экипаж нашего красавца «М. Горького» составлял около четырехсот человек, а были еще только в одном Черноморском пароходстве – «Ш. Руставели», «И. Франко», «Т. Шевченко», «Белоруссия» и многие другие. Но все это мне еще только предстояло узнать…
Разглядывая сейчас в многочисленных туристических проспектах фотографии нынешних гигантских круизных судов, построенных в мире за последние годы, с их многочисленными балконами, неравновеликими башенками и многоэтажными надстройками, невольно удивляешься их способности при такой парусности вообще переплывать океан. На память приходит точная фраза Ле Корбюзье, сказанная о киевском Крещатике: «…Бред взбесившегося кондитера…».
В противовес им лаконичные обводы «Горького», флагмана пассажирского судна СССР тех лет, вызывают уважение своей функциональностью, а драматичная судьба его напоминает жизненную дорогу человека, которому было адресовано сбывшееся древнее китайское проклятие: «…чтоб тебе жить в эпоху перемен…».
Его построили на верфях Германии в 1969 году специально для трансатлантической линии Гамбург-Нью-Йорк, назвали «Hamburg», а «крестной матерью», разбившей бутылку шампанского при спуске на воду, стала супруга Канцлера ФРГ. При наступившем в начале семидесятых нефтяном кризисе ему на год дали название «Hanseatic», потом вернули прежнее имя. Когда я пришел на судно, мне к спальному белью выдали еще белый банный халат, на нагрудном кармане которого красовались три скрещенных треугольника – лого Hamburg Atlantic Line.
В январе 1975-го за шестьдесят два миллиона марок переходившее из рук в руки судно было куплено ЧМП, и его капитаном стал Сергей Леванович Дондуа. Почти сразу же был подписан договор о фрахте с немецким концерном Neckermann.
Всякое бывало с турбоходом. В 1975 году на борту взорвались две бомбы, подложенные во время ремонта. 18 сентября 1980 власти Нью-Йорка не разрешили советскому лайнеру войти в порт в связи с вводом советских войск в Афганистан, вернее, этому воспрепятствовали сами портовые рабочие. Ему пришлось стать на якорь, а пассажиров на берег доставляли портовые суда. Экипажу был запрещен выход на берег, на судне возникла проблема с питьевой водой. Об этом написала газета «Правда», у Посольства США в Москве состоялась демонстрация протеста.
В том рейсе на борту «Горького» находилась Валентина.
В 1988 году на верфи в Бремерхафене был произведен дорогой модернизационный ремонт, установлено новейшее навигационное оборудование, после чего судно было передано на двадцать лет во фрахт западногерманской компании Phoenix Reisen. В ночь с девятнадцатого на двадцатое июня 1989 года лайнер под командованием капитана Марата Султановича Галимова (при мне он был старшим помощником у Дондуа) попал в ледовое поле в Гренландском море у берегов Шпицбергена и получил значительные пробоины. Благодаря самоотверженной работе экипажа и спасателей, удалось избежать жертв и оставить судно на плаву. Аварийно-восстановительный ремонт на заводе Lloyd Werft в Бремерхафене обошелся более чем в тридцать миллионов марок.
В декабре 1989 году на борту «Максима Горького», стоящего на рейде Ла-Валетта (Мальта), состоялась встреча Горбачев-Буш, ознаменовавшая собой конец холодной войны.
В конце 1991 – начале 1992 годов советскую символику сменили атрибуты нового владельца: багамский флаг, порт приписки – Нассау, с трубы убрали серп и молот и перекрасили в цвета российского флага, имя «Максим Горький» отныне писалось латиницей – Maxim Gorkiy.
Изменения коснулись и экипажа, который постепенно сменили на российский, в основном из Санкт-Петербурга. Ресторанное, каютное обслуживание и машинное отделение оставались украинскими.
Расписание долгие годы оставалось типовым: с декабря по начало весны проходило кругосветное плавание, весной лайнер успевал совершить несколько круизов вокруг Европы, переходя летом в северные широты, а осенью на Средиземное море. На судне установили ВЕБ-камеру, и ежедневно в любой точке мира можно было видеть панораму, открывающуюся с борта в настоящий момент.
Новые изменения в облике судна произошли в декабре 2005 года: на трубе лайнера, перекрашенной в зеленый цвет, разместили логотип компании Phoenix, также зелеными стали бортовые линии и звезда. В ходе капитальных ремонтов 1995, 1998 и 2001 годов на судне устанавливалось новое навигационное оборудование, опреснитель.
30 ноября 2008 года «Максим Горький» закончил эксплуатацию во фрахте немецкой компании «Феникс Райзен» в Венеции.
20 августа 2008 года было объявлено о продаже корабля по завершении последнего круиза американской компании Orient Lines. Из Венеции турбоход проследовал в Пирей, планировался дорогостоящий ремонт, который должен был привести оборудование в соответствие современными нормативами. Из внешних изменений – перекраска нижней части корпуса в темно-синий цвет по стандартам фирмы. Намечалось очередное переименование, на сей раз в Marco Polo II. Компания раньше владела другим бывшим советским лайнером, Marco Polo (бывший «Александр Пушкин»). Первый рейс (Барселона-Порт-Саид) должен был начаться 15 апреля 2009 года. Ресторанное и каютное обслуживание собирались заменить на филиппинцев – теперь они были уже дешевле европейцев даже из СНГ.
Однако в связи с мировым финансовым кризисом, планы владельца изменились. 8 января 2009 года судно продали индийской фирме за 4,2 млн. евро. Некоторое время оно ожидало окончательного решения своей судьбы. По миру прошла волна – инициативная группа из Гамбурга во главе с депутатом городского законодательного собрания Хансом Лафренцем пыталась найти спонсоров, чтобы выкупить лайнер и оставить в родном городе как «памятник технической культуры», используя в качестве плавучего отеля и конгресс-холла. Счет пошел буквально на дни.
Андрей, включившись в эту кампанию, очень хотел снять документальный фильм в поддержку парохода, без существования которого он сам не появился бы на свет.
Акция кончилась ничем, проволочки сената Гамбурга, отказ одного из инвесторов – стали причиной трагического финала. Пройдя в последний раз Суэцким каналом, «Максим Горький» утром, выждав спасительной радиограммы еще немного на рейде, двадцать шестого февраля, в день моего рождения, на волнах прилива, разогнавшись, выбросился на берег в индийской бухте Аланге для последующей разделки на металлолом. С момента его постройки прошло ровно сорок лет. Уже через несколько минут бойкие индийцы в рваных майках с инструментами и газовыми горелками лезли на его борт.
…Все люди делятся на живых, мертвых и плавающих по волнам… Это Анахарсис, античный мудрец и философ VI-ого века до нашей эры – тот, который изобрел якорь и усовершенствовал парус. Грек. Самым первым иностранным портом в моей жизни – яркие светящиеся надписи, слегка похожие на кириллицу, но непонятные; огоньки машин на набережной адмирала Миаулиса; громадные рекламные табло прямо на стенах зданий, длинный грязноватый причал – был греческий Пирей, предместье Афин. А до этого ранним вечером «Горький» прошел Босфор и все, кто был свободен из экипажа, особенно новички, высыпали палубу. Высоко над головой пролив пересекал громадный подвесной мост, по которому двигался из Европы в Азию и обратно автомобильный поток, мы медленно прошли под ним, на воде вокруг суетились множество больших и маленьких пароходиков и лодок, забитых людьми, а с берега долетал усиленный динамиками высокий голос муэдзина. Сколько раз мне еще придется побывать тут…
В судовой роли – полном списке экипажа, который, кстати, в обязательном порядке сдается властям каждого порта – в этом рейсе числилось что-то около 360 человек – от капитана – «Мастера» – до матроса. Каждый входил в ту или иную службу – «машину», руководителем которой был главный механик – «дед»; «палубу», которой руководил старший помощник капитана – «чиф»; ресторан, во главе с директором; пассажирскую службу, возглавляемую старшим пассажирским помощником.
На первом же общем собрании новой смены экипажа через день после отхода из Одессы всем официально представили человека, должность которого была озвучена как «офицер безопасности», призвав к сотрудничеству при затруднениях в любых вопросах. В судовой роли, разумеется, он числился вторым пассажирским помощником. Конечно, большинство из давно работающих на судне легко могли бы назвать еще человека три его полуофициальных и человек десять совсем неофициальных помощников – попросту говоря, стукачей. Первые легко вычислялись благодаря наглости, явно не соответствующей занимаемой какой-нибудь скромной должности, вторые – напротив, вели себя тихо и не высовывались.
Конечно же, были на судне люди, так сказать, «сами в себе» и прежде всего – первый помощник капитана. Такие должности, кажется, существовали в гражданском флоте только двух государств – у нас и в Болгарии. Когда спустя годы исчез Советский Союз и в Морфлоте, как и повсюду, по капле начали ликвидировать все придуманные за это время гадости – первое, что потребовали профессиональные моряки – упразднить этот институт партийных бездельников, катающихся по миру за госсчет. Если на пассажире «Горьком» само существование освобожденного от всех других обязанностей комиссара, призванного следить за морально-политическими настроениями почти четырех сотен человек, ежеминутно вступающих в контакт с «идеологическими противниками», еще можно было как-то, если не оправдать, то понять, то аналогичное существование первого помощника на каком-нибудь сухогрузе, где весь экипаж состоял из 17–20 моряков, и каждый был круглые сутки на виду у всей команды, сводилось к функциям дорогостоящего балласта, крайне раздражающего пашущих в рейсе изо дня в день профессионалов.
Впрочем, эффективность самой этой должности и у нас на судне была невелика по определению. Очень скоро я понял, что внутри экипажа, состоящего большей частью из молодежи, идет своя внутренняя жизнь, мало известная высокому начальству. Изолированные от дома на полгода, а то и год, люди во многом считали себя свободными и от домашних обязательств. Складывались «судовые» семьи, каждый из членов которых имел официальных партнеров на берегу. Это считалось в общем естественным, и часто оставленные дома жены, бескорыстно информируемые подругами, знали, что во время рейса их муж спит с другой женщиной. Поскольку подчас и оставленные на берегу, жены не отличались строгим соблюдением монастырских заповедей, то большинство из них предпочитали такую ситуацию по приходу мужа не обсуждать. Главное, чтобы все контакты оканчивались минимум за полсуток до прихода в любой российский порт, куда, как правило, «половинка» непременно приезжала встречать. Конечно, на практике дело не всегда обстояло именно так, и часто после очередного рейса прежние семьи все же разваливались.
Главной причиной, провоцирующей распад семей, было строжайшее советское правило – стоило только зарегистрировать официально свои отношения, и люди навсегда лишались возможности работать на одном судне вместе. Просто заниматься сексом, не слишком это афишируя и не доводя до разборок, никому не возбранялось. Но стоило людям официально пожениться – их тут же разводили на разные пароходы. Кадровики полагали, что снижают, таким образом, шансы одновременного побега семьи за границей. На самом деле отсутствие возможности легально быть вместе с любимым человеком только нагромождало груз взаимных обид за измены, под тяжестью которого семьи моряков распадались куда чаще других.
Но если такова была ситуация у тех, кто успел усложнить себе существование узами брака, то у холостой молодежи, не ощущающей на себе никакого груза обязательств, оставленных на берегу, не было таких проблем. Люди просто, неофициально меняясь каютами, жили на время рейса совместной жизнью, влюблялись, ссорились, изменяли – и каждый день при этом ходили на работу – кто-то поднимался в один из трех залов ресторана, кто-то спускался на вахту в машинное отделение.
Какой, к дьяволу, первый помощник смог бы предотвратить случай, происшедший в предыдущую смену экипажа до моего попадания на «Горький». Таня Михаленя, – девчонки из службы ресторана потом показывали мне их общие с нею фотографии – невысокая красивая девушка с короткой стрижкой, работавшая на пароходе уже не один год, влюбилась без памяти в парня – официанта по фамилии Онищенко. Больше года длился их роман, все было замечательно, они строили общие планы и собирались, закончив плавать, пожениться. Но затем парня начала угнетать привязанность Тани, о которой знали все, не позволяющая проводить свободное время так, как хотелось. Тем более что при очередной замене на пароходе появилась новенькая. Он стал постепенно отдаляться, и Таня пригласила его на разговор на корму пятой рабочей палубы. Это было как раз в один из дней перехода «Горького» через океан по пути в Европу. Они говорили не очень долго, но Таня почувствовала – возврата к прошлому не будет. Он уже уходил, когда услышал сдавленный крик – оглянувшись, он увидел, что на месте, где только что сидела Таня, никого нет. Темнело и в белом буруне широкого следа, остающегося за кормой турбохода, ничего видно не было. Владимир бросился к висевшему в отсеке телефону и позвонил прямо на мостик. Пока громадный турбоход разворачивался, сыграли судовую тревогу «человек за бортом» и начали спускать шлюпку, прошло минут двадцать. Туристы на верхних палубах, не догадываясь об истинных причинах остановки, с интересом наблюдали за внезапно затеянными учениями. Без всякой надежды на успех искали еще несколько часов. Потом капитан приказал вернуться на прежний курс.
Таниных подруг тщательно допрашивали первый помощник и кгбэшник. Ее соседку по каюте переселили, каюту опечатали. Онищенко положили в госпиталь в изолятор. На всякий случай не выпускали до самого Ленинграда, там списали и навсегда закрыли визу. Я разговаривал с ним год спустя в Одессе. он работал в дорогом ресторане на берегу и не особенно жаловался на судьбу. С новенькой они поженились.
Штатному первому помощнику «Горького» – человеку по имени Игорь Иванович Зайцев тогда повезло – он был в отпуске, и положенный за такое ЧП выговор вроде бы навесили на подменного помполита. А когда еще одна девочка из экипажа, поддавшись уговорам работавшего на судне в составе стаффа – команды турфирмы-фрахтователя – итальянского фотографа, осталась в Англии в Саутгемптоне, он – человек, безусловно, умный и обладающий в пароходстве немалыми связями, видимо, сумел каким-то фантастическим образом спихнуть с себя основную ответственность.
Надо сказать, что был он вообще личностью довольно своеобразной и совсем не однозначной, как большинство встреченных мною позднее помполитов. Среднего роста, загорелый, с резкими чертами лица, он умел без особого труда расположить к себе человека, даже не догадывающегося об истинных причинах проявляемого начальством дружелюбия. Между тем главной задачей его было, походя, накопить буквально на каждого любого вида компромат, который мог бы быть впоследствии использован в нужный момент. Просто так, на всякий случай. Продвижение дальше по партийной линии было, очевидно, его заветной мечтой, а для такого пути наверх существовали свои законы – двигаться, топя других… Говорят, кстати, его жена работала в то время вторым режиссером на Одесской киностудии. Впрочем, наличие жены на берегу никак не мешало в рейсе его регулярным встречам в своей роскошной двухкомнатной каюте со многими молодыми девчонками из экипажа. Особенно ему нравилось, теша свое самолюбие, проделывать это с теми, о ком было известно, что у них уже кто-то на пароходе есть, используя своеобразное право первой ночи. Отказать ему, рискуя закрытием визы, решались не всегда, и кое-кто по позднейшим слухам потом был вынужден на берегу посещать врача для лечения.
…У меня всегда были очевидные способности к ориентированию на местности – ну должно же быть что-то хорошее в человеке. Говорили, что проходит месяц, полтора прежде чем новичок начинает более или менее сносно ориентироваться в при чудливых хитросплетениях отсеков громадного судна и может, не заблудившись, запросто попасть с бака на корму, спуститься в машину или дойти из нижней кают-компании к служебному лифту, ведущему на мостик.
Спроси меня даже сейчас как пройти по любому городу на любом континенте, где побывал хоть однажды, – разберусь без особых затруднений. Вот и тут освоился буквально за пару дней… От роскошной утопающей в мягком ковровом покрытии центральной палубы, где находилось Бюро информации с круглосуточным вахтенным администратором и дежурными представителями стаффа из дирекции круиза, спускаясь вниз, можно было попасть к каждому из трех судовых ресторанов: «Крым», «Одесса» и «Море». Палубами выше располагались многочисленные бары, салоны, магазины, пассажирская библиотека. Огромный кинотеатр «Максим» был ближе к корме.
Вся же нижняя часть судна, отделенная от пассажирских помещений вежливыми табличками «crew only», принадлежала экипажу, а судовой госпиталь, охотно посещаемый немолодыми туристками, поскольку работал бесплатно, находился как бы на полпути.
Постепенно я осознал и собственный статус. Как администратор пассажирской службы я принадлежал к командному составу на судне, что давало известные преимущества. Например, чем не привилегия – постельное белье с упомянутым уже банным халатом по объявленным дням не приходилось менять в прачечной самому – за тебя это делала назначенная девочка из каютных.
При увольнении в город меня автоматически назначали старшим группы, что, впрочем, кроме преимущества выбора маршрута, имело и свои недостатки.
Что касается питания, то для этого на «Горьком» существовали три места – столовая команды, нижняя кают-компания и верхняя кают-компания. В первой было самообслуживание, в кают-компаниях же работали официантки. Высший комсостав во главе с капитаном питался в верхней кают-компании – сам Мастер, первый и старший помощники, главный механик, комитетчик, освобожденный секретарь ВЛКСМ, штурмана и еще пять-шесть человек, включая редактора судовой многотиражной газеты «Буревестник» Новикова.
По-видимому, некий шлейф истории моего появления на судне каким-то образом коснулся ушей руководства, и меня начали настойчиво уговаривать питаться наверху, что по рангу мне вовсе не полагалось. Особенно старался похожий на Пьера Ришара из «Игрушки» Новиков, уверяя меня, что он специально согласовал этот вопрос с первым помощником и капитаном. Впрочем, это же любезно подтвердил мне и Зайцев.
Дело было не только в том, что для того чтобы идти наверх каждый раз пришлось бы надевать форму, проходить еще не один десяток метров и потом ждать маленького служебного лифта, медленно поднимающего на верхнюю палубу.
Просто я отлично осознавал, что место там мне, новичку, не по чину, а чувствовать себя минимум трижды в день стесненно мне совсем не хотелось. Даже чтобы войти или выйти в кают-компанию по принятому ритуалу, пусть и формально, следовало попросить разрешение у капитана. Словом, пришлось игнорировать приглашение, пока о нем не забыли.
В нижней же кают-компании, где за столами собирался средний комсостав – механики, администраторы, радиооператоры – было куда как демократичнее и комфортнее. Между прочим, я тогда впервые в жизни попробовал разнообразный фруктовый йогурт в стаканчиках, он стоял на подносиках при входе, и каждый в кают-компании мог брать его, сколько хотелось. В Союзе такого еще не видели.
Я написал несколько статеек в печатающуюся в судовой типографии тиражом в четыреста экземпляров газету, чем вызвал приступ восторга Новикова, верставшего ее главным образом из поступавших по радио официальных сообщений агентств и переписанных из энциклопедии справок о странах, куда предстояло нам заходить. На общем комсомольском собрании, проходившем в кинотеатре «Максим», меня избрали первым заместителем секретаря комитета ВЛКСМ турбохода. Все больше появлялось у меня на борту и приятелей.
Каждое утро на судне начиналось с того, что ровно в шесть по принудительной связи (динамик был устроен таким образом, что звук в нем нельзя было выключить) начинала звучать по нарастающей мелодия «Эль-Бимбо» Поля Мориа, и голос радиста сообщал дату, день, место нахождения судна и судовое время. «Особую радость» эта информация доставляла тем, кто только что завалился отдыхать после ночной вахты, и потому некоторые умельцы все же ухитрялись отключать у себя в каютах трансляцию, что по понятным причинам было категорически запрещено. Тихо приоткрывались двери, и молодой народ, проведя ночь вместе, начинал расползаться по своим штатным каютам, готовясь к предстоящему трудовому дню.
Я жил в двухместной каюте с совсем молодым долговязым парнем-администратором со смешной фамилией Поппель, неизменным предметом подтрунивая всех, кому приходилось с ним общаться. Началось это после того, как однажды находясь на вахте в Бюро информации и получив по телефону категорический приказ не узнавшего его начальства «срочно найти Поппеля», он тут же, как полагалось, сделал по трансляции стандартное объявление по экипажу: «Товарищу Поппелю позвонить 5-08, повторяю…», чем навсегда занес свое имя в хронику судна.
Меня назначили работать в пассажирскую библиотеку. Через стеклянные двери небольшой квадратный зал без окон со стеллажами светлого дерева и мягким освещением манил про гуливающихся вдоль бутиков по закрытой палубе обленившихся в рейсе пассажиров полистать тут или взять с собою какую-нибудь книжонку на родном языке. На самом деле выбор был не особенно велик – главным образом то, что приносили перед круизом люди из стаффа – на немецком имелись в основном детективные книжки Хайнца Конзалика, на английском – Кристи и еще пара десятков «покетбуков» в ярких обложках.
Поскольку в то время мои познания в немецком языке ограничивались запавшими в память репликами из классического советского кинематографа, касающимися положения рук собеседника и дальнейших жизненных перспектив фюрера, пришлось срочно учить азы. Коронной стала заученная наизусть фраза – «шрайбен зи, битте, ире наме унд кабинен нуммер», к моему удивлению действительно заставляющая законопослушных немцев в обмен на взятые для прочтения книги записывать на карточке свою фамилию и номер каюты.
Правда, изредка находились интеллигенты с английским, желающие поболтать. Одна дама даже как-то принесла мне после нашей стоянки в каком-то англоязычном порту брошюрку моего любимого Хемингуэя The Old Man And The Sea – чудесный сувенир для библиотекаря.
Впрочем, оказавшийся в чем-то провидческим. Месяцев через восемь, попав впервые на уже совсем другом пароходе на Кубу, я рассматривал продуваемый ветром через распахнутые окна заставленный книгами дом любимого писателя к юго-востоку от Гаваны, поднимался в построенную ему женой трехэтажную башню из белого камня, где эта книга и была написана.
Жизнь экипажа на судне подчинялась многим рутинным правилам, большая часть которых не просто навязывалась всевозможными схоластическими инструкциями, а была продиктована реальной практикой выживания на море, или, как принято было формулировать, опытом «борьбы за живучесть». Конечно, важно было доказать себе это. Систематически проводимые учебные тревоги, для пассажиров выглядевшие забавной игрой с переодеванием в спасжилеты, должны были закрепить в памяти точку сбора и выполняемую роль в любых экстремальных обстоятельствах. Но когда над Средиземкой светило ласковое солнышко, и ровная изумрудная морская поверхность казалась надежной для огромного парохода, как асфальт первоклассного шоссе для автомобиля, думать об этом не очень хотелось. Однако спуска здесь не было никому, и по итогам каждых учений любой замешкавшийся член экипажа, включая многочисленный обслуживающий персонал, от повара до кастелянши, мог поплатиться должностью.
Я однажды тоже получил молчаливый урок, запомнившийся мне на все годы плавания.
Надо сказать, что положение капитана или, как говорят на флоте «мастера», на любом судне, а в особой степени на большом пассажире со многими сотнями членов экипажа, идентично положению короля в небольшом государстве с твердыми абсолютистскими традициями. Он может одарить и лишить гражданства, безжалостно наказать и дать шанс на осуществление мечты. Любое его решение – по крайней мере – до возвращения в порт приписки – оспорить практически невозможно, и потому принимается оно к выполнению безоговорочно. Конечно же, очень важно если таковое осознается не как простая демонстрация дарованной Богом и Уставом личной власти, а как разумный выбор знающего и уважаемого тобою начальника… Тактичность доведения его до провинившегося тут дорогого стоит.
Сергей Леванович Дондуа, невысокий человек с тихим голосом, считался лучшим капитаном пароходства, позднее – и всего пассажирского флота страны. Не мне – дилетанту, судить, но когда судно работало некоторое время на американской линии, он, писали местные газеты, поразил американцев способностью управлять океанским лайнером в ограниченных пространствах бассейнов местных рек. В 82-м году к 60-летию ему присвоят звания Героя Соцтруда.
Я сидел за своим роскошным столом в пассажирской библиотеке, размышляя, чем занять предстоящую паузу между вахтами. В библиотеке никого не было – туристы предпочитали открытую палубу, где можно было, закутавшись в пледы, дышать свежим средиземноморским воздухом, ловя последние в этих широтах в этом году теплые лучи солнца.
Дондуа, прогуливаясь по судну, вошел неслышно. Я встал ему навстречу, вышел из-за стола. Поздоровавшись, он перебрал лежащие при входе АПНовские рекламные брошюрки, просмотрел несколько книжек и, что-то спросив, уже собирался идти дальше, но в этот момент взгляд его скользнул вниз на ковровое покрытие.
Разумеется, на вахте одет я был по форме, что же касается обуви. Существовала строгая инструкция, категорически запрещающая экипажу передвижение по судну в любой обуви с открытым задниками, что обуславливалось техникой безопасности. Но сидеть четыре часа в помещении в закрытых ботинках тоже не очень-то хотелось. Короче говоря, в тот день на мне были удобные сандалии без пятки.
Дондуа смотрел на мою обувь ровно столько, сколько было необходимо, чтобы я понял все и даже больше. Смотрел, молча, не говоря ни слова. Я почувствовал, как краска стыда заливает физиономию.
Затем, все так же молча, повернулся, и, попрощавшись чуть заметным кивком головы, вышел в коридор на центральную палубу.
Сергею Левановичу больше не пришло в голову заглянуть как-нибудь еще раз ко мне в библиотеку. Жаль, он бы смог убедиться, что его молчаливый урок был понят и воспринят.
В следующем же порту – малазийском Пинанге – я купил себе, не слушая советов, классные и недорогие закрытые туфли на модной платформе. Как и предсказывали, они продержались, не лопнув по швам, целых две недели.
… С «Горьким» мне здорово повезло по целому ряду причин. Одной из существенных оказалось то обстоятельство, что заканчивая переход с туристами из Одессы в Гамбург, турбоход становился на три недели перед кругосветкой на ежегодный плановый ремонт в сухой док Howaldtswerke Deutsche Werft, откуда был восемь лет назад спущен на воду. Для того чтобы понять всю прелесть этого обстоятельства для советского моряка торгового флота, надо было знать весьма своеобразную структуру его заработков. Оклад большинства из нас был очень невелик, скажем, для рядовых должностей: матрос, моторист – он подчас не достигал и ста рублей, практически не отличаясь от заработков того времени на берегу. Но подавляющее большинство продолжало годами, оставляя близких, уходить в море вовсе не из-за неуемной тяги к экзотическим впечатлениям. Дело в том, что к рублевому окладу на все время пребывания за линией госграницы бухгалтерией пароходства насчитывался небольшой процент валюты со всяческими мелкими добавками, типа «полярных», «тропических» и т. п. В целом, на практике – это все равно составляло весьма мизерную прибавку к жалованию, составляющую всего до четвертой части оклада – то есть для большинства – порядка 25–35 долларов в месяц. В общем-то, тоже гроши. Но вот тут-то и вступала в действие основная хитрость, позволяющая советскому моряку худо-бедно зарабатывать в итоге довольно приличные деньги. Только такие новички-лохи, как я, да и то только поначалу, тратили всю сэкономленную валюту исключительно на покупку вещей для себя и домашних – модной одежды, фирменных магнитофонов и прочих хар актерных примет активно загнивающего капитализма. Опытные люди на каждый рейс имели свой четкий план действий, зависящий от портов, куда должно было заходить судно. В каждом из них предстояло купить товарное количество предметов, представляющих собою ценность для голого российского рынка. Например, в так называемом «колбасном переулке» Генуи или в магазине на Канарских островах в Лас-Пальмасе можно было очень дешево затариться мохером. Пакет, содержащий десять мотков, усилиями продавцов слегка недотягивающих до сорока граммов, можно было купить тогда в Италии по восемьсот лир, а при регулярном приобретении в конкретной лавчонке полной таможенной нормы, составляющей, если теперь не ошибаюсь, восемь пакетов для рейса до трех месяцев, можно было иногда даже получить небольшую дополнительную скидку. Каждый такой пакет, сданный по приходу в Союз в комиссионный магазин, приносил 100–120 полноценных рублей, а то и больше – в зависимости от сорта мохера. Таким образом, только на этой несложной операции, полностью оставаясь в рамках существовавшего закона, можно было почти удесятерить свой месячный доход. Эта голая схема имела множество вариантов в зависимости от того, на какой линии стояло судно. Выгодней всего тогда считались, пожалуй, двухнедельные регулярные рейсы на Геную, и выгнать с них народ в отпуск можно было только в качестве жестокого наказания.
Все приобретения подобного рода, изначально предназначенные для последующей продажи, назывались – «на школу». За годы, что плавал, я так и не узнал этимологию этого выражения – в смысле, «средства для будущего обучения», что ли, не знаю.
Что же касалось выгоды для экипажа предстоящего в сухом доке ремонта судна, то она заключалась в следующем. По существующим правилам судно, вывешенное в сухом доке для доступа ремонтников к корпусу, на период ремонта лишалось электро– и водоснабжения, что, помимо всего остального, делало невозможным функционирование камбуза – судовой кухни. В каком году писалось это правило, я не знаю. Но поскольку родина не могла оставить советского моряка жить впроголодь в капиталистическом аду – на этот срок ему полагалась валюта на питание в сумме, выплачиваемой обычным командированным в данную страну совгражданам. От стандартных валютных доплат к окладу суммы эти отличались порядком цифр – в сутки полагалось чуть ли не вдвое больше того, что обычно выплачивалось за месяц. Предполагалось, что довольные моряки на эти деньги трижды за день станут посещать ближайший ресторан.
На практике ситуация выглядела иначе. Едва мы вошли в док, и через пару часов громадный турбоход завис на специальных упорах так, что под обросшим водорослями днищем и винтами уже можно было гулять, немецкие рабочие в светлых комбинезонах уже заводили на судно шланги с питьевой водой, подвели систему сброса отходов и подключили электричество. Таким образом, вскоре на судне была заперта лишь часть туалетов и душевых, а повара ухитрялись каждый день готовить пусть и не такие разнообразные, но вполне приемлемые горячие обеды и ужины. Поскольку весь экипаж был в равной степени заинтересован в максимальном продлении такой ситуации (!), но следовало при этом рапортовать об экономии средств пароходства, было принято решение, что из трехнедельного ремонта «днями без камбуза» будут объявлены восемь. Вот за эти дни мы и получили сумасшедшие командировочные, превышающие заработок за трехмесячную кругосветку. Даже кто-то из руководства пароходства специально прилетал в Гамбург, чтобы «курировать» ремонтные работы, а заодно и поучаствовать в этом «празднике жизни».
Я получил больше четырехсот немецких марок, что внушало известное самоуважение. Каждый день те, кто не был впрямую задействован в ремонтных или уборочных работах по судну, имели возможность ходить – разумеется, в составе групп, в город. Проблема, правда, состояла в том, что ко мне в группу, как правило, включали пару официанток или каютных, имевших вдобавок к командировочным приличные чаевые и жаждущих часть этой денежной массы побыстрее потратить по собственному усмотрению. Приходилось искать компромисс между осмотром города и торчанием у прилавков торговых точек, включая похожий на склад польский магазинчик «для моряков» на набережной у порта, набитый «школьным» барахлом. Любая моя попытка пофотографировать уличные сценки в центре безжалостно пресекалась женской частью группы как бессмысленная потеря времени и без того недолгих часов увольнения. Германия, то редкое место на планете, где можно недорого купить хорошие вещи на себя, и упускать такую возможность из-за моего московского снобизма никто не собирался. Поскольку раздельно возвращаться на борт было категорически запрещено, приходилось уступать, и девчонки тащили меня к очередному вещевому развалу.
Один из самых больших портовых городов Европы запомнился мне в первый раз еще по двум причинам. Во – первых, я, подстегиваемый примером окружающих, тоже совершил крупную покупку для себя. Кажется, в C&A я купил себе потрясающий темно-синий велюровый костюм и точно из такого же материала бабочку к нему. Бабочка эта, единственная в моей жизни, вроде бы жива до сих пор и лежит где-то в ящике шкафа. А во-вторых, я побывал на знаменитом Reeperbahn – самой известной улице Гамбурга. Сложилась редкая мужская группа увольнения, и мы под идейным руководством бывалого моториста, заверив друг друга обещаниями на пароходе ни в коем случае не трепаться, отправились в знаменитый «красный» квартал.
На людей, живущих в стране, где, как известно, «секса не было и нет», поход сюда производил в те годы весьма эмоциональное впечатление. Поскольку у меня и у третьего нашего товарища – Поппеля подруг к тому времени на судне еще не появилось, то опытный моряк-моторист, наблюдая за нашими озабоченными физиономиями, веселился от души. Конечно, как и подобает советским людям, вначале посмотрев крутой порнофильм, потом выпив по бокалу пива в жутко дорогом стриптиз-баре, наблюдая за ранее не виданным живым танцем у шеста топлес, до конца мы идти не решились и, несмотря на настойчивые уговоры подсевших за столик девушек, ошалев, прорвались к плохо освещенному выходу. Зато буквально через десяток метров я обнаружил некое шоу, название которого, составленное из мигающих лампочек, звучало как «Сенсации из Америки 1977. Живые Модели.». Мы зашли. Закрыв за собою дверь, посетитель оказывался в тесной кабинке, наподобие отечественной телефонной будки, причем и запахи были близки… В полной темноте была видна только прорезь для приема монет, и горела красным надпись – «опусти марку». После чего впереди на уровне глаз автоматически поднималась створка, и становилась видна небольшая комнатка, где на стоящем в центре матрасе трахались голые девушка и парень. Если очень захотеть, то в принципе можно было дотянуться до них рукой. Судя по выражению глаз, он был под воздействием чего-то улетно-стимулирующего, а она, напротив, в полном порядке и улыбалась, демонстрируя приближение оргазма. Было заметно, что вокруг в форме буквы «п» располагались такие же кабинки, из которых за зрелищем наблюдали другие посетители. Едва кончив, парень, легко восстановив эрекцию в результате умелого минета партнерши, начинал все сначала. Ровно через сорок пять секунд створка захлопывалась, и вновь загоралась красная надпись «опусти марку». Большинство опускало.
Выбравшись через какое-то время на улицу, мы не сговариваясь, зашагали в порт к родному пароходу, стараясь идти побыстрее – отнюдь не по соображениям морали.
Прогресс человечества поражает. Только что по НТВ увидел сюжет о быстро развивающейся новой сети отелей в Европе. Пятизвездочный сервис на сутки с выпивкой за счет заведения может получить каждая пара, подписавшая в рецепции согласие на то, чтобы их ночные занятия сексом в режиме реального времени транслировались через веб-камеру на сайт в интернете. Если партнера нет, соответствующую вкусу кандидатуру за доплату из собственного «штата» предложит сам отель. При желании позднее можно придти снова и с другим партнером.
Он сидел рядом с раздвигающимися дверями большого универмага на фоне огромной витрины с рождественскими украшениями и игрушками и улыбался тем, кто шел мимо. На толстом коврике, брошенном на асфальт, все равно было, вероятно, не очень тепло, на руках у него были нитяные перчатки с обрезанными пальцами. Новая светлокоричневая «обливная» дубленка полурасстегнута, фирменные джинсы заправлены в недешевые кожаные полусапожки на толстой микропорке, на шее теплый шарф с начесом. Он работал нищим в Гамбурге на набережной Эльбы. Утром мы, в последний раз гуляя по городу, проходили мимо него, а сейчас он махал нашему пароходу, уходящему в кругосветку. Где-нибудь в новогоднем Ленинграде тех времен он, просто продав все это, мог бы прожить безбедно не один месяц. Но беднягу судьба занесла в Гамбург, и он выбрал это место. Только много лет спустя, пожив в этой стране, я усвою, что это был абсолютно добровольный выбор – каждый рожденный тут может и сейчас получить от государства нормальное жилье и деньги на совсем неголодную жизнь – достаточно заполнить несложную анкету. А может ночевать на скамейке у вокзала в обнимку с большой бутылкой любимого вина – свободный выбор свободного человека. Может быть, потому, сделав его, он и улыбался…
Мы уходили в кругосветку. Даже сегодня, когда давно уже не существует железного занавеса, и названия мировых столиц и экзотических курортов звучат для многих россиян повседневной реальностью, находящейся в зоне «шаговой доступности», тот наш маршрут, по-моему, все равно выглядит классно.
Мы вышли из Гамбурга на Лиссабон. Совсем недавно тогда в Португалии произошла «революция гвоздик», и красный цветок был нарисован повсюду – даже на портовых пакгаузах. Свергнув фашистскую диктатуру, люди приняли новую конституцию и находились еще в эйфории от того, что это все произошло. Старый город, расположенный на холмах, древний трамвайчик, ползущий в гору мимо обшарпанных домов, и над всем хорошо видимая еще при подходе к порту огромная белая статуя Христа – то, что осталось в памяти. Город на краю Европы был последним перед броском через океан.
…Это совершенно разные вещи – шторм в море и океане. Передать разницу словами почти невозможно – она в рождающихся ощущениях. Казалось бы, одна и та же безбрежная масса воды без берегов, с неимоверной силой поднимающая огромный корабль вверх и роняющая его вниз, наклоняя на борт… И все-таки подспудная мощь океана, во власти которой оказываешься, совсем иная. Кажется, что волна идет тяжелее и медленнее, осознавая собственную силу, она выше и выглядит куда более грозной. После пяти-шести баллов на «Горьком» нельзя уже было выпускать стабилизаторы качки и остается только слушать, как глухо скрипят роскошные лестницы на всех палубах, все равно именуемые трапами. Пассажирские лифты выключены, большая часть туристов не выходит из кают, рестораны на обед полупусты. Жизненное пространство сокращается до нескольких квадратных метров родной каюты, в которой можно поблагодарить судьбу, что не стал в этой жизни штурманом, вахту которых там, на мостике, не отменить, не перенести… Зато, если, собрав всю волю, заставить себя, переступив через комингс, выйти на открытую палубу, с трудом захлопнув за собою вырываемую ветром тяжелую дверь, и, удерживаясь за поручень, минуту продержаться, глядя на штормящую Атлантику, навсегда осознаешь всю мелочность повседневных человеческих разборок. И еще раз, кстати, укрепляешься в чувствах к своему судну, защищающему тебя от этого буйства стихии – однажды совместно побежденный страх роднит больше общего умиротворения.
А оно было уже рядом. Утопающий в тропической зелени кусочек земли, первая маленькая часть Америки, остров из группы Антильских и государство с красивым именем Гренада. Здесь не было причала для таких судов, как наш «Горький», – думаю, нет его и сейчас. Мы стояли на рейде, на якоре, и возили туристов на берег ботами. Меня с «уоки-токи» послали на берег с первым же ботом – организовать прием и высадку. С одной стороны было чуть обидно – многие из экипажа, измотанного непростым переходом через океан, получили возможность махнуть на местные пляжи, представляющие собой живую копию картинки «Баунти». А мне пришлось стоять на берегу, отчитываясь по радио перед вахтенным на судне о прибытии очередного катера. Зато я на всю жизнь наслушался местного фольклора – группка веселых негров устроила перед гостями выступление местного джаз-бэнда, составленного из шести-семи больших железных бочек, служивших совсем недавно емкостями для топлива. Используя палки и собственные ладоши, они наяривали с таким энтузиазмом и так громко, что бедные немцы, восхищенно поцокав языками, тут же торопились подальше вглубь живописного острова. И только я был вынужден слушать эти милые, но несколько однообразные, мелодии несколько часов подряд. Один общительный негр в рваной майке, проникшись доверием, даже предложил мне его заменить, пока он добежит до соседней дюны, чтобы облегчиться, но я не решился.
Я потом следил за судьбой этого чудо-острова – стране не очень везло. Через пару лет тут пришла к власти партия с идеологией, близкой к коммунистической. Ребята быстро установили связи с СССР и Кубой и позвали кубинцев строить современный, якобы гражданский, международный аэропорт, но через несколько лет перессорились между собой и начали друг в друга стрелять. Хуже всего, как всегда, пришлось и без того едва сводящим концы с концами местным чернокожим обывателям, началось что-то вроде гражданской войны. Американцы, недовольные бардаком, творящимся у них под боком, и жалея несчастных гренадцев, высадились на остров и быстренько навели порядок, выкинув возмущающихся кубинцев, на поверку оказавшимися не столько строителями, сколько военными. Сейчас Гренада – член Содружества, живет все так же, главным образом за счет круизного туризма. Картинка с «Баунти» изменилась мало, джаз на пустых металлических бочках по-прежнему ласкает уши приезжих.
Потом мы зашли в Порт оф Спейн – столицу Тринидада и Тобаго, маленький городок в типично колониальном стиле; где – то у меня до сих пор валяется местный доллар с изображением характерной улочки с рядами невысоких домиков.
Заканчивался декабрь. Если вечером или ночью попадал на открытую палубу, то поначалу застывал в недоумении – дело не только в том, что звезды на небе тут были ярче и крупнее, – с каждыми сутками движения они постепенно менялись. Привычные с детства созвездия исчезли, и на тебя смотрели совершенно новые звездные сочетания – вместо Полярной Звезды, к примеру, Южный Крест. Осознать в разгар влажного тропического лета, что где-то дома лежит снег, было не просто, и только очередная дата на календаре да поздравительные радиограммы убеждали, что в Союзе зима. Тридцать первого декабря мы зашли в Ла-Гуайру, городок неподалеку от столицы Венесуэлы Каракаса. Днем была автобусная экскурсия для экипажа – со смотровой площадки был хорошо виден внизу огромный город, уютно лежащий в долине на фоне Анд.
Вечером мы отмечали Новый год по Москве. В мою маленькую каюту без иллюминатора набился народ – редактор Новиков, несколько девочек из службы ресторана, Поппель, пассажирский помощник, ребята из машины, спортинструктор тренажерного зала для пассажиров Боря, знакомый бармен. Стол ломился от всяческой вкуснятины, со спиртным тоже не было проблем, толпа расслабилась. Кто-то, сверяясь с вмонтированным в переборку репитером судового хронометра, прокукарекал за кремлевские куранты, и мы подняли бокалы с шампанским. В Москве и Одессе наступил 1978 год… Так далеко от дома я больше этот праздник никогда не встречал.
Как обычно, народ, подстегнутый алкоголем, потихоньку расползался парами по своим каютам. Наутро выяснилось, что озабоченный старик Новиков чуть не получил за приставания по лбу утюгом от одесситки Нади Алагиры.
– Пинтос он. – с непередаваемыми интонациями, объясняла она потом.
Я, скорее в шутку, пригласил позднее захаживать в гости ее подругу Валентину. Уже заснув, я услышал легкое поскребывание в запертую дверь. Вставать ужасно не хотелось, но было неудобно. Я босиком добрался до двери каюты и повернул ключ. А мог бы и не открывать, извинился бы потом, что заснул – и все дела.
Сегодня мы женаты уже тридцать три года.
А звали его Тупой IV, и на прибитой прямо к дереву цветной фотографии было видно множество орденов, прикрепленных к черному военному френчу с расшитым золотом стоячим воротником, перепоясанному красно-белой лентой. Лицо его было слегка похоже на бурята, упавшего с низколетящего самолета. Видимо, своего короля на Тонга любили и хотели, чтобы каждый попадающий на остров с ним познакомился. Туристов подвозили на катерах с судна, стоящего на рейде, и тому, кто не успевал увернуться, местные девушки вешали на шею гирлянду желтых цветов, не забыв при этом попросить скромные чаевые. Порт, куда заходил «М. Горький», назывался Нукуалофа, а король имел дипломы юриста и искусствоведа Сиднейского университета.
За пару дней до этого мы были на Таити, куда, но уже позднее меня, залетал блудный попугай Кеша. Мы забрели, гуляя, в писчебумажный магазин, находившийся рядом с музеем Ван Гога. В небольшой комнатке среди книжного развала валялся глобус, я взял его, с трудом нашел среди похожих на типографские кляксы остров и потом Москву. Если обнять глобус, приставив палец одной руки к советской столице, а другой к Папеэте, получалось, что они находятся прямо против друг друга на разных концах планеты. Вот занесло…
На остров Бали советские люди в то время практически не добирались. В таких местах увольняться на берег из экипажа никто особенно не рвался, а я, конечно же, полюбопытствовал посмотреть. Вдоль узкой полуулочки-полутропинки, ведущей от моря, местные торговали для туристов фантастическими деревянными поделками. Чтобы отличить обычную деревяшку, выкрашенную краской в черный цвет, от тонкой резной работы из тяжелого эбенового дерева, особого интеллекта не требовалось. Мне очень понравились фигурки сражающихся драконов, которые продавала женщина средних лет, как оказалось, вполне сносно объясняющаяся по-английски. Однако истинную стоимость феноменально вырезанных скульптурок она явно знала, и цена по скромной моей зарплате оказалась совершенно неподъемная.
Тогда я с присущей мне редкой сообразительностью попробовал пойти в обход.
– Видите… – я показал рукой на расположенную чуть ниже бухту, где на рейде стоял весьма внушительный «Горький», – вон там… большой пассажирский лайнер. Так вот, я офицер с этого судна, занимаюсь работой с пассажирами. И если вы сделаете мне хорошую скидку – я обещаю устроить вам паблисити на борту, буду рекомендовать всем туристам покупать сувениры только у вас…
Звучало, с моей точки зрения, довольно убедительно. Но случился облом.
– Сэр… – сказала мне дама в ярком индонезийском батике, – если вы действительно офицер с того белого корабля, то почему разница в двадцать пять долларов для вас столь существенна?
Ну, что тут было ответить? Что я – советский офицер… и вся моя месячная зарплата в валюте на этом белом пароходе примерно соответствует этой сумме?
Много лет спустя один владелец итальянской киностудии, создавшей боевик «Король Нью-Йорка», пригласил меня в Рим для переговоров. Аэрофлотовский билет до Рима в первом классе оплатил мне кооператив, в котором я состоял, а дальше все расходы по проживанию обещал взять на себя приглашающий. Сложилось так, что по прилету в римский аэропорт Фьюмичино меня никто не встретил. Деньги выезжающим в частную поездку меняли раз в год и то только какой-то мизер, и я опасался, что оплатить дорогу на такси в город мне может их не хватить, тем более что я толком не знал куда ехать – на студию или в какой-то отель. Мобильников тогда, разумеется, не существовало. Короче говоря, я попытался объяснить ситуацию итальянке в справочном бюро и попросить ее связаться с киностудией, объяснив что их гость из Москвы ждет в аэропорту. Она в ответ разъяснила мне, что не стоит себя затруднять, – стоянка такси у выхода, и я могу спокойно добраться куда пожелаю на машине с водителем. На возражение, что у меня нет в кармане местных денег – итальянских лир, она вежливо показала на обменный пункт в углу зала. – Так поменяйте…
Как я мог объяснить ей, что это невозможно по той простой причине, что деньги страны, из которой я прилетел, не примут тут даже по цене оберточной бумаги… Мы жили в разных мирах.
А тогда, на Бали, я начал говорить, что очередная выплата заработной платы предстоит только в следующем порту – Сингапуре, и поэтому я совершенно случайно, разумеется, не располагаю в настоящий момент нужной суммой. Похоже, что говоря истинную правду, я выглядел даже для человека с острова на краешке планеты столь странно, что меня, очевидно, просто пожалели – те два великолепных дракона из эбенового дерева стоят и теперь у меня в кабинете.
Я говорил – у меня есть предположение о том, какая музыка звучит в приемной Рая. Кроме того, с некоторых пор я догадываюсь какой там воздух. Он идентичен воздуху в небольшом парке города Окленд, крупнейшего в Новой Зеландии. Если дойти сюда из порта, вертя головой от непривычно, «по-английски», справа налево движущихся автомобилей, сесть тут на лавочку, любуясь удивительными фигурами разнообразных крупных животных, в форме которых мастерски выстрижены плотные кусты вокруг, и глубоко вдохнуть – от чистоты начинает кружиться голова, воздух просто хочется пить. Наверное, так было повсюду на Земле, пока позднее не появились здесь все мы.
Знаю я и тропу, ведущую совсем не в райские кущи. Есть ощущение, что проходит она через Индию того времени. Пожалуй, самые страшные впечатления от всех виденных мировых городов – это Кочин, Мадрас и Бомбей, в 1995-ом переименованный в Мумбаи. Десятки тянущихся к тебе рук калек и прокаженных на окраинах, свободно испражняющиеся прямо на дороге женщины, мужчины и дети, километровые народные «прачечные», где сотни людей «стирают» белье, ударяя его об огромные каменные валуны, пыль и нищета. Хотелось укрыться и не выходить из старенького автобуса, плавящегося на жаре без кондиционера (на экипаже всегда экономят), поднять стекла и сидеть тихо. А если он, по закону подлости, как наш, все же встанет прямо посреди пыльной дороги, не объехав очередную нечистую корову, то пеший путь обратно до судна окажется запоминающимся испытанием. Главное, наплевав на палящий зной, – не останавливаться, чтобы не прикоснулись, скорее вбежать по трапу в лацпорт судна, где уже можно дышать, а потом бегом в душ… Если сегодня в этой стране уже нет хотя бы четвертой части ужасов тех лет – хвала ее властям и народу.
…Мы подходили к Суэцкому каналу и остановились на входе, ожидая сбора каравана. По узкому забетонированному пути с двух его сторон из Средиземки и Красного моря навстречу друг другу рано утром отправляются караваны судов из Европы в Азию и обратно. 163 километра рыжей воды, забранной в бетон среди песков. На берегах с обеих сторон тогда еще валялись обломки военной техники – память о давно уже закончившейся арабо-израильской войне. К середине дня, дождавшись последнего в цепочке, караваны в большом озере посредине безшлюзового канала, подчиняясь командам диспетчера и лоцманов, расходятся, огибая друг друга, и вновь входят в узкое пространство, из которого не повернешь. К вечеру мы уже стояли у понтонов Порт-Саида, грязноватые кварталы которого начинались прямо от воды канала.
Несколько дней назад меня официально предупредили, что я в списке трети экипажа, замену которому еще вчера привез в Александрию старенький пароходик «Кооперация». Было это для меня полной неожиданностью, я совсем не планировал уходить сейчас в отпуск, а понять, что произошло, никак не удавалось. Пришлось скрепя сердце подчиниться и готовиться к возвращению в Одессу.
На следующий день «М. Горький» ошвартовался в Александрии на причале рядом с «Кооперацией», и началось великое «переселение народов». Суда стояли буквой «г» друг к другу, и вновь прибывшие целый день переносили свои вещи на «Горький», а уезжавшие с накопленным за рейс скарбом переселялись на их место, в маленькие четырехместные каюты обшарпанного пароходика, на котором предстояло добираться до порта приписки. Он был настолько стар, что даже имел ограничения по району плавания, единственным же утешением служило то обстоятельство, что его уже успели загрузить в попутном направлении египетским ромом – низкокачественным, но крепким.
Эта сцена врезалась в память навсегда – мы прощаемся на пустом причале порта Александрии под усиленные репродукторами призывы муэдзина с белого минарета, пристроенного к зданию морвокзала. Ощущения тяжелые – как будто отрезали кусочек тебя, так успел сродниться с этим большим пароходом. А теперь еще и Валентина. «М. Горький» уходит в ночь на США. А нам предстоит шлепать через Босфор назад, в Черное море. Я обещаю приехать за ней через три месяца в Ленинград, куда придет турбоход, Валя плачет.
Ни она, ни я тогда не знали, что вместе с отправляемыми в Одессу на «Кооперации» документами уходит и небольшой пакет, адресованный в отдел кадров, где подколоты составленные со знанием дела доносы на меня, под которыми стоят подписи нескольких наших общих знакомых – из тех, с кем вместе встречали Новый год, пили в феврале на моем дне рождения.
Кое-кто из них, тоже уходящих со мною в отпуск, начнут мне каяться еще по пути домой, под стакан дрянного рома, объясняя, что просто не имели другого выхода. Вызвал первый помощник Игорь Иванович Зайцев, дал прочитать уже готовый текст и велел переписать от руки… Кому хочется рисковать своей визой… Что именно подписал? Ну что – иногда о политике неправильно говорил, о руководстве страны и вообще. ну, выделялся. А что, не так? Нет, ты вот скажи… И потом – ты что, не знал, что помполит к твоей подруге тоже неровно дышит?..
Утром, проснувшись, я вышел на палубу. «Горького» уже не было… Длинный причал был пуст, и грязные волны били о бетонные сваи. Призывая к утреннему намазу, опять пел над портом муэдзин. Только через сутки, дождавшись наконец более или менее благополучного прогноза погоды, «Кооперация» снялась на Одессу. Едва ли не черпая из-за сильной перегрузки невысокими бортами воду, мы почти две недели чапали до Воронцовского маяка. Наверное, ром помог – добрались.
Много лет спустя я прочту в Интернете письмо старшего механика турбохода «Максим Горький» Анатолия Коротаева:
…«Двадцать девятого января 2009 года из Одессы на Кипр отправились одиннадцать членов экипажа тб/х «Максим Горький» (в основном члены машинной команды) для замены оставшегося экипажа и сопровождения судна к месту его разделки на металл. Такая же группа вылетела из Санкт-Петербурга. Тридцатого января обе группы прибыли в порт Лимасол. Вся команда состояла из тридцати трех человек – семнадцать человек в машине, четырнадцать на палубе и пять человек обслуги. На судне также присутствовал представитель индийской компании, купившей это судно на металлолом. Так начался последний рейс легендарного судна…
Последние два месяца оно стояло на рейде у берегов греческого порта Пирей и ожидало своей участи. В Гамбурге была создана инициативная группа по сбору средств для покупки судна и дальнейшего переоборудования его в гостиницу. Возглавлял эту группу немецкий капитан «Гамбурга». Еще, по слухам, были заинтересованы в покупке судна греческая компания и австралийская, но все было тщетно, судьба лайнера была решена – металлолом. Для перегона судна к месту разделки необходимо было оформить регистровые документы. Последние годы судно работало под DNV – Норвежский Веритас. Для оформления документов были вызваны представители DNV в Греции, и они начали проверку судна для выдачи разрешения на последний рейс. Эти представители не верили, что судно идет на металлолом, у них не было ни одного замечания к техническому состоянию судна. Документы были оформлены без труда, и мы приступили к перегону судна.
Второго февраля прошли Суэцкий канал и вышли в Красное море. Шли мы в печально известный индийский порт Аланг, там заканчивают свою жизнь большинство судов мирового флота. Шли небольшим ходом, так как спешить было некуда. В Аланге только два раза в месяц происходит выброска судов на берег. Это происходит, когда прилив достигает своего максимального уровня, в середине и в конце каждого месяца. Наша дата выброса была назначена на двадцать пятое февраля. Пройдя Красное море, мы прошли через Баб-эль-Мандебский пролив и вошли в Аденский залив, в зону действия сомалийских пиратов. Почти на всем пути следования через зону действия пиратов нас сопровождали военные суда. Конечно, они не были приставлены к нам специально, там было много и других судов, следовавших с нами как одним курсом, так и встречным, но все вокруг знали, куда мы идем, и сочувствовали нам. На корме мы расставили оставшихся из магазинов манекенов, одели им на головы каски, к рукам пристроили трубу, чтобы создать впечатление, что стоят люди с гранатометом. Не знаю, что помогло – наши манекены или военные суда сопровождения, но прошли мы эту зону без проблем, а затею с манекенами одобрили даже вояки. На другой день, после выхода из зоны действия пиратов, получили сообщение, что на 270 миль южнее нас было захвачено очередное судно. А еще через день мы легли в дрейф и ожидали дальнейших приказов судовладельца. За время ожидания заменили все названия «Максим Горький» на «Максим М», а также порт приписки Нассау на Бассетерре. Не знаю по каким правилам, но все суда перед выброской переименовывают.
Восемнадцатого февраля пришел приказ – прибыть на внешний рейд Аланга девятнадцатого февраля вечером, что мы и выполнили. На внешнем рейде Аланга начали работать различные комиссии – сначала таможенная, затем экологическая, и на двадцать пятое февраля назначили выброс (Beaching). Двадцать четвертого февраля мы перешли на исходную точку в двух милях от места выброса и увидели, что такое Аланг. Это берег длиной семь миль, на котором буквально через каждые десять метров стоят выброшенные суда, от одних уже почти ничего не осталось, другие только начали разбирать, третьи еще не начинали. А в три часа ночи нас подняли по авралу, и началось наше последнее плавание. По команде с мостика я раскрутил обе машины до предельно возможных оборотов, и мы пошли. Все закончилось очень быстро, мы в машине это увидели сразу – указатель скорости упал на ноль, вакуум в главных конденсаторах начал падать, и я дал команду электромеханику обесточить судно. Электромеханик нажал на кнопку, все потухло, через несколько секунд запустился аварийный дизельгенератор, электромеханик включил освещение по судну, и поступила команда покинуть борт. Перед выброской мы установили с обоих бортов траппричалы. Есть на круизных судах такие платформы, которые используются при рейдовых стоянках, к этим причалам швартуются судовые катера для перевозки пассажиров на берег. После взятия АДГ под нагрузку мы спустили на эти причалы трапы и перенесли на них свои личные вещи, с одного борта палуба, с другого машина, затем с берега подошли за нами две шлюпки, мы погрузились в них.
В момент погрузки судно начало «агонизировать». Дело в том, что мы оставили крутиться паровые механизмы, чтобы они вырабатывали пар из судовых котлов, пар от них выходил в магистраль отработанного пара. На этой магистрали стоит большой предохранительный клапан, который начало подрывать при повышении давления выше нормы и стравливать излишки пара в атмосферу. Звук от этого производил впечатление, будто огромное живое существо вздыхает. Все это происходило в пять утра в темноте. Загрузившись, мы пошли к берегу, откуда нам светили фонариком куда идти. На берегу нас уже ждало очень много индусов, которые начали выгружать из шлюпок наши вещи и носить их в ожидавший грузовик. Мы же попрыгали из шлюпок прямо в воду и пошли тоже на берег. Перед уходом электромеханик остановил АДГ, однако судно еще светилось от аварийных аккумуляторов. Затем мы погрузились в автобус и уехали с этого места в город Бхавнагар, там мы прошли иммиграционные и таможенные формальности и поселились в гостиницу, где привели себя в порядок, переоделись и приготовились следовать домой. Двадцать седьмого февраля мы прилетели в Одессу. Вот так и закончилось мое путешествие длиной в тридцать пять лет и один месяц. Ведь я пришел на это судно молодым машинистом и дослужился на нем до старшего механика. Из всех, кто принимал это судно тридцать пять лет назад, к моменту выброса остался я один…».
…Любвеобильным коммунист с «Горького» рассчитал все верно – видимо, был уже аналогичный опыт. Отмыться от обвинений в политической незрелости, подтвержденных сразу несколькими заявителями, даже мне с моей биографией оказалось совсем непросто. В ЧМП действовали свои порядки. И хотя, конечно, на закрытие визы материал явно не тянул, назначение на другое судно в течение нескольких месяцев получить я тоже не мог. Мой прежний покровитель, начальник управления кадров Лисюк, уже был переведен из пароходства и работал в Москве в Центральном Комитете КПСС, так что морочить ему голову было неудобно. Да, собственно, и сказать-то было бы нечего – никаких конкретных обвинений мне никто не предъявлял, в кадрах просто морочили голову, видимо, в тайной надежде, что я, непрофессиональный моряк, плюну на все это фигню и вернусь к себе в столицу. Но работа на море успела «лечь на сердце», стала для меня очень важной, да и уходить, не отмывшись, было тогда принципиально нельзя.
Неожиданно помог случай. Болтаясь между звонками и визитами в Одессу, я вернулся к своей профессии. Еще работая в АПН, я познакомился с известной семейной парой кинематографистов, двумя народными артистами Союза – актрисой Людмилой Ивановной Касаткиной и ее мужем, режиссером Сергеем Николаевичем Колосовым. Вместе с коллегами из Польши мы снимали для ТВ Польской Народной Республики большой документальный фильм по моему сценарию о советско-польском сотрудничестве, и значительной его частью стала история совместной работы кинематографистов двух стран. Автор популярного в то время сериала «Операция Трест» Колосов не так давно тогда закончил картину «Помни имя свое», естественно, с Людмилой Ивановной в главной роли, созданную в тесном взаимодействии с поляками. Гостеприимно угощая всех вкусным чаем в своей квартире в «доме-книжке» на Калининском проспекте, откуда открывался изумительный вид на столицу, Касаткина объяснялась в своей любви к полякам и польскому языку.
Хорошие отношения с этими людьми оставались у меня долгие годы, и я, нагруженный «морскими» впечатлениями, предложил Колосову сделать фильм о драматической и тогда еще почти никому не известной судьбе конвоя PQ-17 периода Второй мировой. Тема очень заинтересовала Колосова, и мы договорились вместе начать работу над литературным сценарием. Правда, как вскоре выяснилось, роль Сергея Николаевича как соавтора свелась к одобрительному выслушиванию написанного мною и поощрительному киванию головой.
– Хорошо… Работайте, Саша, работайте…
Вопрос об авторском договоре с «Мосфильмом» все время откладывался.
Как-то он заехал ко мне домой в квартиру на Ленинском проспекте. Вместе с легкой закуской я поставил на стол большую банку черной икры в стекле и – что было тогда круто – привезенные из рейса пару красных металлических банок с кока-колой. За разговором о сценарии все это осталось нетронутым. Уже собираясь, Колосов, как бы между прочим, потянулся за металлическими баночками с колой.
– Красота какая. у нас так еще не выпускают… я возьму с собой, да?
– Конечно, Сергей Николаевич… пожалуйста.
– Ну и это тогда… тоже, ладно? – Колосов уже укладывал в портфель неоткрытую тяжелую банку с икрой.
– А вы, Саша, работайте… работайте… Я думаю, у нас все должно получиться…
Время шло. Я названивал в ЧМП и торчал в Ленинке, пытаясь разобраться в разноязычных материалах о конвое. При очередной встрече я, рассказывая о сделанном, к слову, без всякой задней мысли, упомянул о том, что в Одессе вот уже несколько месяцев морочат голову с очередным рейсом, столь нужным мне для поддержания в сценарии «морского духа».
– А я ведь помню этого… Кашаева, – Колосов назвал фамилию начальника отдела кадров пассажирского флота ЧМП. – Мы с ним встречались там, на премьере. помнишь, Людмила?..
Я ухватился за эти слова.
– Правда… милый человек, да?.. Сергей Николаевич, а вы не могли бы черкнуть ему пару строк. насчет наших совместных планов?..
Через неделю я в очередной раз предстал перед гнусноватым кадровиком с бутылкой французского коньяка и письмом в конверте.
– Меня просили вам передать.
Еще через сутки я получил приглашение в кадры к инспектору за направлением на очередное судно.
… В тот год Советский Союз замутил очередное международное действо для популяризации дружбы между левой молодежью мира и для демонстрации успехов строительства социализма. Впервые его решили провести на американском континенте, другими словами – на Кубе. Разумеется, возможности этой маленькой нищей страны были очень невелики и сводились главным образом к предоставлению своей территории. Поэтому мы, в частности, взялись довести сюда большую часть делегатов и потом развести их по домам.
Дизель-электроход «Россия» был построен аж в 1938 году на той же судоверфи, что и «Горький», в Гамбурге, и имел первоначальное наименование «Патрия». В войну немцы использовали его для отдыха как плавбазу ВМФ. В Союз он попал в счет репараций уже под именем «Россия», позднее его переоборудовали, стараясь сделать весьма комфортабельный пассажирский лайнер, отличающийся изысканно по тем временам оборудованными каютами и красивым оформлением интерьеров. Стоял он на Крымско-Кавказской линии, и считалось большим везением советским трудящимся попасть на нем в круиз по Черному морю из Одессы в Батуми и обратно.
Экипаж работал на пароходе в основном не визированный и, когда изредка возникала потребность в каком-нибудь спецрейсе за границу, приходилось обновлять почти весь его состав.
Белый утюгообразный корпус парохода казался особенно прочным за счет опоясывающих выпуклостей по всему корпусу и создавал визуальное ощущение особой надежности, хотя на самом деле вся его начинка была здорово изношенной.
Меня назначили переводчиком в судовой госпиталь, и я очень быстро сдружился с врачами, все еще не могущими придти в себя от везения, вырвавшего их из кабинетов бассейновой поликлиники в фактически полуторамесячный отпуск на море, обещавший к тому же очень неплохой приработок к небольшой береговой зарплате.
Работа действительно оказалась непыльной – большинство пассажиров из десятка стран Азии и Африки были счастливы своей молодостью и выпавшим на их долю фантастическим путешествием через океан и госпиталь старались обходить стороной. Многие до конца, видимо, не верили, что белые люди станут их лечить совершенно бесплатно.
Таким образом, рабочий день, как правило, сводился к травле баек с дежурным сегодня врачом и обсуждением наилучших способов решения оставленных им дома семейных проблем. Совсем редко в дверь тихо стучалась очередная, до безумия стеснявшаяся африканочка, и я с удовольствием переводил нашей полной терапевтше ее скромную просьбу: «ай хэв а период… ай ниид э коттон» как «дайте ей ваты, пожалуйста…». Кроме разговорчивой врачихи в состав врачебной команды входил много плававший и потому сурово пьющий, но знающий свое дело хирург, дотошливый эпидемиолог – инфекционист и старший врач, большой любитель волейбола.
Из Одессы мы шли на Алжир, где должны были забрать еще одну группу участников фестиваля, и потом, уже совершив столь важный для отоваривания экипажа заход на Канары, в Лас-Пальмас, шлепать через Атлантику на Гавану.
Свободного времени оказалось полно. Сориентировавшись, через пару дней я перебрался из своей маленькой служебной каюты на корме в более комфортабельную пустующую двухместную пассажирскую и начал ощущать, что жизнь удалась. Врачи меня полюбили – я с удовольствием выслушивал их рассуждения о смысле жизни и даже позволял себе иногда что-нибудь посоветовать. Поскольку делал я это, как правило, в том направлении, какое казалось верным и самому рассказчику (ах, умная моя сокурсница Маша: «…мы – не инженеры человеческих душ, мы – техники-смотрители…»), мои рекомендации ценились особо. Кроме того, переводя просьбы редких пациентов, я непроизвольно заодно ставил диагноз и подсказывал возможные действия, избавляя врача от необходимости в эту жару дополнительно размышлять. (В самом деле, если у бедной черной девочки месячные – так дайте ей бинты или вату, не так ли?).
Из акватории порта столица Алжира, именуемая так же, как и все государство, выглядит красиво – нависшая над морем, на крутом холме оживленная улица с высокими ослепительно белыми домами.
Попав в город, даже не сразу осознаешь, что это уже Африканский континент, Северная Африка. Вполне европейские бутики, оживленное организованное движение, прилично одетые люди, французская речь звучит, пожалуй, не реже арабской. Похоже, что жители второго по величине государства континента успели сохранить от долгой эпохи зависимости от Парижа все не самое худшее.
Приняв на борт большую группу ждавших нас участников фестиваля, мы к концу того же дня снялись на Лас-Пальмас. Уже в море к нам в госпиталь спустилась потрясающе красивая темнокожая девушка с весьма внятным английским, как оказалось из делегации Сейшельских островов. Стесняясь, она попросила меня объяснить врачам, что у нее что-то последние часы «тянет» внизу живота. Позвали хирурга и старшего врача. Рассматривать обнаженный черный животик с тонкой ниточкой курчавых волосиков на положенном месте мне было очень интересно, но эти медицинские «редиски» вместо того, чтобы дать мне такой же белый халат, напротив – попросили удалиться из кабинета, убеждая, что поймут пациентку сами. В общем выяснилось, что у черной девочки все характерные признаки аппендицита, и старший врач принял решение – срочно заказать операцию в Лас-Пальмасе. Наутро, поручив покупку обязательного мохера коллегам, он повез ее в местный госпиталь на операцию, предусмотрительно договорившись об услугах местного переводчика с берега. Все было сделано быстро и профессионально, и ко времени отхода девушку уже привезли обратно на борт. Через сутки все мы с любопытством изучали почти незаметный шрамик африканки, слушая восхищенное чмоканье с утра поддавшего хирурга. «Ты только погляди, как режут… у нас располосовали бы девчонке полживота, и гуляй потом по пляжу всю жизнь в закрытом купальнике…» Надо сказать, что даже мне, непрофессионалу, было очевидно, что все было проделано мастерски, и только маленький пластырь телесного цвета, удерживающий тампон, свидетельствовал о состоявшемся хирургическом вмешательстве.
– А почему у нас так не могут?.. – полюбопытствовал я у хирурга, когда девушку после осмотра отвели в каюту.
– Ну почему не могут. – он достал из-за шкафчика ополовиненную бутылку с болгарским коньяком «Плиска», поискал мензурки. – Схема операции другая, хлопот больше. Просто не надо это никому… не его проблема… Будешь? – он отвинтил крышечку с пузатой бутылки.
В том рейсе образовался обычный судовой романчик с худенькой администраторшей-переводчицей тоже из Москвы. Она пришла ко мне в каюту, жалуясь на побаливающую спину, и пришлось ее массировать, уложив на свою койку, последовательно снимая сначала легкую блузку, потом тонкий бюстгальтер, а потом и узкие трусики. В поиске разнообразия поз очень мешала страховочная перекладина сбоку, сделанная чтобы не оказаться на полу во время шторма, и нависающая сверху вторая свободная койка.
Гавана поразила меня не сочетаемыми, казалось бы, бедностью и неподдельным энтузиазмом горожан. Не знаю, что осталось у бедных кубинцев на сегодняшний день – вероятнее всего, только первое, но тогда их вроде бы искренний революционный подъем поражал. Все были готовы поддерживать Фиделя и социализм.
По знаменитой набережной Малекон, о которую разбивались волны океана, неторопливо ехали полуразбитые автомобил и, оставшиеся со времен пребывания тут американцев. Веселая ребятня прыгала в тридцатиградусную жару в резиновых полусапожках из нашего «Детского мира». Обшарпанные старые кварталы столицы выглядели ужасно, а они искренне хотели, что бы так же было на земле повсюду. У музея революции, где в прозрачном склепе была выставлена яхта «Гранма», на которой в 56-ом году братва Фиделя приехала освобождать многострадальный остров, местные юные пионеры клялись изменить мир. Они были уверены, что знают, как это сделать.
Две недели мы торчали в порту, пока наши пассажиры всех цветов кожи, собранные в разных странах судами ЧМП, представляли самих себя на фестивальных аренах… В каютах старой «России», конечно же, не было никаких кондиционеров, за десять минут можно было запросто задохнуться, и к ночи вся толпа вываливала на верхнюю палубу, устраиваясь на ночевку прямо на брошенных на политые водой доски одеялах и полотенцах. Рядом бок о бок стоял «Леонид Собинов» из нашего пароходства, посудина уже посовременнее, почти у каждого там были знакомые и днем, если делать было нечего, можно было сходить туда специально – подышать прохладою.
Однажды заботливые организаторы фестиваля посадили весь экипаж в прокаленный «Икарус» с пыльными занавесочками на окнах и повезли за 130 километров от Гаваны на знаменитый пляж Варадеро, причем впереди, по левой полосе узкой дороги, ехал кубинский полицейский на мотоцикле, заставляя все встречные машины прижиматься к обочине, пропуская почетных гостей международного фестиваля молодежи и студентов. Песок на пляже поражал своей белизной, чтобы окунуться в океан приходилось долго идти по мелководью, мы с переводчицей взяли водный велосипед и, явно давая народу тему для трепа, долго катались по тихой поверхности прозрачной воды. Потом на берегу затеяли что-то вроде дискотеки, и мы вместе со всеми пошли танцевать на мягком песке под какую-то народную мелодию…
Она нервно забыла в моей каюте Вебстеровский толковый словарь, а я ей так и не напомнил (сознательно), и словарь до сих пор стоит среди других на полке в кабинете. Еще бы вспомнить сейчас, как ее звали.
На обратном пути, за несколько дней до прихода в Одессу на нашего инфекциониста обрушилось большое человеческое счастье. Весь длинный рейс изнемогавший от безделья эскулап, пытавшийся от тоски развлечь судовую толпу лекциями о тропических паразитах, трясущимися от счастья руками оформил в стационар здоровенного бугая-матроса, имевшего неосторожность заглянуть в судовой госпиталь с жалобой на расстройство желудка, как носителя редчайшей южноамериканской инфекции.
Я попробовал заступиться за парня перед старшим врачом, с которым у меня сложились дружеские отношения. Любому непредвзятому человеку было абсолютно очевидно, что сложный этот диагноз высосан из пальца. Но тот только развел руками – пойми, должен же узкий специалист хоть как-то оправдать свою двухмесячную командировку; да и начнешь сейчас влезать в чужое – потом сам не оберешься неприятностей…
За парнем прямо на одесский причал подкатила «скорая», его вместе с закупленной в Лас-Пальмасе «школой» занесли в машину на носилках. Сзади с марлевой повязкой и сознанием исполненного долга на лице шествовал эпидемиолог с бумагами и видом человека, спасшего страну от опаснейшей эпидемии. Толпа на палубе, наблюдая за этими манипуляциями, чуть не надорвалась от смеха, вспоминая, как мнимый больной обожрался накануне ромом с ананасами.
Кстати, о птичках. Ананасы. Ананасы в шампанском…
Да, конечно – «Увертюра» – знаменитое стихотворение поэта с этими словами стало первым, которое запомнил наизусть маленький Андрей.
Горьковатые кружки из небольшой банки, пропитанные сиропом, один-два подряд, мне нравятся больше, чем возня с натуральным фруктом.
Как-то, много позднее, вырвавшись из голодной ноябрьской Москвы на неделю в Западный Берлин и вознамерившись купить с собою в гостиницу ананас, мы долго пеняли продавщице, что в маленьком магазине к закрытию их уже не оказалось. Круто было возмущаться отсутствием тропического фрукта среди ломящихся от снеди прилавков, прилетев из города, где в то время за хлебом надо было выстоять часовую очередь. Перед нами извинялись, приглашая придти утром.
Ну что там еще, связанное с ананасами, успело случиться за мою жизнь.
Когда-то в хорошей, хотя и здорово идеологизированной детской книжке об Америке «Дик с 12-й Нижней» я вычитал эту игру – отталкиваясь от последнего объекта воспоминаний, попытаться раскрутить обратно весь ход размышлений. При таком раскладе между собою оказываются логически объединенными совершенно, казалось бы, несовместимые вещи. Магазинчик в Берлине вспомнился потому, что речь зашла о названии книжки Северянина, которое, в свою очередь, всплыло из-за упоминания южноамериканского фрукта, которым на самом деле отравился матрос с «России», на которой впервые я побывал на Кубе, где довелось кататься по океану на велосипеде… Уф… Такая вот любопытная игра.
Сразу после Нового года мы с Валентиной полетели в Одессу. Каждому предстояло идти в рейс. Проводив меня, она должна была через несколько дней уйти на «Горьком», а мне предложили путешествие, попасть в которое стремились многие. О нем знающие говорили шепотом, передавая по секрету информацию только близким друзьям с советом бежать, пока судовая роль еще не закрыта, к своему инспектору, причем, естественно, не с пустыми руками. Судно, по слухам, должно было уходить на месячный ремонт в итальянский Триест с выведением из эксплуатации камбуза (!), а потом сразу совершить какой-то небольшой круиз по Средиземке с заходом то ли в Геную, то ли еще в какой-то европейский «школьный» порт и вернуться в Одессу. Что могло быть лучше? Мы как раз запланировали большой ремонт в московской квартире, нужны были серьезные деньги. И хотя стопроцентной информации о предстоящем маршруте не было на тот момент, видимо, даже у начальника пароходства, умело подогреваемые слухи в скверике у отдела кадров будоражили народ, и обхаживаемым кадровикам оставалось только выбирать экипаж из многочисленных желающих.
До отхода мы наметили осуществить одну маленькую формальность – официально пожениться. Поскольку прописка у каждого была тогда одесская, по отделу кадров, других вариантов, собственно, и не было. Кроме того, по существовавшим тогда правилам обладателей «паспорта моряка» и справки о дате отхода должны были регистрировать дня за три. Но этот срок нас тоже не устроил, и я поехал в районный исполком, окна которого выходили прямо на Дюка и знаменитую лестницу. Конечно, мне не посмели отказать, и мы отправились в загс, и сегодня расположенный прямо напротив Оперного театра. Потом купили в продовольственном на углу бутылку сухого вина «Алиготе» за один рубль и семь копеек и вернулись на комфортабельную межрейсовую базу моряков, где жили до сих пор каждый в отдельном номере. Выслушав вежливый отказ на очередную просьбу об одной общей комнате, выложили на стойку администраторши новенькое свидетельство о бра ке и, поблагодарив за поздравления, быстренько переехали в «люкс». Особенно радовало то обстоятельство, что вся посуда там уже была.
Он стоял у одного из пассажирских причалов на морвокзале, и граница была закрыта, кажется, уже вторые сутки. Ситуация для понимающих сама по себе странная – обычно этот пароход дальше российского Батуми давным-давно не выбирался, а, стало быть, и не нуждался в соблюдении ненужных при внутренних рейсах формальностей. У него даже прозвище в пароходстве было: «Две трубы – одна зарплата» – в том смысле, что о доплате в валюте тут никто не мечтал. По существу, ссыльное место для проштрафившихся. Кстати, в отличие от турбохода «Горький» или дизель-электрохода «Россия», это был именно настоящий пароход, приводимый в движение машинами, работающими на пару.
Впрочем, беда была не в этом, а в том, что спуск этого судна на воду произошел, ни много ни мало, в 1925 году. Пароход – тогда «Берлин» – строился так называемым подетальным методом, при котором изготовленные в цехе детали доставлялись на стапель и там из них постепенно собирались конструкции будущего судна. В 1925 году сварка немецкими корабелами еще не применялась, и корпус «Берлина» был полностью клепанный. Листы корпуса перед клепкой надежно прижимались к набору болтами, причем объем клепки был огромен – сотни тысяч заклепок! Судно прожило долгую и трудную жизнь, послужив даже военным госпиталем в войну и успев полежать на дне, прежде чем попало по репарациям в ЧМП, и к тому времени, в принципе, уже многократно выработало свой ресурс. Несмотря на роскошные внутренние интерьеры, отделанные ценными породами дерева, по существу, это был плавающий гроб – достаточно сказать, что оно имело одноотсечный стандарт безопасности – то есть, по идее, должно было затонуть при попадании воды в любой из многочисленных отсеков, что само по себе для современных судов было нонсенсом. Регистрационные документы, кое-как продлевавшиеся всеми правдами и неправдами каждый год, позволяли ему оставаться лишь на Крымско-Кавказской линии и ни в коем случае не высовываться за пределы Черного моря. Но кто же тогда обо всем этом думал.
Поскольку, по слухам, рейс предстоял «хлебный», то до самого последнего момента в экипаже происходили изменения. Штатных, естественно, убрали сразу, кроме одного или двух, у которых все же оказалась «виза по судну» – то есть им было теоретически позволено пересекать границу, но исключительно на данном корабле. Попасть на ремонт хотели многие, и на борт приходили все новые люди с направлениями из отдела кадров, меняя уже настроившихся на рейс. Возникали даже конфликты, кое-кто не хотел покидать свое место, но поздно вечером выяснение отношений в кадрах было уже невозможно, и поэтому оставался тот, у кого направление было подписано последним. Пришел еще один, кроме меня, пассажирский администратор, Боря Жижа, как потом выяснилось, сын какого-то одесского начальника, буквально за полчаса до закрытия границы появился Сергей Горбенко – новый старший пассажирский помощник.
Мы отошли от одесского морвокзала в ночь тихо, пустыми и вскоре уже были за Воронцовским маяком. Я вышел на палубу. Свет в большинстве пассажирских кают был выключен, и только немногие круглые иллюминаторы громадного судна отбрасывали на спокойную поверхность воды вокруг теплые отблески света. Темное море вспененной дорожкой оставалось за кормой.
Звали наш чудо-пароход «Адмирал Нахимов».
…Мы прошли Босфор и были уже в Дарданеллах, когда в кают-компанию позвали всех офицеров. Практически все, кто до этого рейса не знал друг друга, уже перезнакомились. Естественно, что главной темой обсуждения являлся предстоящий маршрут. Как я понял Сергея, который знал всех, до сегодняшнего дня вахтенные штурмана получали задание лишь на сутки вперед.
Мастер дал слово кгбэшнику. Если опустить общую демагогию насчет ситуации в мире и роли в этих условиях главного миротворца планеты Советского Союза, то суть его выступления сводилась к тому, что сегодня в 6.00 по Москве на борту был вскрыт конверт, из которого стал ясен маршрут нашего движения. Вместо пребывания на ремонте в сухом доке Триеста, мы по специальному заданию советского правительства должны будем осуществить спецрейс на Кубу, где примем на борт несколько сотен кубинских добровольцев, которых надо будет доставить в Африку, в одно из государств, противостоящее империалистической агрессии.
Рейс совершенно секретный. Сообщать в частных радиограммах родственникам о месте нахождения судна запрещается, все частные рдо (радиограммы) до передачи будут визироваться им лично. И вообще, следует язык держать за зубами, в том же духе воспитывая своих подчиненных. Особенно при увольнении в порту бункеровки, каковым станет Лас-Пальмас (Канарские острова). Продолжительность рейса – по факту. Потом говорил Мастер. Дед (стармех) сообщил, что последние пару дней выявили некоторые проблемы в силовой установке, точнее, в старых котлах, и в Лас-Пальмас вызовут единственного сохранившегося специалиста пароходства по этим агрегатам, он будет заниматься ими на переходе. Если вопросов нет – можно разойтись…
Шокирующая информация подлежала осмыслению. Во – первых, то обстоятельство, что широко обсуждаемый ремонт – и, стало быть, сопутствующие валютные командировочные – на поверку оказались фикцией, сильно разочаровывало. Отсутствие точной даты возвращения тоже заставляло задуматься, да и мрачноватый налет глубокой секретности рейса не настраивал на радужный лад. Предстоящие переходы через океан на этом судне опять-таки не вызывали дополнительного восторга, тем более что технические проблемы появились, как видно, еще до выхода в океан. Не говоря уже о составе ожидающихся пассажиров.
С другой стороны, альтернативы не было. С борта не улетишь. Как справедливо, повторяя общеизвестную истину, процитирует впоследствии один из героев в моем сценарии: «О, боже, дай мне силы, чтобы изменить то, что я должен изменить, дай мне волю, чтобы смириться с тем, что я изменить не могу и даруй мне разум, чтобы отличить одно от другого…».
Через пару дней в радиограмме я написал, что «все хорошо, погода прекрасная, надеюсь загореть так же, как прошлым летом…». Как потом я узнал, дома легко сообразили, где я. А у бдительного комитетчика текст не вызвал никаких вопросов…
Козлов среди них всегда был переизбыток…
Серега, старший пассажирский, оказался потрясающим человеком, одесситом и моряком до мозга костей. Обычно такими бывают лишь люди, получившие чисто морские профессии, которые, в принципе, не в состоянии найти применение своим способностям на берегу – штурмана, к примеру. Пассажирская служба, как и служба ресторана, всегда негласно считалась в отечественных пароходствах чем-то второстепенным – как, в общем, во всей стране любые профессии, связанные с обслуживанием людей. Цифры и железки в Советском государстве изначально ценились куда как больше, чем удовлетворение потребностей обычного гражданина. Должно было пройти много десятков лет, чтобы дело сдвинулось с места.
К Сергею же все без исключения из «настоящих» моряков из палубной и машинной команды, имевших опыт совместной работы с ним, относились с глубочайшим пиететом, признавая в нем профессионала высшего класса, способного разрешить любую ситуацию, из числа в избытке возникающих во время загранрейса. Помимо всего, что связано с посадкой, размещением, пребыванием и комфортом пассажиров, в компетенцию старшего пассажирского помощника капитана входили и контакты с властями каждого порта, куда экстренно или по плану заходило судно. Подготовка многообразных рабочих документов – судовой роли, списка пассажиров, паспортов экипажа и других бумаг с набором соответствующих отметок, к каждой из которых всегда при желании местным чиновникам несложно придраться, а также прием властей на борту и улаживание всех формальностей обязывали занимающего эту должность обладать недюжинными дипломатическими способностями.
Впрочем, в этом рейсе забот у пассажирского, понятно, было на порядок меньше, и Сергей с энтузиазмом тратил свое время на «каютных», объясняя новеньким принципы организации судовой уборки, и дрессировку чем-то сразу не приглянувшегося ему администратора Бори Жижа, посаженного на вечную вахту в пустое Бюро информации. Чем именно Боря не понравился Сергею, я догадывался – во-первых, пару раз невзначай упомянул о своих одесских возможностях в связи с папой-начальником, а во-вторых, позволил себе передразнить какую-то фразу на английском, на котором Сергей говорил с заметным одесским акцентом.
В результате Жижа ежедневно без особого смысла высиживал на вахте свои часы в Бюро информации пустого парохода, убивая время чтением забытых кем-то одесских рекламных газет и переписыванием цветными фломастерами графика дежурств «каютных» на период отсутствия пассажиров.
Я же, не обремененный особыми обязанностями, тоже гонял стюардесс, чтобы не расслаблялись, помогал Сергею готовить документы на приход в Лас-Пальмас и с интересом выслушивал его образные рассказы о работе на разных судах.
Последние несколько лет он работал на наших небольших пассажирских пароходах, зарабатывающих валюту на ближневосточных регулярных линиях, и натерпелся общения с тамошним населением. Стоило только спустить трап, как арабы с узлами и котомками оккупировали легкую подвесную конструкцию и, отталкивая друг друга, лезли прямо на борт, желая занять места получше. Окрики вахтенного помощника и матроса, пытавшихся сдержать этот поток, особых результатов не давали, и тогда на трап выходил Сергей в белоснежной форме с расшитыми золотом полосками на погонах. Он, чуть поклонившись толпе, церемонно здоровался, произнося «Собакин хер», что примерно соответствовало местному «Сабах эль Хыр» (Доброе утро), и несильно бил кулаком в физиономию самого первого. Арабы мгновенно скатывались с трапа на причал и с криками «йес, сэр» и «оф корс, сэр»… сами по себе быстренько выстраивались в аккуратную очередь, готовя билеты к контролю. Веками воспитанное уважение к белому человеку, как к хозяину, имеющему право миловать и казнить, таким образом, получало наглядное подтверждение.
В Лас-Пальмасе пришлось задержаться. Хотя нас поставили на самый отдаленный причал, он почти не оставался пустым. Вокруг все время крутились какие-то люди, иногда с фотоаппаратами, туда-сюда прямо по причалу медленно проезжали две-три уже примелькавшихся легковушки, из-за полуопущенных стекол которых тоже можно было заметить панорамно снимающие судно объективы. К вахтенным время от времени подходили поболтать незнакомые русскоязычные ребята, представлявшиеся членами экипажей других стоящих по соседству наших сухогрузов или контейнеровозов.
Прилетевший из Одессы опытный механик по паровым установкам констатировал угрожающее положение двух котлов, нуждающихся в неотложном ремонте. Судя по отрывкам разговоров между механиками в кают-компании, можно было догадаться, что дело обстоит достаточно серьезно и те, кто принимал решение об отправке «Нахимова» в спецрейс, совершили большую и, кажется, непоправимую ошибку.
Кроме того, крайне малоприятный щелчок по носу получил и наш комитетчик – шипшандлер, занимающийся снабжением судна водой, продуктами и топливом, оставил капитану местную газетку с большой фотографией судна у причала и подписью: «Старый советский пароход «А. Нахимов» в нашем порту перед предстоящим опасным рейсом на коммунистическую Кубу».
Чтобы сэкономить деньги за стоянку да и сократить число контактов с берегом, судно выгнали на рейд, где мы поболтались еще какое-то время, пока механики кое-как пытались латать давно отслужившие свое котлы. Наконец, после долгих переговоров с Одессой, мастеру пришла шифрограмма с приказом о начале движения. На малой скорости, стараясь не особенно напрягать силовую установку, «Адмирал Нахимов» пошел через океан.
Даже в лучшие свои годы пароход никогда не претендовал на «Голубую ленту Атлантики» – престижный приз судам, демонстрирующим рекорды скорости прохождения через океан.
Сейчас, двигаясь с едва ли большей, чем половина из теоретически возможных шестнадцати узлов скорости, мы, казалось, будем плыть вечно. Один день был похож на другой, и только положенная по понедельникам селедка в кают-компании давала ощущение некоего движении – если не в пространстве, то во времени.
Ехидное приветствие Сергея – «Скорее бы утро и снова на работу» стало популярным, так теперь здоровались на судне все.
В отличие от палубной и машинной команды, в обычном порядке несущих свои вахты, особых дел у ресторанной и пассажирской службы не было, и приходилось искать занятия, чтобы люди, когда работа появится, не успели совсем разлениться…
Я присматривался к девчонкам – «каютным», подумывая о том, к кому смогу обратиться при возвращении с важной для меня просьбой. Большинство из них было новенькими, попавшими в первый или второй рейс и мечтающими просто осуществить давнюю мечту – купить что-то модное из одежды для себя. Я же четко определил, что моя цель в сложившейся ситуации – заработать максимальное количество денег для намеченного дома ремонта и смены кое-какой мебели. Как уже достаточно опытный советский моряк я понимал, что для этого есть только один способ – привезти максимальное количество пакетов мохера и сдать их в комиссионку. Проблема же заключалась в том, что существовавшие таможенные нормы резко ограничивали эту возможность – за месячный рейс разрешалось ввозить, кажется, не более восьми штук, за трехмесячный – шестнадцать. Все остальное рассматривалось как контрабанда.
Был, теоретически, способ добиться своей цели, не слишком нарушая закон – если бы кто-то согласился записать твои покупки в свою декларацию. На практике это удавалось крайне редко – ведь каждый из экипажа, как правило, решал аналогичную задачу – превратить минимальную сумму валюты в куда большее количество рублей – а, стало быть, и предпринимал для этого те же самые шаги, приобретая тот же легко реализуемый в Союзе товар.
Но в данном случае, похоже, был шанс договориться с одной-двумя девчонками, озабоченными пока лишь модными шмотками.
На старом пароходе «Нахимов» были места, куда давно уже не ступала нога человека. Как-то Сергей зазвал меня на корму, и мы с ним, с трудом протиснувшись в узкий коридор, остановились у какого-то отсека, за которым был слышен громкий шум вытяжных вентиляторов. Серега отпер тяжелую дверь, включил освещение и показал мне узкие полосы сушеного мяса, подвешенного за крючки сразу перед пластинами, закрывающими отверстия труб, ведущих наружу.
– Сушатся родные…
Достав нож, он аккуратно срезал пару тонких ломтиков и протянул мне.
– Пробуй… Лучшая бастурма… Так оно и было.
Убивая время, я, валяясь на койке в четырехместной пассажирской каюте, которую выбрал для себя на пустом пароходе, рисовал на листе бумаги особую конструкцию, которую планировал заказать для большой библиотеки, оставленной мне отцом. Получалась большая книжная стенка, полностью до потолка занимающая все пространство стены комнаты со множеством разновысоких полок, закрываемых сдвижными стеклами и ящиками за дверцами вверху и внизу. Но главной фишкой было то, что в ее центр вписывался громадный уже имевшийся дома электрокамин с баром.
Много раз я варьировал размеры и месторасположения полок и ящиков, представляя, что будет храниться в этом месте, и это помогало смириться с тошнотворной бессмысленностью текущих дней. Ощущение напоминало затянувшееся ожидание женщины из душа, когда из первоначальной гаммы ощущений постепенно оставалось лишь желание выспаться…
К нашему счастью погода почти все время пути благоприятствовала нашему плавучему гробику – даже тогда, когда выглянув утром в иллюминатор, я обратил внимание, что скорость снижена почти до нуля. Очутиться в океане практически без способности двигаться было страшновато. Оказалось, что ночью стало совсем плохо с одним из котлов, и в машине взяли на полдня паузу для каких-то экстренных работ. По судну поползли слухи, что из Одессы попутным судном посылают в Лас-Пальмас необходимые детали для замены на обратном пути, без чего возвращение в порт приписки становилось уже проблематичным.
Уже явственно ощущалось приближение тропиков – вечерами стало душно, появились сопровождающие судно «летучие» рыбки, выскакивающие из воды на несколько десятков сантиметров. Пару раз в день в поле зрения на горизонте возникали силуэты военных судов.
А однажды буквально над самыми мачтами «Нахимова» с ревом дважды пронесся толстобрюхий военный самолет с белой звездой на фюзеляже – опознавательный знак ВВС Соединенных Штатов. Было видно, что летчик машет рукой.
К вечеру я столкнулся на палубе с Сергеем, спускавшимся из радиорубки.
– Пойдем, подышим…
Он увлек меня на бак, мы остановились, не доходя до трапа, ведущего вверх на мостик.
– Слушай, эти босяки из «Голоса Америки», оказывается, со вчерашнего вечера вещают про нас всякие гадости… – он на секунду замолчал, стараясь поточнее процитировать услышанное: – «Тяжеловесный советский пароход «Нахимов» с наемниками затонул сразу после выхода из кубинского порта.». Как тебе такие перспективы? Вся Одесса слушает этот вражеский голос… думаешь, это там кому-то понравится?.. Таки надо будет написать домой…
– Уверен, что это долго еще будет неправдой? – спросил я.
– В любом случае, мы первыми узнаем. – усмехнулся Сергей.
Еще через сутки, глубокой ночью мы наконец медленно входили в акваторию кубинского порта Матанзас.
Большой порт как будто вымер, краны стояли, нигде не было видно ни души… Похоже, что вся территория была оцеплена. Но едва мы ошвартовались, на причале появились «Волга» и «газик». Русские ребята в форме цвета хаки, сопровождающие пару загорелых мужиков постарше в такой же форме без знаков отличия, здороваясь на ходу, поднялись к капитану. Вероятно, это были люди из группы советских военных советников на острове.
Через полчаса к причалу один за другим начали прибывать небольшие автобусы «ПАЗики» с занавешенными окнами. Подчиняясь негромким командам, из автобуса выходили коротко-стриженные кубинцы в совершенно одинаковых серых гражданских костюмах и, следуя указаниям своих командиров, быстренько взбегали по трапу на баке к нам на судно, сразу спускаясь в один из трех заранее оборудованных трюмов парохода. Там впритык стояли складные кровати, бачки с водой и т. п.
К концу ночи посадка (точнее – погрузка) была уже завершена. Нескольким сотням кубинских военнослужащих категорически запрещалось покидать трюмы и нижнюю палубу. Еще примерно половину суток мы бункеровались, брали воду и продукты. На берег после полуторамесячного рейса из экипажа никого не отпустили, и к ночи нас уже выпихнули на рейд.
Обратный переход через океан оказался значительно тяжелее. Несмотря на все усилия обойти шторма, пару раз нас здорово поколбасило. Казалось, тяжелый пароход, взлетая на волну, переломится пополам. Скрипели переборки, сами собой открывались двери в каютах.
Наши «мучачи» (девушки), как на испанский манер Сергей стал именовать каютных, сбились с ног, стараясь поддержать хотя бы элементарную чистоту на нижней палубе Е, на которую изредка разрешалось небольшими группами для прогулки подниматься кубинцам. Сколько точно их было на борту, похоже, не знал и капитан. Иногда поздно ночью при выключенном освещении тем, кто чувствовал себя в трюмах совсем плохо, несмотря на сопротивление комитетчика и сопровождающих, пришлось позволить делать несколько глотков морского воздуха на открытой палубе.
Наконец, мы прошли Суэцким каналом и, сделав перестой в Адене, узнали конечный пункт нашего маршрута, о котором до сих пор могли лишь догадываться. Собственно, узнали его штурмана – там, на мостике, а нам, «халдеям», сообщать его никто не торопился. Лишь когда под покровом сумерек «Нахимов» подошел к какому-то пустому бетонированному причалу, мне удалось прочитать полувыцветшую надпись на одной из конструкций – Ассэб – город, принадлежавший тогда воюющей Эфиопии.
На причале стояли загорелые белые мужики в форме цвета хаки без опознавательных знаков, двоих – постарше, я узнал, они провожали судно около месяца назад на Кубе. «Заказчики» из группы советских военных советников ждали свой «товар». На причал уже въезжали закрытые грузовики.
Когда пароход опустел, настроение у экипажа значительно повысилось. Томительный трехмесячный рейс на неисправном судне, похоже, подходил к концу. Предстояло возвращение в родной порт.
Мы повернули обратно, на Суэц, когда всех офицеров позвали в кают-компанию. Судя по выражению лица капитана, известие, которое он намеревался нам сообщить, было из числа не особенно веселых.
После Порт-Саида нам предстояло идти вовсе не в сторону Дарданелл, а, совсем наоборот, к Гибралтарскому проливу.
Это означало, что только что завершенный рейс предстояло повторить.
С того момента, когда «Нахимов» покинул одесский морвокзал, прошло полгода. Полгода моей жизни материализовались в нескольких нетяжелых запечатанных коробках с пакетами этого гребаного мохера, которые две мои исполнительные девочки-стюардессы честно отдали мне после завершения работы таможни и открытия границы на судне.
Сомневаясь, что наша сломанная посудина потом доберется даже до соседнего Ильичевска, где был запланирован капремонт, нам сразу велели идти не в Одессу, а туда, на суд-завод, и когда мы со встретившей меня Валентиной на следующий день начали сносить на берег багаж, «Нахимов» уже стоял в сухом доке.
Сорок шесть пакетов мохера, плотно упакованные, лежали в больших коробках – оставалось довезти их до Москвы и рассовать по окраинным комиссионкам. Результатом вместе с официальной зарплатой должна была получиться сумма, равная приблизительно стоимости «Жигулей» – теперь можно было заняться ремонтом и обстановкой квартиры.
Когда поезд из Одессы подошел к перрону Киевского вокзала, и мы начали грузить из вагона на тележку носильщика свое барахло, у вагона – в полном соответствии с законами драматургии – появились двое милиционеров. Глядя куда-то в коридор, за наши спины, один грозно поинтересовался:
– Кто хозяин ящиков?..
Финал одного американского фильма, о котором мне когда-то говорил отец и который я полюбил впоследствии пересказывать своим студентам. Молодая пара после драматических приключений, рискуя жизнью, преодолев множество препятствий, наконец, в последнюю минуту все же успевает попасть на борт громадного парохода, который увезет их в мир свободы.
Кам ера медленно панорамирует по счастливым лицам стоящих на палубе героев, другим пассажирам и останавливается на спасательном круге с названием корабля: «Титаник».
Оказалось, что в соседнем купе ехали еще какие-то люди с неимоверным количеством багажа, и было похоже, что их уже ждали. Скорость, с которой пришлось носильщику лететь за нами к стоянке такси, наверное, запомнилась ему на много лет вперед.
…Пароход «Адмирал Нахимов», совершавший свой последний рейс, затонул в результате столкновения с другим судном в 23 часа 20 минут 31 августа 1986 года на выходе из порта Новороссийск на глубине 47 метров. Он вышел в море на десять минут позднее расчетного срока из-за опаздывающего в круиз генерала – начальника КГБ по Одессе и Одесской области.
За восемь минут из 1234 человек (по официальным данным) 423 человека погибли, тела 64-х человек до сих пор остаются внутри корпуса судна. Капитан был приговорен к пятнадцати годам лишения свободы, начальник Черноморского пароходства уволен, министр морского флота Тимофей Борисович Гуженко отправлен в отставку.
Пароход «Адмирал Нахимов» сейчас лежит на глубине в Цемесской бухте. Экологической и навигационной опасности лежащее на дне судно не представляет. Проектов судоподъема в настоящее время не существует. Район, ограниченный окружностью радиусом пятьсот метров, официально объявлен местом захоронения жертв катастрофы. Постановка на якорь, погружения водолазов и подводных аппаратов, а также любые действия, нарушающие покой места захоронения, в указанном районе запрещены.
Середина 90-х годов, Москва
Алекс дописал последнюю фразу сценария и с удовлетворением нажал на точку. Его любимая машинка «Консул» тоненько тренькнула звоночком и затихла. Готово. Купленная когда-то по невероятному везению, без всякой очереди, на углу Пушкинской улицы в специализированном магазине «Пишущие машинки», она служила ему уже лет двадцать. Поначалу возникали проблемы – у машинки оказался нестандартный шрифт – 2,2 и некоторые студии отказывались принимать тексты, жалуясь на дополнительные затруднения при чтении. Он даже хотел отдать ее в перепайку, купил набор стандартных буковок размером 2,6, как у всех, но так и не собрался. А потом выяснилось, что все не так уж страшно и при желании вполне можно прочитать и так. На машинке, особенно если бить по клавишам посильнее, легко получалось пять читаемых копий. Хотя, если договора еще не было, отдавать для прочтения уже четвертую считалось дурным тоном. Так что, он и не будет.
* * *
…По присыпанному снежной поземкой широкому шоссе мчался громадный грузовик-фура с ярко раскрашенными бортами. Не снижая скорости, пролетал он мимо спящих еще придорожных домиков, пустых полей, перерезаемых иногда линиями высоковольтных ЛЭП, редких перелесков, причудливо изукрашенных инеем, уверенно приближаясь к огромному городу.
Мелькнул громадный плакат с улыбающимся Дедом Морозом, похожим на действующего президента, и надписью «С наступающим 1994 годом, дорогие россияне!..».
В уютной кабине грузового «Вольво» было тихо и ритмичное щелканье трех дворников за широким лобовым стеклом никак не мешало одному из водителей, мирно дремавшему на правом сиденье. Сидящий за рулем средних лет шофер, снисходительно покосившись на молодого напарника, подкрутил выбившиеся из роскошных пшеничных усов волоски, нажал кнопку на светящейся панели часов, прибавляя еще один час…
Уже совсем рассвело, и навстречу начинали попадаться редкие машины.
Ехавший метров за двести за грузовиком большой джип с затемненными стеклами слегка притормозил, отпуская фуру вперед. Четверо сидящих в джипе парней, молча, смотрели как грузовик, набирая скорость, уходит в отрыв. Потом один, Крыс, поднес к губам рацию в кожаном чехле.
– Ну все… Он на вас выходит… пакуйте…
– Лады. – рация подавилась смешком. – Слушай, Крыс, тут народ спрашивает. Правда, что Толстому вчера та телка только ухо откусила? Или что еще?..
Управляющий джипом парень с бычьей шеей, на правом ухе которого действительно белела полоска пластыря, покраснев, потянулся за рацией, но Крыс отвел его руку.
– Хорош скалиться. На дороге скоро не протолкнуться будет. Мы начали, конец связи.
– Давай. – он повернулся к водителю. Тяжелый джип, брызнув ледяной крошкой из-под широких колес, резко развернулся и встал, перекрывая половину шоссе.
В стоящем за несколько километров отсюда на перекрестке точно таком же джипе Никанор опустил рацию. Устроившийся у него за пазухой вислоухий щенок боксера попытался достать штырек антенны, но Никанор заботливо упрятал собачью лапу обратно за отворот куртки.
– Р-р-работаем… – он слегка заикался. – Пошли. – он кивнул сидящим на заднем сиденье, опустил стекло, высунулся в окно, махая рукой.
Подчиняясь его жесту из перелеска медленно выползла новенькая «Таврия» без номеров и замерла, развернувшись. Выскочив из машины, высокая девушка в норковом полушубке быстро подняла капот, открутив крышку канистры, плеснула на темнеющий снег тосол и, расстегнув шубку так, что стали видны эффектно обтянутые лосинами стройные ноги, застыла в скорбном недоумении над заглохшим двигателем…
– Т-т-ты бы остановился?.. – Никанор вглядывался в трассу.
– А ты?.. – Игорь, высокий парень в свитере под кожаной курткой, посмотрел на Никанора.
– Я – нет. – Никанор распахнул дверцу машины, соскакивая на хрустнувший под его весом снег.
Через лобовое стекло грузовика еще издали стала заметна голосующая женская фигурка возле маленькой легковушки с поднятым капотом и расплывающейся под ним лужей…
– Эй, соня. – усатый водитель фуры, сбрасывая скорость, дотянулся до дремавшего напарника. – Просыпайся…
– Ну?.. – тот, нехотя, открыл глаза, потягиваясь. – Что, уже въехали?.. Москва?..
Они говорили по-польски.
– Ага, Маршалковска… – усатый показал на дорогу впереди.
Вглядевшись, молодой опять заелозил на сиденье, устраиваясь поудобнее.
– Ну… Марыся моя лучше… или Ольга… с Гражиной… – он опять закрыл глаза.
Хмыкнув, водитель покосился на свои усы в зеркальце и начал медленно притормаживать, съезжая на обочину.
Оставив дверь кабины приоткрытой, он подошел к девушке, успев обменяться с ней парой фраз, и, успокаивая, вежливо коснулся рукава шубки, объясняя что-то, нагнулся над двигателем ее машины…
Тяжелый удар пришелся в затылок, и он сразу, без стона, начал сползать на асфальт, подхваченный руками двоих быков из джипа.
Лениво наблюдавший за ним из кабины молодой сменщик начал осознавать, что происходит, только когда ему в бок уперся коротенький ствол спецназовского автомата…
– Здоров, пан… – улыбающийся парень с короткой стрижкой держал палец на спусковом крючке. – Садись за руль, покатаемся.
Медленно свернув с трассы, фура тяжело перевалила через сугроб, проехав немного, свернула в лесок и замерла на заснеженной поляне, скрытой от шоссе деревьями, где уже стоял пустой «Камаз».
– Д-д-давай быстро. – Никанор легко сбил таможенную пломбу. – Помоги.
Вдвоем с Игорем они развели в сторону тяжелые двери. Под потолок фура была забита аккуратно закрепленными картонными ящиками с изображенными на них стилизованными силуэтами компьютеров.
– Они. – Никанор обернулся к остальным. – Г-г-грузим скоренько. Двадцать минут…
Игорь листал сопроводительные документы.
– Знаешь, на сколько тут?..
– А нам с Максом до лампочки… – Никанор гладил облизывающегося у него за пазухой щенка. – Хозяин знает – и ладно… Т-т-ты… – он перехватил едва не выпавший из рук одного из парней ящик с мониторами. – Руки из задницы р-р-растут…
Кузов «Камаза» наполнялся так же быстро, как пустела фура.
Предоставленный сам себе молодой поляк-водитель – его конвоир, забрав ключи от зажигания, тоже включился в перегрузку – ослабил связанные за спиной руки, сорвал с глаз повязку.
Прислушиваясь к голосам, тихо сполз из кабины на снег. Через промежуток между бортами «Вольво» и «Камаза» ему хорошо были видны сновавшие с ящиками фигуры, лица.
До шоссе, по которому теперь все чаще мелькали проносящиеся машины, было отсюда не так уж далеко, и он решился… Стараясь ступать так, чтобы снег под ногами не заскрипел, он боком обогнул грузовик и, перекрестившись, замер, выжидая момент… Шагнул в сторону и, прячась за деревьями, пригибаясь, побежал к дороге…
Его заметили, когда он успел отбежать уже метров на двадцать.
– Гляди-ка… эй, пшек. Стой, сука. Уйдет… Никанор, опустив ящик, оглянулся… Поляк, петляя по поляне, как заяц, проваливаясь в сугробы, бежал к трассе…
– Сейчас. – Игорь рванулся за ним. – Я догоню…
– Замри… – Никанор перехватил его за рукав, едва не повалив. – Не успеть уже. Дай-ка. – он вырвал у одного из быков автомат и почти не целясь выстрелил. Сидящий у него за пазухой щенок испуганно завертел головой, а с ближайшей сосны сорвалась стая сорок.
Поляк, споткнувшись, упал в снег и больше не двигался. Все замерли…
Никанор подошел к коротко стриженному парню, который должен был пасти шофера.
– Ну что… к-к-козел. На твоей совести будет… Было заметно, как у того дрожала нижняя губа.
– Заканчивайте все… Сматываемся… Он кивнул Игорю.
– Второго приведи.
– Не глупи. – Игорь смотрел на Никанора. – За двух пшеков тут через час рота землю рыть будет…
– Ну, а что теперь. – Никанор почесал щенка за ухом. – Он за своего с потрохами всех нас сдаст. Это уже не страховку за груз выбивать. – он помолчал, размышляя. – Ладно. Волоки его и б-б-бутылку водки прихвати. там, в б-б-багажнике есть…
Игорь помог выбраться из джипа пожилому водителю со связанными за спиной руками и плотной повязкой на глазах, подвел его к грузовику. Было видно, что идти тому трудно, видимо, от сильного удара здорово кружилась голова.
– По-русски сечешь?.. – Никанор разглядывал шофера.
– Так… – тот с трудом кивнул. – Фшистко разумию… Когда не очень скоро…
– Ну, так вот. – Никанор свернул крышку на литровке смирновской водки. – Ты сейчас сам б-б-бутылку вот засосешь… не боись, это не хуже вашей будет… После этого мы т-т-тебя в лесок километров за несколько закинем, там до вечера перекантуешься, а как стемнеет, протрезвеешь – выходи на д-д-дорогу и голосуй… Глядишь, – он улыбнулся, – еще кретин найдется, до города добросит… Своим позвонишь – скажешь: остановили на шоссе, машину, г-г-груз отобрали… кто – не знаешь, лиц не видал. Лады?..
Шофер опять кивнул.
– Руки развяжи ему. А ты смотри, повязку трогать не надумай, понял?..
– Так… – шофер разминал затекшие руки. – Где есть Янек?..
– Ты пей д-д-давай. – Никанор протянул бутылку. – Потом базарить будешь.
– Пшепрашем, – водитель неожиданно сорвал с лица матерчатую повязку и осмотрелся вокруг. Разглядев свою разграбленную фуру, готовящийся уже отъехать тяжелый «Камаз», он повернулся к Никанору, крепко сжимая в руке тяжелую бутылку.
– Где теперь мой Янек, проше пана?.. То есть мой родственник.
– Умер он. – сказал Никанор. – Как и ты…
От автоматных выстрелов на светлом комбинезоне шофера расплылись несколько красных точек. Он медленно осел, на пшеничных усах появилась кровь.
…Через затемненные стекла отъезжающего вслед за груженым «Камазом» джипа Игорю было видно как обоих шоферов запихивали в кабину «Вольво», уже обильно политую топливом из пробитого запасного бензобака.
Выбравшись на трассу, джип и «Камаз» влились в плотный поток автотранспорта, спешащего в город. Никанор достал плоскую коробочку радиотелефона «Моторола», тыкая толстым пальцем в кнопки, набрал номер…
– Алло… Ага, п-п-привет… Скажи Ивану Александровичу… едем мы уже… Ага, д-д-домой… Да… Спасибо… Угу. – он сложил телефон, убрал его во внутренний карман, посмотрел на Игоря.
– Ждут-с…
Перед самой кольцевой дорогой «Камаз» и следующий за ним джип разделились – грузовик свернул направо, выруливая на кольцо, а джип, минуя гаишный пост, помчался вверх через эстакаду, въезжая в город.
Никто из его пассажиров не обратил внимание на заляпанную грязью «Тойоту» на обочине. Двое сидящих в ней кавказцев проводили джип взглядом, один что-то сказал гортанно, по-своему, постукивая по стеклу наручных часов, и оба рассмеялись.
А серебристый джип уже затерялся в суете столичных улиц…
Игорь шел по длинному коридору Отдела, на ходу здороваясь с попадавшимися навстречу знакомыми. Из туалета, застегивая молнию на брюках, вышел Лобов, едва не столкнувшись с Игорем.
– Ну наконец-то… Здорово. – он протянул было Игорю правую руку, но сам оценив деликатность ситуации, передумал и просто похлопал того по плечу. – Севастьянов с вечера, как тигр в клетке ходит.
– Обязательно надо было меня сюда выдергивать?.. – Игорь посторонился, пропуская идущих навстречу.
– Это ты ему скажи. – Лобов, обогнав Игоря, постучал, приоткрыл дверь: – Александр Николаевич, разрешите?.. Проходи. – он пропустил Игоря вперед.
За столом, на котором лежало несколько тонких папок и стояла цветная фотография молодого еще Президента на каком-то митинге с группой людей, среди которых можно было узнать и хозяина кабинета, сидел моложавый человек в строгом костюме с седыми не по возрасту висками.
– Садитесь. – он кивнул на стоящие у стены стулья. – Ну так что?.. – он смотрел на Игоря.
– Что?.. – не сразу понял тот.
– Что-что?.. – Севастьянов раздражено откинулся в кресле. – Рассказывайте подробно. Как все это могло случиться?.. Почему?..
Игорь пожал плечами.
– Так сложилось…
– Вы что – серьезно?.. – Севастьянов обошел стол, присел на краешек прямо напротив Игоря. – На ваших глазах расстреляли двух ни в чем неповинных людей… у одного, кстати, семья осталась… хладнокровно. безжалостно. а вы тут. совершенно спокойно…
– Ну не собирались они убивать. Поляки сами занервничали. а оставлять хвосты. – чувствовалось, что Игорю нелегко все это говорить.
– Да… – Севастьянов покачал головой. – Знаете, создается впечатление, что вы этих подонков. ну, понимаете, что ли. Как вообще могло случиться, что они вышли на трассу в этот день?.. Вы что, не знали об этом хотя бы за сутки?.. Вам перестали доверять?..
Лобов, как в школе, поднял руку.
– Разрешите… как непосредственному куратору…
Севастьянов повернулся к нему.
– Фуру эту им подставил человек Мансура… то ли обидели его свои там, то ли недоплатили за последний раз… он и решил рассчитаться… А что касается доверия к нему… – он кивнул на Игоря. – Вы же помните, как мы ему легенду собирали. до третьего колена… здесь однозначно все… Да и потом… если бы что – уже… – Лобов вертел пуговицу на пиджаке. – И ответят эти гады за все, не беспокойтесь… просто, чуть позже… Ведь не ради же этих двух-трех качков мы всю эту игру затевали. Там фигуры какие – сами знаете.
Севастьянов перелистывал фотографии места происшествия из папки на столе.
– Двойное убийство как часть оперативного плана. Дикость советская какая. Вы тоже считаете, что вариантов у нас не было?
Лобов покачал головой.
– Да… По Ижевску что-то есть у вас?.. Игорь кивнул.
– Формируется партия. насколько я слышал. самая крупная – четыре вагона. В основном опять автоматы Калашникова, боезапас, причем патроны в основном со смещенным центром, хлопушки – ну, «Макаровы»… Даже несколько огнеметов «Шмель». Пункт назначения – Калининград, та же самая в/ч. В Литве, сразу после границы, встречают люди из нашего СП. Судно будет ждать в порту. Задаток вроде бы на днях придет на счет…
– Когда отправляют – известно уже?.. Игорь пожал плечами.
– До конца месяца – в любом случае. Севастьянов прошелся по кабинету, подошел к окну.
– У вас, случаем, жестянщика недорогого нету?.. – он смотрел вниз. – Вчера домой возвращался… баба одна сумасшедшая на иномарке… несется на желтый свет… прямо в меня… Совсем новая машина…
– Может, познакомиться хотела… – попробовал было пошутить Лобов, но встретив взгляд Севастьянова, осекся. – Найдем… я спрошу ребят, Александр Николаевич.
– В общем, вы поймите, Игорь, – Севастьянов повернулся к сидящим, – в любой ситуации нельзя на тех, кто рядом, смотреть, как на подсобный материал для манипулирования, не оправдывает цель средства. Поймите, «лес рубят…» – это мы уже при советской власти проходили… В конце концов, ради кого мы всю эту нечесть давим… ради же обычных людей. что вокруг… на улице, в метро… Мы же, кстати, на их налоги и существуем… да что я вам, как ребенку. вы же понимаете.
– Стараюсь. – сказал Игорь.
– Ну вот что. – Севастьянов, встретившись с ним взглядом, напрягся: – Напишите подробный рапорт о случившемся… оставите у майора. И в следующий раз все же старайтесь своевременно информировать о планах ваших подопечных. по мере возможности, естественно. А мы уж будем решать тут. что дороже… вам ясно?..
– Так точно. – Игорь встал.
– Все, идите. – Севастьянов потянулся к телефону.
– Ну и на хрена ты его дразнишь?.. – Лобов плотно прикрыл за собой дверь кабинета. – Пошли на улицу, подышим. Забыл, что он год назад еще лаборанток у себя в институте гонял… ну, физик он по образованию, что поделаешь. и демократ еще. хотя, вообще-то, мужик он ничего. восприимчивый… Они спускались на первый этаж.
– Ну да… мы все в этом… по уши… а он один – в белом. – Игорь снял свою куртку с вешалки.
– Открывай, Вить. – Лобов кивнул поднявшемуся навстречу дежурному в гражданском с явно оттопыривающей пиджак кобурой.
– Вы вернетесь, Сергей Николаевич? – тот нажал кнопку, и тяжелая металлическая дверь с глазком начала медленно приоткрываться.
– Да, перекурим вот сейчас только.
Они вышли в тихий московский переулок через обшарпанный подъезд старого жилого дома, на котором висела облупившаяся вывеска «Пожарная инспекция муниципального округа».
– Держи. – Лобов протянул Игорю сигареты. – Когда-нибудь сообразят – с теми, кто на закон давно положил, можно только. – он скомкал и отбросил жесткую пачку.
Игорь, прикуривая, внимательно посмотрел на Лобова.
– Ну и чем же ты тогда лучше их будешь?..
– А надо – лучше?.. – Лобов, усмехнувшись, забрал у Игоря свою зажигалку. – «Зиппо»… говорят, между прочим, фирма… У нее даже звук откидывающейся крышки запатентован. А, черт…
Скользкий металлический квадратик выскользнул из его рук и чиркнул по грязному асфальту. Игорь поднял зажигалку, рассматривая…
– Поцарапалась…
– Все время теряю. – Лобов повертел зажигалку. – А, ну это ерунда. Вот человека приложили – это да. – он провел рукой по мятому крылу стоящей у бордюра новенькой «девятки».
Они прошли несколько шагов.
– Устал?..
Игорь пожал плечами. Лобов затянулся, выпуская сигаретный дым.
– Вчера вечером отец звонил с Украины. Там у них совсем худо… только погребом еще держатся. Твои-то, кстати, тут как?.. Ты сколько домой не заглядывал?..
Игорь задумался.
– Дней шесть.
– Ну, если мы тебя все равно выдернули – иди уже к своим сегодня… под мою ответственность. Бумагу я за тебя сочиню… А с утра… Слушай, я тебе сказать хотел… Ты там… не расслабляйся… Эти волки не простят. – он поежился. – Ладно, пойду я. холодно. – он бросил сигарету, протянул руку. – Недолго еще осталось.
– Думаешь?.. – Игорь, пожав руку, застегнул молнию. Подняв воротник куртки, он зашагал к перекрестку.
Игорь вошел в изрисованный подъезд хрущевки, поднялся по лестнице на свой этаж. Закрывая за собою дверь квартиры, оглянулся – жена в халате с кухонным полотенцем в руке, стоя в коридоре, говорила по телефону.
– Ой, Игорюша. – она от неожиданности даже присела. – Все-все, Людка. я больше не могу говорить. Игорь вернулся. – она положила трубку и повисла на Игоре. – Ну, здравствуй. мы и не ждали совсем. Все, закончилась твоя командировка, да?..
– Подожди, куртку сниму. – Игорь поцеловал жену в шею. – А Мишка где?
– Вот-вот должен придти. сегодня шесть уроков у них. Ну, проходи же. – она подталкивала его. – Обедать будешь?
…Они сидели на крохотной кухоньке, и Игорь доедал суп.
– Больше стало. – он кивнул на большой подтек на потолке.
– Разве?.. – Нина тоже посмотрела наверх. – Ну да, в субботу оттепель была. Скажи. – она взяла его руку в свою: – Ты уезжал куда-то. или?..
– Или… – Игорь положил ложку. – Мы же договаривались, Нин. ничего супчик. – он откинулся на табуретке. – Эх, как сейчас в ванну залезу. до утра… Вода-то есть горячая?..
– Ну, привет. конечно. – Нина поднялась, убирая тарелки. – Слушай, тебе зарплату не дали случаем? Я за квартиру заплатить хотела… с шестнадцатого уже пеня пойдет.
– Я договорился… тебе ребята занесут сразу. – Игорь подошел к окну, отдернул занавеску.
Ряды таких же хрущевок составляли целый микрорайон.
– Так… – Нина опустила посуду. – Значит, ты опять?..
– Ну, Нин. – Игорь шагнул к жене, постарался обнять. – Все… проехали. слышишь? Так что ты там с Людкой обсуждала? Неужели вы на работе не наговорились… ну, расскажи…
– Да ладно. – Нина постаралась взять себя в руки. – Нам вчера в лабораторию образцы привезли. бананы эквадорские. товарищество одно. Оказалось, все в стандарте. мы им сегодня сертификат оформили. А они на радостях ящик нам оставили. Так Людка меня все уговаривала взять, она сама целую сумку набрала – так вот сейчас звонит, смеется. Говорит, вкусные оказались.
Нина поставила тарелки на полку, вытерла руки о полотенце.
– Правда, надо было для Мишки взять… они у нас в универсаме знаешь почем…
В дверь требовательно позвонили.
– Ну вот. легок на помине… Нина пошла открывать.
– Привет, па. ты дома уже?.. – Мишка, на ходу избавляясь от рюкзака с учебниками, заглянул на кухню. – Как дела?..
– А у тебя?.. – Игорь успел чмокнуть увертывающегося сына в затылок.
– Нормально. – он заглянул в холодильник. – Ма, я есть хочу…
– Ты разве в школе не обедал?.. – Нина разбирала рюкзак, отыскивая дневник.
– Так я еще хочу. – он наткнулся на котлеты на сковородке. – Слушай, па, ты знаешь какой синтезатор Гошке купили – закачаешься: девяносто девять мелодий, автоматический подыгрыш, шесть вариантов только ударных. Настоящая «Ямаха».
– Ну ты посмотри. – Нина наконец отыскала дневник. – Нормально говорит. А это что?..
– Да ну. – Мишка махнул рукой. – Дура она потому что. За четыре ошибки и запятую сразу пару ставить. Эх, если бы вы этот синтезатор видели… Сто восемьдесят баксов стоит, Гошка сказал. Вот скажи – несправедливо это: одним все, а другим. – он дожевывал котлету.
– Это кто тут справедливости ищет?.. – в коридоре послышались чьи-то шаги, и в дверном проеме показалась фигура в спортивном костюме и стоптанных шлепанцах. – Привет соседям. Вы чего же дверь-то не запираете?..
– Ой. – спохватилась Нина. – Это я, наверное…
– Здорово. – сосед протянул руку напрягшемуся было Игорю. – Чего тебя не видать-то?..
– Да ездил тут. – Игорь сделал неопределенный жест. – Как жизнь-то, Сергеич?..
– Да нельзя сказать, чтоб совсем х. – он вовремя спохватился, – чтобы худо. барахтаемся потихоньку.
– Иди-ка сюда, – Нина позвала сына в комнату. – Так может, мы. это. – сосед скосил глаза на торчащее у него из кармана горлышко.
– Нет. – Игорь улыбнулся. – Не сегодня, ладно?..
– Все… как скажешь… теперь ведь… спасибо Егору Тимуровичу – в любое время захотел – пошел, взял. – сосед присел на краешек табуретки. —
Я вообще-то на секунду… посоветоваться хотел. Тут, понимаешь – за отпуск мне полагается, ну и премию нам в шарашке обещали, годовую… Короче – вот. – он развернул принесенную с собой рекламную газетку. – Видишь, сколько их. Не может быть, чтобы все только жулики были. Подскажи – куда деньги вложить? Так чтоб с пользой – и не пропали?..
– Ну, ты нашел советчика. – Игорь искренне рассмеялся. – Я-то откуда знаю.
– Да ладно, ну что ты, как не свой. – сосед, похоже, собрался обидеться. – Ты же в органах где-то служишь… у вас же там на них на всех… – он кивнул на объявления фирм, – дело должно быть: кто, когда лопаться будет. Это ж все между нами. Сам-то ты вот где бабки держишь?..
– В кармане. – Игорь пододвинул к себе газету. – Когда есть. В сбербанк отнеси. самое то…
– Это под восемь процентов?.. – сосед начал подниматься. – Ну спасибо, сосед. уважил.
– Да, Сергеич, я ведь, правда, не знаю. – Игорь посмотрел на него. – Ну, честное слово.
– Чего – ты в другой системе, что ль? – сосед недоверчиво помолчал. – Ну ладно. сами сообразим чего-нибудь. Вот, глянь, – он постучал по одному из объявлений, – мне надежные люди подсказывали. эти еще полгода минимум не закроются. Так что, ежели чего. присоединяйся. Только это. сам понимаешь. – он приложил палец к губам. – Я тебе телефончик потом спишу…
– Спасибо. – сказал Игорь.
– Ладно, пойду. – сосед поднялся. – Давай. – он протянул руку. – Семье привет. Да… – он наклонился, – ты парню-то своему объясни – насчет справедливости в этой жизни.
…Они лежали в своей постели, отделенной от остальной комнаты лишь наискось расположенной мебельной стенкой, за которой в своем углу посапывал сын.
– Новый год скоро. – Нина осторожно провела рукой по груди Игоря. – Говорят, в этом году снега будет… А что мы Мишке подарим?..
– Что-нибудь подарим. – Игорь натянул одеяло, перебираясь на половину жены. Но в самый последний момент деревянная кровать ритмично начала поскрипывать и Мишка, что-то зашептав, тревожно заворочался.
– Я так не могу. Он не уснул еще… – Нина мягко отстранилась.
Игорь, отодвинувшись, сел в постели.
– Ну не обижайся. – Нина положила голову ему на спину. – Знаешь, я вот тут думала. может быть, на зимние каникулы нам в Плес съездить, к маме. А что. попросишь отпуск – ты сколько уже не отдыхал… А я у себя с Людкой договорюсь. Представляешь… – Мишка целый день на лыжах кататься сможет, ты на рыбалку на Волгу пойдешь, а я тебя вечером ждать буду, печь затопим. А?.. Хоть дней на шесть…
– На рыбалку это здорово. – Игорь помолчал. – Посмотрим, ладно…
Нина прислушалась к дыханию спящего сына:
– Заснул, кажется…
– Я тоже. – Игорь устраивался на подушке.
В большом, по-настоящему стильно обставленном офисе совместного предприятия шла обычная работа – кто-то на хорошем английском разговаривал по телефону, кто-то работал за компьютером, девушка занималась отправкой факсов, за круглым столиком шли переговоры.
За стеклянной перегородкой, отделяющей небольшой кабинет от общей рабочей комнаты, за столом сидел Иван Мережицкий – очень полный человек с округлой с проседью бородой, делающей его удивительно похожим на Лучано Павороти – слушал посетителя, нервного невысокого мужчину в цветном пиджаке.
В углу, сидя на стуле, Игорь перелистывал журнал.
– …И, понимаете, это должна быть попытка проследить процесс эволюции человеческой души в этих условиях… ну вы ведь видели мою последнюю картину. Что происходит с «новыми русскими» в процессе превращения в социально иное существо с неограниченными возможностями. И конечно, все это построить на хорошем детективном замесе, чтобы не расслаблялись в зале. – мужчина постучал по прозрачной папке с рукописью. – Спасибо, кстати, что так быстро прочитали. Знаете, осенью будет всемирный юбилей кино, сто лет… Если бы нам уже запуститься к этому времени, как думаете?..
– Это из прошлого, Роман Викторович – все к дате. – Мережицкий откинулся в вертящемся кресле. – И потом – первый платный сеанс Люмьеров состоялся в декабре, двадцать восьмого, кажется… в Париже… Стало быть – сто лет – только к зиме, нет?..
– Бог мой. – посетитель театрально развел руками, словно приглашая присутствующего Игоря в свидетели. – Он и это помнит… ну, Иван Александрович…
Мережицкий, отыскав кого-то взглядом за стеклянной перегородкой, чуть поднял два пальца.
– Сколько они вам в Роскино на фильм обещали? – Мережицкий заглянул в перекидной календарь.
– Да смешно сказать. – гость стряхнул невидимую пылинку с лацкана пиджака. – Двадцать процентов от сметы.
– А не двадцать пять?.. – стараясь не замечать смущения собеседника, Мережицкий помахал рукой. – Заходи, Ириша.
В стеклянных дверях появилась очень красивая девушка в обтягивающем платье с маленьким подносиком в руках, на котором стоял изящный кофейник и чашки. Та самая, что возилась на трассе со сломавшейся «Таврией».
– Вот и кофе. Прошу…
– Пожалуйста. – Ирина, наклонившись, аккуратно наполнила чашку и опустила ее на маленький столик рядом с рукой посетителя. Режиссер восхищено наблюдал за ее движениями. – У нас очень вкусные сушки, попробуйте. – она пододвинула к нему хрустальную вазочку.
– Спасибо…
– А я сам, ладно… – Мережицкий взял у нее поднос с кофейником. – Спасибо, заинька.
Ирина, улыбнувшись мужчинам, вышла.
– Слушайте, Иван Александрович, где вы таких ангелов выращиваете?.. – режиссер восхищенно смотрел ей вслед. – Ее же надо срочно к нам на студию в актерскую картотеку.
– Вы бюрократ, Роман Викторович. – Мережицкий пригубил кофе. – Знаете, как во французском посольстве – тоже все бумажки, страховки какие-то требуют… не приходилось сталкиваться?.. Зачем же в картотеку? У вас же тут уже и выбор есть. – он кивнул на сценарий. – Например, помните, приятельница героя еще по институту… Вика, да?.. – он поднял глаза на гостя. – По-моему, очень милая роль…
– Да, конечно… Но. – посетитель замолчал, стараясь по глазам собеседника уяснить – насколько всерьез следует воспринимать сказанное.
– Я думаю, Ириша могла бы согласиться. Ну, а что касается наших баранов. Давайте так сделаем… В Роскино вам дадут сорок процентов. дадут, не беспокойтесь… Остальные шестьдесят мы возьмем на себя. И прокатом на территории России, по крайней мере, сами займемся… Девяносто процентов сборов – наши. Прибыли, естественно, и при таком раскладе нам не видать, но, может, хоть свое отобьем, нет?..
– Спасибо. – режиссер поднялся. – Спасибо большое, Иван Александрович. Я знал просто. честное слово…
– Ну и славно. – Мережицкий обозначил попытку приподняться за столом, протягивая руку. —
Юрист мой на этой неделе вас найдет… экземпляр сметы приготовьте… контракт оформим… Кстати, как вы сказали эту девушку у вас там зовут. ну вот. подругу главного героя…
– Вика.
– Так успехов вам. – Мережицкий снова опустился в скрипнувшее под ним кресло. – Звоните.
Когда гость вышел, Мережицкий откинулся в кресле, вертя между пальцами золоченый цилиндрик «паркера».
– Вот так. Интересное время у нас на дворе, а?.. Игорь, оторвавшись от журнала, посмотрел на шефа.
– Он ведь. знаете. действительно известный человек. талантливый. со вкусом… – Мережицкий помолчал. – А идет ко мне. второй раз уже. И ведь не глупый. все понимает, а идет. Хотя… Уж лучше к нам… как думаете, Игорь?..
– Думаю – лучше к нам. – Игорь улыбнулся.
За стеклянной перегородкой маячила фигура немолодой бухгалтерши, делающей какие-то знаки.
– Что там?.. Ну идите сюда… Светлана Васильевна… – Мережицкий сделал жест рукой.
Протиснувшись в кабинет, женщина смущенно прижалась к стеклянной перегородке.
– Ой, вы извините, Иван Александрович, что отвлекаю. я, собственно, только Игорю напомнить хотела… там я ему конверт оставила с зарплатой. Он все не заберет никак, а мне ведомость закрывать надо. Ты там распишись. только, не забудь.
Игорь кивнул.
– Это хорошо, когда человеку деньги уже не нужны. А может быть, в другом месте ему больше платят… нет?.. – усмехнулся Мережицкий. – Как у вас сегодня там, Светлана Васильевна?
– Ой, не говорите, Иван Александрович… – бухгалтерша замахала руками. – Утром чуть входную дверь не снесли, я и сейчас еле выбираюсь. Идет народ, прямо столпотворение какое-то… Мы уже все мелкие купюры брать перестали, так они меняют где-то и снова в очередь. Вчера-то опять наш ролик крутили по Останкино. раза три, наверное. Все, побегу я. а то там мои совсем очумеют…
Через прозрачную перегородку было видно, как в офис вошли Никанор и Крыс. Последний задержался у одного из столиков, флиртуя с сидящей за компьютером девицей, а Никанор, на ходу расстегивая куртку, толкнул стеклянную дверь в кабинет.
– М-м-можно?.. – он посторонился, пропуская бухгалтершу. – Здрасьте…
– Дверь закрой. – Мережицкий отложил ручку, рассматривая мордашку вислоухого щенка боксера, сидящего у Никанора за пазухой. – Ты его хоть кормил сегодня?..
– А к-к-как же… – Никанор осторожно опустил щенка на пол. – Я ему в субботу в в-в-валютке щенячьих к-к-консервов накупил. п-п-полтора доллара банка. Иди Максик. п-п-походи…
Щенок, привычно покружив по кабинету, улегся рядом с ногой Игоря, по-взрослому положив голову на лапы.
– Ну?.. – Мережицкий смотрел на Никанора.
– Он б-б-больше не будет так, Иван Александрович. – Никанор присел на краешек стула, разминая левой рукой покрасневшие костяшки пальцев на правой.
– А перечисление?.. – Мережицкий посмотрел на календарь. – Сегодня последний день был.
– Он сделал. – Никанор, порывшись за пазухой, достал бумажку со штампом. – Вот п-п-платежка. Мы и задержались, пока он в свой банк посылал. П-п-передай. – он протянул бумажку Игорю.
– Хорошо. – Мережицкий, рассмотрев платежку, убрал ее в ящик стола. – Значит, мы свои обязательства выполнили. полностью. Тебе, дружок, КТУ за этот месяц полагается, ты это знаешь?..
Никанор пожал плечами, пытаясь подманить к себе Макса.
– Ладно, еще один бессребреник. – Мережицкий развернулся в кресле. – Поезжайте-ка вы вдвоем на Арбат… пусть теперь решает…
– С-с-сейчас?.. – Никанор, наконец, ухватил за лапу смешно заваливающегося на спину щенка.
– Да. – Мережицкий посмотрел на часы. – Здесь вон тот шкаф пока посидит. – он кивнул на оживленно жестикулирующего Крыса за перегородкой. – А вы быстренько туда-сюда. Вопрос один: да-да, нет-нет!
– Л-л-лучше – да. – Никанор поднялся, застегивая куртку.
– Лучше. – кивнул Мережицкий. – И знаешь – насколько?..
…Запихивая в карман пухлый конверт, Игорь вслед за Никанором вышел на улицу. Серебристый джип стоял, уткнувшись в сугроб, и, чтоб до него добраться, надо было дойти до перехода и вернуться. На другой стороне улицы, у обшарпанного одноэтажного особнячка, через весь фасад которого тянулся рекламный щит: «Автомобили – за полцены и в рассрочку!», топталась довольно приличная очередь. За забранными толстыми решетками маленькими окнами было видно, как попав, наконец, вовнутрь, люди доставали из карманов, разворачивали завернутые в газеты толстые денежные пачки. Знакомая бухгалтерша, убеждавшая в чем-то склонившегося к ней военного, заметив Никанора и Игоря, только на секунду подняла на них глаза, не прекращая разговора. На столе у нее лежали красочные проспекты с фотографиями машин.
Двигатель джипа не успел еще остыть, и Никанор, развернувшись, сразу дал газ – тяжелая машина, легко преодолев подъем, с ходу вписалась в дорожный поток. На грязных улицах было тесно, и, сокращая путь, они свернули к набережной.
– Д-д-доллар опять сегодня скакнул, слыхал?.. – объезжая очередную колдобину, Никанор настроил приемник. Знакомый голос ведущей из «Европы-плюс» заставил его улыбнуться: – Во… она тебе нравится?..
– Не знаю. – Игорь смотрел в окно.
– Ну ты д-д-даешь. – Никанор даже оторвался от дороги. – Что ты, она классная подруга. Меня Иван как-то познакомил… на п-п-презентации… Веселая, только худющая очень. – он вздохнул. – Она-то уже и не п-п-помнит, наверное…
– Ты давно с ним?.. – Игорь посмотрел на Никанора.
– Н-ну… – тот кивнул. – Он меня еще, как я Максика, – вот с т-т-таких знает. – он показал рукой от пола. – У меня мать в его п-п-подъезде убирала. ну, она по дому там. – он замолчал, думая о чем-то своем. – А знаешь. – он покосился на Игоря, – я ведь тебе не верил. поначалу. ну, не то, чтобы совсем. но…
– Да ну?.. – Игорь усмехнулся.
– Точно. – Никанор аккуратно обогнал плетущиеся впереди «Жигули». – А что ты д-д-думаешь… сейчас же оборзели все – за зеленые душу сдадут, не то, что своих. А Иван сказал: «…ша, наш он – точка». Может, п-п-потому что не жадный ты… А Иван. он не ошибается. Черт… – впереди на светофоре неожиданно загорелся сразу красный, и Никанору пришлось тормозить так резко, что лежавший у него на коленях Максик сполз на пол. Игорь нагнулся, пытаясь нашарить заскулившего щенка.
Иностранную машину тут же окружила стайка мальчишек с тряпками и аэрозольными баллончиками.
– Дяденька… Стекло протереть?.. – размазывая подтеки, перед глазами замелькали грязноватые тряпки.
– Н-не надо… Вот с-с-саранча. – Никанор нашарил в кармане деньги.
Нащупав, наконец, где-то в ногах обиженного щенка, Игорь ухватил его за передние лапы и, разогнувшись, замер от неожиданности.
Через посветлевшее лобовое стекло прямо на него глядел его Мишка.
– Д-д-держи… н-на всех… – приспустив боковое стекло, Никанор сунул ближайшему из мальчишек несколько купюр и тронул автомобиль с места. В боковое зеркало Игорю было видно, как перескочив на разделительный газон, ребята сразу начали азартно делить полученный капитал и только Миша, опустив тряпку, все еще смотрел вслед удаляющемуся серебристому джипу.
– Не уд-д-дарился?.. – Никанор, взяв Максика, на секунду отпустил руль, пристраивая того за отворот куртки. – Г-г-говорил… сиди тут…
Максик, соглашаясь, облизнулся.
Джип свернул с набережной и ехал теперь вдоль потемневшей от времени высокой монастырской стены.
– С-с-слушай, д-д-давай заскочим. Тут по дороге… Игорь пожал плечами.
– Т-т-три минуты. – Никанор уже выворачивал руль.
…Сбоку от храма, там, где заканчивалось небольшое кладбище, шли строительные работы, и несколько монахов в черных рясах, помогая рабочим, крепили строительные конструкции, выносили мусор. К дневной службе по протоптанным по монастырскому дворику тропинкам уже начинали собираться верующие.
– Там с весны такое наворочали… – Никанор медленно шел рядом с высоким иноком, одетым в тяжелую зимнюю рясу, но с непокрытой головой. – Метро, говорят, строить будут. Володька, а ты, правда, к себе так и не ездил?.. Тут же полчаса на к-к-колесах…
– У нас тоже строить затеяли… – монах кивнул на копошащихся у монастырской стены. – Часовню восстановить хотим… – он оглянулся на отставшего Игоря. – Вы рядом идите, а то нехорошо, когда за спиной кто-то…
– Ну, а как тут… вообще… – Никанор огляделся. – Т-т-терпеть можно?.. Может, надо что. ты скажи?..
– Зачем же терпеть… – молодой священнослужитель улыбнулся. – Здесь ведь через силу никто не живет. Это милость большая, что остаться позволили. служить при храме. – он нагнулся, поправляя покосившийся штакетник, огораживающий тропинку от кладбищенской земли.
В церкви на куполах ударил колокол, потом еще раз.
– Мне идти надо. – он перекрестил низко поклонившихся ему старушек. – Служба начинается. Отец игумен не любит, когда из братии кто опаздывает. А ты что приезжал-то?.. – он посмотрел на Никанора: – По делу или так. повидать?..
– Так. – Никанор подцепил носком ботинка снежный ком, косясь на Игоря. – Ладно. Я еще как-нибудь з-з-заскочу. А с просьбой моей как?..
– Так ведь слово я тебе давал. – монах поправил воротник своей черной одежды, – и знаешь, как сделал. Не сам я… что я. так, никто. старца одного просил. Есть тут у нас старец… с истинной благодатью живет… Вот он и молится теперь за маму твою… Так что… – он коснулся руки Никанора, – ты верь…
– Угу… – Никанор помолчал. – Да… ёб… твою… то есть извини. забыл я. Вот. – он вытащил из внутреннего кармана доллары. – Ты возьми это… на церковь…
– Спасибо тебе. – монах убрал руку. – Только лучше ты сам сходи во храм-то… Там у входа сразу ящик поставлен… на нем написано…
– Т-т-трогать их не хочешь. – Никанор усмехнулся. – Ладно… я быстро…
Игорь и инок смотрели ему вслед.
– А вы… вместе?.. – монах повернулся. Игорь понял смысл вопроса.
– Да. В одной конторе служим.
Молодой монах внимательно посмотрел на Игоря.
Через кладбище аккуратно, стараясь попадать в ямочки чужих следов, чтобы не проваливаться, шла кошка.
– Умнюга какая… А знаете за что их с древности, с Царства Египетского еще уважают? Птицу она ловить станет, мышь съест с охотою… так уж Господом устроено… но себе подобных, таких же, как сама родом, – никогда грызть не станет. А мы вот, люди. – он глядел Игорю в глаза.
– Так, может быть, это тоже… так устроено… – Игорь посмотрел на кресты на куполах.
– Да кем же это?.. Бог с вами… – монах повел плечами, словно отгоняя услышанное.
Игорю не хотелось его обижать.
– Ну жизнью, наверное…
– Нет… в самих нас дело, ибо ведаем мы, что творим. – он покачал головой.
Колокол ударил в последний раз и смолк.
– И это начало еще только… – он закашлялся. – Пора мне… А вы… вы вот что… Когда закончится все… приходите… Я всегда тут… Хорошо?.. Ну, с Богом…
Игорь от неожиданности сказанного внутренне напрягся, но монах, стряхивая на ходу прилипшие к черным рукавам снежинки, уже торопился к резным церковным дверям.
Никанор догнал Игоря уже у машины, на ходу нажал кнопку на брелоке, и у подмигнувшего фарами джипа автоматически открылись замки.
– Ну?.. – Никанор, усаживаясь за руль, покосился на задумавшегося Игоря: – Как тебе б-б-божий человек?..
– Ему лет сколько?.. – Игорь чуть приспустил боковое стекло.
– Володьке-то?.. – Никанор включил зажигание. – М-м-молодой. Когда тут всерьез заваривалось… он из первых был… Солнцевский… Он там самый. от-т-тмороженый был… его свои побаивались. Вот. – он завел двигатель, включил передачу, выруливая от тротуара. – А потом они когда. добились в мэрии, чтоб авторынок к ним п-п-перевели. говорят, три лимона зеленых тогда отвалили… на них чечены наезжать стали… ну, чтоб, мол, д-д-де-лились. И для убедительности сестренку его взяли… пятнадцать ей было… красивая. ну и вернули потом… частями… Вот у него крыша-то. Лечился сначала, а потом с-с-сюда ушел… Что было – роздал все. Ладно, вольному – воля. – он посмотрел на часы. – Г-г-гусь там соскучился, наверное… как д-д-думаешь?..
…Оставив машину на огороженной стоянке, Игорь и Никанор вошли во вращающиеся двери отреставрированного особняка в одном из арбатских переулков, объяснились с поднявшимися навстречу охранниками в камуфляже. Поднимаясь вслед за сопровождающим по широкой мраморной лестнице, Игорь невольно замедлил шаги у явно музейных скульптур и картин в старинных рамах, украшающих каждый из холлов.
Перед входом на третий этаж, перекрывая проход, стояла металлическая арка, и сидели еще два «шкафа» уже в костюмах, но с демонстративно расчехленными помповыми ружьями.
– Сюда.
Впрочем, другого прохода мимо металлоискателя и не было. Отсюда ровный коридор упирался в тяжелую стеклянную дверь.
– Б-б-бронированное… – шепнул Никанор, касаясь темного стекла.
– Здесь подождите, пожалуйста. – сопровождающий скрылся за еще одной деревянной дверью и почти сразу же вышел.
– Проходите.
В просторном кабинете, устланном светлым ковровым покрытием, за девственно чистым столом сидел импозантный мужчина в дорогом костюме и тонких золотых очках – Гуслянский. Поодаль, скрестив за спиной руки, смотрел в окно еще один охранник с рацией.
– Здравствуйте, Владимир Абрамович. – не дожидаясь приглашения, Никанор как был, в куртке, опустился на мягкий кожаный диван, показывая Игорю место рядом.
Бесцеремонность не осталась незамеченной, но хозяин кабинета, видимо, умел держать себя в руках.
– Добрый день. Это что ты мне принес?.. – он показал на шевельнувшуюся на Никаноре куртку, взглядом останавливая мгновенно напрягшегося охранника.
– А. – Никанор расстегнул молнию. – Это – Максик. – он выпустил песика на пол. – Можно он пока п-п-погуляет…
Щенок, тыкаясь носом в ковер, с любопытством начал исследовать незнакомое помещение.
– Ну. слушаю… Никанор кивнул Игорю:
– Д-д-давай.
– Иван Александрович просил передать, что мы все закончили. Сегодня последнее перечисление к вам ушло. Все, что он обещал вам, сделано. – Игорь посмотрел на сидящего за столом. – Хотелось бы теперь знать ваше решение.
Поколебавшись, Гуслянский нажал кнопку на плоском телефоне, снял трубку.
– Посмотрите по счету 608. А, вот так, да?.. Спасибо.
– Были сомнения, Владимир Абрамович?.. – Никанор следил за заигравшемся щенком.
Гуслянский улыбнулся.
– Слушай, почему ты ему уши не купируешь?.. Есть же стандарт…
– А зачем ему как все б-б-быть?.. – Никанор потрепал щенка по голове. – Шеф еще говорил, что на дачу пока не поедет… б-б-будет нас ждать.
Гуслянский поднялся из-за стола, прошелся по кабинету, подошел к окну. Отсюда, сверху, было видно, как на огороженную стоянку въехала какая-то грязная «Тойота». Ткнувшись в бордюр возле джипа, она остановилась, и двое кавказцев, не выходя из машины, закурили, рассматривая серебристый внедорожник.
– Вы за квартал свое получили?.. – он повернулся.
– Ага… – Никанор кивнул. – Как раз к Р-р-рождеству…
Гуслянский помолчал.
– Знаете, есть статистика. каждый второй брак обязательно закончится разводом. Ну, надоедают люди, даже близкие… Какой-то определенный период существования друг друга устраивают, а потом приходит момент – и все, разбегаются… И ничего, дальше живут. каждый уже сам по себе. в новом периоде.
– Значит, вот т-т-так решили. – Никанор поднял глаза на собеседника.
– Ну, что б нет, так да. – Гуслянский резко повернулся. – И расходимся на сегодняшний день мы, заметь, по нулям. Никто. никому. ничего. Это ясно?..
– Ясно. – Никанор застегивал куртку. – Значит, м-м-меняете…
– А Ивану передайте, – Гуслянский недослушал, – что я ему даже благодарен, – он переглянулся с охранником, – серьезно. за науку. Все-таки два года рядом… я работал, а он меня… доил…
– Как скажете, Владимир Абрамович. – Никанор и Игорь встали. – Максик, иди сюда.
Веселый щенок, крутясь возле стены, вдруг поднял заднюю лапу и по брюкам охранника потекло.
– А, блин. – тот отдернул ногу, но было уже поздно. На светлом ковровом покрытии расползлось большое мокрое пятно.
Гуслянский усмехнулся.
– А он у тебя хам, оказывается. В хозяина, что ли?.. И уши ему резать все-таки надо…
– Наверное. – Никанор поднял Макса на вытянутой руке. – Н-н-не возьметесь?..
– …Так и сказал?.. – Лобов засмеялся, и одинокий бомж за соседним столиком, добиравший соус хлебом с тарелки, подозрительно оглянулся. В маленькой пельменной народу было мало, и любой звук отдавался в гулкой тишине.
– И что потом?.. – он достал сигареты и зажигалку, но заметив сразу набычившуюся уборщицу, снова убрал их в карман.
Игорь пожал плечами.
– Похоже, там новая крыша… Иван давно это предчувствовал, потому нас и отправил. Теперь он вроде и от обязательств свободен – и чистый, инициатива разрыва не его была. Может быть, – Игорь пригубил чай из стакана с разводами, – Гуслянский под Мансура ушел…
– Может быть. – Лобов старался говорить негромко. – С будущего года уполномоченных коммерческих банков, их всего несколько у нас было, через которые весь городской бюджет прокручивался… больше не будет, слышал?.. Все деньги, аккумулируясь, уходят в один, муниципальный, которая сама мэрия создает, чтобы ни от кого не зависеть.
– И что… это в газетах было: «в целях борьбы с возможными злоупотреблениями средствами налогоплательщиков…», что-то там еще. В банках, наверное, до сих пор на ушах стоят. это же миллиарды мимо. Погоди-ка. – Игорь задумался. – А ведь Гуслянский тоже был среди этих. Значит, это и его коснется.
Лобов, усмехнувшись, разглядывал немногочисленных посетителей пельменной.
– Спорим. из наших. – он незаметно показал глазами на плотного парня в дубленке, дожевывающего бутерброд с красной икрой. – Давай вот на твою ватрушку.
Игорь проследил направление его взгляда.
– Ты что – представляться ему пойдешь, документы проверять?..
– Ну зачем же. – Лобов уже пристально, не скрываясь, уставился на посетителя. Тот, почувствовав, что его явно изучают, заметно забеспокоился, занервничал, пытаясь побыстрее дожевать. Через минуту он, даже не притронувшись к пиву, стараясь не оглядываться, заторопился выходу.
Небритый бомж не замедлил приватизировать оставленную банку.
– Какая-то новая порода человеческая за два-три года появилась… чисто внешне. шестерка. Наверное, наличку с киосков у метро хозяину носил, ну и замылил часть…
Игорь покачал головой, пододвигая Лобову ватрушку.
– Так вот. – Лобов разломил булочку, стараясь добраться до творожного кружка, – что бы знал. ваш Гусь, похоже, единственный из их системы, кто во всей этой истории. ну, по крайней мере. не очень проиграл… В Регистрационной палате лежат учредительные документы этого нового банка. в особой папочке, конечно… устав, списки… И в совете директоров там, между прочим, есть такой. Василишин В. В… ведущий экономист, двадцать два года. А знаешь, как фамилия жены Гуслянского? Елена Львовна Василишина. Вопросы?..
– Сын. – Игорь отодвинул стакан. Лобов кивнул.
– Списочек тот подписан нашим лысым мэром лично. А тот у нас у кого в друзьях ходит, помнишь?.. Такая вот рокировка. А ты говоришь – Мансур.
Игорь молчал.
– Интересно, Иван знает?..
– Да тебе какая разница. – Лобов со злостью сдавил алюминиевую вилку так, что она сложилась втрое. – Все они. вот. – он потрогал переплетенные между собою зубья.
– Ну, да. – Игорь разминал хлебную крошку. – В России больше честных не осталось…
– Ну почему?.. – Лобов полез в карман за платком, вытер рот. – Ты… Я… Мы…
– Спасибо, напомнил. – Игорь достал пообтрепавшийся конверт. – Мне тут за труды выписали.
Сдашь в Отделе.
Лобов взял конверт.
– Что-то много в этот раз. А нам так и не дали не хрена. к концу недели грозятся, не раньше.
Игорь чертыхнулся.
– Что?.. – Лобов посмотрел на него.
– Да жена там Мишке все хотела… ну ладно… ничего…
– Спокойно. – Лобов открыл конверт, достал две крупные купюры. – Я завтра до работы заскочу. Она в полдевятого дома еще?..
Игорь промолчал.
– Не дергайся. Мне нужно, чтобы ты не думал, что у тебя дома завтра жрать будет нечего. – Лобов спрятал деньги. – Считай, это тебе приказом по Управлению… за ударный труд по раскрытию… А государству – окупится.
Игорь взял из пластмассовой вазочки на столе салфетку, вспоминая, тщательно записал на мнущейся бумажке несколько цифр и букв, пододвинул ее Лобову.
– Слушай… – Лобов всмотрелся в написанное, – неужели номер счета узнал?.. Ну, старик… Лугано… это где?..
Игорь убрал ручку во внутренний карман.
– Швейцарская Конфедерация.
– Ну вот. – Лобов удовлетворенно сложил салфетку в бумажник. – А тебе теперь в сейфе жить надо. если он узнает.
У Игоря в кармане мелодично забибикал пейджер, на маленьком экране высветилось сообщение.
– Что?.. – Лобов кивнул. – Соскучились?..
– Иван просит позвонить.
– Видишь у вас как – «просит»… – Лобов протянул руку. – Ладно, двигай. Привет не забудь. скажи, мол, увидимся скоро.
– Смотри, я ведь передам… – Игорь на мгновение задержал руку Лобова. – Спросить тебя хотел – ты к кошкам как относишься?..
– Терпеть ненавижу. Подлейшие твари – никогда не просчитаешь, что через секунду выкинут. – Лобов покачал головой. – У меня вот попугай жил. австралийский… так она, понимаешь, залезла сверху на клетку… Погоди, а ты почему…
– Так… – Игорь повернулся. – Ну давай… я позвоню, как обычно…
Он пошел к выходу. Лобов смотрел ему вслед, пока не встретился взглядом с небритым бомжом, уставившимся в оставленную Игорем тарелку с недоеденной сосиской.
– Хочешь?..
Бомж поспешно закивал, изображая улыбку щербатым ртом.
– А нельзя. – Лобов поставил тарелку на грязный поднос подошедшей уборщицы.
Бомж, сглотнув слюну, посмотрел на него. На тронутых коростой губах ясно прочиталось двухсложное матерное слово.
– Может быть. – сказал Лобов.
Игорь отпустил кнопку звонка, и тяжелая дверь квартиры почти сразу же открылась.
– Проходите. – модно одетая молодая женщина посторонилась, пропуская гостя. – Извините, я убегаю сейчас.
– У вас же домофон, Ольга Игоревна. – Игорь, снимая куртку, кивнул на коробочку на стене. – И глазок есть…
– Бросьте. – жена Мережицкого пыталась отыскать что-то на туалетном столике перед громадным зеркалом в холле. – Нормальный человек должен быть фаталистом – кому суждено быть повешенным – тот уже не утонет… – она приоткрыла дверь в кабинет. – Иван, к тебе пришли, между прочим…
За массивным бюро красного дерева сидел Мережицкий в халате и тапочках на босу ногу и перелистывал утренний «Коммерсант».
– Заходите, Игорь. – он показал рукой на угловой диван перед высокими стеллажами с книгами. – Садитесь. Сейчас… – он кивнул в сторону холла.
– Ты не видел ключи от моей машины?.. – поинтересовались оттуда уже раздраженно. – Это поразительно просто…
– Малыш, может быть, в спальне?..
Ольга прошла через кабинет и вернулась с брелоком.
– Ну и кто же их мог туда положить, интересно знать?..
– Вряд ли это мог быть я… согласись…
– Да. мне нужны деньги…
– Ну возьми… – Мережицкий отметил какую-то статью в газете цветным маркером.
– Мне нужно много. – Ольга нетерпеливо посмотрела на часы.
Мережицкий, выдвинув один из многочисленных ящичков бюро, молча протянул плоский ключ с замысловатой двухсторонней бородкой.
Сдвинув тома с боковой книжной полки, Ольга открыла вмонтированный в стену небольшой сейф, достала несколько пачек в банковской оплетке, подумав, взяла еще одну.
– У нас сегодня редсовет в издательстве. – она пыталась запихнуть плотные пачки в изящную сумочку. – Потом, может быть, я к Вите в интернат заеду, сегодня же среда. В общем, я позвоню.
– Сегодня четверг. – Мережицкий чмокнул в щечку склонившуюся через стол жену. – Удачи. И не гони, ладно?..
Ольга уже на пороге кабинета оглянулась.
– Ты помнишь, что обещал?..
– Конечно. – Мережицкий кивнул. – Я буду думать.
Когда автоматический замок щелкнул, Мережицкий отложил газету.
– Ну вот. на сегодня, кажется, занавес. Игорь вопросительно поднял глаза.
– Вы вроде имели это счастье?.. Игорь кивнул.
– Она сбежала, когда меня в первый раз потянули…
– Да, вы рассказывали… Мережицкий помолчал.
– На пути к разводу ведь много остановок. И последняя, наверное, это когда тебе лгут, понимая при этом, что ты это понимаешь… Мы вот как раз на ней притормозили пока…
Игорю стало как-то не по себе.
– Мне казалось, Иван Александрович… жена у вас… такая…
– У меня?.. – Мережицкий резко повернулся, отчего халат на животе у него пополз в стороны. – Хотите скажу… между нами… она со мною уже семь месяцев не спит… не изволит… Ну, причины, конечно, находятся самые убедительные. А знаете, о чем это она напоминала?.. В Америку они теперь желают. понравилось им там… во Флориду куда-нибудь, на побережье. Насовсем. – он хлопнул ящиком бюро, отыскивая что-то. – А что я там делать буду… там же все наоборот. Эти сытые идиоты даже в футбол руками играют, я видел. Но у нее свои планы.
Игорь молчал, да и какого-либо ответа от него и не ждали.
– Извините, это я так… Просто совсем не с кем иногда. – Мережицкий внимательно смотрел на Игоря. – Слушайте, а как вам наша Ирина, а?..
Игорь пожал плечами.
– Красивая, во всяком случае…
– Это верно. – сказал Мережицкий. – Ну ладно, давайте о наших трудностях. Вам надо в Барвиху сейчас съездить. – Мережицкий достал из бюро прозрачную папку с каким-то письмом на гербовом бланке. – Найдете дачу. вот тут адрес… пусть он это подпишет. Скажете – пора.
Игорь взял папку.
– Вопросов не будет?
– Обязательно будут. – Мережицкий усмехнулся. – Один. – он достал за бумажника узкую цветную полоску с водяными знаками. – Вот ответ… отдадите ему…
Игорь мельком взглянул на количество нулей в выписке со счета в инобанке.
– Убеждает.
– Хочется верить. Обратно ведь наше колесо, к сожалению, не крутится. – Мережицкий запахнул расползшийся халат, посмотрел на часы. – Сорок минут назад вагоны из Ижевска пошли.
… – Я провожу. – хозяин дома, высокий мужчина со знакомым по телеэкрану лицом, провел Игоря через роскошно обставленный холл первого этажа, миновав офицера охраны, распахнул резную дверь, вышел вслед за Игорем на крыльцо. На обнесенной каменным забором территории, окружающей трехэтажный особняк, не было никого и только в конце расчищенной дорожки, у металлических ворот рядом с автостоянкой, прогуливались двое в куртках с рациями.
– Ну спасибо вам. – Игорь уложил папку в свой кейс, набрал шифр на замке.
– Да не за что. – мужчина, улыбнувшись, протянул Игорю руку. – Вы только посмотрите день сегодня какой. – он с удовольствием вдохнул полной грудью свежий воздух, прищурился на солнце. – Весна совсем…
– Всего доброго. – Игорь повернулся, чтобы идти, но хозяин дачи задержал его руку.
– Секунду… Я бы вот, что хотел попросить вас. – он помолчал, – надо бы нам как-то условиться. Понимаете. теперь уже всего ничего до выборов осталось… Вы, наверное, следите. последние недели газеты, как с цепи сорвались… да и телевидение. даже у нас тут у домов крутятся. Сейчас стоит даже в ерунде чуть подставиться – все. Я понятно говорю?..
Игорь кивнул.
– Я вот думаю. давайте мы паузу выдержим… А когда уладится все… ну, через несколько месяцев… уже на новом уровне возможностей. вернемся…
– Я передам. – Игорь шагнул со ступеньки, но остановился. – А что, вы наверное знаете, как все закончится?..
– Ну, как вам сказать. – хозяин дома снисходительно улыбнулся. – Вот вы же не будете голосовать за красно-коричневых, правда?.. Ваши коллеги, думаю, тоже… Важна стабильность. Знаете, сейчас налаживают новую электронную систему подсчета голосов… общефедеральную. агентство правительственной связи занимается, 143 миллиарда мы им выделили. Так что… я думаю, все будет. правильно. – он повернулся. – Вы в поселок оттуда заезжали, с трассы?..
– Да. – сказал Игорь. – Там, где шлагбаум.
– Тут у нас с другой стороны строительство затеяли. – мужчина показал рукой. – Грунтовую дорогу проложили. вон там, видите?
…Дорога, наезженная тяжелыми грузовиками, оказалась достаточно условной, и Игорю приходилось вести машину со скоростью пешехода, объезжая наледи и ямы. По обеим сторонам лихорадочно велось строительство – у двух-трехэтажных кирпичных вилл разворачивались панелевозы с перекрытиями, работали автокраны, разбирая аккуратно укрытые пленкой штабеля импортного кирпича и алюминиевых рам, вспыхивали огоньки электросварки. Судя по мощным прожекторам, установленным на участках, работы тут не прекращались и с наступлением темноты.
Тяжелый ком смерзшейся земли, выхваченный передним колесом, саданул изнутри по крылу, и Игорь притормозил машину, вышел, заглядывая в колесную нишу.
– Ты чего, милок, тут-то поехал?.. – двое работяг на обочине устанавливали столбы, намечающие будущий забор у одного из участков. – У нас все там вон катаются. по асфальту.
– Тут ближе сказали. – Игорь достал пачку «Мальборо», закурил, протянул мужикам.
– Йошкин кот… – один, разогнувшись, отпустил сразу покосившийся столб, вытягивая заскорузлыми пальцами сигареты, передал товарищу. – Хоть покурить, пока мама не видит. – он кивнул на недостроенный особняк в центре участка.
– Что, сильно строгая хозяйка?.. – Игорь оглядел двухэтажный дом из импортного темного кирпича, слово сошедший с рекламного фото, на котором ладили двускатную крышу. У высокого крыльца с затейливо выложенными мозаикой мраморными ступеньками стояла редкая в этих местах отечественная машина – вишневая «девятка» с сильно поцарапанным крылом.
– А. – один из рабочих махнул рукой, несколько раз затягиваясь непривычно легкой сигаретой. – Нам-то что. Они же все местных только на нулевку берут. А так из самой Москвы каждый день строителей возят… за валюту, из фирмы какой-то… На них и срывается. Сегодня, правда, помягчела, йошкин кот. – он ткнул рукавом ватника в сторону машины. – Муженек из столицы пожаловал.
– Ну… – второй работяга, пряча огонек сигареты от ветра, усмехнулся. – Видать, ублажил. а то он редко тут показывается. похоже, занятой очень.
Словно услышав последние слова, кто-то изнутри толкнул обитую коваными полосками дверь особняка, и на пороге появилась женщина в яркой спортивной куртке. Она придерживала дверь, пропуская кого-то идущего следом.
– Ты скоро, Саш?..
– Уже иду. – ответил ей мужской голос, и, застегивая на ходу модное длинное пальто, на крыльцо вышел высокий мужчина с седыми висками.
– Все-таки в кухне я бы вагонку заставил их переделать, а?.. – обняв жену за плечи, Севастьянов начал спускаться по ступенькам к стоящей неподалеку «девятке».
– Эй, ты чего, паря?.. – один из работяг тронул замершего Игоря за рукав. – Обожжешься сейчас… – он кивнул на дотлевающую в пальцах сигарету. Напрягшись, Игорь с трудом заставил себя повернуться.
– Что?.. А…
Щелчком он отбросил догоревший окурок и тот, описав дугу, опустился точно в вырытую под столб воронку.
– Ну ладно… пока…
– И тебе… – мужики торопливо докуривали, – добраться удачно.
Стараясь больше не оглядываться, Игорь сел за руль.
…Бросив машину на стоянке возле большого гастронома, Игорь протиснулся – как обычно, из шести дверей открытыми оказались лишь две – внутрь.
Перед входом в торговый зал вилась очередь у пункта обмена валюты, тут же толкались жучки в кожанках с бритыми затылками, ненавязчиво соблазняя не терять времени к заветному окошечку да при этом еще выиграть на курсе обмена.
Игорь, кажется, не отдавая сам себе отчета, зачем его сюда принесло, переходил от прилавка к прилавку, ломящимся от всяческих дорогостоящих вкусностей. У отдела со спиртным он остановился, кажется, именно эта, неосознанная до конца, мысль и вела его. Он купил бутылку армянского коньяка, потом, уже пробираясь к выходу, взял хорошего сыра и каких-то конфет.
Сзади его сильно толкнули. Поспешно проталкиваясь к дверям один из «кожаных», как ледокол, раздвигал мешающую ему толпу плечом.
Игорь оглянулся.
– Ой… погодьте… да что ж это… ой, мамочки… – стоящая у пункта обмена явно приезжая женщина аж присела от страха и неожиданности, растерянно разглядывая перетянутую резинкой плотную пачку резаной бумаги, прикрытую сверху долларовой купюрой. – Та ратуйте, люди добры… Да вон же он побег…
Проходящие мимо посетители магазина – кто с иронией, кто с любопытством – оглядывались на нее, но не остановился никто. Очередь у окошечка кассы как-то сама собою рассосалась.
– Что, мамаша, кинули?.. – один из оставшихся парней подмигнул, словно приглашая прогуливающихся мимо двух милиционеров в свидетели. – Небось, выгадать хотела, а?.. А ты вон милицейскому пожалуйся. скажи мол, валюту с рук купить хотела. Глядишь, еще срок заработаешь…
– Та Христосе с тобою… – женщина, прислонившись к стене, начала медленно оседать на каменный пол.
Игорь внезапно ощутил такой прилив жгучей волны ненависти, что даже не пробовал сдержать себя. Резко протиснувшись через толпу, он выскочил на улицу, пытаясь рассмотреть за спинами идущих кожаную куртку.
Парень впереди двигался абсолютно спокойно, не оглядываясь. На секунду задержавшись на перекрестке, он вместе с другими перешел на противоположную сторону улицы, к автостоянке.
Догнав «качка», Игорь с ходу развернул его за плечо, заломив профессиональным спецприемом руку, заставил, приседая, согнуться пополам.
– Ты что?.. Сука. – парень, захрипев, снизу смотрел на Игоря налившимися от боли глазами. – Да ты что… в натуре…
Игорь еще сильнее согнул руку, и тот аж завизжал от боли.
– Ты что делаешь. эй. – он рванулся было в сторону, и рукав кожаной куртки затрещал по шву. – Падла. да мы тебя щас. – он смотрел из-под руки куда-то за спину Игоря.
Игорь оглянулся – от стоявшей у тротуара «девятки» к ним уже бежали двое.
– Стоять там. – Игорь локтем сдвинул пиджак так, что стала заметна тяжелая наплечная кобура на левом боку.
Двое сразу замедлили шаг, в нерешительности оглядываясь. Ситуация складывалась патовая.
«Девятка» медленно тронулась с места и остановилась в нескольких метрах от Игоря, все так же державшего покрасневшего от боли качка в полусогнутом положении. Боковое стекло поползло вниз.
– Здоров. – сидящий за рулем Крыс приветливо улыбался. – Ты чего это, Игорек?..
От неожиданности Игорь отпустил руку «кожаного» и тот, спотыкаясь, с силой ткнулся физиономией в дверцу автомобиля.
– Осторожнее. – Крыс оттолкнул его голову, провел пальцами по краске, проверяя нет ли царапины. – Вот козел, да?.. Давай. – он протянул руку, и «качок», все еще морщась от боли, достал из внутреннего кармана куртки пачку пятидесятитысячных купюр, передал в машину.
– Крыс, представляешь, этот гад. – парень дернулся было к Игорю, но его удержали.
– Засохни, ладно… – Крыс кинул пачку в бардачок «Жигулей», кивнул Игорю. – Ты на колесах тут или прогуляться шел? Чего, молодой толкнул тебя, что ли?..
Игорь покачал головой. Только теперь он осознал цену собственной несдержанности.
– Это я его задел… ходит медленно…
– Ну ясно. – Крыс опять заулыбался. – Мы ему пропишем, чтоб по сторонам оглядывался, когда работает. Тебя подбросить куда?..
– У меня машина там… – Игорь кивнул на площадку перед магазином.
– Ну давай тогда. – Крыс протянул руку. – Утречком, значит, свидимся. – он внимательно смотрел на Игоря. – Не устал?.. Какой-то ты. такой…
– Нормально. – Игорь повернулся. – Пока…
– И тебе..
Двое «качков» из «Жигулей» смотрели ему вслед. Один, закурив, наклонился к окошку «девятки».
– Слышь, Крыс, он кто?..
– А ты?.. – Крыс, прищурившись, начал крутить ручку стеклоподъемника, и стекло медленно поползло вверх. – Поехали.
…От многоэтажной гостиницы, громадной пирамидой нависающей над морем, широкая асфальтированная дорожка упиралась в полукруглую башню, в которой лифты со стеклянными стенками спускались прямо к пляжу. Несколько столиков из небольшого бара были вынесены на улицу, и Ирине отсюда хорошо был виден бетонный мол, забрызгиваемый холодными волнами, и грузная фигура Мережицкого там, на краю, кормящего чаек.
Подняв меховой воротник куртки, он оглянулся и помахал ей рукой, она ответила.
Выходя из бара, Игорь сдвинул стеклянную перегородку, отгораживающую внутреннюю часть помещения, и Ирине стало слышно бормотанье подвешенного внутри под потолком телевизора.
Игорь поставил бутылку с медалями на стол.
– Абрау-Дюрсо, полусладкое… Я сейчас открою.
– Я сама, можно?.. – Ирина аккуратно распутала оплетку, легко, без выстрела, высвободила толстую пробку. Игорь разлил пенящееся шампанское в фужеры.
– Спасибо. Знаешь. – Ирина пригубила вино, вертя в руке серебряную проволочку с закрепленной металлической пластиной, – эта вот штука называется мюзле, до нее только в 1844 году додумались… был такой француз… Адольф Жакесон.
– Ты что, в ресторане работала?.. – Игорь, откинувшись на стуле, следил за играющей на мокрой гальке пустынного пляжа собакой.
– И температура шампанского… – Ирина дотронулась тыльной стороной ладони до бутылки, – должна быть не выше восьми градусов.
Она смотрела на пузырьки по краям бокала.
– Я учительницей была. в младших классах, если тебе интересно… целых два года…
– Ты?.. – Игорь повернулся.
– Непохоже?.. – Ирина прикурила от тонкой зажигалки «Салем». – И все это время были у меня две мечты: одна – купить себе дюпоновские колготки. такие, знаешь, с настоящей лайкрой. В школе у нас физкультурник все объяснял, что просто сейчас время такое, когда женщину дешевле раздеть, чем одеть. – она затянулась.
– Как он был неправ. – Игорь пододвинул свое пластмассовое кресло так, чтобы не терять из поля зрения перешедшего на другой конец волнореза Мережицкого.
– Слушай, а почему тебя Иван раньше сюда никогда не брал?.. – Ирина смотрела теперь на море. – Мне эти его костоломы потные уже знаешь. чуть ли не в биде за тобою лезут и все «ментос» сосут вместо того, чтобы зубы вылечить… А насчет того, кто прав. – она помолчала, вдыхая табачный дым, – знаешь, есть одна старая молитва: «О боже, дай мне силы, чтобы изменить то, что я должна изменить, дай мне волю, чтобы смириться с тем, что я изменить не могу и даруй мне разум, чтобы отличить одно от другого…» Я кто угодно – только не идиотка…
Внутрь бара вошла небольшая компания местных парней, на ходу оглядываясь на Иринины колени.
Несколько чаек с криками пикировали с высоты, ловя в воздухе подбрасываемые Мережицким хлебные кусочки. Он опять неловко помахал, приглашая оценить как это у него получается.
– Он так рад, когда удается сюда выбраться. – Ирина смотрела на птиц, – именно сейчас, в несезон. Знаешь, Иван ведь… как большой ребенок… – она, похоже, хотела еще что-то сказать, но передумала.
Игорю показалось, что говорила она сейчас очень искренне.
– Ну, хорошо, а вторая?.. – спросил Игорь.
– Что?.. – Ирина повернулась.
– Ну, ты говоришь – две мечты. На колготки, я полагаю, ты уже накопила.
Один из парней в баре переключил телевизор, и вместо ведущей «Вестей» с экрана оглушающе застонала дистрофичная певичка на тонких ножках.
Даже бредущая по пляжу собака остановилась, настороженно прислушиваясь к раздражающе громким звукам.
Ирина, поморщившись, посмотрела на Игоря. Он встал.
– Я сейчас.
Он вошел в бар, пройдя мимо заставленного дешевым пивом столика шумной компании, дотянулся до телевизора на подвеске, возвращая прежний канал, уменьшил звук.
– Эй, земляк… – за столом возмущенно приподнялся один из парней, выставив ногу в проход. – Ты чего это, а?.. Ты нас спросил?..
Игорь посмотрел на него. Из-за стойки к компании уже спешил бармен, наклонившись, он что-то торопливо зашептал парню на ухо. Тот, поколебавшись, убрал ногу, освобождая Игорю дорогу.
– Благодарю за сотрудничество. – Игорь вежливо кивнул. Девица, сидящая на коленях у одного из компании, прыснула.
Выйдя на воздух, он вернулся к своему столику. Ирина закурила новую сигарету.
– Между прочим, Иван говорил, чтобы ты курила поменьше. – Игорь отпил шампанское.
– Правда?.. – Ирина затянулась.
Нащупав плоскую гальку, она попыталась добросить камень до моря.
– Хорошо. – она закрыла глаза, подставляя лицо пробившемуся через облака солнцу. – Игорь, а там. ну, как это… в тюрьме, в зоне. действительно очень страшно?..
– Не привыкнешь – помрешь, не помрешь – привыкнешь. – Игорь усмехнулся. – Сильнее надо, дай покажу. А ты что, собираешься уже?..
– А ты?.. – она прислушалась к телевизору. Игорь тоже повернулся.
«…Криминальной хроники. – читала ведущая за кадром, а на экране замелькали документальные видеокадры. – Сегодня утром почти в центре российской столицы в очередной раз прозвучал взрыв. Как сообщили корреспонденту «Вестей» в Главном управлении внутренних дел, по мнению экспертов радиоуправляемое взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля, принадлежащего правлению одного из крупных коммерческих банков, и взорвалось в тот момент, когда автомашина выезжала с охраняемой стоянки у здания головного офиса. Водитель и два пассажира погибли…».
На экране хорошо было видно, как из искореженного взрывом «Мерседеса-600» достают полуобгоревший труп шофера. На заднем сиденье с неестественно заломленной в сторону рукой, привалившись к мертвому охраннику, лежал Гуслянский, тонкая дужка разбитых очков болталась на полуоторванном ухе.
Стоящая на обочине за линией милицейского оцепления группа зевак, поеживаясь на ветру, оживленно обсуждала происшедшее, время от времени пытаясь подойти поближе к дымящейся еще машине. Камера панорамировала, и на телеэкране на мгновение мелькнуло лицо Никанора, что – то доказывающего соседу по толпе.
«По словам представителя прокуратуры, ведущего расследование, – говорила ведущая, – дело взято под личный контроль мэром Москвы. В пресс-центре мэрии считают, что участившиеся в городе криминальные разборки свидетельствуют о несовершенстве нашего законодательства, не позволяющего правоохранительным органам в период второго этапа приватизации решительно…».
Ирина взглянула на часы.
– Слушай… – она подняла глаза, – мне показалось или там действительно был…
– Показалось. – Игорь встал. – Посиди, ладно?.. – он поставил фужер на столик. – Я к Ивану схожу.
Легко перепрыгнув высокий каменный бордюр, Игорь дошел до каменного волнореза и, стараясь не поскользнуться на скользком от брызг бетоне, двинулся к его дальнему концу. Мережицкий стоял на самом краю, наблюдая за маленьким катером в море, то и дело исчезающим под белыми барашками волн.
– Что?.. – он даже не обернулся.
– Только что в новостях сообщили. – ветер дул Игорю в лицо и говорить было трудно, – в Москве несколько часов назад…
– Там холодно, наверное. – Мережицкий затянул сдуваемый ветром капюшон.
На море похоже начинало всерьез штормить, и катерок все чаще проваливался во впадины между волнами.
– Глупо считать себя капитаном на корабле, где все мы только пассажиры. – он повернулся к Игорю, – как там Ира?.. Вы не скучали?..
– Мы разговаривали. – сказал Игорь.
– Видите, как хорошо, что вас сегодня видели здесь. – Мережицкий помолчал. – Вы знаете, Игорь, я бы хотел, чтобы вы…
Игорь поднял глаза и увидел на левом виске Мережицкого дрожащую красную точку.
Он толкнул его в грудь почти инстинктивно, но, наверное, слишком сильно, потому что Мережицкий, повиснув над водой, едва успел ухватиться за металлическое ограждение. Разрывная пуля подняла столбик бетонной пыли на том месте, где он только что стоял, а Игорь, стараясь не попасть под заливавшие пирс волны, уже бежал к берегу. Отсюда Игорю показалось, что на смотровой площадке башни, в которой двигались лифты, мелькнула полусогнутая человеческая фигура.
Расталкивая редких отдыхающих, Игорь пролетел мимо бара, не успев даже крикнуть вскочившей навстречу Ирине; очередной лифт, как нарочно, только что пополз вверх, ожидать следующего было бессмысленно, и он повернул к служебной винтовой лестнице, путь к которой преграждала металлическая решетка. Двух ударов ноги хватило, чтобы ржавая цепочка, запиравшая узкую калитку, отлетела в сторону, и, не переводя дыхания, Игорь побежал вверх по крутым ступенькам. Когда, задыхаясь, он выскочил наверх, на смотровой площадке, откуда открывался изумительный вид на море, уже никого не было, и только по асфальтовой дорожке в сторону гостиницы шел высокий мужчина с «кейсом».
…Люди снизу, затаив дыхание, наблюдали как двое, сцепившись, боролись на самом краю площадки лифтовой башни высотой с добрую пятиэтажку. Сильный ветер надувал одежду, и Игорь, чтобы удержаться, успел скинуть куртку, сразу унесенную в море, и тут же получил сильный удар в лицо… Уже падая, он двинул противника ногой в пах, и тот, скорчившись, осел, выпуская чемоданчик из рук. Сумев подняться первым, Игорь ударил его еще раз, потом еще, и тот затих. Шатаясь, Игорь дотянулся до «кейса», попробовал взломать замок, но снизу закричали, и, обернувшись, он увидел уже занесенный над ним кусок стальной арматуры. Выпустив чемоданчик, Игорь в последнюю секунду сумел откатиться в сторону, и, разбежавшийся противник, споткнувшись о «кейс», не удержал равновесия, и, перевалившись через заграждение, полетел в пропасть.
Вытерев кровь, Игорь осторожно дополз до края площадки, заглянул вниз. На узорчатых каменных плитах лежал черноволосый кавказец – один из пассажиров той заляпанной грязью «Тойоты», а рядом валялись выпавшие из разбитого чемоданчика части разобранной снайперской винтовки.
Игорь видел как там внизу, Ирина, нагнувшись, подняла круглый цилиндр лазерного прицела, сдвинула кольцо.
Тонкий красный лучик ударил Игорю в глаза.
…Закрывая свою квартиру, Игорь все никак не мог справиться с разболтанным замком. Приходилось поджимать дверь плечом, одновременно подтягивая на себя гнутую ручку. Снизу поднимался сосед с нагруженной продуктами хозяйственной сумкой.
– Во. Здорово. – он протянул свободную руку совладавшему наконец с замками Игорю. – Чего тебя не видать-то?.. Ишь, загорел вроде даже. Командировка опять, что ли?
– Привет, Сергеич. Как ты?.. – Игорь засунул ключ под болтающийся почтовый ящик, сохранившийся, видимо, от времен, когда почту принято было доставлять непосредственно адресату.
– Да не дождутся… – он пригрозил кому-то воображаемому кулаком. – Слышь, а ты дверь-то мою видал?.. – он подтолкнул Игоря в угол лестничной площадки. – Новую поставил. лист ноль два с двух сторон, посредине каркас из труб. Говорят, пулю от «калаша» держит только так. – он с гордостью дотронулся до коричневого дерматина.
– А что… должны придти, да?.. – Игорь с сочувствием посмотрел на соседа.
– Да ну. – тот едва не сплюнул с досады. – Накаркаешь тоже. Чего с меня брать-то… Я как все… Просто кругом каждый день кого-нибудь…
– Ладно, Сергеич… – Игорь похлопал соседа по плечу. – Извини, я побегу.
– Погоди. – сосед засуетился в поисках своего ключа. – Я ж тут заходил к твоим как-то. телефончик-то тот. насчет денег. занести…
– Давай потом, ладно. – Игорь уже спускался по лестнице.
…Игорь сошел с автобуса в начале улицы. Отсюда до офиса было еще метров сто. В Москве уже кое-где начинало таять, и на разбитом асфальте стояли грязные лужи, чтобы обойти их, приходилось ежесекундно совершать акробатические упражнения.
Сосредоточившись на стремлении промокнуть хотя бы не до щиколоток, Игорь поначалу даже не услышал автомобильного гудка.
Медленно ехавший рядом маленький белый «Фиат» настойчиво бибикнул еще раз, еще, прежде чем Игорь наконец догадался взглянуть на дорогу.
– Привет. – сидящая за рулем Ирина, перегнувшись через сиденье, приоткрыла дверцу.
– Здравствуй. – Игорь остановился. – В офис?.. Ирина покачала головой.
– Садись.
Игорь, поколебавшись, устроился на заднем сиденье. Развернувшись, Ирина нажала на газ.
– Симпатяга. – Игорь рассматривал интерьер новенькой малолитражки.
– Нравится?.. – Ирина, обгоняя неповоротливый «Москвич», посмотрела мельком на часы.
– Куда-то торопишься?..
– Нет. – Ирина в панорамное зеркало заднего вида поймала его взгляд. – Чего у нас с тобою сегодня вдоволь – так это времени.
…Ловко припарковав «Фиат» у продовольственной «валютки», Ирина, подталкивая недоумевающего Игоря, затащила его в торговый зал, вытянув из вереницы две тележки на колесиках, всучила ему по одной под каждую руку.
– Что берем?.. – поинтересовался Игорь, с интересом наблюдая за нею.
– Все. – сказала Ирина.
В полном соответствии со сделанным заявлением Ирина под несколько удивленные взгляды редких покупателей-иностранцев загрузила передвижную тару всем понемногу – от конфет в двух роскошных коробках до вакуумных упаковок копченого угря и банок с черной икрой. Пара бутылок дорогого виски, кокосовый ром, полдюжины французского шампанского и почему-то плюшевый заяц с бантом завершали композицию. Игорь уже с трудом катил тележки по гладкому полу.
– Может, еще вина?.. – Ирина в нерешительности остановилась у полок с марочным спиртным. – Как, а?..
– Что с тобою?.. – Игорь посмотрел на нее.
– Ничего. – Ирина пожала плечами. – Все нормально. Все так, как должно быть, понимаешь?..
У кассы помочь кассиру подошла одна из продавщиц, двое других шептались в стороне, глядя на наполняющиеся пакеты.
Ирина достала из сумочки золотистую кредитную карточку «Виза» и протянула кассирше.
Машинально сделав специальной машинкой отпечаток – слип, та только потом вгляделась в выдавленные на украшенном голограммой пластике буквы.
– Извините, но тут написано…
– Вот он. – Ирина подтолкнула Игоря вперед. – Распишись же…
Вглядевшись в отпечаток, Игорь посмотрел на Ирину.
– Это… ваша карточка?.. – кассирша уже с недоверием смотрела на странную пару.
– Да… – сказал Игорь. – Разумеется… – он расписался на цветном листочке, и кассирша убедилась, что его подпись совпадает с образцом на обороте кредитки.
– Пожалуйста. Спасибо за покупки.
На улице Игорь перехватил в другую руку тяжелые пакеты.
– И что это значит?
– «Новая степень свободы»… Видел рекламу? Помоги же… – Ира подняла багажник «Фиата».
Уложив покупки, она устроилась за рулем и повернулась к нему:
– Ну, поехали?..
…Выйдя из лифта, Ирина ключом на брелоке открыла дверь, посторонилась, пропуская Игоря вперед.
– Входи.
Европейски отделанная однокомнатная квартира казалась еще необжитой.
– Куда это? – Игорь, осматриваясь, опустил пакеты.
– На кухню отнеси, пожалуйста. – Ирина вошла в ванную. – И проходи… я скоро…
В матовом кафеле тускло отражалась встроенная в дубовый гарнитур вся мыслимая техника – от трехкамерного холодильника до печи СВЧ. Оставив продукты, Игорь вошел в комнату.
Тут тоже явно поработал хороший дизайнер. Опустившись в глубокое кресло из белой кожи, Игорь включил пультом огромный «Сони», пробежал по программам. Выключив телевизор, он несколько минут просто сидел, рассматривая интерьер.
– Эй… – слышно было, как Ирина приоткрыла дверь в ванной.
– Что?.. – Игорь прислушался.
– Ничего… Просто хотела спросить – как ты там?..
– Думаю…
– Ты шампанское в морозилку не догадался засунуть?.. – Ирина выключила воду.
– А надо?.. – Игорь с удовольствием вытянулся в мягком кресле.
– Обязательно… я как-то говорила, по-моему…
– Тогда догадался.
– Ты, оказывается, умница. – Ирина, расчесывая волосы, стояла на пороге комнаты в мягком халате и босая.
– Ого. – Игорь повернулся, разглядывая ее. – Даже так.
– А ты против?.. – Ирина смотрела ему прямо в глаза.
Игорь медленно встал с кресла, подошел ближе.
– Ты мокрая… – он осторожно стер капли на ее лице, провел ладонью по щеке, шее.
Ирина, чуть отстранившись, задержала его руку.
– Подожди, ты не ответил.
… – Еще… – сказала она, и было еще, и сбившееся роскошное одеяло только мешало, и потому оказалось на полу, и Игорю опять было так, как, пожалуй, не бывало никогда прежде. Потом они лежали рядом, и Игорь остро чувствовал ее тонкие пальцы у себя на груди, животе.
– Этому тоже тебя твой физкультурник научил?.. – Игорь повернулся.
– Нет. – Ирина засмеялась. – Просто мне с тобою хорошо, понял?..
Игорь попробовал слегка поелозить на широкой финской тахте.
– Не скрипит…
Ирина смотрела на него.
– Эй… вернись.
Она осторожно обняла его.
– Господи, ты даже не представляешь, как это важно, когда не надо притворяться. Тебе не понять этого.
– Нет, наверное. – сказал Игорь.
– Ну, конечно. – Ирина отстранилась. – Ты же тоже, как все они, хозяин жизни, крутой, как хвостик у поросенка. Вам всегда все можно, да?.. Знаешь, как Крыс с Никанором однажды парня отделали в ночном клубе – ни за что, он просто присел рядом со мною, огня предложил. Иван даже не говорил им ничего, просто посмотрел.
Дотянувшись до лежащей на прикроватной тумбочке с подсветкой пачки сигарет, она закурила.
– Если бы можно было вот так проснуться как-нибудь утром и все забыть… как будто вчера ничего с тобою не было. ничего… и начать сначала. – она коснулась его губ.
– И не бояться, да?.. – Игорь тоже закурил. Ирина не сразу поняла, что он имел в виду, а когда поняла, погасив сигарету, сбросила одеяло.
– Неужели ты мог подумать, что он не знает, где я?..
Игорь напрягся, этого он не ожидал.
Она встала, набрасывая на ходу халат, прошла в ванную. Игорь остался лежать. Он лежал и когда она вернулась, уже тщательно одетая, застегивая модный плащ.
– Куда ты?..
– Я ухожу. – она посмотрела на часы.
– И заглянула, чтобы напомнить, что я должен как следует захлопнуть за собою дверь?.. – Игорь усмехнулся. – Можешь не беспокоиться, я очень обязательный. поросенок…
– Нет. – Ирина достала из сумочки ключ на брелоке, обвела взглядом квартиру. – Это все – твое… – она положила ключ на тумбочку рядом с золотой кредиткой.
– Не понял. – Игорь присел на тахте, опираясь локтем на подушки.
– А его я возьму, ладно?.. – Ирина подняла упавшего на пол плюшевого зайца с бантом. – Будем считать, что ты мне его подарил. Ну все, пока. – она еще раз огляделась.
– Подожди же. – Игорь встал с кровати и простыня, в которую он попробовал задрапироваться, сползла на ковер.
– Не надо. – Ирина смотрела на него. – Это не нам решать… Он сказал, чтобы ты позвонил завтра…
Она вышла. Игорь слышал, как негромко щелкнул замок входной двери. Он остался в квартире один.
Игорь, не одеваясь, медленно прошел через комнату, подошел к окну, раздвинул плотные жалюзи. Отсюда, с высоты, хорошо был виден город, спешащие машины на магистралях, толпы людей на остановках, переходах. Игорь стоял и смотрел. Он дотронулся правой рукой до стены – за фирменными тисненными обоями чувствовался холодный бетон.
…Игорь вышел из булочной на Тверской, по детской привычке на ходу откусывая мякоть теплого батона… на улице было полно народа и приходилось лавировать, чтобы не выронить хлеб.
– Слышь. эй, друг. – возившийся под поднятым капотом серой «Волги» с затемненными стеклами шофер оттер лоб, – ты в машинах сечешь?.. Зажигание секунду подержать сможешь?..
Игорь, поколебавшись, шагнул к полуоткрытой дверце, наклонился внутрь кабины, стараясь дотянуться до ключа под рулевой колонкой.
Неожиданно чьи-то сильные руки сжали его, затаскивая внутрь машины на заднее сиденье.
– Отходим. – скомандовал кто-то, ладонь зажала рот, а очутившийся уже на своем месте водитель дал газ.
…Игорь быстро прошел мимо поднявшегося навстречу дежурного с оттопыривающей пиджак кобурой, легко вбежав по лестнице, свернул по коридору направо, с ходу толкнул дверь кабинета.
– Ну вот он, слава Богу. – сидевший напротив Севастьянова Лобов кивнул на свободный стул. – Присаживайтесь. Предупредить уже никак не получалось. мы уж тут волновались, чтобы ты не царапнул кого-нибудь, пока узнаешь…
– Ну все обошлось, и ладно. – Севастьянов вышел из-за стола. – С сегодняшнего дня вы отзываетесь, операция практически завершена. – он взглянул на часы на стене. – Сейчас там, на границе, как раз заканчивают досмотр вагонов, предъявивших документы на груз уже допрашивали. На завод в Ижевске тоже поехали… так что… считайте, что свою задачу вы выполнили и выполнили хорошо. Тут вот ходатайствуют о вашем поощрении. – он кивнул на Лобова. – Я обещал поддержать.
– А дальше?.. – Игорь смотрел на Севастьянова.
– А что, собственно, еще?.. – тот улыбнулся. – Ну, если вам интересно – появляется возможность проверить ваш номерной счет. В конце месяца семинар в Швейцарии по линии Интерпола, я уже звонил, в посольстве обещают меня на полдня в Лугано подбросить… там же, в Европе, все рядом. Пароль у нас есть.
– Их сегодня взяли?.. – спросил Игорь. – Всех?.. Севастьянов с Лобовым переглянулись.
– Понимаешь, мы тебя потому так и дернули. – Лобов обнял Игоря за плечи, заставив опуститься на стул. – Боялись, что ты с утра туда прямо рванешь.
Севастьянов подошел к окну, рассматривая что-то внизу.
– Что-то я. – Игорь пожал плечами. – Может, объяснишь?..
– Ты как этот. – Лобов потер скулу. – Знаешь же, как мы каждый раз на ушах стоим, чтобы таким, как твой шеф, хоть вот столечко вменить. Он же лично чист как «Смирновка»… «самый чистый гад в мире…». Ни один суд дела на него не примет, разве что – за нарушение скорости. А тут вчера информация прошла – чем-то вы людям Мансура последний раз крепко насолили. В общем, они на сегодня разборку по-крупному наметили… прямо в офисе… чтоб капитально. Ну у нас и решили. – он кивнул на потолок, – .не торопиться туда особо.
– Погоди, ты серьезно?.. – Игорь смотрел на Лобова. – Там же людей полно работает…
– Люди, чтобы ты знал, все на заводах пашут, а не в таких конторах гребаных сидят, понял?.. – Лобов встал. – Да успокойся, может, там и поломалось все. не звонили еще. да, Александр Николаевич?
Севастьянов повернулся от окна.
– Что?.. Вы о чем?..
Игорь перевел взгляд с Лобова на Севастьянова и снова на Лобова. Только теперь, кажется, он начал что-то понимать.
Резко поднявшись со стула, он бросился к двери.
– Куда?! Стой! – Лобов едва успел посторониться.
– Вернитесь! Немедленно вернитесь, я приказываю. – Севастьянов повысил голос. Но Игорь его уже не слышал.
…Игорь гнал машину через город так, что гаишники стыдливо отворачивались – было очевидно, что сидящий за рулем либо имеет какие-то особые права, либо рехнулся настолько, что связываться с ним было бы по крайней мере неразумно. Огибая длинные хвосты машин у светофоров, Игорь выезжал на встречную и ухитрялся проскакивать перекрестки, лавируя во встречном потоке.
На узкой улочке он затормозил так, что на асфальте остались длинные полосы. Плотная толпа на противоположной от офиса стороне, окружавшая особнячок с линялым рекламным щитом, обещавшим автомобили за полцены, на секунду замерла и сразу же вновь загудела, пытаясь во что бы то ни стало заглянуть в забранные решетками окна или достучаться в закрытую наглухо тяжелую дверь – в наступление дня «икс», похоже, не хотел еще верить никто.
В гулком вестибюле офиса было необычно тихо, и Игорь замедлил шаги. Помещение как будто вымерло. Он остановился перед двухстворчатыми дверями и, помедлив, нажал на бронзовую ручку.
Светлое ковровое покрытие большой комнаты было покрыто осколками. Разбитые компьютерные мониторы валялись рядом с искореженными телефонными и факсимильными аппаратами с выдранными шнурами, на перевернутых стульях громоздились разорванные папки с выпавшими из них бумагами. Картину разгрома довершали прошитые автоматными очередями стены с цветными плакатами и забытый на одном из столов включенный маленький ксерокс, послушно выплевывающий в лоточек одинаковые пустые листки.
Стреляли, похоже, почти не целясь – несколько пуль, перечеркнув белую блузку одной из девушек, попали в голову пожилой бухгалтерши. Осторожно ступая, Игорь сделал несколько шагов по комнате и остановился – сбоку кто-то тихо шуршал бумагами.
Никанор с широко открытыми глазами сидел на полу, привалившись к одному из столов – пуля вошла точно под переносицу. В ногах, пытаясь теребить его за брючину, мелко повизгивал насмерть испуганный Максик.
Игорь посмотрел на стеклянную перегородку – Мережицкий сидел в своем вертящемся кресле, неестественно свесив голову на грудь. Изо рта тонкой струйкой на дорогой галстук сочилась кровь. Услышав шаги, он захрипел, стараясь повернуть голову на звук.
– И-и-игорь. – он попробовал улыбнуться, но получалось плохо. – Видите, как они меня…
Игорь достал из нагрудного кармана Мережицкого платок, хотел приложить его к ране, но, распахнув пиджак, понял, что это бессмысленно – по белой сорочке из трех точек на груди расплывались, сливаясь, кровавые пятна. Поражало, что тот еще дышал.
– Это опять Мансур?.. – сказал Игорь. – Но ему конец. скоро…
– Нет. – Мережицкий с усилием сглотнул скопившуюся кровь. – Это были другие…
Он на секунду замолчал. Чувствовалось, что сил у него оставалось все меньше.
– Там ключи. – он скосил глаза на ящик стола. – В сейфе… паспорта. Она так мечтала всегда… – он замолчал, преодолевая очередной накат боли. – В этой стране уже ничего не будет… уезжайте… – он посмотрел на Игоря. – Знаете, Крыс часто говорил, что вы – из наших соседей. Но это ведь чушь, правда?..
Игорь молчал. Мережицкий смотрел на него, и в глазах его появилось что-то похожее на удивление. Собрав последние силы, он с трудом отталкиваясь от стола, попытался подняться, но усилий оказалось достаточно только для того, чтобы кресло начало медленно поворачиваться. Когда оно описало полный круг и остановилось, Мережицкий был уже мертв.
На улице замяукали милицейские сирены… заскрипели тормоза. Отходя от окна, Игорь, споткнувшись, наступил на что-то твердое, едва не потеряв равновесие. Носком ботинка он разворошил осколки на полу и нагнулся, поднимая какой-то блестящий металлический квадратик.
На ладони лежала зажигалка со стилизованной надписью «Зиппо». Игорь машинально перевернул ее – на ребре тянулась неглубокая царапина.
…Стеклянные двери автоматически разошлись и потом закрылись, пропуская Игоря в Шереметьевский зал вылета… Разноязыкий муравейник международного аэропорта жил своей круглосуточной жизнью.
Игорь опустил спортивную сумку на гладкий пол и посмотрел на большие часы слева от табло с расписанием вылетов. Строчки как раз менялись, и где-то под потолком сыграли колокольчики, предваряя объявления.
У двух пластмассовых полусфер с городскими телефонами-автоматами, закрепленными на стене зала у лестницы, никого не было, и Игорь остановился, пытаясь нашарить в кармане телефонный жетон. За его манипуляциями с интересом наблюдал паренек лет тринадцати.
– Чего, дядя, позвонить хотели?.. – он подошел ближе.
– Как ты догадался?.. – Игорь без надежды вывернул последний карман.
– Десять тысяч. – парень разжал руку, полную пластмассовых жетонов.
– Он же шестьсот рублей стоит. – Игорь посмотрел на мальчишку.
– Ну купите тут где-нибудь за шестьсот. – паренек пожал плечами. – Между прочим, этот вообще не работает, только жетоны жрет. Здесь на весь аэропорт один только нормальный… я бы показал…
– Ладно, мафиози, держи… – Игорь протянул купюру.
– С этого вот звоните… – отдавая жетон, мальчишка кивнул на автомат, висящий в полуметре от первого.
Игорь проводил его взглядом, опустив жетон, медленно набрал номер.
– Привет, Нин… это я…
– Игорюша, это ты?.. – чувствовалось, что на том конце провода искренне обрадовались. – Ты откуда звонишь?.. У тебя уже все закончилось, ты освободился да?.. Совсем?..
– Почти. – сказал Игорь. – Как Мишка?..
– Ой, он опять двойку по биологии вчера принес. – Нина вздохнула: – я уже не знаю. Приходит грязный – и сразу спать. Ты бы поговорил с ним как-то, а?..
– Я поговорю… – сказал Игорь. – Ты скажи ему, чтоб после школы не смел по перекресткам шляться, скажи категорически. пусть дома сидит… за уроками.
– Конечно. – Нина помолчала. – А знаешь, почему я дома-то?.. У нас опять бачок в туалете сильно течет, представляешь? Я слесаря вызвала, они только в первой половине дня теперь ходят.
– Ну, пусть чинят. – сказал Игорь.
– Конечно. – Нина опять замолчала. – А ты где?.. Да, я забыла. вечером сосед заходил. телефон тебе какой-то занес. говорит, важный. Я его на кухне под соль положила, ты увидишь.
– Хорошо. – сказал Игорь. – Я позвоню потом.
– Ты во сколько дома-то будешь?.. Может, мне тогда уже дождаться тебя, а?.. Все равно на работу не пошла. Еще, слушай, может, ты хлеба по дороге купишь, два батона?.. А то в нашей опять жесткий. Ты когда дома-то будешь?..
– Скоро. – сказал Игорь.
…Повесив трубку, Игорь подхватил сумку и пошел по залу. В оконце телеэкрана, вмонтированного в установленную в полу высокую стойку, заканчивался дневной выпуск «Вестей».
«В Государственной Думе депутаты вновь отказались рассматривать поправки в Закон о выборах, внесенные президентом. – говорила все та же телеведущая. – Как заявил сегодня с трибуны сессии бывший член парламентской фракции ЛДПР, а ныне примкнувший к фракции «Женщины России» депутат Марычев, – внесенные исполнительной властью поправки явно направлены на то…».
– Мама… мамочка! – через весь зал от таможенных стоек к сидящей в кресле женщине неслась девчушка лет шести в джинсовом комбинезончике.
– Ну, что тебе?.. – мать недовольно оторвалась от книги на английском.
– Мама, а я опять писать хочу. – громко объявила девочка и засмеялась.
Большие, навыкате белки глаз на шоколадном лице придавали негру полное сходство с хорошо сделанной куклой. Одетый в черный котелок и фрак с выпущенной наружу белоснежной манишкой он застыл в неудобной позе на каменной тумбе прямо под Эйфелевой башней, держа в руке маленькую вазочку в форме рыбки с открытым ртом.
Потоки туристов из разноцветных автобусов с зеркальными стеклами, раздваиваясь, вытягивались в длинные очереди к двум киоскам, продающим входные билеты. Люди, запрокинув головы, разглядывали ажурную металлическую вязь конструкций высоко над землей и огромные желтые колеса, поднимающие старинные лифты, а он так и стоял, не шевелясь, окруженный толпой, как будто его сюда поставили и забыли.
Черноволосый япончик, подбадриваемый мамой с телекамерой, переваливаясь, добрался до тумбы и осторожно опустил ему в вазочку пятифранковую монету.
– Сэнк ю, бэби. – громко сказал негр и, грациозно изгибаясь, сменил позу, снова замирая, как будто у него кончился завод.
– Здесь уже весна. – сказала Ирина.
Они стояли на перекрестке, ожидая пока иссякнет вереница машин, отделяющая широкий бульвар-парк с бьющими по обеим сторонам фонтанами на противоположной стороне. Перед двумя широкими гранитными лестницами, уступами поднимающимися наверх к смотровой площадке у метро, молодые арабы выписывали на асфальте немыслимые пируэты на роликовых коньках, складывающиеся в цифры «1995». Ирина взглянула на сумку Игоря.
– Дай мне его. Пусть подышит.
Игорь на ходу расстегнул молнию, пошарил в сумке, извлекая сонного Максика… Ирина взяла его на руки, и черная кожаная кнопка щенячьего носа задвигалась, впитывая незнакомые запахи.
– Смотри. – сказал Игорь, останавливаясь. Высокий шатер в мавританском стиле в самом начале бульвара, украшенный, несмотря на солнечный день, сотнями горящих маленьких лампочек, медленно сдвинулся с места и начал вращаться. Тонконогие белые кони на нижней его площадке то медленно вырастали, то плавно опускались, покачиваясь. Соединенные по две большие ладьи с сиденьями, тоже окаймленными лампочками, плыли, отбрасывая золотые отблески на лица гуляющих, играла музыка.
– Господи. карусель… – Ирина, не отрываясь, смотрела на ожившее чудо.
Игорь поднял сумку.
– Нам надо идти. Ирина покачала головой.
– Пожалуйста… только один раз… хорошо?.. А потом мы будем делать все так, как ты говоришь.
…Игорь купил билеты, они поднялись по ступенькам на круг, выбирая где сесть. Людей на карусели почти не было, и механик в своей будочке за стеклом терпеливо ждал, пока они устроятся в одной из раковин на узковатом для двоих взрослых сиденье.
Игорь поставил сумку под ноги, Ирина держала волновавшегося Максика на коленях. Лампочки мигнули, и карусель, набирая скорость, плавно тронулась. Мимо поплыл сначала кусочек запруженной машинами улицы, потом сама Эйфелева башня, кажущаяся отсюда невероятно высокой, потом парк, фонтаны, две скульптуры в конце, широкая каменная лестница, снова парк, опять улица, башня, туристические автобусы, медленно идущие люди. В круглых глазах Максика нарастал испуг, он завозился, мотая головой, пытаясь избавиться от бесконечной смены впечатлений, и вдруг тихонько, поскуливая, завыл на этот наваливающийся на него чужой город.
…Создавалось впечатление, что паркет в производственном корпусе «Мосфильма» начал поскрипывать при ходьбе еще с момента постройки. Алекс прошел еще немного и постучал в дверь с табличкой «студия «Слово». Фрид сидел в маленькой комнатке слева за столом и перелистывал что-то машинописное. Поздоровавшись, Алекс присел напротив.
Не так много было в нашем кинематографе людей, чья собственная судьба вызывала бы не меньшее уважение, чем их творчество. Таким человеком, к примеру, был известный сценарист, многолетний ведущий «Кинопанорамы» Алексей Яковлевич Каплер, на курс которого во ВГИКе Алекс когда-то хотел поступить. Автор многих сценариев классических советских фильмов, он сумел вернуться в кино после лагерного срока, полученного лично от Сталина за влюбленность юной дочери вождя Светланы в еврея.
Похожая судьба была и у Валерия Фрида, так же как и его будущий соавтор Юлий Дунский, проведшего годы в лагерях по обвинению в подготовке покушения на друга физкультурников во время проезда того по Арбату. Алексу всегда нравилась сама тональность картин, снятых по сценариям Фрида и Дунского: «Жили-были старик со старухой», «Служили два товарища» и многих других. Поэтому мнение главного редактора «Слова» было для него важно. Да и потом… пора было что-то решать…
– По-моему, из того, что я читал на близкую тематику на сегодняшний день… ну вот… на конец 94-ого – ваш сценарий лучший. – сказал Фрид.
– Спасибо, Валерий Семенович.
– Да вы не торопитесь… это действительно серьезная, значимая работа. – он помолчал. – Беда-то заключается в том, что в нашем объединении гарантировать вам ее реализацию в ближайшие два года невозможно. Нету денег, если честно – мы в долгах, найдем ли и когда – не знаю, а вещь эта ждать не может, не должна, во всяком случае. Вы же видите, что на дворе делается. Надо вам что-то предпринимать.
– Ясно. – Алекс усмехнулся. – Уже…
– Да? Кому вы его еще давали? – Фрид с интересом повернулся к нему.
– Носил на пару студий… Всем нравится… Только они тоже сидят сейчас без копейки. государство самоустранилось, спонсоры затаились. Такие времена…
Фрид внимательно посмотрел на Алекса, как будто старался понять его мысли.
– Ладно, Валерий Семенович… я понял… Спасибо.
– Вы только знаете что. послушайте… вы не решайте ничего сгоряча, ладно?.. Времена ведь – категория не постоянная… уж я знаю… а вы – профессионал.
– Конечно. – сказал Алекс. За последние дней десять он слышал хвалебные отзывы о своем сценарии и сожаления, что приобрести его именно сейчас не удастся, уже в третий раз.
На улице дул сильный ветер, и старые деревья сразу за мосфильмовской проходной громко шумели ветками, создавая иллюзию надвигающегося шторма.
– Хватит. – подумал Алекс. – Наверное, уже хватит…
Первые крупные капли дождя упали на пыльный асфальт.
Середина 80-х, начало 90-х, Москва
В 1932 году прославленный советский драматург Николай Погодин, создавший так любимые властью «Человека с ружьем» и «Кремлевские куранты», организовал Профессиональный комитет московских драматургов – для творческой и профессиональной помощи литераторам, зарабатывающим на жизнь исключительно литературным трудом. Между прочим, Союз советских писателей был организован лишь два года спустя. О том, насколько оказалась нужна подобная организация, свидетельствует уже сам факт ее существования и сегодня, спустя семьдесят девять лет. Через нее в разные годы прошли и некоторые остаются ее членами до сих пор – Арбузов, Габрилович, Ким, Мережко, Эдвард Радзинский и Марк Розовский, Александр Миндадзе и Михаил Задорнов.
Сценарист Аркадий Инин, нынешний председатель Комитета, вспоминал как-то: «После окончания ВГИКа поступил в Комитет драматургов. Он и только он один на том этапе моей биографии мог дать статус полноправного гражданина общества. Это было чрезвычайно важно: без справки с постоянного места работы ни один человек не мог ни ребенка в школу отправить, ни записаться к врачу в поликлинике. Справка из ПКМД приравнивалась именно к такому документу. Поэтому отношение мое к этой организации самое хорошее.».
Аркадий со всеми его нынешними регалиями, говорят, не жалеет своего времени на эту организацию и сегодня.
А вот признание писательницы Людмилы Улицкой: «В советские времена Комитет драматургов был, может быть, единственной организацией, которая защищала ту маленькую свободу, которая у нас была».
Когда-то для нас, начинающих литераторов, членство в Комитете было спасительным во всех отношениях. Для вступления в творческие Союзы – писателей или кинематографистов – требовались несколько уже осуществленных проектов – пара напечатанных книг или снятых фильмов, что, как правило, не происходило быстро. Между тем в Советском Союзе, не работая, можно было запросто угодить за решетку. Меня, например, утверждая характеристику для поездки на пару недель на море в Болгарию, долго допрашивали на «выездной комиссии» в районном комитете КПСС – где же я, в конце концов, работаю. Ответ – «я пишу» – вызывал у заседающих в комиссии немолодых «представителей трудящихся» одновременно смех и плохо скрываемое возмущение. Осознание того обстоятельства, что работой может быть не только фрезеровка деталей на заводском станке, было выше их интеллектуальных возможностей. Бедный Бродский, привлеченный к ответственности за тунеядство в своем Ленинграде, когда-то всерьез пытался доказать, что сочинение им стихов есть тоже некий труд.
В этих условиях удостоверение Комитета драматургов становилось на долгие годы спасением для многих творческих людей. Кроме того, когда становилось финансово совсем невмоготу, можно было, оформив бюллетень и представив справки о полученных за год гонорарах, получить через Литфонд СССР выплату, доходящую до десяти рублей за день нетрудоспособности, – деньги по тем временам очень большие. Мне это часто и здорово помогало.
В стране тотального дефицита претендовать на ограниченные материальные блага могли лишь трудовые коллективы и общественные организации. Но поскольку желающих был переизбыток, для реального получения доступа к чему-либо требовалась громадная организационная работа, заключающаяся в налаживании контактов с теми инстанциями, которые эти ресурсы распределяли. Назывался этот процесс – «приделать к письму ноги».
Сам факт отправки в соответствующую структуру письменного обращения на бланке Комитета отнюдь не означал, что просьба вообще будет всерьез рассмотрена. Наиболее вероятным был вариант, что спускаясь от вышестоящего чиновника к исполнителю, обращение закончится более или менее вежливым отказом – в связи с «нехваткой ресурсов» или «отсутствием вашей организации в утвержденном годовом плане». Поэтому единственным шансом было добиться личного приема у первого лица и объяснить ему на пальцах всю важность для страны и города существования нашей организации. Крайне важно, конечно, было произвести и личное впечатление на начальство.
Московский городской комитет профсоюза работников культуры, оправдывая свое существование в глазах своего руководства, проводил всяческие эксперименты по реорганизации в подведомственных ему объединениях. Итогом одного из них стала попытка слияния Комитета драматургов с другими мелкими профкомами при издательствах, результатом чего и стало рождение достаточно крупной столичной организации под названием Комитет московских литераторов. Общая численность ее членов превысила полторы тысячи человек, председателем утвердили Ивана Менджерицкого, сценариста, автора популярных тогда телесериалов «К расследованию приступить», «Профессия – следователь», «Анна и Командор» и нескольких других. Первым заместителем председателя избрали меня.
Разумеется, работали мы на общественных началах и никакой зарплаты за это не получали.
Буквально перед самым слиянием удалось мне сделать одно важное дело для коллег. Встретившись с одним из руководителей Московского Исполкома – аналога нынешней Мэрии – удалось мне добиться почти нереального – выделения лимита для нашей организации на легковые автомобили.
Никто у нас не верил, что такое возможно. В те годы один начальник по фамилии Янченко из издательства, принадлежащего ЦК КПСС и штампующего цветные портреты Генсека, подробно объяснял мне: «…пойми, автомобиль – это ведь как награда…». То обстоятельство, что «награду» эту ты просил не в подарок от государства, а хотел бы купить за собственные деньги, которые приходилось копить всей семьей не один год, оставалось за кадром.
Так или иначе, получилось, что в известной степени я почти единолично впервые в жизни оказался на практике неким «распределителем благ». Мне было поручено составить короткий список с фамилиями членов организации, которые получали право на выделенные нам несколько автомобилей: «Москвича», «Жигули-универсала», самой престижной в то время «Лады-пятерки» и, кажется, какой-то еще. Надо ли говорить, как всколыхнулась местная общественность в своем стремлении оказаться среди счастливчиков.
Среди наиболее активных просителей, готовых на все ради обладания четырехколесной мечтой, оказался скромный автор эстрадных скетчей и миниатюр, член нашего Комитета и мой давний приятель Леня Якубович. Леня был хорошим кампанейским парнем, достаточно активным членом Комитета драматургов и мне, правда, не без труда, удалось сделать так, что самую лучшую из этого списка машину получил именно он. Став фактически его первым автомобилем, «пятерка», помогая успевать на выступления в разных концах города, потом служила ему долгие годы.
Его устная признательность и полушутливые обещания помнить об оказанной услуге «всю оставшуюся жизнь» меня тогда только позабавили.
Прошло лет пятнадцать, округлившаяся физиономия Лени, уже Леонида Аркадьевича, благодаря телевидению стала одной из самых популярных и узнаваемых в стране, своеобразным пропуском практически в любые кабинеты и инстанции. Одного звонка давно пересевшего на престижные «джипы», знаменитого телеведущего, как это у нас принято, достаточно было, чтобы решить почти любые проблемы. Тем более что это как раз был период, когда его популярные усы из «Колеса счастья», как назывался позаимствованный на Западе формат «Поля чудес», не светились разве что в домашних утюгах, а известнее его в стране был, пожалуй, лишь лидер государства.
Однажды обстоятельства сложились таким образом, что мне срочно потребовалась какая-нибудь профессиональная штатная работа в Москве пусть с не очень большим, но постоянным окладом, и мне пришла в голову идея попросить помощи у Лени.
Я позвонил ему. «Да что ты, старик, – запричитал он в телефонную трубку. – Я тут сижу, – он буквально так и сказал, – «тихо, как мышка», практически никого не знаю. Извини, но что я могу… нет…».
Прошло еще много лет, и я, вернувшись в Москву из-за границы, пришел в Останкино главным редактором телекомпании, которая, в частности, по заказу принадлежащего Якубовичу творческого объединения производит программу «24 часа» для Первого канала. Роль Якубовича в ней фактически сводилась к начитыванию закадрового текста, все остальное делали редакторы и режиссеры из нашей компании.
Я наслушался от них множество рассказов о его феноменальном хамстве и пренебрежительном отношении к тем, кто с ним работает. Он мог запросто не явиться на смену без каких-либо объяснений, мог просто матерно послать хорошего режиссера Фуада Шабанова, попытавшегося предложить на записи что-то исправить. Понимая, что далеко не каждый решится ему ответить, он поступал как подвыпивший купчик, не чувствующий каких-либо этических преград просто в силу обладания известным капиталом…
Эволюция, происшедшая со скромным и не слишком удачливым эстрадным автором за эти десятилетия, была разительна.
Газеты писали, что примерно так же вел он себя и в повседневной жизни – достаточно вспомнить скандал с сознательно вдребезги разбитым им зеркалом в машине посла Бельгии, водитель которой замешкался, не пропустив джип Леонида Аркадьевича со двора его дома в Каретном ряду.
Маленькая студия на третьем этаже оказалась почти напротив моего кабинета, и я часто слышал усиленный аппаратурой хорошо знакомый миллионам телезрителей голос моего прежнего приятеля. Я старался сделать так, что бы мы не увиделись, даже случайно в коридоре – мне это удалось..
После создания Комитета московских литераторов, горком выделил нам зал для заседаний правления в своем помещении – доме, хорошо известном в Москве как дом Высоцкого на Малой Грузинской. С улицы через центральный подъезд можно было попасть в горком и к нам, а сбоку через маленькую калитку был вход непосредственно в жилой подъезд. Напротив, через дорогу стоял тогда еще полуразрушенный и используемый под склад, а сейчас восстановленный, красивый католический костел.
Заседали мы еженедельно, правление оказалось очень солидным, избраны были люди достаточно известные – например, вошла в него заместителем председателя драматург и журналист Маргарита Саенко, кстати, вместе с супругом своим, заслуженным деятелем искусств России Михаилом Серебро, на долгие десятилетия ставшие, несмотря на некоторую разницу в возрасте, моими верными друзьями. О Константине Кедрове, поэте, докторе философских наук, позже писали, что он номинировался на Нобелевскую премию по литературе. Коля Живаго был, пожалуй, самым известным в Москве переводчиком с итальянского.
Организация вскоре стала востребованной. Принимая людей, мы могли гарантировать им легализацию их статуса, облегчение ряда бытовых проблем, отвлекающих от творчества, что было немаловажно даже для таких, уже тогда известных людей, как поэт Илья Резник. Мы подписывали множество писем, справок и ходатайств в самые разнообразные инстанции, подтверждая адресатам, что за членом Комитета стоит достаточно авторитетная организация, готовая защищать его права. Попросился к нам и только что перебравшийся в Москву мало кому знакомый Юлик Гусман, назначенный тогда директором Дома кино. Не имея еще столичного жилья, он, помнится, долгое время жил в Доме ветеранов кино, что в районе Филевского парка.
Посоветовавшись, мы с Менджерицким решили принять его в Комитет по ускоренной процедуре, и уже через несколько дней я не поленился сам отвезти ему удостоверение прямо на работу. Видимо, в той ситуации это много значило для него, он был искренне рад и благодарен.
К слову надо сказать, что Гусман, человек по-настоящему творческий, оказался наилучшим директором Дома кинематографистов за все время его существования. При нем в нашем клубном кинодоме многое изменилось в лучшую строну – от манеры общения персонала до уровня организации большинства мероприятий. В эти четырнадцать лет, кроме всего остального, Дом кино оставался своеобразной штаб-квартирой демократических сил, политическим и культурным центром столицы. Я помню проходившие тут наши встречи с Борисом Николаевичем Ельциным, после которых тот едва проталкивался среди запрудивших улицу людей к ожидавшему его «Москвичу» своего родственника. Бывшего депутата Госдумы, основателя Академии киноискусств «Ника» Гусмана выкинули с занимаемой должности сразу же, как только она понадобилась новым правителям нашего Союза кинематографистов. Он не сдался, подал в суд и выиграл все процессы. Но возвращаться, конечно же, не стал…
Словосочетание «Дом кино», кстати, для большинства московских киношников всегда значило больше, чем просто обозначение адреса. Совсем ребенком меня водили на всяческие утренники и спектакли еще в старый Дом, 1935 года постройки, в центре, на нынешней Поварской 33, тогда еще носившей имя Воровского. В старом зале таинственно поскрипывал деревянный пол, а наверху, в бельэтаже, можно было прятаться за рядами кресел, огороженных от зала небольшими деревянными колоннами. Атмосфера здесь была домашняя, администрация и семьи киношников давным-давно перезнакомились, и мы, дети, тоже всегда встречали тут приятелей. Родственникам выдавали какие-то книжечки-удостоверения. Говорят, что именно к этому времени относится и знаменитый ответ сценариста Иосифа Прута на вопрос почему-то не узнавшей его билетерши.
– Член Дома?.. – спросила она, пристально вглядываясь в пришедшего.
– Нет, с собой… – ответил Прут.
Когда Союз кинематографистов построил новый Центральный Дом кинематографистов на Васильевской, многие из обслуги перешли туда. В частности, в новом гардеробе оказался и наш с отцом старый знакомый, у которого мы раздевались не меньше пары десятков лет и который помнил меня еще ребенком. Это был совершено уникальный человек. У старых своих клиентов он принимал верхнюю одежду вне общей очереди и при этом никогда не выдавал положенного номерка. Его, собственно, и не просили. После окончания очередного мероприятия или просмотра, когда у гардероба скапливалась толпа спешащих домой людей, достаточно было подойти чуть сбоку от длинной очереди и показаться ему. Он тут же выносил сданные пальто или плащ и успевал даже помочь их надеть. Он помнил в лицо десятки кинематографистов, и не было за долгие годы случая, чтобы он хоть раз перепутал чью-то одежду. Попасть в его виртуальную картотеку могли только многолетние посетители, и на них остальные гости смотрели с уважением – без «номерка», значит, свой. За это от каждого он получал в карман рабочего халата чаевые – двадцатикопеечную монету. За вечер у него собиралась сумма, наверное, равная трети его месячной зарплаты. Остальные гардеробщики ему жутко завидовали, но повторить такое больше никому из них было не под силу. Потом он начал болеть и уволился. В его секции, справа от входа, потом многие пытались выработать в себе уникальную способность ассоциировать сданную одежду с конкретным гостем, но ни у кого так не получилось, и это уникальное искусство ушло из Дома вместе с ним навсегда.
Дом кино всегда оставался своеобразным клубом, где можно назначить встречу, поиграть в бильярд, посидеть в баре, выпить приготовленного в горячем песке кофе по-турецки. Здесь показывали уникальные фильмы, посмотреть которые остальная Москва могла только мечтать, приезжали интереснейшие гости. На одном из таких просмотров я чудом нашел в Большом зале свободное место. Хотя на большинстве красных кресел никто не сидел – многие из гостей между мягкой обивкой и деревянной спинкой засовывали бумажный разовый пропуск или газету, как бы бронируя для себя это кресло, и отправлялись в буфет, лишая, таким образом, пришедших к началу членов Союза кинематографистов возможности сидеть в зале. Я был свидетелем того, как поднимаясь по лестнице, осматривался народный артист Петр Глебов, исполнитель роли Мелихова в «Тихом Доне», надеясь все-таки отыскать для себя свободное местечко. Наконец, поняв бессмысленность такого поиска, он просто вытащил одну бумажку из-за спинки и опустился в кресло рядом со мною. Через пару минут подошли, чуть пошатываясь, два парня с пивом в руках, невесть как оказавшиеся в этих стенах.
– Алло, дядя… это наши места… – медальный профиль актера не показался им знакомым. – Мы занимали… вот тут бумажка торчала…
Глебов посмотрел на них и сказал только одну запомнившуюся мне фразу:
– Молодые люди… я в своем доме и в своем праве…
Как когда-то меня отец, я водил в Дом кино Андрея на детские утренники и Новогодние елки. В ресторан Союза кинематографистов, примыкающий к Дому, мы поднимались обедать и праздновать юбилеи. Скромный календарик с ежемесячной программой Дома, рассылаемый по почте, еще остается единственной нитью, объединяющей давно разругавшихся между собой столичных кинематографистов.
Всему этому скоро, видимо, придет конец. Команда, вроде известного жуликоватого кинодеятеля, которого Эльдар Александрович Рязанов именует «Лаврентием Павловичем», обслуживающая нынешнего руководителя Союза кинематографистов, задумала полностью сравнять с землей Дом, нуждающийся лишь в текущем ремонте. На его жутко дорогом месте в центре столицы бизнесмены от кино намерены за непонятно откуда взявшиеся валютные миллионы воздвигнуть небоскреб с подземными стоянками, площадями под элитные бутики и офисами, которые можно будет сдавать в аренду. Говорят, что в этом очень большом Доме найдется несколько помещений и для кинематографистов. А действительно – почему бы и нет?..
В стране понемногу происходили изменения. В мае 1988 года был принят Закон о кооперации, формально позволивший частным лицам заниматься тем, о чем недавно еще нельзя было и помыслить. С множеством жестких оговорок была позволена – в кооперации с госиздательствами – деятельность по изданию и реализации печатной продукции. Менджерицкий пригласил меня в недавно созданный им кооператив «Экран», арендующий офис в Киноцентре у метро «Краснопресненская». Из многих направлений деятельности наиболее прибыльными оказались выпуск фильмов на видеокассетах и издание книг. Изголодавшийся за время неповоротливой советской власти российский рынок в одночасье сметал все, что выпускалось, – от наборов цветных календариков с портретами известных актеров до громадных тиражей нашумевших книг.
Мне удалось – достаточно непросто – договориться с государственным издательством «Прогресс», впервые получившим права на книгу Марины Влади о Высоцком, о совместном издании дополнительных тиражей. Участие издательства сводилось к передаче нам готового макета, уже однажды выпущенной им книги, со ссылкой на владение авторскими правами на нее, а процесс выпуска и реализации дополнительного тиража уже полностью лежал на кооперативе, за что правообладатель получал свой немалый процент. Учитывая невероятный спрос, предприятие это оказалось чрезвычайно взаимовыгодным – речь шла о реализации сотен тысяч книг. Деньги это приносило громадные. Правда, когда в результате выяснилось, что за полученный «Экраном» очень солидный доход я буду вознагражден лишь премией в размере 50 % своего – правда, приличного – оклада, мой энтузиазм несколько поутих. Я как-то попробовал поговорить об этом с Иваном, мы ехали с ним в его тяжеловесной «Волге», и он с понятной при его весе отдышкой крутил упрямый руль без гидроусилителя. Он сказал мне тогда одну совсем простую вещь, которая запомнилась:
– Перестаньте, Саша, неужели вы всерьез полагаете, что в этом мире существует справедливость?
Менджерицкий был одним из первых киношников, пересевших в Москве в те годы на неновый, но «Мерседес», больше уже соответствующий его человеческим габаритам. Он начал готовить почву для переезда из России задолго до многих. В Штатах потом у него был свой русскоязычный телерадиоканал, на котором он сам вел довольно популярные программы. Пару лет тому назад я получил бандероль из Америки – в ней оказался толстый роман «Осенью в Марин парке» с приятным посвящением. Хорошая добротная проза.
А в те времена – то ли для того, чтобы сделать «финансовую приятность» мне, то ли искренне желая помочь хорошим людям – скорее всего, и то и другое – он рекомендовал меня как классного бизнесмена по совместительству в еще один недавно организованный кооператив, возглавляемый Галиной Данелия, женой Георгия Николаевича.
…Мы сидели в большой, завешанной картинами квартире Данелия в центре Москвы на Патриарших прудах, и Галина Ивановна жаловалось мне, что у них «что-то не пошло». Некоторый доход приносила оборудованная по последнему слову техники звукозаписывающая студия, расположенная в одном из Дворцов культуры на Разгуляе, но и тут возникали трения с владельцами помещения. Это было особенно обидно, потому что состав кооператива подобрался действительно убедительный – кроме Данелия, входил в него, например, Макс Дунаевский, у которого хватало источников существования и без кооператива. По-моему, Максим вообще ввязался в это дел о просто из-за врожденного любопытства ко всему новому – будь то очередная жена или способ зарабатывания денег. Мало кому тогда известный Аркадий Укупник, приезжавший на разболтанной «девятке» с дежурным рассказом о полученном им комплименте за очередное сочинение от Аллы Борисовны, все время настаивал на роспуске кооператива и возвращении каждому его вступительного взноса. В целом, каждый жил своей напряженной творческой жизнью и, пожалуй, кроме самой Данелия, особенно и не был заинтересован в совместных доходах. Да и для Галины Ивановны наладить работу было, конечно, скорее делом принципа, чем жизненной необходимостью. Единственно, чего хотели все – это сохранить звукозаписывающую студию, на что нужны были средства.
Проболтавшись там с полгода и запустив издательский проект, который обещал принести солидные дивиденды, я постепенно тоже отошел от дел.
К тому времени мне удалось организовать собственное издательское объединение «Глобус», которое с первых дней требовало немалого внимания.
Наработанные за время сотрудничества с «Экраном» опыт и связи («нет в мире справедливости…») я полностью переключил на собственное издательство, где стал одновременно гендиректором и главным редактором. Профессионалу сегодня надо сделать над собой большое усилие, чтобы поверить в реальность цифр тиражей книг, которые мы выпускали. «Владимир или прерванный полет» Марины Влади вышла несколькими заводами, каждый из которых был минимум 100 000 экземпляров. Причем марка «Глобуса» красовалась на этих книжка первой, над логотипом правообладателя госиздательства «Прогресс». Большинство романов Артура Хейли выходили тиражами по 500 000 экземпляров и больше. Напечатанные найденными мною партнерами из Петрозаводска, отвечающими за техническую сторону издания, на недорогой бумаге, профессионально иллюстрированные, иногда в новых переводах, эти книги расходились по большой стране и расхватывались в считанные недели. Мне удалось договориться с центральной книжной базой, расположенной на окраине столицы, о покупке книг оптом с последующей их реализацией. Тяжелые грузовики с тиражами, которые я сам встречал в Москве, шли прямиком из Карелии на склады базы. Оставалось только проследить за разгрузкой, подписать необходимые акты и уболтать местную главбухшу через недорогой сувенир на внеочередной солидный перевод на наш счет. Список названий разрастался, что-то по согласованию и настоятельной просьбе могли реализовывать у себя на местах сами изготовители тиража. Тогда взаиморасчеты велись наличными. Как-то созвонившись, ко мне домой приехали трое партнеров из Карелии – как выяснилось, двое просто охраняли в пути одного, с дипломатом, набитым деньгами. Они оставили тогда 180 тысяч рублей – при том, что автомобиль «Жигули» в то время стоил тысяч восемь, – и очень удивлялись при этом моему абсолютному спокойствию.
Конечно, теперь я и сам поражаюсь своему врожденному идиотизму, заставлявшему меня в те времена почти полного безвластия почти все заработанное честно отражать в бумагах и платить с этого налоги. Прозорливые люди, понимая, в отличие от меня, что все это пиршество бизнеса в нашей стране очень скоро закончится, правдами и неправдами, скрывая от налогов, меняли заработанные рубли на валюту или вкладывали в начинающую появляться на рынке недвижимость. Мне же почему-то казалось, что все это продлится достаточно долго и не стоит рисковать, нарушая тогда еще сравнительно либеральное налоговое законодательство. Кроме того, мне просто нравился сам процесс реализации открывшихся возможностей. Например, мы с моим другом и партнером из Риги Игорем Голянским, прилично заработав на литературном ширпотребе, выпустили для души тиражом в пятьдесят тысяч экземпляров маленький томик Игоря Северянина – частично в вишневом сафьяне и натуральной кожаной обложке ручной работы. Вступительную статью написала получившая за несколько лет до этого диплом филолога Валентина. Книжка эта, о которой упоминает Википедия, очень быстро стала продаваться спекулянтами под книжными магазинами по удесятеренной цене и оказалась библиографической редкостью.
Читая тогда любимый мною «Огонек», я случайно наткнулся на информацию о старте программы в поддержку французской литературы «Пушкин», объявленной Посольством Франции в Москве. Посольство, а точнее МИД Франции предлагал финансировать издания книг французских авторов на русском языке. За перевод и издание произведений из рекомендуемого списка Посольство обещало выплаты в размере 50 000 франков, что по тогдашнему курсу составляло десять тысяч долларов. После нескольких настойчивых попыток мне удалось добиться включения «Глобуса» в эту программу.
Заведовал ею хрупкий юноша по имени Пьер Тороманофф, выходивший встречать меня каждый раз к дежурному офицеру, сидящему на внутренней проходной за бронированным стеклом. В его присутствии надо было обменять в окошке удостоверяющий личность документ на нагрудную карточку гостя, после чего можно было попасть к нему в заваленный книгами и бумагами кабинет на первом этаже. Любое передвижение внутри Посольства было возможно только в сопровождении принимающего гостя сотрудника.
Мы договорились. Я выбрал из списка роман «Пустыня» Леклезио. Надо сказать, что не ошибся, – спустя десять лет этот малочитаемый у нас писатель стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Мы подписали договор, мне понадобилось совсем немного времени, чтобы уладить вопрос с переводчицей, однажды уже, как выяснилось, переводившей эту книгу, и найти партнеров, располагавших запасами бумаги и типографией. На этот раз ими стали знакомые из милицейского альманаха «Преступление и наказание», которым я пообещал выкуп всего тиража.
Пьер, отправляясь на родину в отпуск, оставил мне свои парижские телефоны, поскольку как раз в этот период я тоже планировал быть во французской столице, но наша встреча там так и не состоялась. Зато вернувшись в Москву, я получил официальное приглашение в Посольство на прием в связи с приездом в СССР Президента Французской республики.
Меня всегда поражал витиеватым фасадом особнячок на улице Димитрова, к которой теперь вернулось прежнее название Якиманка, известный как особняк купца Игумнова. Расположенный прямо напротив церкви, домик этот в псевдорусском стиле с дутыми колоннами и маленькими арками всегда при проезде мимо вызывал желание заглянуть внутрь и полюбопытствовать, что же там осталось от прошлого. Теперь такая возможность представилась – прием был назначен как раз тут, в резиденции Посла. По этому случаю, мы поехали в ГУМ и купили мне роскошный темный костюм, без которого я все это время ухитрялся запросто обходиться.
К назначенному времени выстроилась небольшая очередь, тяжелые двери открылись и, проверяя приглашения, людей начали запускать внутрь. Освободившихся на первом этаже от верхней одежды, приглашали подняться наверх по широкой мраморной лестнице.
В сравнительно небольшом зале, служившем когда-то гостиной, мебели было немного, по стенам висели старинные гобелены, а высокие окна прикрывали собранные внизу лентой гардины, оставляя возможность с улицы разглядеть лишь часть подоконника. Можно было подойти ближе и рассмотреть хорошо заметные снизу старинные часы перед центральным окном, много лет попадавшиеся мне на глаза при проезде мимо. На украшенном лепниной потолке висела огромная хрустальная люстра. Подали напитки, ожидание затягивалось.
Наконец, народ потянулся к окнам. И без того пустая улица внизу стала совсем вымершей. Из центра, со стороны Кремля, сопровождаемый милицейскими машинами с мигалками на высокой скорости подъехал кортеж черных машин, и, притормозив, автомобили сходу стали разворачиваться прямо через сплошную линию. Из правительственного «ЗИЛа», украшенного флагами СССР и Франции, вышел, запахивая пальто, высокий человек без головного убора и вошел в подъезд особняка. Через минуту уже без пальто, окруженный небольшой толпой, очень медленно, с остановками, он уже поднимался по широкой лестнице сюда, в зал. Последовала небольшая суета, всегда предшествующая официальным представлениям, и все приглашенные выстроились в круг.
– Еще один наш русский издатель, господин Александр Анненский. – суетившийся вокруг высокого гостя Тороманофф представил меня. Франсуа Миттеран протянул мне руку. Матово-желтая кожа, обтягивающая его лицо, была похожа по цвету на биллиардный шар из благородной слоновой кости. Видно было, что этот человек давно и серьезно болен.
– Господин Президент… – я поклонился, пожимая холодную руку.
Когда весь стотысячный тираж книжки Леклезио был напечатан, я, захватив положенные по договору экземпляры, приехал в Посольство получать основную сумму. Пьер провел меня на второй этаж в бухгалтерию Посольства и внимательно наблюдал, как мне отсчитывают деньги солидными пятисотфранковыми купюрами. Я расписался в получении.
– Смотрите, не пропейте их, Александр! – сказал он, видя как я укладываю все деньги в конверт, чтобы спрятать их во внутренний карман. Восприняв это как не слишком остроумную шутку, я только улыбнулся.
– Да уж постараюсь, Пьер.
Когда мы прощались уже у его кабинета он, глядя мне в глаза, повторил еще раз:
– Так смотрите же, поосторожнее, с этими деньгами…
Но я и тут ничего не понял. Контракт был выполнен полностью и в срок, и я полагал, что все в порядке. Мне, наивному, и в голову не могло тогда придти, что сотрудник Отдела культуры Посольства Франции, как какой-нибудь мелкий российский клерк, прозрачно напоминает мне о необходимости поделиться.
Только, когда спустя некоторое время мсье Тороманофф закончил свою службу в Москве, и на его место прибыл схожий юноша тоже с забытой уже мною полурусской фамилией, с которым мне в течение нескольких месяцев все никак не удавалось договориться по телефону о встрече, я начал что-то соображать. По всей вероятности, предшественник не поленился предупредить преемника, что сотрудничество с таким издателем, как я, в личном плане экономически не оправдывается…
90-е годы, Западная Европа
Паркотель Zonneland располагался около голландского городка Роозендааль и имел классный слоган – «дом вдали от дома». Одноэтажное строение с красивой верандой, выходящей к пруду, находилось на территории большого парка, включающего в себя территорию для игры в пейнтбол и даже небольшой загон для мирно пасущихся домашних животных, которых можно было покормить и потрогать. Фирменным знаком этой семейной гостиницы были разгуливающие по асфальтированным аллейкам пара-тройка павлинов. Иногда гостям отеля удавалось уговорить кого-нибудь из них распушить на пару минут хвостик, и тогда двухметровый веер из переливающихся разноцветных перьев вызывал в каждом, кто это видел, всплеск восторга. Правда, у этих птичек был и недостаток, – иногда по ночам им, очевидно, снилась родина, и они от тоски начинали орать совершенно жуткими голосами, пугая постояльцев.
Но все же основным преимуществом этого небольшого отеля было само место его нахождения – в нескольких сотнях метров от голландской госграницы, на стыке нескольких крупных европейских автомагистралей. Таким образом, существовала уникальная возможность при желании посетить по меньшей мере три страны Бенилюкса, каждый раз возвращаясь на ночь в свою гостиницу. Эта фишка и стала основой туристической программы, разработанной для своих vip-клиентов одним из московских туристических бюро.
То, что сидеть без какого-либо определенного дела, будет мне довольно тягостно, выяснилось быстро. Любой отдых доставляет удовольствие лишь в том случае, если следует за периодом интенсивной работы или ему предшествует. То, что для многих казалось целью, осуществившейся мечтой, у меня, как выяснилось, вызывало лишь растущее раздражение. Здесь, на юге Баварии, в очень красивом университетском городке на Майне со 150 тысячами жителей, живя в хорошей трехкомнатной квартире в зеленом квартале и автомобилем представительского класса в гараже, в принципе можно было бы, вероятно, расслабиться и не делать ничего, ревностно отстаивая это свое право от любых на него покушений. Тем более что все эти радости фактически были гарантированы тут пожизненно. Чего дергаться, выбор сделан, жизнь удалась…
Именно так и поступало большинство перебравшихся сюда соотечественников. То обстоятельство, что они по разным причинам – главным образом из-за незнания языка и, что важнее, в силу собственного менталитета – никогда уже не будут тут профессионально востребованы, почему-то лишь укрепляло их в сделанном выборе. Жизненные интересы быстро сводились к стремлению собрать полную фильмотеку советских кинокомедий или к еженедельным коллективным пивным загулам с воспоминаниями о прошлом. Всегда приятно иметь возможность что-то сделать, еще приятнее иметь возможность не делать ничего – своеобразная, но, оказывается, широко распространенная логика. Не моя, однако…
«Не льстите себе – подойдите ближе…» – перевел я однажды надпись в общественном сортире в одной из европейских столиц. Может, если уж быть до конца честным, разница была в «обретенных приобретениях» – я лично, в отличие от абсолютного большинства переехавших на Запад, не получил ничего такого, чего бы уже не имел или сегодня не мог иметь дома. Разве что не столь уж важный теперь второй паспорт. А утратил вместе с психологически важным статусом, свое дело, неотделимое не просто от родного языка, но и места в профессиональном круге.
Совершенная мною ошибка со временем представлялась все более очевидной. И чем дальше, тем сильнее мучил драматизм ситуации, порожденный сознательным «обрубанием концов». Когда я делал это, нервно избавляясь, скажем, от прекрасной московской квартиры и дорогих сердцу вещей, которые было невозможно захватить с собою, мне казалось, что таким образом я обеспечиваю некую однозначность ситуации, лишая самого себя возможности отступления. Я не учел только одного – своего характера…
Сделав кое-какие телодвижения и получив в качестве первой реакции телефонный звонок из Москвы с предложением заняться для начала сопровождением небольших туристических групп по Западной Европе, я был искренне рад и такой востребованности…
Мы договорились о следующем порядке сотрудничества. Еще из Германии я бронирую по своей кредитной карте в конкретном аэропорту комфортабельный микроавтобус или хороший легковой автомобиль – в зависимости от числа прилетающих клиентов. Затем, к обусловленному времени приезжаю на поезде в Амстердам, Брюссель или какой-либо иной европейский город, где встречаю прилетевшую группу или семью, и затем, выполняя одновременно обязанности водителя и гида, показываю людям то, что они хотели. Бюро бронирует для меня отель с завтраком и ужином, возмещает все текущие расходы. Хотя работа эта оказалась физически не очень легкой и требовала серьезной информационной подготовки, гонорар за каждые сутки составлял сто долларов, что в то время казалось суммой, в общем, компенсирующей затраченные усилия. По крайней мере, я на какое-то время был «при деле».
Если речь шла о путешествии по Бенилюксу, то, разместившись в Zonneland, после встречного коктейля мы с гостями планировали предстоящую неделю. Когда у приехавших хватало еще сил после дороги, мы ехали в близлежащий городок Роозендааль, гуляли по его улочкам, знакомясь с жизнью провинциальной Голландии. На следующее утро, пораньше мы выезжали в любимый мною Амстердам; я рассказывал о городе, потом, оставив машину на стоянке в самом центре, вел народ в музей мадам Тюссо. Мы плавали по воде на катерах с панорамным остеклением, позволяющим увидеть снизу узкие улочки непохожего не на один другой города велосипедов, заглядывали в квартал Красных Фонарей, по желанию, можно было посетить музей секса неподалеку от главного вокзала. К ужину «усталые, но довольные» все возвращались в свой отель. Следующий день был посвящен путешествию в Роттердам, знакомству с городом-портом, посещению торгового центра плюс несколько часов отдыха в местном центре водных развлечений «Тропикана». Доходила очередь и до голландской столицы Гааги, где мы заглядывали в Королевскую картинную галерею, любовались дворцом Королевы.
В середине недели, выезжая из нашего отеля, мы поворачивали уже в другую сторону и ехали в Бельгию, в Брюссель. Еще при въезде в «столицу Европы», я обращал внимание всех на так хорошо знакомую по телерепортажам железную скульптуру за невысоким забором Штаб-квартиры НАТО, посмотрев город, мы добирались на окраину в знаменитый парк рядом с Атомиумом «Европа в миниатюре», всегда вызывающий море эмоций. В Антверпене заходили в дом-музей Рубенса; в Брюгге, катаясь на лодках по средневековым каналам, лакомились знаменитыми бельгийским сладостями. Наконец, в предпоследний день мы совершали самый дальний марш-бросок – ехали в государство Люксембург. Еще сутки после возвращения оставались гостям на свободное время и я, доставив их потом из отеля обратно в аэропорт и сдав прокатный автомобиль, с чувством выполненного долга возвращался на скоростном экспрессе в свою Баварию.
Людям, очевидно, нравились мои рассказы о городах и местах, где мы бывали. Я говорил о том, на что не всегда успевает обратить внимание просто турист – например, о принципиальной разнице в менталитете, скажем, немцев и голландцев. Если первые непременно каждый вечер опускают жалюзи на окнах, стараясь оградить свой маленький мир от чужих, то в Голландии, напротив, устраиваясь где-нибудь в гостиной перед телевизором, жалюзи поднимают, и иногда трудно отличить, таким образом, первый этаж частного семейного дома от холла уютного отеля. Надо сказать, что тогда большое впечатление на еще не избалованных российских туристов производила сама открытость Западной Европы, позволяющая, даже не замечая того, переезжать из одной страны в другую. Сидя за рулем, я обращал внимание, что европейцы давно уже не говорят – еду в Италию или Швецию, а замечают лишь – еду в Рим или Стокгольм, и предлагал иногда заключить пари на бутылку вина за ужином на то, что кто-то из туристов сможет точно определить момент пересечения госграницы. После этого оставалось только, возвращаясь в отель, выбирать не магистральную дорогу, где сохранились неиспользуемые уже рудименты, вроде заброшенного здания таможни, табличек или недействующих шлагбаумов, а обычное шоссе, и выигрыш был обеспечен. Моя подсказка, что, к примеру, возвращаясь из Бельгии легко определить, что ты уже на голландской территории, просто вглядываясь в морды попадающихся на обочине ухоженных коров – как только придет осознание, что они начинают выглядеть явно симпатичнее встреченных на улицах женщин – значит, граница позади, – помогала не всегда.
Турбюро, с которым я сотрудничал, было, как я понял, дочерней фирмой московского «Элком-банка», и потому приезжавшие люди, так или иначе, оказывались связаны некими взаимоотношениями с этим банком. Попадались клиенты, из разговора с которыми можно было понять, что путешествие это не стоило им ни гроша и стало своеобразной благодарностью коммерческого учреждения, – вероятно, вместо банального денежного подношения.
Однажды меня попросили провести на легковом автомобиле программу по Европе для двух дам. Как оказалось, одна из них была действующей мэршей крупного подмосковного города, кажется, Долгопрудного, а вторая – ее личной помощницей. Причем для первой, чью шею наискось разделял глубокий свежий шрам, поездка эта, по-видимому, была формой некой реабилитации от банка после перенесенного ею покушения.
С первых минут встречи в аэропорту дама эта попыталась вести себя со мною так, как будто я был приставлен к ней личным шофером, которому надлежало беспрекословно исполнять любой каприз властной хозяйки. Поначалу это меня веселило, но уже к концу первого дня стало надоедать. Не желая подводить своих московских работодателей, я, тем не менее, внятно объяснил гостье, что если она немедленно не сменит тон и не воспримет ситуацию адекватно, то дальше ей придется путешествовать самостоятельно, лишь в обществе своей подруги.
Баба оказалась неглупой и достаточно сообразительной. К вечеру, открывая вторую бутылку купленного на экскурсии в городе виски, она вела себя уже вполне нормально и без подробностей жаловалась мне, как трудно жить в наше время, будучи хозяйкой города, в ладах со всеми. Существуют интересы сторон примирить которые невозможно и, сделав любой выбор, волей неволей оказываешься в зоне серьезного риска. А у нее, между прочим, взрослая дочь… Помощница согласно кивала в такт словам начальницы, успевая при этом наполнить бокалы.
– Понимаешь, Саш, мы хотели тут хоть немного забыть все… расслабиться… Как это поется – «приют эмигрантов – веселый Париж.» Да, кстати, а мы в Париж когда едем? Что значит – не Бенилюкс?
– Ну, это Франция… Ее, к сожалению, нет в программе… Дамы переглянулись.
– Значит так, Саш. слушай сюда… Утречком позвони в Москву, в это ихнее турбюро… скажи, что мы едем в Париж. пусть делают, что надо. Скажи, что я так хочу…
– Да без проблем… позвоню… – кивнул я.
– Ну вот и умница. Ты меня извини, что я так поначалу. А теперь все. все спим. Иди. и ты тоже, – она показала рукой подруге. – Спим… Но только до утра.
У дверей своего номера помощница задержалась.
– Понимаете, Александр. она хорошая… очень. А они ее чуть не убили. Вы на нее не обижайтесь.
– Я не обижаюсь уже…
– Знаете. – она, потягиваясь, прижалась к косяку двери всем телом. – После всего, что там, дома. так хочется расслабиться.
Но это был совсем не мой вариант. В пакет компенсаций я не входил. И заставить себя не мог. Чего ради?..
– Спокойной ночи.
– Да. Спокойной ночи. – она, видимо, смотрела мне вслед, пока я не вошел в свою комнату и нарочито громко не провернул ключ в замке.
Утром я передал желание гостьи в Москву. Через день к вечеру какой-то здоровенный русский бугай на дорогой машине с желтым голландским номером привез мне в отель пачку денег. Из турбюро позвонили и сообщили, что номера в Hilton, неподалеку от Башни, для нас заказаны. Мне оставалось поехать на вокзал Роозендааля и купить три билета первого класса до французской столицы.
Меньше всего моих девушек заинтересовал Лувр, куда мне все же удалось их затащить. На скамеечке в чудесном парке Тюильри мне пришлось их ждать совсем недолго.
Обратно в Голландию мы возвращались в первом классе французского скоростного экспресса TGV, и, когда официант принес обед, сервированный как в самолете, на запечатанных подносиках, мы долго пытались определить назначение пластмассовой конструкции, напоминающей перевернутую вверх дном мензурку. На мой вопрос по-английски официант что-то буркнул, ничем не прояснив ситуацию. Я спросил еще раз, и тогда он, оставив тележку с остальными обедами, молча, распаковал один поднос на откидном столике, достал оттуда мензурку, соединил нижнюю и верхнюю часть в подобие одноразового бокала и откупорил вино. Было очевидно, что по его мнению, не справиться с такой ерундой мог только иностранец.
Мы с девушками переглянулись. По – моему, им страшно понравилось, что я тоже могу в этой треклятой Европе чего-то не знать. Свои рюмки они уже собирали самостоятельно, а мэрша даже успокаивающе похлопала меня по руке.
На рейс Аэрофлота в Амстердаме на следующий день мы опоздали из-за страшных пробок на автобане. Я договорился, что на Москву их отправят следующим рейсом KLM через полтора часа. Мэрша злилась.
Попрощались мы неожиданно холодно. Было похоже, что проведенный короткий отпуск уже остался для нее далеко в прошлом, и сейчас надо было готовиться к тому, что ждало ее дома. Глаза ее стали совсем холодными, худое лицо осунулось и посерело. Пожав мне руку, она взглядом остановила полезшую было ко мне целоваться помощницу, и они, толкая тележки, пошли к стойке регистрации, даже не оглянувшись.
Спустя какое-то время на мой вопрос в московском турбюро мне сказали, что по возвращении она пыталась уйти в отставку с поста мэра, и ее убили.
…С течением времени мне надоело мотаться за рулем по дорогам Европы, я задумался над другими вариантами применения своих сил и неожиданно обнаружил их в том же туризме. Дело в том, что ставший в это время министром иностранных дел ФРГ Йошка Фишер, принимавший участие в молодости в левых экстремистских движениях, как раз переналаживал работу немецкого МИДа на новый лад. Искали варианты облегчения процесса выдачи виз гражданам из Восточной Европы, главным образом, украинцам. Нашелся один немецкий предприниматель из страхового бизнеса, который, слетав в Киев, убедил сначала Посольство, а потом и руководство МИДа, что таким вариантом может стать специально придуманный страховой полис «Райзешуцпасс», формально гарантирующий возмещение расходов по депортации иностранца, нарушившего правила пребывания в стране. Каким образом ему удалось добиться включения упоминания именно этого документа в официальную посольскую инструкцию об оформлении украинцам въездных виз – покрыто мраком и сегодня, хотя и известно, что спустя несколько лет ряд немецких сотрудников в Киеве и работников центрального аппарата МИДа были привлечены к уголовной ответственности. Речь, очевидно, должна была идти об очень больших суммах, если эти люди пошли на такое. Как потом выяснилось, рекомендация именно этих документов именного этого страховщика была утверждена специальным приказом Статс-секретаря МИД ФРГ.
Разумеется, никаких подробностей тогда никто не знал, а просто вся туриндустрия Украины вдруг бросилась искать партнеров в Германии, через которых только и можно было приобрести этот документ, кроме печати эмитента, скрепленный и штампом немецкого турбюро. Оставалось только закупать бланки таких турваучеров у страховщика, заверять их штампом и, приложив подтверждение брони из отеля, переправлять – автобусом или скоростной почтой – на Украину, где на их основании посольство без затруднений выдавало визу практически каждому, кто об этом просил. Открылась совершенно новая финансовая ниша и ее стоило использовать.
Со стороны немецкого туристического бюро все происходило абсолютно в рамках существующих законов и в полном соответствии с инструкциями МИДа страны. Разница в стоимости документа, по которой он приобретался у страховщика, и той, по которой он после оформления бронирования и расходов на пересылку, уходил на Украину, составляла 15–20 евро на каждый ваучер Поскольку речь шла о практически неограниченном числе «пассов», за которые были готовы платить контрагенты в Киеве, в целом, это выливалось в очень солидные суммы, и практически все русскоязычные турконторы занялись этим бизнесом.
Я отыскал в своем городе соотечественницу Наталью, владевшую зарегистрированным, но не функционирующим турбюро, и мы развернули эту работу, поделив обязанности. На мою долю приходился процесс приобретения «райзещуцпассов» у страховщика, находящегося от нас в паре сотен километров, проставлении на них соответствующего штампа, бронирования отелей для групп и отправки заказчику документов в обмен на присланную предоплату, она же оформляла все нужные письма и вела отчетность. Сказать, что прибыль в 15 % оказалась немалой, было бы проявлением большой скромности…
Снова у меня появилась свобода выбора, обеспечиваемая серьезным финансовым источником, и снова я не пожелал всерьез подумать о завтрашнем дне. Деньги уходили так же легко, как появлялись. Мы купили еще две машины – «БМВ» Андрею и «Форд-Фиесту» для Валентины. Андрей съездил на Мальту и в Египет с оплатой расходов и тогдашней своей подруги. И при этом счет не иссякал. Памятуя, что любой бизнес нуждается в диверсификации, мне пришла идея об открытии своего ресторана.
До того я как-то упустил мысль Довлатова о том, что каждый русский, оказавшись на Западе, мечтает открыть либо газету, либо ресторан, и что из этого, как правило, мало что получается. Исходил я из простого соображения, что вести его будет Валентина, имеющая полученное до филфака специальное образование в области гастрономии и уникальный опыт организации ресторанного обслуживания на высшем международном уровне – для гостей «Горького». А мы с Андреем будем ей просто помогать.
В реальности все оказалось совсем не просто. Прежде всего предстояло найти сам объект – ресторан, оборудованный соответствующим образом, который его владелец – фирма или частное лицо – был бы готов отдать в аренду. При этом следовало учитывать множество нюансов – от перспективности его места расположения до суммы ежемесячной аренды. Что-то не устраивало нас, что-то – немцев, в большинстве своем не горящих особенным желанием передавать дело в руки приехавших к ним иностранцев. Наконец, случайно мы отыскали небольшой ресторан с верандой, называющийся «Zur Alten Fahre» (У старого парома) и расположенный на первом этаже большого частного дома в курортном местечке, километрах в десяти от нашего города. Однако у нас тут же нашлись конкуренты и хозяину, крепкому еще пенсионеру из коренных баварцев с женой и многочисленной родней, предстояло сделать свой выбор. Когда-то, будучи помоложе, они сами вели свое заведение, потом передали в аренду, и опыт оказался не слишком удачным. Теперь для них было очень важным не ошибиться еще раз. Российское происхождение потенциальной хозяйки вряд ли в этой ситуации представлялось им плюсом.
В этой ситуации пришлось мне вспомнить об основной своей профессии и написать им письмо:
«Дорогая фрау…..
Дорогой господин…..
Наши беседы с Вами убедили нас в том, что Вы глубоко и искренне переживаете за дальнейшую судьбу принадлежащего Вам ресторана. Как блестяще разбирающиеся в гастрономии люди, Вы обоснованно хотите, чтобы он вновь возродился и стал не менее популярным, чем в то время, когда его вели Вы.
Поверьте, что наши желания в этом полностью совпадают.
Мы были бы счастливы получить возможность приложить все возможные усилия для того, чтобы сделать это. Наш опыт и знания в этой области, основанные на многолетнем стаже работы – мы уверены – позволят это осуществить. Уже сегодня у нас есть много планов в этой области. Думаем, что и Ваши советы были бы всегда нам крайне полезны.
Кроме того, полностью принимая названные Вами условия договора, включая сумму кауциона (залога) в 10 000 евро, мы намерены дополнительно сделать значительные инвестиции в развитие ресторана, обновить интерьер, посуду, приобрести дополнительную дорогостоящую кухонною технику.
Поверьте, что при этом мы – как и всю нашу предшествующую деловую жизнь – будем всегда крайне пунктуальны в выполнении всех своих обязательств перед Вами.
Мы уверены, что сумеем вдохнуть в Ваш ресторан новую жизнь.
Мы были бы Вам очень благодарны, если бы Вы сочли возможным оказать нам доверие и позволили бы сделать это.
С искренним уважением
и надеждой на многолетнее сотрудничество
Семья…»
По видимому, слегка потрясенный моими литературными изысками, старик уже через сутки позвонил Валентине и подтвердил свое согласие на передачу своего любимого детища в ее руки. Но количество проблем только нарастало…
Не вдаваясь в подробности, скажу, что спустя семь-восемь месяцев после открытия, мы, выплачивая очень значительную аренду и зарплату второму уже немцу-повару, сменившему первого, оказавшегося мерзавцем, мы едва сводили концы с концами. К тому же наступила зима, навигация по Майну закрылась, поток туристов с теплоходов, приплывавших сюда полюбоваться парками и замком, иссяк. Появившиеся же немногочисленные постоянные клиенты из местных, к сожалению, погоды не делали. Многие платежи приходилось проводить не из прибыли, а из личных средств, которые быстро таяли.
В стране между тем менялась политическая обстановка, и приобретающая все больший вес оппозиция одним из главных объектов своей критики выбрала МИД и его министра Фишера, припоминая все особенности его биографии. Туристический поток из Украины волевым решением был резко остановлен, потому что выяснилось, что часть из въехавших по «райзешуцпассам» не торопилась покидать европейское пространство, а ехали из Германии дальше – в Испанию, Португалию, где было легче найти заработок «по черному». В одночасье уже оплаченные «пассы» стали никому ненужными бумажками, которые жуликоватый страховщик тут же объявил не подлежащими возврату. Формально на него завели дело, впоследствии мягко спущенное на тормозах, а виновными во всем посчитали немецкие русскоязычные турфирмы, которые, по логике расследования, обязаны были сами сообразить, что рекомендуемые государством в лице МИДа страны «райзещуцпассы» – фикция. Они, мол, раскупались в таком количестве неимущими украинцами вовсе не для турпоездок, а потому, что те изначально планировали, получив на их основании визы, стать шварцарбайтерами где-нибудь в Южной Европе.
Не решаясь поначалу впрямую обвинить своих уже отозванных из киевского посольства сотрудников в коррупции, делающий карьеру молодой прокурор, в юрисдикции которого оказалась открывшаяся проблема, решил поискать козлов отпущения среди владельцев русскоязычных турфирм. Была дана команда полиции в нескольких городах, установившей негласное наблюдение за наиболее крупными из них.
В Кельне вскоре прошел процесс над руководителем турбюро, оформлявшем рекомендованные немецкими дипломатами «райзешуцпассы» для украинцев в особенно больших объемах. Логичная ссылка, что турбюро лишь способствовало продвижению официально утвержденного правительством страны документа, как ни парадоксально, не помогла – человеку показательно дали четыре года!
Однажды, когда ресторан уже закрывался, а Валентина уехала домой, на пороге появились двое мужчин в гражданском – из местной уголовной полиции. Вежливо представившись, они попросили разрешения осмотреть служебные помещения, а затем один пригласил меня проехать вместе с ним для беседы. Домашний телефон не отвечал – дома уже шел обыск, и Валентине запретили снимать трубку.
Мы поехали вместе на моем автомобиле, и я оставил его на площадке перед городским полицейским управлением. Меня провели в кабинет и объяснили суть претензий – речь, по словам комиссара, шла ни много ни мало о «преступном содействии незаконному проникновению в страну». Кстати, я почти не понимал баварский диалект, на котором он со мною говорил. День уже заканчивался, и комиссар, созвонившись с коллегами, досматривающими квартиру, с удовлетворением объявил, что им удалось найти штампы турбюро и несколько дебетовых карточек украинских банков, с помощью которых официально рассчитывались с нами украинские партнеры. Все это, по его словам, надлежало тщательно проверить, а потому мне придется задержаться у них, по меньшей мере, до утра.
Что испытывает человек, не ощущающий за собою никакой вины, которому впервые в жизни объявляют, что ему предстоит провести ночь в тюрьме? Ну, не в тюрьме – до сих пор не знаю, как у немцев называется наша КПЗ – какая разница… Нахлынувшие отечественные аналогии невольно вызвали шок, но спорить, как я понял, было бессмысленно.
Меня пригласили (не повели…) в другую комнату, где стояла камера, соединенная с компьютером. Сделали стандартные снимки на фоне специальной таблицы, попросили оставить ключи, мобильный телефон, портмоне, часы, которые уложили в прозрачный пакет и опечатали. Отсканировали отпечатки пальцев на специальном сканере. Все вопросы задавались с предельной вежливостью. С сотрудником мы пошли по длинному коридору, он заглянув в комнату, где сидели несколько человек перед мониторами, что-то сказал обо мне.
– Вы будете ужинать? – спросила меня девушка в форменном свитере с тяжелой кобурой на боку.
– Простите? – не понял я.
– Сейчас уже вечер, вы пробудете тут до завтрашнего утра. Хотите ли вы ужинать? – повторила она на вполне доступном немецком.
Я только нервно помотал головой.
– Тогда вас проводят. По дороге, если хотите, можете посетить наш мужской туалет. До свидания.
Она протянула моему сопровождающему ключ. Мы спустились по лестнице на этаж, и он открыл одну из дверей.
– Заходите сюда…
Помещение представляло собой довольно большую комнату-камеру, разделенную толстой решеткой на две части. В первой части был умывальник и что-то вроде вешалки, во второй, уже за решетчатой дверью сбоку, находился выкрашенный в коричневый цвет деревянный настил на уровне коленей, на котором лежало старое солдатское одеяло. Слева в углу был вмонтирован в пол унитаз из нержавеющий стали, все же слегка тронутый ржавчиной от подтеков.
Через стеклянное окошко во входной двери можно было разглядеть часть коридора. Горел неяркий дежурный свет, а в застекленный проем под потолком был виден кусочек вечернего баварского неба.
– Вот звонок. – сопровождающий показал мне кнопку, до которой можно было дотянуться из-за решетки. – Вы можете воспользоваться им в случае необходимости в любое время.
Он запер решетку, потом входную дверь, и я остался один. Кажется, сбывалась тихая мечта идиота.
Через час неожиданно принесли пакет с запечатанной в пластиковый контейнер курицей-гриль, таблетками от давления и парой строчек на немецком языке от близких. Мне потом рассказывали, что принявший передачу дежурный долго извинялся за то, что настоял на этом языке, руководствуясь существующими правилами.
Та ночь далась мне нелегко. В принципе, я отчетливо осознавал, что такое оказаться под колесом государственной машины, да к тому же иностранцу. Вопрос о принятии в гражданство при сохранении прежнего в то время только рассматривался и, конечно же, будет теперь приостановлен. С другой стороны, я не ощущал за собой абсолютно никакой вины – реализация официально рекомендованного властями страхового полиса не могла быть, казалось мне с объективной точки зрения, поводом для наказания. Хотя, разумеется, о том, что кое-кто из получающих въездные визы украинцев захочет использовать Германию с ее строгими иммиграционными правилами лишь как транзитное пространство для дальнейшей своей поездки, догадаться было действительно несложно. Но даже и тут предъявить формальные претензии будет нелегко – по обоюдной договоренности мы последнее время, приобретая эти чертовы «шуцпассы», лишь ставили на них свои отметки, оставляя за украинскими компаниями право вписывать в документ конкретную фамилию из числа к ним обратившихся. Но в любом случае все это было крайне неприятно и, честно говоря, страшновато. Мне только не хватало еще попасть в настоящую уголовную историю…
Время тянулось на редкость медленно, и маленькая камера была уже, казалось, измерена шагами не одну сотню раз. Наконец, кусочек неба наверху стал понемногу светлеть. Я не мог больше выдержать и почти непроизвольно нажал на кнопку звонка. Уже через несколько секунд дверь открылась.
– Вы что-то хотели?
От неожиданности я даже не знал что сказать. Что мне тут здорово надоело и я бы предпочел выспаться дома?
– Наверное, вы хотели узнать время? – переспросил дежурный, видимо, сообразив, что я еще долго не смогу внятно сформулировать цель вызова. – Сейчас 5.48. Потерпите, рабочий день скоро начнется.
Действительно, через какое-то время в коридоре началось оживление – вероятно, происходила пересменка. Любопытно было, что я мог видеть, как в управление возвращались сотрудники, видимо, работающие под прикрытием, – бомжевато-го вида люди с грязными сумками, ярко раскрашенные панки с петушиной гривой, косящие под студентов худенькие ребята с заплечными ранцами. Все они, приветствуя друг друга, скрывались, видимо, в раздевалке напротив, откуда выходили уже в нормальной цивильной одежде с каплями душа на волосах.
Что-то тут немецкие профи недоработали, если из камеры задержанный мог за утро лично познакомиться со значительной частью сотрудников, о существовании которых ему не полагалось даже догадываться.
Наконец, пришли за мной. Хотя я еще вчера сказал комиссару, что не в состоянии общаться с ним без переводчика, он все же сделал еще одну попытку.
– Вы хорошо говорите по-немецки, – сказал он медленно и на нормальном «хохдойч». – Вы знаете, сколько мы будем должны заплатить переводчику? Это очень больше деньги.
– Сожалею. – сказал я. Очень хотелось добавить, что это не я был инициатором нашей встречи, но я сдержал себя. Поняв, что ничего не поделаешь, полицейский кивнул на благообразного старичка, сидящего сбоку. – Ладно, вот ваш переводчик.
– Нам. то есть. им, – старичок, очевидно, поляк, кивнул на комиссара, и я сразу почувствовал к нему расположение за эту поправку, – удалось проверить найденные у вас дома банковские карты. Они подлинные… штампы тоже… Они все официальные, и поэтому с этой точки зрения претензий нет. А вот то, что вы с вашей партнершей, госпожой Вагнер, оформляли так называемые «райзешуцпассы», по которым двадцать четыре туриста из Украины были задержаны при возвращении с просроченной визой, есть очень серьезное нарушение действующего Закона об иностранцах.
«Всего-то двадцать четыре из нескольких тысяч.» – про себя я вздохнул даже с облегчением.
… Я вышел из полицейского управления спустя полтора часа. Моя машина мирно ждала меня на своем месте на стоянке для посетителей. Я сел в нее и захлопнул дверцу – казалось, разом нахлынувшая нервная усталость, накопленная за бессонную ночь и длительный допрос, не позволит мне даже дотянуться ключом до зажигания. Я позвонил домой и завел машину. Через несколько минут меня уже встречал у дома выскочивший на улицу Андрей.
До начала процесса против руководительницы двух турбюро Натальи Вагнер и меня прошло еще месяцев пять. Несколько раз комиссар по фамилии Грюссвайн вызывал меня на допрос, шел анализ содержимого жесткого диска изъятого домашнего компьютера. Ничего криминального там тоже не нашли. Причем все беседы проходили в весьма дружественной атмосфере, хитрый баварский мент даже как бы выражал сочувствие наивному иностранцу, попавшему в перелет. Между тем адвокат, которого нашла Наталья, однозначно советовал ей готовиться к худшему – пусть и минимальному, но тюремному сроку.
Нам же порекомендовали другого юриста, подчеркнув, что это лучший из возможных вариантов. Приняв поручение и встретившись со мною лишь однажды, он, казалось, утратил к ситуации всякий интерес и не торопился назначать мне дальнейшие термины (встречи), хотя каждая из них означала весомую прибавку к его гонорару.
Наконец, задерживавший меня Грюссвайн из Kriminalpolizei состряпал обвинительное заключение, передал его в суд, откуда копию переслали моему адвокату. Как и в первый раз, он назначил мне встречу в выходной день в своем бюро в самом центре города. Его большая красивая собака вместе с помощником встречала посетителя на втором этаже. Мне она нравилась осознанием собственной значимости.
– Вот. Вы почитайте. – грузно откинувшись в кресле за большим столом, он передал мне тяжелую папку с материалами. – Потом обменяемся.
– Но, доктор Якоб, совсем скоро суд, меня интересует ваше мнение. Вы же, вероятно, уже успели посмотреть. Мне объяснили, что, то обстоятельство, что дело назначено к слушанию по первой инстанции сразу в областном суде, говорит о серьезности возможного приговора?
– Вы же говорили, что вы не юрист? – адвокат, улыбаясь, почесал за ухом у лежащего на холодном полу пса. – Почитайте… посмотрим… – он протянул мне руку. – До встречи…
Я был в отчаянии – создавалось полное впечатление, что ему и дела нет до предстоящего процесса.
Дома я с помощью Андрея попытался разобраться в смысле немецкого «канцелярита», на котором было написано обвинительное заключение. Куда девалась вся дружелюбность наших бесед с комиссаром, он словно задался целью подтвердить, что мент есть мент, независимо от места его функционирования. Для меня это стало своего рода открытием – да, они не берут взяток, это правда; они предельно вежливы, готовы помочь обычному бомжу дойти до санитарной кареты и просто так никогда не бьют дубинкой по почкам. Но если судить по написанному тексту заключения, полному откровенных натяжек и сознательных нелепиц, человек для них – лишь повод для продвижения по службе. Возникало ощущение, что доблестному комиссару всерьез удалось разоблачить некую преступную группу из меня и Натальи, поставлявших в Европу нелегалов. Не было даже моих объяснений по каждому из конкретных фактов, зато открытым текстом было написано, видимо, в качестве ориентира для судьи, что недавно суд в Кельне по схожему обвинению вынес приговор о четырехлетнем тюремном заключении.
Стремление получить служебное поощрение за умелое разоблачение «врагов государства» проглядывало из каждого абзаца, иногда доходя до маразма, – упомянутые всего двадцать четыре случая нарушений приезжавшими Закона об иностранцев на 3 000 купивших «райзешуцпассы» свидетельствовали как раз не о наличии наших «преступных замыслов», а об их полном отсутствии.
Я написал свои контраргументы против каждого из пунктов обвинения, передал их адвокату вместе с копией дела. Теперь оставалось только ждать.
Суд проходил в громадном сером здании, построенном еще во времена Третьего рейха. Мое профессиональное любопытство к действу в зале, похожем на небольшую студенческую аудиторию, сходило на нет сразу же, как только я вспоминал, что речь идет о собственной судьбе.
На небольшом возвышении располагалась судья – дама средних лет. Справа от нее через один свободный стул сел прокурор – оба в мантиях, слева, чуть ниже – ведущая запись на каком – то приборе секретарь.
Адвокаты – тоже в мантиях, подсудимые, их родственники и журналистка местной газеты должны были находиться в зале.
Еще до начала слушаний, появившийся несколько минутами раньше мой адвокат, едва поздоровавшись, тут же подхватил под руку прокурора, увлекая его в дальний угол коридора. Они оживленно беседовали несколько минут. Потом проделал ту же операцию с вышедшей как раз судьей. То обстоятельство, что все они давно и хорошо знакомы, не вызывало сомнений и никоим образом не утаивалось.
Адвокат Натальи явно не был допущен в ближний круг местной юриспруденции и лишь раскланивался со всеми издали, а потом вообще промолчал весь процесс.
Дело пошло довольно быстро, зачитали обвинение, повторяющее полицейский протокол, на вопросы судьи отвечала Наташа, выступил я. Мне показалось, что мои аргументы и в не меньшей степени штрихи биографии, подтверждающие мою отдаленность от мира криминала, были восприняты. Послушали зачем-то специально вызванных на процесс таможенницу и полицейского, полгода назад принимавших участие в задержании нарушителей украинцев на границе. Допрос моего любимого полицейского комиссара, позволившего себя явиться во вьетнамках на босу ногу, судья вела достаточно жестко. Наконец, объявили перерыв, и все вышли в прохладный коридор передохнуть.
Мой адвокат опять скрылся куда-то и, появившись минут через пять, жестом попросил подойти к нему Андрея.
– В общем, так… – через минуту пересказывал мне все Андрей, – прокурор готов отказаться от поддержки обвинения. Процесс может быть закрыт, и ты не будешь даже считаться судимым. Тебя просили спросить – если, чтобы формально не потерять лицо и хоть в какой-то степени оправдать судебные издержки, они накажут тебя официальным денежным штрафом в пятьсот евро – это не будет слишком жестким наказанием, ты будешь готов его принять?
Четыре года тюрьмы или пятьсот евро и отсутствие судимости. Выбор требовал долгих размышлений, не так ли?..
– А Наташа?
– Ей тоже могут назначить штраф, но в тысячу евро. Сдерживаясь, чтобы не заорать от радости, я только утвердительно закивал головой стоящему неподалеку адвокату.
Все завершилось довольно скоро. Судья зачитала приговор, слово в слово повторяющий в резолютивной части эти условия, и весь ужас, под грузом которого я жил полгода, разом закончился.
Я был в восторге от немецкого правосудия, а доктор Якоб в тронутой перхотью мантии оказался действительно гениальным адвокатом.
…«Zur Alten Fahre» мы передали кстати появившемуся опытному ресторатору-греку, согласившемуся возместить большую часть сделанных вложений. Он быстренько превратил его из хорошего заведения баварской кухни среднего класса в процветающую забегаловку по изготовлению обожаемых немцами больших шницелей с картофелем пом-фри.
Через месяц я, сохранив российское гражданство, получил паспорт гражданина ФРГ.
2000-е годы. Бавария (Германия), Лион (Франция), Москва (Россия)
Однажды он мне реально пригодился. Я разослал несколько своих резюме и как-то, спустя месяцев пять после одного из них, мне позвонили. Мужской голос говорил по-русски и представился Петром Федоровым, руководителем русской службы телеканала «Евроньюс». Я сразу вспомнил этого человека, чье лицо было мне знакомым по умным, но достаточно редким телерепортажам Гостелерадио из далекой Австралии. Петр пригласил меня через месяц после своего возвращения из отпуска приехать к ним. По его словам, они были бы весьма заинтересованы во мне еще и потому, что я имею дополнительно паспорт Европейского Союза, что снимает проблемы с трудоустройством, весьма остро стоящие во Франции, где находится их штаб-квартира. По этим причинам пригласить на канал профессионала из Москвы всегда очень сложно.
Мы договорились о дате, Петр пообещал, что канал компенсирует дорожные расходы в любом случае, и я решил ехать на машине.
Я люблю французские дороги и считаю их значительно лучше прославленных немецких автобанов, имеющих, правда, уникальное преимущество – отсутствие скоростного лимита.
Нынешнего канцлера (по-немецки – «канцлершу») в стране уважают еще и потому, что она публично заявила, что пока она у власти немцы не лишатся права ездить, руководствуясь только собственным здравым смыслом, а не прихотью чиновников. К сожалению, Германия, кажется, остается единственной страной в мире, на магистральных трассах которой нет раздражающих кружков с цифрами, что, правда, компенсируется в какой-то степени многочисленными ограничениями на обычных дорогах и в городах.
Есть во Франции и еще одно важное обстоятельство, отличающее ее от Германии, которое приходится принимать во внимание, отправляясь в поездку – абсолютное большинство отрезков действительно классных шоссе – платные. Сидящие в будочках у автоматических шлагбаумов контролеры с беззастенчивостью придорожного Соловья-разбойника лупят с проезжающих европейскую монету. Таким образом, каждые 25–35 километров обходятся дополнительно евро в тридцать, а стоимость всей поездки возрастает в несколько раз.
Зато есть на дорогах Франции одна вещь, которая хоть в какой-то степени примиряет меня с ситуацией, – это сказочный по вкусу томатный суп с базиликом, продающийся в специальных автоматах на заправках. Конечно, пакетики с ним можно купить и в Германии, но тут, на своей исторической родине, какой-то особый способ его приготовления делает его для меня необыкновенно вкусным. Хотя чушь, конечно, все автоматы делают его одинаково… Нет, ну, а все-таки…
Проехав несколько сотен километров, я нашел маленькое местечко под Лионом, где располагался ЕВРОНЬЮС. Несколько плоских зданий, удачно вписанных в ступенчатый рельеф площадки. Оставив машину на центральной парковке, я прошел в рецепцию на первом этаже. Сидящая там вежливая девушка с хорошим английским вызвонила мне Петра.
Я узнал его сразу – высокий круглолицый толстяк в очках, мы были даже с ним в чем-то похожи. Петру надо было уже убегать, он провел меня внутрь, договорился, что меня устроят с дороги в гостиницу, расположенную, как оказалось, неподалеку. А встретиться, перейдя уже на «ты», он предложил завтра с утра. Я поболтался немного по огромному залу, где все журналисты работали вместе, перекинулся парой фраз с парнем – москвичом из русской редакции и отправился в отель отсыпаться.
Наутро мы встретились у входа, Петр приехал на неновом «Ягуаре». Он, кстати, рассказал мне, как сам оказался тут, – после закрытия бюро в Австралии он, как это часто бывает у нас, оказался невостребованным в России, создал свой продюсерский центр. В этот момент в ВГТРК приехали представители «Евроньюс» в поисках журналистов с хорошим английским, он прошел тест, а затем неожиданно для себя самого оказался сам во главе этого отбора и вот уже несколько лет здесь…
Российское телевидение (РТР) вошло в состав учредителей «Евроньюс».
Все группы журналистов, для которых один из языков вещания канала родной – в то время их было семь, теперь уже десять – работают в одном большом зале, «ньюсрум». Много раз за день ответственный редактор знакомит дежурного от каждой из групп с новым сюжетом, комментируя его, как правило, по-французски. Конечно, можно задать уточняющие вопросы по-английски, но как система это здорово будет напрягать. Текст комментария каждый пишет на своем языке, и он вовсе не является точным переводом с английского, как думают некоторые зрители. Ты сам в специальной аппаратной записываешь свой комментарий, подгоняя его под изображение.
Как такового, контроля начальства за тобою нет, поскольку никто не владеет всеми языками вещания, хотя руководитель твоей языковой группы иногда может попросить показать итог работы. Но это редко. Сюжет так и идет в эфир под полную ответственность автора. Но явно существует внутренняя цензура и текст, вступающий в противоречие с принципами учредителя – в данном случае российского государственного телевидения – на практике никогда в эфир «Евроньюс» на русском языке не выйдет. Хотя бы потому, что потом любой звонок из посольства или из Москвы поставит жирную точку на карьере. Довольно смешно получается. Если попытаться сравнить комментарий к видеосюжету о России с комментарием к тому же самому видеоряду на французском или английском – обнаруживаешь, что несмотря на заданное ответственным редактором направление, это два разных, часто спорящих друг с другом взгляда на событие. Для каждого журналиста приоритеты его национального телевидения, как учредителя, являются определяющими – так что, если есть желание узнать более или менее объективную ситуацию – надо следить за событиями, выбирая звуковую дорожку с комментарием на языке, не являющемся государственным в стране, о которой идет речь, а лучше даже сравнивая еще с одним или двумя.
В то время в большом зале канала была всего лишь пара компьютеров с русским обеспечением, но они, как впрочем, и все остальные почему-то работали в системе DOS, что с непривычки очень напрягало.
В случае необходимости каждый из дежурных журналистов должен был быть готов вести комментарий экстренного события из специальной маленькой студии на родном языке, ориентируясь на бегущую строку или команды режиссера на английском.
При всем том, что работа для всех групп журналистов была в принципе одинаковой, хитрое руководство канала платило каждому в зависимости от уровня зарплаты в стране его языка, что автоматически сводило доход русскоязычных к минимуму, не идущему даже в сравнение, например, с немцами.
Я сделал один сюжет – кажется, что-то о предстоящих тогда выборах в Германии – и задумался. Измученный нехваткой профессионалов, Петр уже поторопился мне сообщить, что планирует меня на завтра включить в график дежурств, но я попросил его не спешить.
Конечно, научиться работать в DOS, уловить общую ситуацию и включиться в стандартный ритм работы, было вопросом времени. Куда серьезнее напрягала меня обнаружившаяся языковая проблема. По-французски я знал, кроме «бонжур» и «пардон», только фразу незабвенного Кисы Воробьянинова – «мсье, же не манж па сис жур» («господа, я не ел шесть дней»), которая, если бы и пригодилась, то, очевидно, не сразу. Выглядеть полным болваном на фоне итальянцев, немцев и даже самого Пети, блестяще говорившего на двух языках, мне не хотелось. А без французского тут, во Франции, конечно, нечего было ловить… Да и мой английский, вполне добротный на бытовом уровне, был весьма далек от профессионализма – ведь я заканчивал отнюдь не специализированный языковый институт. Таким образом, в силу собственной языковой неполноценности при всем своем знании телевидения я вполне мог оказаться слабым звеном в команде Петра. А подставлять столь искренне встретившего меня человека, я не хотел.
Я сказал Петру, что теперь полностью владея ситуацией на канале, я должен немного потренироваться дома, сочиняя свой комментарий под эфир того или иного сюжета, и, главное, подтянуть язык. А потом дам о себе знать. Мне показалось, что он тоже огорчился, как и я.
На следующий день, когда я уезжал, его на работе по графику не было. Я провел еще часть дня в ньюсрум, впитывая атмосферу, в общем желанной, но недоступной мне в силу языковой дремучести работы, попрощался с появившимися знакомыми, оставил Пете благодарственную записку и, уже не заезжая в гостиницу, поехал по хорошим французским дорогам домой в Германию.
…Это достаточно странное ощущение – осознавать, что близкий человек, рядом с которым прошла половина собственной жизни и о котором ты помнишь все, родился, оказывается, более ста лет назад и давно уже признан киноклассиком. Поневоле начинаешь задумываться о цене времени и смысле собственного существования.
Мы идем с отцом по узким коридорам первого этажа Киностудии имени Горького к маленькому просмотровому залу, где заказана очередная смена перезаписи. Это еще не нынешние обшарпанные помещения, сдачей которых в аренду кормятся сегодня руководители когда-то процветающего киногиганта, а живой киноорганизм с одним из самых значительных в стране объемов кинопроизводства. На стенах – большие фотографии из разных фильмов, снятых на студии; вот хрестоматийный кадр Ларионовой и Вертинского из отцовской «Анны на шее»…
В рамках проекта восстановления старых картин ему, наконец-то, удалось запуститься с проектом «восстановления» своего знаменитого «Медведя». Это давало возможность тогда режиссеру два-три месяца получать установленный оклад, периодически пользоваться прикрепленным к маленькой киногруппе автомобилем. А потом, после сдачи «очищенного» от временных наслоений фильма с восстановленной фонограммой, иногда даже получить премию в размере того же самого оклада.
– И что сегодня?.. – спрашиваю я.
– Ну сейчас посмотрим как получилось со вставкой «ангелочков» в самом конце на титрах. Музыку мы почистили… А дальше чем заниматься я уж не знаю… – он пожимает плечами. – Наверное, придется все-таки переозвучивать…
– Ты что?.. Кого?.. – от неожиданности я даже останавливаюсь. – Жарова? Андровскую?
– Ну, а что делать?.. – он подталкивает меня к двери просмотрового зала. – Мы же не можем сидеть просто так, сложа руки. Закроют, расформируют группу, опять в простой, совсем без зарплаты. ты же знаешь ситуацию на студии…
– Это невозможно… – удерживаю я отца за рукав. – Ты с ума сошел. Это же сегодня уже – классика. Пусть остается все как есть… со всеми старыми шумами… Кто тебе сегодня переозвучит молодого Жарова? Да ты просто не имеешь права, этого нельзя делать. я не дам тебе. Это история кино – понимаешь?..
Отец, грустно улыбаясь, смотрит на меня.
– Может быть… А сегодня-то как жить?..
Да, времена не выбирают… Ни до 100-летнего юбилея И.М.А. в 2006-м, ни сегодня не проходит и недели, чтобы хотя бы по одному из десятков русскоязычных телеканалов не демонстрировалась хотя бы одна из картин отца. Чаще – две или три… Если бы в России существовало нормальное авторское право, то я как наследник его по завещанию давно стал бы за эти годы миллионером – ведь на ТВ не забывают включать в старый фильм рекламу, стоимость которой бывает превышает тридцать тысяч долларов за минуту эфира. Но советская власть заставляла автора сценария и режиссера-постановщика подписывать договора, обязывающие их навечно передавать все авторские права студии – то есть государству. Иной формы для реализации своего замысла просто не существовало. За это вынужденное «согласие» автору, если картина оценивалась начальством не ниже определенной категории, выплачивалось небольшое потиражное и постановочное вознаграждение.
Между прочим, так было не всегда. Когда молодой режиссер Анненский, только что закончивший Киноакадемию при ВГИКе у Сергея Эйзенштейна, снял свой первый дипломный фильм «Медведь» по Чехову, и тот широко пошел по всем экранам огромной страны – от Москвы до Владивостока – принося в прямом соответствии с существовавшим тогда положением приличные дивиденды с проката автору сценария и постановщику, группа маститых советских кинодеятелей тут же сочинила письмо в родное сталинское правительство – а не слишком ли много денег получит новоявленный молодой талант?.. Вроде бы еще не по чину. Плевать им было на то, что это окажется самый успешный дебют в истории советского кинематографа. Тупая зависть формирующегося тогда советского человека даже не позволила авторам задуматься, что последствия этого коснутся и многих из них самих. Закон, позволяющий режиссеру получать процент с дохода от проката своего фильма, был немедленно изменен…
Увы, я еще не осчастливил своим появлением мир в те годы и не застал этого «праздника жизни», а неумение распоряжаться большими деньгами, боюсь, в семье наследственное. Я спрашивал, конечно, отца потом – как это золотое время выглядело на практике в Советской стране, но понятного ответа так и не добился. А вот Александр Георгиевич Рыбин, работавший позднее с отцом как оператор-постановщик, впоследствии директор студии Горького и декан операторского факультета ВГИКа, в полнометражном документальном фильме об отце – «Свадьба» режиссера Анненского» – рассказывает чуть подробнее: «…Вот он просто… честным образом… стал миллионером в Советском Союзе… Я и говорю – ну и что такое быть миллионером?
– Ну, у меня были два «Роллс-ройса» круглосуточно наняты, номера люксы в гостиницах самых известных ленинградских… как-то, говорит, на встречу Нового года я пригласил кордебалет Кировского театра… ну, просто на встречу Нового года… в «Астории», по-моему, они собирались… И это вызывало, как мы теперь можем себе представить, достаточно большую зависть среди тех же коллег…».
Позднее, в середине пятидесятых годов, когда сотни тысяч людей по всей стране толпами стояли под проливным дождем за билетами в кинотеатры, где демонстрировался лидер проката года – «Анна на шее» (награжденный позднее «Золотой оливковой ветвью» на Международном кинофестивале в Италии), критики вроде некоей госпожи Погожевой, не стесняясь, писали в центральных советских газетах – как, впрочем, и о предыдущих «Медведе» и «Свадьбе», что «… привлекая замечательных актеров и совсем не умея с ними работать, режиссер фильма.» ну и т. д. А на студию и к нам домой ежедневно приносили пачки писем восхищенных зрителей из всех республик и городов… До сих пор тут, в Баварии, хранятся они у меня в огромных коробках в подвале, за исключением тех, что оставил в Москве, в Музее кино.
Кстати, по странному стечению обстоятельств родная сестра той же Погожевой, засидевшаяся на киностудии Горького в качестве редактора, много лет спустя добилась закрытия и моего сценария «…за некоторое очернительство советской действительности». Одна радость, теперь такую формулировку в официальном заключении на свою работу можно расценивать как медаль.
Ну и кто сегодня знает об этих сестренках-критикессах и других им подобных мелких и крупных чиновников от советского кино, отнявших собственной тупостью и трусостью годы творческой жизни у множества талантливых отечественных кинохудожников того времени – о всяких там романовых, павленках, орловых, ермашах, баскаковых. Сколько же их было… именно они решали в те времена судьбу каждого замысла, карая годами творческого простоя любого неугодного, не укладывающегося в стереотипные рамки. Хранятся сегодня в Государственном музее кино так и оставшиеся нереализованными материалы И.М.А., собиравшегося экранизировать Бальзака, Чернышевского, Толстого…
А «Медведь», кстати, до сих пор, на восьмом десятке лет своего существования (!), по-прежнему чуть ли не еженедельно появляется на телеэкранах по разным каналам, заставляя волноваться и радоваться сердца сотен тысяч старых и новых зрителей. К столетию со дня рождения отца Почта России выпустила художественный маркированный конверт – за портретом Анненского узнаваемые лица Жарова и Андровской – три миллиона пятьсот тысяч конвертов с кадром из старого дипломного фильма И.М.А. разлетелись по миру.
Все-таки действительно время – независимый и объективный судья, раздающий каждому по делам его… Только вот незадача – так ли уж абсолютно справедлив приговор, если он состоялся тогда, когда те, кому он вынесен, уже не в состоянии его услышать.
Сейчас у меня на книжных стеллажах, занимаемых сотнями старых книг, большинство из которых было собрано когда-то отцом, стоят несколько удивительной красоты резных фигурок из натуральной слоновой кости. Их узнаешь, если вспомнить сцену игры в шахматы из «Княжны Мэри» – это они самые, из кинопрошлого – то немногое, что удалось сохранить, провезти через все границы и таможни… А вот этот письменный прибор из тяжелого гранита и бронзы с литыми медвежатам и – подарок режиссеру-дебютанту после успеха его ленты по чеховскому водевилю…
Как сейчас помню я свою детскую прогулку к запечатленной в кадре «Княжны Мери» поразительной по красоте скале-кольцу на Кавказе и свой испуг, когда сбегая вниз, чуть не наступил на большую змею, затаившуюся среди камней… Вот же она, та самая скала, снова передо мной на телеэкране.
Отец был хорошим, добрым человеком и люди, работавшие с ним, его любили… Я жил в студийной гостинице Одесской киностудии, когда он снимал в этом городе одну из своих картин, и не забыл с каким уважением всегда здоровались по утрам со мной, мальчишкой, снимавшиеся тогда у него совсем еще молодые Олег Даль, Дима (Дальвин) Щербаков… Как впрочем, впоследствии – и Гриценко, Ульянов, дебютировавший у него в кино Юрий Соломин. Разумеется, отнюдь не из-за моих заслуг. Он многим открыл дорогу в кино, многих сделал известными миллионам. Многим помог… Стал, к примеру, потом известным режиссером его друг, директор фильма «Анна на шее» Володя Роговой, поставивший впоследствии знаменитых «Офицеров»…
Не сумел только себе. Его личная жизнь оказалась не слишком удачной – во время одной из поездок в Ленинград он приблизил к себе служащую Ленфильма – и стал несчастен на все оставшиеся годы. Молодая хищница накрепко вцепилась в известного режиссера, поспешила добиться от него развода, заставила перевезти себя в Москву. Последние годы он приезжал после съемок к нам с мамой отдышаться и, пока она стирала и гладила ему рубашки, искренне обещал мне на кухне, что вот еще чуть-чуть и он скинет с себя эти путы, освободится, даст ей денег, чтобы она согласилась уйти. А буквально в самые последние недели его жизни эта дама потребовала от пожилого человека с больным сердцем и мировой известностью официально изменить. собственное имя, чтобы даже след его национального происхождения не лег тенью на отчество прижитого ею ребенка… Из-за юридического несоответствия в документах у меня потом возникли трудности с оформлением захоронения отца… Она же, успев переоформить на себя большую кооперативную квартиру в центре Москвы, и сегодня, спустя более тридцати лет, не знает, как выглядит могила человека, чьей юридической женой она считалась…
А рядом с отцом – в соответствии с его желанием – на Троекурово похоронена моя мама, актриса и домохозяйка Людмила Анненская. В детстве я очень хотел, чтобы мои родители снова соединились, так и произошло. Просто не в этой жизни.
…Часы самых разных видов, марок, стран, даже веков. Карманные, наручные, те, что должны стоять на прикроватной тумбочке, носиться на руке или в боковом кармане на цепочке… С откидывающейся крышкой и поцарапанным циферблатом, на полусгнившем ремешке, с витиеватой дарственной надписью на явно золотом, хотя и потускневшем корпусе, со сломанной стрелкой…
Еще совсем недавно, когда руки хозяина квартиры не так дрожали, а зрение еще позволяло – возня с ними была его любимым делом – собирать, чинить, чистить, рассматривать. Сегодня все они, высыпанные на небольшой журнальный столик, уже просто память, и даже давно утратившие способность ходить, остаются символами своего времени, свидетелями истории…
Выбрав самые «молодые», почти «сегодняшние» – те, что притулились рядом с початой бутылкой русской водки на краешке столика, у которого сидит наш герой, в свои девяносто три по-прежнему подтянутый, в белой рубашке и при галстуке на фоне висящего пиджака со множеством наград, мы через циферблат «войдем» в их – наше – время…
…Небольшое кладбище неподалеку от столицы, заросшие травой тропинки между холмиками, покосившиеся лавочки, скромные деревенские кресты… И вертикальная стела с изображением красивой пары – женщины в форме военной летчицы и мужчины – старшего офицера авиации со множеством наград на парадном кителе. Все как положено – фамилия, даты жизни женщины, фамилия, дата рождения мужчины и… отсутствие даты его ухода на камне, лишь оставленное под нее впрок пустое место на граните…
И рука нашего героя, касающаяся холодного камня, трогающая силуэт боевого самолета, венчающий памятник. Человек, навестивший собственную могилу.
– Есть слово такое русское, неприличное, конечно, пиздо-бол… – рассказывает, стоя у крыла самолета тех лет, седой худощавый мужчина со звездой Героя, генерал Степан Микоян… – Ну, хотите по-другому скажу – фантазер… Ну любит он преувеличить собственные подвиги. И число самолетов, сбитых им лично, нереально практически, и рассказы о командовании полком летчиков-штрафников вряд ли действительности соответствуют. Командировки эти его удивительные – в Испанию, Германию, да еще про Корею с Китаем рассказывает, побег на фронт, драки, дуэли… Как-то все не сходится… Короче, слишком уж много для одного… Зачем ему это?.. Человек-то он действительно заслуженный, летчик неплохой…
Силуэт самолета на памятнике наплывом переходит, превращаясь в реальный планер, беззвучно парящий в небе. Рука на рукоятке управления заставляет послушную машину, точно улавливая восходящие воздушные потоки, забираться все выше, закладывая круги над плывущими там, внизу, полями, лесом…
– Я не виноват, меня послали… Сталин в Германию послал меня… Супруна, Стефановского, Викторова и меня… – говорит Иван Федоров. – Там вот и встретились с Гимлером… Гитлером… С нами в столовой кушали… за одним столом. Это у них, чтобы с Гитлером такое удовольствие получить… надо заслужить. И Геринг мне по-приятельски после моего полета как летчик знаменитый… в коробочке дал Железный Крест… Я его приемному сыну отдал… в расшибалку во дворе играть… а у него его сперли…
В маленькой московской телекомпании со странным названием «АБ-ТВ» по моему литературному сценарию снимался полнометражный документальный фильм о совершенно поразительной личности – Герое Советского Союза полковнике Федорове.
Надо отдать должное низенькому человечку по фамилии Яков Каллер, внешне удивительно напоминающему чаплинского героя из «Великого диктатора», хозяину и гендиректору этой небольшой почти семейной конторы – иногда предлагаемые им темы оказывались действительно заслуживающими внимания. Впрочем, реализация их становилась, скорее, исключением для компании, живущей на цикловом ширпотребе для малозаметных лужковских телеканалов «Столица» и ТВЦ типа «Народный контроль» и «Хронограф». Чтобы удержать и этот скудный ручеек заказов на очередной договорный период Каллеру приходилось, что называется, активно «лизать» тамошнее руководство, регулярно мотаясь в АСК-1 «Останкино» с набитыми пакетами.
До подписания договора с Каллером, пригласившим меня в компанию на должность главного редактора, я не был знаком с ним и никогда не слышал в кинокругах этой фамилии. А поспрашивать, как делал по его признанию, он обо мне, не догадался… Это было ошибкой.
Несколько удивил меня уже сам договор, в котором была проставлена сумма оклада вдвое меньшая той, о которой мы договорились. Он объяснил, что в своей Европе я совсем оторвался от жизни, и это является обычной московской практикой, чтобы не платить государству реальные налоги. По большому счету мне было безразлично, каким путем получаемая мною сумма в конверте будет отражена перед фининспекций, и я согласился. Позднее выяснилось, что вся бухгалтерия компании делится на общедоступную и тайную, «черную», подробности которой были известны лишь самому директору и его приближенной из бухгалтерии, работающей с ним много лет.
Впрочем, «экономность», пожалуй, даже скаредность моего нового шефа, как вскоре выяснилось, не являлась его самым большим недостатком. Оказалось, что его любимым хобби, к примеру, было, тайно подключаясь из своего кабинета к компьютерам сотрудников студии, ошарашивать их потом демонстрацией знания подробностей их рабочего дня и личной жизни. Девочку-референта со скандалом выгнали за то, что в свой обед она заглянула на сайт моды. «Попавшись» однажды, я сделал для себя соответствующие выводы и при необходимости, скажем, написать письмо по е-мейл, просто блокировал через брандмауер вход в свой компьютер. То ли не осознавая до конца, как это выглядит со стороны, то ли, напротив, вполне намеренно демонстрируя «право барина», от меня открыто потребовали блокировку убрать.
Убедившись за несколько месяцев, что я что-то соображаю в телевизионном кинематографе, Яков Александрович постепенно передоверил мне почти все, кроме финансов. Это оказалось ему удобно – если у нормального человека для того, чтобы его неприятности имели лицо, есть жена, то Каллер, как выяснилось, для этого держал главного редактора. Любой про кол, самым страшным из которых считалось упоминание имени мэра в телесюжете даже просто в нейтральном, а не в восторженном контексте, вызывал у него всплеск эмоций. Со мной он, однако, все же сдерживался, на других мог позволить себе дико орать. Став однажды свидетелем его очередных хамских разборок с Таней Кочановой, им же самим приглашенной в компанию пиар-менеджером, я, оставшись наедине, попытался объяснить ему, что говорить так с человеком, который просто не может тебе ответить адекватно, довольно подло. Он, сдержавшись, дулся, молчал, но я понял, что сделана еще одна серьезная зарубка в наших взаимоотношениях.
Испания… Интернациональные отряды на фронтах. Захлебывающаяся атака, минуты передышки в окопах… Взрывы, искореженные тела людей… Изображение что-то записывающего в тетрадь военного корреспондента Хемингуэя… Аршинные заголовки газет мира… Кровь, расстрелы… Томительная мелодия саксофона. Уникальная сохранившаяся хроника авиационных боев и тарана в испанском небе… Летят вниз обломки самолета, разрубленного пополам…
– Винтом таран… И был случай, когда я под Мадридом таранил трехмоторного и сам выпрыгнул… И приземлился на крышу, крутая крыша… Ну и левой ногой пробил крышу… Теперь же нельзя ждать, когда парашют ниже меня опустится, он меня стащит все равно… Так я выдергиваю ногу, и штанина там осталась, на чердаке, от Ивана… И кожа немножко, с кровью… И я на людей – испанцев много собралось посмотреть обо что я там бился – о балконы, об окна… Прямо упал на людей…
Долорес Ибаррури выступает перед защитниками Республики. Страстная речь, понятная во многом и без перевода – как бывает, когда человек предельно искренен. И потому ему верят и надеются съехавшиеся на защиту демократии люди из разных стран.
– Она любила всех, а меня полюбила за то, что я у нее на глазах, когда бомбардировщики появились над аэродромом, сумел взлететь и сбить бомбардировщика и двух истребителей прикрытия… И еще пилотам высший пилотаж показал над аэродромом, у меня получалось, и я любил пилотировать… На девятый день мне Дябля-Роха присвоили – «Красный Дьявол»… за эти три штуки над аэродром Алкала…
– Долорес Ибаррури меня целовала. Любила она меня или ненавидела, откуда я знаю… Вот это испанские – вот он, – Федоров перебирает ордена… – на него книжка, как героям давали испанцы… «Лавры Мадрида» называется. Их пять штук всего было роздано… Один мне – «капитану Жану», как я там звался… А «Диабело Рохо» – «Красный дьявол» – это они так, не официально… Часы дала, они и сейчас у меня, ручные… полный календарь, показывают день, число и все прочее, и бой… Ворошилов – вот, такие же золотые дарил…
Калер любил говорить о себе и во время наших деловых передвижений по Москве на его «Лексусе», подаренном, по его словам, сыном, занимающим место «раввина русскоязычной общины Майами» (!), рассказывал о том, как пришел в кинобизнес. Энное число лет тому назад он, удачно словчив, перепродал Марку Рудинштейну доставшийся ему по дешевке некий фильм за приличную сумму, каковую и вложил в свою компанию. Осознав, что пятый пункт анкеты, при советской власти служивший для него непреодолимым препятствием в административной карьере, сегодня может реально принести прибыль, он поторопился сдружиться с присланным из Америки на место главного раввина России Берл Лазаром, быстро стал активистом в столичной общине.
Когда еврейская тема оказалась весьма востребованной сама по себе, Каллер посвятил этому целое направление в телекомпании, используя все возможные финансовые гранты, информацию о которых он тщательно собирал. Таким образом, при практически полной компенсации производственных затрат по любому из проектов в его распоряжении, независимо от результата, всегда оказывалась чистая прибыль. Как-то даже полет в Израиль и обратно он потребовал оплатить ему. саму авиакомпанию «Эль Аль», мотивируя это важностью для еврейского народа тематики будущего фильма, которым он, мол, планирует заняться.
Ну и дай бы ему Бог, как говорится. каждый устраивается, как умеет… Меня вся это ежедневная суета занимала мало, хотя и несколько коробила. Мне представлялось, что плохо скрываемая спекуляция на внезапно прорезавшихся и теперь широко афишируемых религиозных убеждениях – не самый честный способ делать бизнес, но это был не мой бизнес. Я, разумеется, вовсе не торопился обнародовать свою точку зрения, но, видимо, о ней можно было догадаться.
К сожалению, Яков Александрович быстро уверовал в абсолютную беспроигрышность ситуации – ведь любой намек кого-либо на творческую несостоятельность работы, как произошло, к примеру, с фильмом о подвиге русского политрука, спасшего группу евреев во время Второй мировой войны, – тут же легко парировался обвинениями в антисемитизме. То обстоятельство, что речь шла просто о неспособности слабого режиссера найти достойный экранный эквивалент интереснейшей судьбе героя, уже во внимание не принималось. Чтобы не показаться пристрастным, процитирую известного кинорежиссера Валерия Балаяна:
«Прекрасная трагическая история оказалась по-советски сконструированной полуправдой. Об этом я сказал в своем выступлении на обсуждении фильма в Белом зале Дома кино 27 мая 2008 года. Выступление мое оказалось совсем не в унисон предшествующим комплиментарным репликам. Кажется, аудитория после него разделилась. По-видимому, я вызвал к себе острую неприязнь творцов фильма.
…История, которая могла бы стать очистительным уроком для нашего ксенофобского общества, стала очередным слащавым мифотворчеством…».
Летняя круговерть центра сегодняшней Москвы… Тысячи машин и пешеходов обтекают небольшой сквер на Самотеке. На невысоком постаменте – гранит, бронза – потемневший от дождей бюст работы Кербеля – подполковник со множеством медалей и двумя звездами Героя… Из черной машины, въехавшей прямо на дорожку, выбирается с помощью жены и водителя седой генерал-полковник на костылях в белоснежном кителе. В стык идут памятные кадры из ленты «В бой идут одни старики» – Виталий Попков, прототип главного героя картины. Оглядываются идущие мимо парень с девушкой на присевшего на лавочку генерала – да не может быть, неужто тот, кому памятник.
– …Он воевал на Халхин-Голе, воевал на Хасане… воевал в Испании, в Финляндии… прошел не одну войну… У нас в полку он пробыл неделю и действительно сбил семь самолетов противника, – рассказывает Попков. – Когда мы встречаемся с ним сейчас… когда он переходит, так сказать… и начинает множить количество… я говорю… Ваня… Иван Евграфович… Он показал нам строгую вертикаль, и эта вертикаль так много спасла жизней летчикам. мне заходил «мессер» в хвост, мне ничего не оставалось, я переводил на вертикаль самолет… вот только за это я б ему дал вторую, а, может, и третью звезду Героя… он достоин этого.
Тот летний съемочный день с генералом на московском бульваре запомнился, и я рад, что он был. Помню, подталкиваю режиссера, глазами показывая на кончик форменного галстука – сними наезд: там на уголке написано было – «Россия». Умер недавно знаменитый генерал, похоронили.
Работать в телекомпании Каллера, третирующего окружающих, становилось все труднее – ушла девушка шеф-редактор, два видеоинженера; он, как мне казалось, стал искать поводы для противостояния со мной, и поэтому редкий случай, когда удавалось, отвлекаясь от ежедневной текучки, заняться творчеством, давал хоть какое-то отдохновение, просто грел душу.
Тем более что картину эту мы делами с талантливым человеком Мишей Масленниковым, режиссером, пришедшим к нам буквально с улицы, по объявлению. Профессионал, член Союза, он по характеру был и есть, что называется, «творческий разгильдяй», к тому же, как выяснилось, не чурающийся главного способа расслабления русского человека. Неприспособленный к нашим офисным порядкам, не умеющий говорить исключительно по теме, ценя время начальства, он, как я понял, имел непростую творческую, да и личную жизнь. Отстаивать его каждый раз перед Каллером было непросто. Ощущая творческий потенциал Миши, я делал это и думаю, не ошибся.
Каллер выгнал его, велел забрать трудовую книжку сразу, как ушел я. Только года через три, понимая, что никто не сделает так, как Миша, все же попросил того однажды снять небольшой фильм для канала «Культура». Миша – добрая душа – снял…
… У меня «душа лежала» к одному из продюсерских проектов Каллера. Речь шла о телецикле несколько претенциозно названном «Чужие здесь не ходят». Задумка сама по себе была весьма оригинальна – рассказать о частной жизни иностранного посольства из числа аккредитованных в Москве, о самом После как о человеке, его семье, увлечениях. Такой замысел требовал серьезной подготовительной работы, и Каллер специально оплачивал пенсионных лет даму, задача которой заключалась в ежедневных переговорах с представителями сразу нескольких дипмиссий о возможности съемок. На большом листе она скрупулезно помечала ответы каждого представительства – письмо на рассмотрении, перезвонить такого-то числа, позвонить только ближе к лету, посол в отпуске, посольство согласовывает вопрос со своим МИДом и так далее… Хотя в титрах для солидности и было написано, что цикл создается «в сотрудничестве с УПДК МИД РФ», на практике, в лучшем случае, мидовцы могли сообщить лишь имевшиеся у них исторические данные на московский особняк, переданный дипломатам. В конечном итоге получалось, что одно или два посольства – от Австралии до Японии – в месяц все-таки давали свое согласие, убежденные навязчивостью Ирмы Абрамовны и отредактированным мною письмом – обращением принять съемочную группу компании. На некоторые съемки вместе с группой ездил сам Каллер, страстно коллекционировавший визитки высокопоставленных лиц. Иногда для контроля и из любопытства ехал и я. К сожалению, снятые картины демонстрировались лишь на канале «Столица», который могли принимать даже не во всяком посольстве в самой Москве. Поскольку Каллер не говорил ни на каком языке, мое присутствие иногда оказывалось весьма кстати. Иногда у меня успевали даже завязаться отношения не совсем формальные, как случилось с Послом Ирландии Дж. А. Харманом. В большой светлой гостиной посольства они с супругой художницей наперебой рассказывали историю «усыновления» дремлющей в мягком кресле когда-то больной русской кошки, подобранной парой на московском рынке… Посол пригласил меня на гостевую трибуну, устанавливаемую в центре Калининского проспекта в марте в ежегодный праздник Дня Святого Патрика. Я поехал. Пройти к ней, как выяснилось, можно было только миновав несколько кордонов милиции, начинающихся еще от станции метро.
В этот день по перекрытому для движения центральному проспекту столицы дефилировали колонны музыкантов и исполнителей под национальную музыку с эмблемами – зелеными трилистниками. На трибуне собирались почетные гости, непременно кто-то из высших чиновников мэрии. За трибуной на асфальте была развернута длинная палатка, где приглашенным раздавали сэндвичи и наливали горячий чай или кофе. Мне было интересно, до тех пор это действо я видел только в вечерних выпусках новостей.
Хуже обстояло дело, когда от имени компании на съемки ринулся какой-то малограмотный дальний родственник Каллера, которого он принял к себе на роль режиссера. Дело в том, что само построение ленты цикла предполагало ответы Посла на закадровые вопросы, которые инициировал обычно режиссер, выступающий и как автор сценария. В «объективке» – краткой биографии Чрезвычайного и Полномочного Посла, которую представило Посольство Исландии еще до съемок, в данном случае было указано, что он холост. Высокий улыбающийся Бенедикт Асгейрссон, лет сорока пяти, приветливо принявший нашу группу в особнячке в Хлебном переулке Москвы, хорошо говорил по-русски. И этот наш «режиссер», пять минут назад познакомившийся с дипломатом, сразу после того, как комнату, где велась съемка, согласовав с послом какую-то срочную бумагу, покинула дородная сотрудница канцелярии, запросто подмигнул послу:
– Вы уже не первый год в Москве. расскажите, как же вы тут устраиваетесь? Любите русских женщин или. – он кивнул на дверь, за которой исчезла исландка, – изыскиваете «внутренние резервы»?
Бедный оператор от неожиданности даже опустил камеру. Обалдел и я, отчаянно дергая идиота за рукав. Но господин Асгейрссон тактично сделал вид, что не совсем понял вопрос.
– Конечно, русские женщины удивительно красивы. – тщательно выговаривая русские слова, заговорил он. – Я знал это раньше, уже из литературы. У Толстого, если помните.
Мы с оператором перевели дыхание.
Впрочем, когда в Посольство приходилось попадать вместе с самим Каллером, стыд подчас приходилось испытывать не меньший. Однажды после завершения съемок всю киногруппу пригласил на приватный обед посол государства Кувейт Сулейман Аль-Морджан. Небольшой современный особняк на Мосфильмовской улице за высокой оградой являл собой место, где, казалось, были осуществлены все желания его обитателя. Нам показали практически все помещения здания, обставленные с восточной роскошью – потрясающей мягкости ковры, резная мебель, скульптуры, огромный бассейн. На площадке широкой лестницы, ведущей на второй этаж во внутренние покои, которая сама по себе представляла собою шедевр дизайнерского искусства, стояла большая клетка с поющими птицами. Короче говоря, все это напоминало осуществившуюся восточную сказку, и потому можно было понять Посла, уговаривавшего снимать интерьеры не демонстрируемых обычно помещений поскромнее, что бы не вызывать, как он выразился, «нездоровых эмоций» коллег по московскому дипкорпусу.
Посол встретил нас в национальной одежде и головном белом платке с черным обручем. Стол ломился от восточных яств. Миша Масленников, поспоривший, что спиртное нам не предложат, проиграл, потому что русская официантка попросила разрешения разлить каждому из охлажденной бутылки хорошую русскую водку.
– Хороший стол, а, Александр Исидорович? Даром, что араб. Не зря ехали. – сидящий рядом Каллер, плотоядно потирая руки, нагнулся ко мне. – Только слушайте, они тут зачем-то несколько приборов положили, смотрите – по три вилки. На кой черт?
Получилось так, что его громкий шепот пришелся как раз на паузу в выступлении посла, сделанную для перевода. И таким образом, был услышан всеми, кто понимал по-русски. Один только посол, как раз рассказывающий о том, что финики вчера привезли из его сада в Кувейте, вопросительно посмотрел на своего сотрудника – у гостя, видимо, важный вопрос, переведите…
Пожилой посольский переводчик что-то сказал по-арабски – после чего посол, хмыкнув, поторопился закончить свою речь, а я, покраснев, тихо начал объяснять нашему продюсеру, что начинать всегда следует с прибора, лежащего от тарелки дальше остальных…
Гипертрофированное тщеславие Якова Александрович росло в непомерных пределах, становясь уже откровенно комичным. От каждого субъекта, с кем вступала в контакт компания, будь то бедное посольство Маврикия или Театр балета, я обязан был по его настоянию мягко, но настойчиво требовать благодарственное письмо за сотрудничество на его имя, которое потом он приказывал разместить на сайте. По его желанию я долго подбирал для его визитной карточки эквивалент на английском выбитому им званию «заслуженного работника культуры». Дело в том, что такое же присваивали и ветеранам-киномеханикам или рабочим сцены, а он желал засвидетельствовать, что работает в киноискусстве. Поскольку на «заслуженного деятеля искусств» его заслуги никак не дотягивали, приходилось слегка «передергивать» с синонимами.
Но самым счастливым моментом за рабочую неделю для него были мгновения, когда ему на мобильный телефон звонила Лиознова. Много лет назад Каллер поработал зам. директора съемочной группы на студии Горького на какой-то из ее картин, и с тех пор отошедшая от дел известный режиссер его не забывала – главным образом по хозяйственным делам.
Каллер ужом выскакивал в коридор и, нарочито медленно включаясь в разговор, одновременно шепотом, прикрывая трубку, объяснял каждому идущему мимо:
– Потише… Опять Татьяна Михайловна звонит… сами понимаете…
Очередную бытовую просьбу восьмидесятишестилетней Лиозновой он обещал сегодня же переадресовать в гемайду (общину) и лично проконтролировать исполнение. Разъединившись, он с гордым видом окидывал взглядом притихших подчиненных, как бы говоря – «вот с кем запросто…» – и молча закрывал за собою дверь кабинета.
Между прочим, уже после моего ухода осуществленным апофеозом его мечты стало награждение Якова Александровича неким Орденом «Ради жизни на земле», учрежденным Объединенным Президиумом Международной Академией Общественных Наук и Международной Академией Меценатства. Фото церемонии он развесил во всех мыслимых местах. Частная эта контора предприимчивых ребят, о которой пару раз писала «Комсомолка», с удовольствием награждала красивой побрякушкой любого, готового пожертвовать им несколько тысяч долларов или оказать деловые услуги на равную сумму. Тут протекцию ему составила уже упомянутая мною Таня Качанова, после чего, на всякий случай, он поспешил уволить и ее.
…Репортажно снятые кадры – по подмосковному городку едет микроавтобус. Не отрываясь от стекла, Федоров рассматривает проплывающий за окнами пейзаж.
– Ничего не помню. Теперь и не узнаешь… У меня много дач и гаражей было… Только построю – переводят, я и передаю бесплатно… Была тут у Лавочкина секретарь… Лидия Ивановна… Она три раза выходила замуж за летчика… Только выйдет – он погибнет… Только выйдет второй раз замуж – опять вскоре погибает…
У обелиска Федорова ждут, встречают. Людей – множество. такой праздник-юбилей КБ Лавочкина.
– Здравствуйте, Иван Евграфович, меня зовут Татьяна, я представитель отдела культуры. Мы вас так ждали, столько о вас наслышаны.
Усаживают в кресле на самом солнцепеке.
– Ой, на свет. – он закрывает глаза ладонью.
– Все нормально…
– На свет… я не вижу… на свет-то…
– Здесь ничего не сделаешь…
Матерится, встав рядом и склоняясь к уху Евграфовича, другой Герой Союза, космонавт Волк – про день сегодняшний говорит…
– На свет-то… товарищи, на солнце-то… Но уже речи звучат. это важнее.
– Иван Евграфович, в пять минут-то уложитесь… вы, говорят, больше с врагом не возились?..
– Я хочу поклониться Ивану Евграфовичу, это человек-легенда. – говорит седой старик у микрофона. – Товарищи телевизионщики, не вырезайте это.
Звучит, заглушая военный оркестр, знакомая мелодия саксофона, кажется, сорвется сейчас вслед за ней боевой истребитель Лавочкина с обелиска…
Скачками двигаются стрелки на часах из коллекции…
Кто-то за кадром подчеркнуто «дежурным» голосом зачитывает «объективку»:
«Федоров Иван Евграфович.
Летчик испытатель первого класса.
Награжден: орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, четырьмя орденами Великой Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Великой Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной звезды, орденом Александра Невского, орденом «Лавры Мадрида», другими иностранными орденами и медалями.
По ряду источников лично и в составе группы сбил до 134 самолетов противника.
Полковник в отставке.
Пенсионер.
Герой Советского Союза. Русский».
Миша Масленников и я сделали неплохой фильм, необычный и искренний. Миша предложил название – «Старик и небо». Но отношения с Каллером были уже напряженные, он начал, вслушиваясь в нашептывания со стороны, настаивать на переделках. К тому же, я как раз позволил себе в очередной раз вступиться перед ним за его заместителя по производству, на что тот сам никогда бы решился, немолодого уже телевизионщика, в очередной раз беззастенчиво обиженного зарплатой.
Что-то пришлось уступить в фильме, мы хитрили, вписали продюсера в титры дважды – еще и как автора идеи (что, впрочем, было правдой), кое-что перемонтировали. Но картина оставалась для него абсолютно непонятной, не соответствующей знакомым ему канонам. А, значит, порочной. Широты интеллекта у человека, именующего себя продюсером, явно не хватало. Страстный коллекционер всяческих призов, заработанных его подчиненными, он тем не менее категорически запретил отправлять ее на любой киносмотр.
Мне все это надоело. Чувствуя, что дело близится к концу, я наплевал на его запрет и собственной властью успел направить диск с фильмом на один из фестивалей. Еще не зная об этом, он через день предложил мне уйти. Хотя зарплата главного редактора была для меня не лишней, я написал заявление даже с каким-то облегчением. Ушел, просто, как из болота вырвался, и долго еще руки вымыть хотелось.
Цитаты из Википедии:
«Картина создавалась в непростых условиях серьезного противостояния авторов с малопрофессиональным продюсером, не способным отрешиться от бытующих киноштампов фильмов о войне. Вопреки его воле фильм был направлен на международный кинофестиваль.
.. Полнометражный документальный фильм «Старик и небо» по сценарию А. Анненского (режиссер М. Масленников) удостоен специального Диплома и Медали «Петр I» за новизну раскрытия образов героев Великой Отечественной войны на Пятом Международном фестивале военного кино (2007 г.).
…Премьера картины состоялась ко Дню Российской Армии в феврале 2008 г. на телеканалах «Культура» и «РТР-Планета». Девяносто три миллиона человек могли видеть премьерный показ ленты на территории России и еще более пятидесяти миллионов зрителей – в Западной Европе, на Ближнем Востоке, в странах СНГ, Балтии, США и Канаде».
Вот еще что – и это важнее всего остального. Ивану Евграфовичу Федорову сегодня девяносто шесть. На стеле, что на его могиле на подмосковном кладбище, место под дату ухода остается пустым. Слава Богу!
Конец 2000 годов, Москва
Удобнее всего ездить на работу оказалось на монорельсовой дороге – вагончики на эстакаде останавливались буквально в нескольких сотнях метрах от квартиры, которую я снял на улице Сергея Эйзенштейна, даже станция называлась также. То обстоятельство, что в родном городе мне пришлось снимать чужую квартиру, выглядело, конечно, по сути своей, абсурдно, но вариантов не было – поступивший на режиссерский факультет ВГИКа Андрей уже после первого семестра жить в студенческом общежитии категорически отказался. Двухкомнатная квартира, которую удалось мне найти, находилась рядом с киностудией Горького, то есть всего через несколько домов от самого института, и это было главным ее преимуществом. Плата оказалась средней для столицы, зато мне удалось договориться о том, что с меня не стали требовать общепринятый залог в сумме еще одной месячной квартплаты – в обмен на мою книжку с посвящением. Таким образом, один книжный томик с моим изображением на обложке оказался по денежному эквиваленту равен трети гонорара, полученного автором за весь тираж. Однако зачесть дополнительно автограф за сумму годовой оплаты аренды, хозяйка по непонятным причинам не захотела, и потому мне опять пришлось перебираться в Москву, чтобы зарабатывать на оплату жилья для Андрея.
Вагончик монорельсовой дороги, почти всегда полупустой, довозил меня часам к 11-и утра до самого Телецентра. Совсем недавно преобразованная московскими властями из туристического аттракциона в реально работающую систему монорельсовая дорога, сооруженная тут в свое время по очередной глупости столичной мэрии, мне оказалась очень кстати. Единственно, что злило, это, как и в метро, глухо запертые две из трех стеклянных дверей на выходе, в которые каждый раз с размаху бился приехавший на работу телевизионный народ. Мне это быстро надоело, и я зашел однажды к дежурной по станции «Телецентр». То ли моя ссылка на бессмертную фразу классиков, написанную еще в тридцатых годах о том, как любят в Москве запирать двери, то ли обещание, что через полчаса сюда приедут пять съемочных групп из соседнего «Останкино», чтобы запечатлеть допускаемое безобразие, произвели на нее такое впечатление, что станция с этого же вечера стала, возможно, единственным метровокзалом в городе, где заработали все предусмотренные конструкцией входные двери. Как на входе, так и на выходе. Удовлетворившись этой маленькой моральной победой, я получил возможность ежедневно с гордостью поглядывать на теперь свободно проходящих к Телецентру коллег, даже не подозревающих кому они обязаны таким счастьем. Продолжалось это удовольствие аж недели четыре.
Кубик останкинского телецентра с невидимым с улицы внутренним крышей-двориком вызывал во мне теплые чувства. Наверное, еще со времен функционирования знаменитой Шаболовки, от которой сюда по несколько раз в день ходил служебный автобус. Каждая поездка из обшарпанных помещений старого телецентра сюда вызывала легкую зависть к тем, кто уже успел здесь обосноваться. В молодости я успел тут поработать ассистентом кинорежиссера в творческом Объединении «Экран» на шестом этаже, снимавшем игровые и документальные ленты, потом приходил туда как автор. Служил редактором – уже на другом этаже – в Главной редакции литературно-драматических программ, которую в то время возглавлял внебрачный сын Сталина Константин Степанович Кузаков. Кстати, в отделе, которым руководил внук знаменитого детского писателя Корнея Чуковского Дмитрий и на месте ушедшей в декрет дочери популярного в то время литературоведа Ираклия Андронникова. Попадал под знаменитую компанию, когда после назначения председателем Гостелерадио Сергея Лапина в один печальный день из всех баров телекомплекса исчезло спиртное, а на входе появились люди, отбиравшие служебные удостоверения у каждого опоздавшего хоть на минуту после девяти, что грозило затем кучей всяческих неприятностей. «Я не мамин, я не папин, мой патрон – товарищ Лапин, у него теперь служу, ровно в девять прихожу…», – пели мы тогда грустносмешную песенку.
В огромных пространствах телецентра всегда существовали места, куда нельзя было заглянуть просто так. Я говорю не о спецпомещениях и эфирных студия – тут, в общем, все вполне объяснимо…
В советское время, например, на десятом этаже, в коридоре, покрытом смягчающим шаги темно-серым напольным покрытием, всегда царила строгая начальственная тишина. Здесь располагался один из кабинетов председателя Гостелерадио и его замов, и не рекомендовалось болтаться на этаже без дела, тем более заглядывать в дверь без вывески, где, как знали посвященные, находился спецбуфет для руководства. Но все это происходило на уровне «внутренней самоцензуры», без каких либо зримых ограничений.
Возвращаясь на ТВ сегодня, был я уверен, что все эти сословные штучки давно позади… Новая контрольно-пропускная система, устроенная теперь в телецентре, при которой перед дежурным милиционером на мониторе высвечивается даже физиономия подлинного обладателя пропуска, а разовые гости могут попасть внутрь исключительно в сопровождении пригласившего их, казалось бы, в известной степени гарантирует состав публики внутри. Возможно… Но не изменения в самосознании нового основного владельца ТТЦ – Первого канала. Оказалось, что управляющие им люди боятся чего-то куда больше, чем партийные начальники прошлого.
Теперь, выйдя из лифтов на десятом этаже, (а покрытие-то за годы поистерлось.) оказываешься в холле, окаймленном двумя гнутыми барьерчиками наподобие рецепшен в отеле средней руки, за каждым из которых помещается чудик в аккуратном темном костюме с галстуком и убойным весом за сто двадцать кило. Нельзя больше пройти налево или направо по коридорам, где расположены разные отделы Канала, не говоря уже том, чтобы подойти к приемным начальства – причем не самого главного, просто из ближнего круга Самого Кости. Есть только два пути – обратно в лифт или через холл вниз по лестнице. А вот спецбуфет без вывески, с выскакивающими оттуда в туалет официантами, остался. Правда, вместо милых девушек прежних времен в отглаженных блузках, большинство их – вкусы меняются? – мальчики при бабочках, ну, как в Кремле… Народ и партия едины.
Зато достраивали первую в мире православную церковь на телевидении, слегка потеснив бар на первом этаже. Стройку освятил малоадекватный Иван Охлобыстин, с сентября 2009 года храм начал функционировать, и теперь, как на полном серьезе сообщал телеканал «Столица», «представители столь ответственной профессии могут ощутить благодать не выходя с работы…»
Простой теленарод и посетители, кроме тех, кто тут работает, на десятый, как почти не ездили, так почти и не ездят. А посетителям телецентра вообще куда как интереснее посидеть в буфете перед плазменным теликом где-нибудь на втором этаже, где расположены гримерки и студии. на кого только за день не насмотришься…
Вон царственно перемещается в пространстве патриарх Кобзон, вероятно, имеющий основания и тут не расставаться с личным телохранителем; стремительно несется куда – то, наталкиваясь на идущих навстречу, с совершенно отрешенным выражением лица Андрей Малахов; шествуют, распугивая местных уборщиц из Средней Азии неземными ароматами, узнаваемые музыкальные дивы со шлейфами свит; раскланивается по сторонам вежливый Новожженов, опять забывший отряхнуть плечи и лацканы пиджака перед зеркалом; выходят расслабиться после эфира популярные телеведущие НТВ в «раздвоенном» образе – строгий верх, свободный низ – джинсы с кроссовками (в кадр-то не попадут…), торопливо курят на лестничной площадке (а больше нигде теперь и нельзя) Жиндарев с Берманом, споря о кандидатуре следующего гостя…
Руководство телекомпании «Останкино» находилось на девятом этаже. Когда лет десять назад прекратил свое существование «Первый канал «Останкино», известный бренд остался как бы бесхозным. Быстро оценив ситуацию, продюсер Алексей Пиманов подал заявку на регистрацию торгового знака, и это было сильным ходом. Накопленный брендом если не авторитет, то узнаваемость автоматически стала в сознании зрителей принадлежностью новой телекомпании. Кстати, во многом по справедливости – именно компания возрождала такие передачи, как «Человек и закон» или «Здоровье».
Сегодня ЗАО «Останкино» – одна из крупнейших производящих телевизионных компаний России, и на красивых табличках перед маленькой приемной красуются две фамилии – «Генеральный директор А. В. Пиманов» и «Председатель Совета директоров С. К. Медведев». Основным покупателем программ является Первый, но кроме того, телепродукция регулярно демонстрируется и на ряде других федеральных каналов. Если не полениться и задрать голову при входе в телецентр, то на козырьке главного подъезда среди других легко разглядеть флаг компании с логотипом в виде четырех скрещенных колечек. Я хоть и получил такие же на свою визитку, окрашенную в бордовые цвета компании, но текучка так и не позволила мне докопаться до истоков его происхождения. Виноват.
В небольшой приемной с маленьким телевизором на консоли под потолком и цветными фото учредителей на стенах правили поочередно две секретарши бальзаковского возраста – светлая и темная, приходящиеся какими-то родственницами каждому из наших руководителей. Кто из дам, кем именно и кому приходится, я за время своей работы тоже не выяснил. В любом случае, степень родства была, очевидно, вполне достаточной для ощущения собственной значимости, а разница между ними заключалась в том, что если та, что посветлее, не стеснялась выполнять обещания проинформировать о появлении на работе шефа, то для другой, темной, это было явно ниже ее достоинства. Поскольку в компании царили демократические нравы, то к каждой было позволительно обращаться просто по имени – Юлия и Наталия.
Но главное было в том, что обе они были адекватны, как и сами руководители.
Леша Пиманов, загруженный по горло, по-видимому, успевал за день переделать множество дел, потому что застать его в компании было малореально. Не оставляя сделавший в свое время компании имя регулярный «Человек и закон», он последнее время занялся созданием игровых сериалов, в которых, реализуя свою детскую мечту, выступал в качестве режиссера-постановщика. Его, кстати, бесило, что с его правом на это далеко не все были готовы согласиться – особенно телекритикесса Петровская, именовавшая его в своих разгромных рецензиях «журналистом Пимановым». Сериалы и в самом деле были неважными, но так или иначе съемки занимали почти все его время; периодически откладывались даже любимые им летучки, время которых в его кабинете, кроме тяжелых напольных «курантов», отсчитывала и большая электронная «хлопушка».
Кстати, она показалась мне такой симпатичной и знаковой, что я, с большим трудом раздобыв такую, даже подарил ее Андрею на его день рождения.
Ко всему прочему, Алексей стал еще и членом Общественной палаты – так что спал он, по его признанию, в лучшем случае, часа четыре в сутки.
Однако при всем этом Пиманов ухитрялся держать «руку на пульсе» и при первой возможности все-таки поручал к своему появлению собрать всех руководителей подразделений и программ у себя в кабинете.
Тогда за небольшим столом и у стен рассаживались руководители направлений, шеф-редакторы, режиссеры. Приходил занимающийся военной тематикой Саша Ильин, отставной подполковник, эмоциональная, всегда натянутая, как струна, Наташа Метлина, совсем недавно в очередной раз ставшая мамой и в то время ведущая «Спецрасследования», мой приятель Женя Латий, отвечающий за криминал и спецпроекты, Александр Галкин – телевизионный зубр, бывший главный редактор одного из телеканалов, на котором висели наиболее ответственные темы, связанные с биографией выдающихся личностей. Если в редких случаях летучки удостаивала посещением Елена Малышева, чей большой портрет из рекламы программы «Здоровье», как по заказу, красовался на стенде при подъезде к телецентру, то вместо разбора текущей производственной ситуации часто много времени уходило на монолог этой довольно высокомерной дамы, которую даже Леше не всегда удавалось остановить. Ссылаясь на итоги очередной своей поездки в Штаты или приватную беседу в своем доме с кем-то из руководителей правительства, Елена безапелляционно объясняла, как именно следует освещать актуальное громкое событие.
Так или иначе все разговоры часто сводились к призывам попытаться найти, кроме свежих тем, приемлемых для Первого канала, и новые форматы, приближающие надоевшие всем телепередачи к настоящему документальному телевизионному кинематографу. «Ну, нет, вроде, у нас в компании дипломированного сценариста со вгиковским образованием, с кем я должна советоваться?..» – на первой при мне летучке в сердцах бросила Наташа Метлина в ответ на упреки в невнятности киноязыка последней своей работы.
– Уже есть… – сказал Медведев.
Именно Сергей курировал в компании направление, формально считавшееся документальным кино. Но даже, когда речь шла о его собственных многочисленных работах, эти кинорассказы часто выглядели лишь разбавленным хроникой набором его стэндапов (синхронов), снятых в местах, где происходило действие. Это вовсе не делало его работы хуже других на отечественном ТВ – совсем напротив, он обладал громадным журналистским опытом и убедительностью опытного телеведущего, получившего первые телеуроки еще в программе «Время». Просто документальные ленты совладельца «Останкино», бывшего пресс-секретаря Президента России, к настоящему документальному кинематографу имели, на мой взгляд, несколько опосредованное отношение. Это была достаточно надоевшая открытая телепублицистика, прямолинейность которой лишь немного смягчалась актерским дарованием самого человека в кадре.
Собственно, осознание Алексеем и Сергеем факта необходимости перемен и послужило причиной моего появления в компании. Приглашенный на должность главного редактора, я должен был, по их замыслу, резко поднять уровень сценарной работы, добившись от выпускаемой компанией для «Первого канала» продукции хотя бы некоторого соответствия законам документального телекино.
Впрочем, Алексей уже в первые дни популярно объяснил, что это никоим образом не касается работающей в компании его жены Валентины, дочери и двух сыновей – с ними он имеет возможность «дома разобраться».
Кстати, вскоре неожиданно оказалось, что один из его сыновей оказался моим студентом на четвертом курсе режиссерского факультета Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М. Литовчина, куда меня, кроме Высшей школы телевидения, позвали преподавать. Так что, в какой – то степени, «разбираться» с пимановским наследником получил возможность и я.
Признавая такую постановку дела совладельцем компании вполне правомерной, я должен был сосредоточиться на остающейся немалой части производства.
Получив наконец свой небольшой кабинет на третьем этаже, на котором находилось еще много комнат, арендуемых компанией, я попытался включиться в процесс. Прежде всего, освоить цепочку прохождения темы от момента замысла до утверждения покупателем – «Первым каналом» и включением фильма в эфирную сетку. Встретился с теми, кто курировал Компанию от лица Первого – вначале это был преклонных лет дядя по фамилии Никифоров, явно из отставников соответствующих органов, пришедший на ТВ с унаследованным чувством опасности. Таковой для него являлась единственная вещь – неудовлетворенность Кости.
Место Никифорова на госканале было настоящей синекурой, и он не хотел рисковать даже в мелочах – куда проще было просто отфутболить любую более или менее интересную – а значит, и в чем-то острую тему, чем потом отстаивать ее там, наверху. Зачем снимать кино о сомнительной советско – финской войне, когда можно рассказать о юбилее бывшего госдеятеля. Но когда его с большим трудом перевели на почетную, но уже куда менее ответственную должность советника, а в его кабинет в АСК 1 переехал, казалось бы, куда более профессиональный человек Алексей Пищулин, сам пишущий и даже имеющий телепремии, не изменилось практически ничего. Система брала свое. Все замечательные рассуждения, которых я наслушался о необходимости перемен, о том, что Канал ждет «настоящее документальное кино», на практике, как постепенно выяснялось, стоили немногого. Самая главная проблема заключалась в том, что никто не хотел брать на себя ответственность за окончательное решение – на все надо было ждать реакции одного человека, первого зама Эрнста Олега Вольнова.
Поражал и феноменально низкий уровень квалификации рядовых редакторов общественно-политического вещания Канала, занимавших эти высокооплачиваемые места явно не по праву. Однажды мне принесли заключение, подписанное какой-то редакторшей общественно-политической дирекции Первого, где та на полном серьезе предъявляла претензию одному из наших режиссеров, в фильме которого она не смогла отличить «реконструированные» эпизоды от документальных. Другими словами, известный прием «оживления» эпизодов, которые в принципе не могли быть запечатленными хроникой, (то, что, к примеру, замечательно сделал в ленте «Брест» Пивоваров на НТВ) был проведен столь стилистически точно, что не выделялся среди хроникально-документального ряда – и этот высокий профессионализм режиссера ставился ему же в вину! Глупость автора заключения была настолько очевидной, что мы с Медведевым долго потом смеялись над уровнем тех, кто решает на Канале судьбу работ Компании.
Надо сказать, что мне в принципе импонировал стиль работы, существующий в «Останкино». Никому не приходило в голову устанавливать время появления в телецентре или ухода – делалось бы дело, и это было главным. Все, включая Алексея и Сергея, были легко доступны по прямому мобильному номеру, независимо от того, где находились. Самоконтроль взрослых ответственных людей приносил больше пользы, чем неумное администрирование. Иногда Алексею время не позволяло добраться до телецентра, и тогда летучки назначались прямо в кафе где-нибудь в центре города.
Мы с Женей Латием, несмотря на загруженность каждого, все же ухитрялись, как правило, найти минут двадцать на чаепитие с баранками у него в кабинете на втором этаже. Иногда даже удавалось вместе пообедать – и тут я несколько изменил приоритеты своего друга. Если до моего прихода он годами ходил в дальнее крыло, к самой Концертной студии в кафе сети «Му-му», то я открыл для него кафешку в другом корпусе – АСК 1, где было на порядок дешевле и лучше. Кроме того, там, у входа, стоял единственный на телецентре специальный автомат по продаже красной икры, где мы время от времени прихватывали по холодной баночке вкусной икры без консервантов. Единственно, что при этом напрягало, так это то обстоятельство, что приходилось по пути на обед либо переходить улицу Королева, всегда заполненную транспортом, либо спускаться вниз и топать с полкилометра по подземному туннелю, соединяющему два корпуса.
Мне нравилось работать с Медведевым. Наверное, Борис Николаевич знал, кому поручал представлять себя перед миром. Тесноватый, но стильный кабинет Сергея был уставлен разными симпатичными призами и памятными ему вещицами. Сидя тут на совещаниях последние месяцы, я часто разглядывал висящее на стене совместное фото Сергея с улыбающейся Наиной Иосифовной времен его работы в Кремле – по снимку чувствовалось, что она явно испытывала дружеское расположение к пресс-секретарю мужа. Меня многое привлекало в этом человеке – его способность идти на риск, закрывая глаза на возможные последствия, умение, восприняв слова собеседника, пересмотреть свое даже уже объявленное решение. Наши мнения почти по любому профессиональному вопросу совпадали, как и общая оценка того или иного события. Если, с моей точки зрения, Леша Пиманов был твердым приверженцем существующих на текущий момент политических установок (недаром сейчас он уже сенатор, член Совета Федерации (!)) – во всяком случае, до тех пор, пока это не препятствовало его экономическим интересам, то Сергей, напротив, как мне казалось, сохранил внутренний либеральный дух ельцинских времен.
Сроки поджимали, а фильм цикла «Тайны века», эфир которого, как это всегда принято у нас, изначально был точно приурочен к юбилейной дате, не складывался. Автор сценария прямо заявил шеф-редактору Саше Галкину, что если Компания попытается драматизировать скучноватое повествование, рассказывая о первой семье героя ленты, проявленной им в войну трусоватости, еврейских корнях Юрия Владимировича, то он вынужден будет снять свою фамилию с титров – у него есть обязательства перед согласившейся на съемки женой и другими членами семьи, которым он обещал что все эти вещи упомянуты в картине не будут. Мы собрались у Медведева.
– Сценарий все равно плохой… Надо придумывать, как спасать фильм.
– Может быть, мы попробуем весь рассказ о судьбе Андропова перекроить, выстроив его через венгерские события?.. Впечатление от того, что творилось на его глазах в Будапеште, ведь на самом деле станет для него потом определяющим. – предложил я. – Надо периодически возвращаться к тому времени по ходу рассказа, раза три минимум. хроники достаточно…
– Согласен… правильно… – Сергей кивнул. – Возьми на себя на это.
– Уже. – кивнул я.
– Хорошо. Будем делать так, как все было на самом деле. – решил Сергей.
– Ну ладно – семья может обидеться, а если «наши соседи» в последний момент рогом упрутся… будут на Канал звонить?.. – засомневался я.
– Не думаю. в любом случае – это их проблемы. – сказал Сергей. – Давайте быстренько подготовим стэндапы и… – он повернулся к Галкину, – заказывай командировку в Рыбинск и Ярославль. В воскресенье и поедем на машине.
Через пару часов с набросками его комментария мы вернулись к Сергею в кабинет и еще минут сорок Медведев, по ходу советуясь, правил, как всегда, текст под себя.
В субботу уже был назначен монтаж под озвучение, и я приехал в выходной в полупустой телецентр, чтобы помочь режиссеру. Фуад Шабанов был моложе меня, и я в буквальном смысле ощущал себя человеком из прошлого века, когда по ходу дела легко подсказывал ему фамилии и должности появляющихся в хронике руководителей советского времени.
– Слушай, как ты их всех помнишь?.. – удивлялся он.
За два дня фильм был перемонтирован, найдено место каждому из новых стэндапов, привезенных Сергеем из поездки на родину Андропова. Получилось, что в известной степени в фильме теперь можно было проследить процесс политического и человеческого развития этой очень непростой личности.
Мне нравился закадровый комментарий последнего эпизода ленты, точнее, написанные нами последние слова, придававшие, как мне казалось, некую неоднозначность всему кинорассказу. Но я не был уверен, что Сергей захочет произнести текст именно так. Однако он полностью согласился со мною.
И сегодня в финале фильма на документальных кадрах того дня звучит его голос: «…В день похорон Андропова был сильный мороз. Оператор включил микрофоны на трибуне Мавзолея раньше времени. И было слышно, как Черненко, обращаясь к Тихонову, скажет: «Холодно, шапки снимать будем?» Сподвижники решили шапки не снимать…».
Полнометражный фильм «Ю. Андропов. Пятнадцать месяцев надежды» вышел в эфир Первого канала в день 95-летия Генерального секретаря. Его посмотрели десятки миллионов зрителей, и он вызвал в стране множество разнообразных рецензий и откликов. Потом Сергей сказал, что ему звонили и из ФСБ – картина там понравилась.
«Московское дело» – новый цикл, задуманный Пимановым, должен был состоять из фильмов, в которых рассказывалось о наиболее громких судебных процессах в Мосгорсуде предшествующих лет. Председатель суда, небезызвестная Ольга Егорова, дав Алексею формальное согласие на совместную работу над циклом, тем не менее обязала судей, рассказывая о прошлом, оставаться «застегнутыми на все пуговицы». Разрешались съемки интервью в архиве и зале судебного заседания, но нельзя при этом было говорить о личности самого судьи, его эмоциональных переживаниях, сопутствующих процессу, о котором шла речь, снимать его самого или кого-то из его семьи в неформальной обстановке – дома или на улице.
Таня Косовцева, немолодая девушка без профессии, но с телевизионным опытом, назначенная продюсером на цикл, таскала мне один за другим сценарии, написанные, очевидно, частично ею самой, частично ее знакомыми, и состряпанные по канонам старых телепередач. В традициях шестидесятых годов – времени становления ТВ – тексты были разбиты на две колонки – слева шел дословно переписанный бесконечный синхрон, справа – два-три слова, обозначающие место действия. При этом эпизоды просто перечислялись, и их последовательность запросто могла быть изменена без особого ущерба для содержания. Главным при этом становился текст, а вовсе не картинка. Короче говоря, такой подход к самому по себе интересному материалу не имел ничего общего с телевидением, документальным кинематографом. Но любые мои попытки объяснить это Тане или присылаемым ею авторам, заканчивались ничем. Меня не слышали.
– Слушай. ну кому нужен этот сценарий… – нервно докуривая очередную сигарету, втолковывала мне сидя в моем кабинете Татьяна. – Он для бухгалтерии только… Мы же рассказываем о документальных событиях. Эти твои драматургические усложнения – они простому зрителю – на фиг… Ему нужно, чтоб стреляли. бегали. а ты хочешь, чтобы каждый герой был неоднозначен… Да не поймут они…
– Ты же, однако, понимаешь… Почему надо изначально зрительский уровень считать ниже нашего?..
– Да потому, что оно так и есть… – Татьяна со злостью вдавливала сигарету в коробочку, служившую пепельницей. – Для кого, по-твоему, ящик работает? Так сложилось…
– Так может, это потому, что все мы так сознательно этого добивались столько лет, не думаешь? С такой публикой, конечно, проще. А потом удивляемся рейтингам «Аншлага»… Давай попробуем не держать миллионы априори за идиотов. У меня вот вчера час Наташа Метлина просидела – человек, казалось бы, уже сверхопытный, известный – приходила советоваться. Мы придумали, как ее спецрасследование о дальнобойщиках переделать – опять-таки, через судьбу одного из шоферов.
– В общем, – она поднялась, – не подпишешь? Имей в виду, у меня все сроки срываются.
– Не подпишу. Ну хочешь, я сам вот это добро перелопачу, если автор твой не способен понять, чего я от него хочу?.. Просто как пример…
– У меня с понедельника съемки.
– Ну, положим, ты знала, что не имеешь права начинать работу, не утвердив у меня сценарий… А за выходные я сделаю. и сброшу тебе на почту.
Косовцова недоверчиво пожала плечами и побежала в очередной раз интриговать против меня по кабинетам. А я за субботу действительно переписал весь сценарий, придумав для героя – отставного военного судьи – некое «альтер эго» – его самого в молодости, что позволяло рассказать о многих сомнениях, одолевавших героя во время того громкого процесса, о которых он никогда не решился бы сказать от собственного имени.
Татьяна, получив сценарий, немедленно перекинула его Пиманову со своим комментарием и потом очень удивлялась, что тому он понравился. Правда, работать начала все равно без оглядки на него.
…В самом начале июня секретарша обзвонила всех, приглашая к концу рабочего дня в кабинет Медведева на «рюмку чая» по случаю дня его рождения.
На столах у окна стояло несколько бутылок марочного виски, дорогого коньяка, белое и красное вино. Блюда с богатой мясной и рыбной нарезкой и фрукты дополняли интерьер. В небольшой кабинет набилось множество поздравляющих, все не помещались, и дверь в приемную не закрывалась. Люди приходили, поздравив юбиляра, поднимали тосты. То и дело у Сергея звонила его «Nokia», и он, не выпуская из руки рюмку, благодарил за пожелания. Минут через двадцать после начала празднования зашел средних лет мужчина в костюме в полоску при галстуке и тонких очках. Тот факт, что гость пришел без подарка, очевидно, свидетельствовал о его принадлежности к высокому руководству, давно убедившему себя, что сам по себе факт визита уже есть награда для празднующего. Олег Вольнов полуобнял Сергея, поздравляя.
Праздник был уже в разгаре, все уже немного выпили, и настроение было достаточно раскованным. Мы с Женькой, потягивая виски, что-то обсуждали из ближайших планов.
– Слушай… – я долил в оба стакана, – пойду-ка я с Олегом Викторовичем пообщаюсь…
– Не советую. – Женька удержал меня за рукав. – Он не станет разговаривать. не тот человек…
Я только хмыкнул и начал протискиваться к первому заму Эрнста.
– Простите, можно вас на секунду отвлечь?.. Моя фамилия Анненский, я главный редактор у Сергея… – Вольнов повернулся ко мне.
– Мы тут в Компании темплан формируем. очень бы хотелось понять сегодняшние приоритеты Канала, чтобы работать наверняка… выслушать ваши пожелания. Быть может, вы могли бы назначить время… несколько минут… я бы поднялся к вам поговорить.
– Нет. – Вольнов холодно покачал головой. – У нас так не делается… – он выговаривал слова очень четко и при этом смотрел прямо в глаза. – Есть субординация, кураторы от Канала – пожалуйста, все вопросы – с ними. Можете, конечно, записаться у моего секретаря. но вряд ли. есть порядок…
Выпитый виски бросился в голову, но я сдержался. – Говнюк, – подумал я. Всю жизнь я без особых хлопот мог встретиться с нужным мне человеком любого ранга – от союзного министра до иностранного президента, а тут мой ровесник будет передо мною выеживается… и кто – подумаешь, зам директора одного из каналов, вроде бы, коллега. И ведь ничего личного – хотел для дела. Ну, говнюк…
– Простите… – сказал я. – Рад был познакомиться.
– Пожалуйста. – сказал он и отвернулся.
– Ну, убедился?.. – не преминул подколоть меня Женька, когда я вернулся обратно. – Мы как-то с ним в командировке вместе были. железный человек. он даже, выпив, не забывает, как шел к своей должности.
– Говорили, кофе начальству долго таскал?.. – улыбнулся я.
– Заметь… это ты сказал… – засмеялся Латий, поднимая бокал.
Мне запомнился тогда этот разговор.
Наслушавшись искренних пожеланий собственного начальства «углубить и улучшить», подкрепленных к тому же аналогичными заявлениями представителей Дирекции Первого канала, я на полном серьезе пытался добиться от шеф-редакторов по направлениям и приглашаемых ими авторов усвоения элементарных основ сценарного мастерства. Писал за них сам, начальству нравилось, но дальше этого дело не шло. Постепенно приходило осознание, что я будто бьюсь головой в закрытую дверь.
Людей, как всегда, заедала привычная телевизионная текучка. Постепенно становилось ясно, что все мои потуги – «дохлый номер», а профессиональные советы и помощь мало кому на практике нужны. Исключения были не в счет. Ощущать себя просто лишним препятствием на пути людей к кассе было не очень приятно. Большинство хотели продолжать работать так, как привыкли; их отношение к сценарию, который часто писался уже после съемок, как к маловажному документу для бухгалтерии, переломить удавалось редко. На меня обижались. Начальство, поначалу безоговорочно поддерживающее новые требования, тоже понемногу исчерпало энтузиазм – речь ведь шла о естественной необходимости в прежнем темпе продолжать делать деньги.
По-прежнему, единственным чье слово оказывалось решающим на пути очередной работы к эфиру, оставался первый заместитель Эрнста Олег Вольнов. А его – это было очевидно – интересовало главным образом сохранение своей должности на госканале, предпосылкой потери которой на практике могло стать отнюдь не отсутствие художественных достоинств прошедшей в эфир работы, а лишь любой, даже самый незначительный, идеологический просчет. Вот его-то и старались не пропустить, дуя буквально «на воду». Все общественно-политическое вещание Первого оставалось выхолощенным настолько, что как-то, в конце 2010 года, вызвало даже специальный вопрос у президента страны, встречавшегося с руководителями госканалов. Мнение зрителей, правда, при этом учитывалось меньше всего. На той же встрече руководитель НТВ Кулистиков дословно заявил, что «Общественность – это пушечное мясо для наших ток-шоу».
Было и еще важное обстоятельство, осознанное, конечно, многими телевизионщиками, но обсуждаемое лишь в кулуарах. Как раз в это время начало расти число компаний, негласно аффилированных или, по крайне мере, приближенных к руководству Канала. Их продукция всегда принималась вне очереди и оплачивалась по высшим ставкам. У любого стороннего наблюдателя сомнения в таком положении дел отпадали быстро, стоило лишь столкнуться с ситуацией на практике. Все чаще предложенная уникальная тема для фильма Каналом с хода отвергалась, а спустя достаточно короткое время оказывалась в производстве в подобной лояльной телеконторе.
Впрочем, иногда это даже и не скрывалось, хотя и не афишировалось. Скажем, доля эфира на Первом продукции группы компаний «Красный квадрат» преобладает по сравнению с любым другим производителем. На оплату ее расходуются десятки миллионов. Долларов, конечно. «Это семейный бизнес, когда из левого кармана – «Первого канала», которым руководит Эрнст, деньги перекладывают в правый – «Красный квадрат» Синельщиковой», – возмущался недавно в газете «Ведомости» тележурналист Александр Политковский. Президент «Красного квадрата» Лариса Синельщикова – гражданская жена Эрнста.
Хотя я бы лично только за то, что Константин Львович трудно тащил на суд миллионов сериал «Школа», многое ему бы простил. Впрочем, легко и выгнал бы – например, за информационные программы или «Мультличности».
Кроме того, после добровольного самоустранения от текущих дел Алексея, к работам «Останкино», курируемым Сергеем, несмотря на вроде бы товарищеские взаимоотношения того с Олегом, похоже, отношение явно не улучшилось.
Самого Эрнста за все время работы в «Останкино» я видел один раз – как-то рано утром высокий, под потолок, в свитере грубой вязки с развивающимися волосами он быстро шел мне навстречу по второму этажу в направлении 17-ого подъезда. Поразило, что за ним, чуть поотстав, спешил телохранитель точно такого же роста и комплекции.
Так или иначе, за семь-восемь месяцев стало очевидным, что в непросто складывающейся для компании ситуации кризисного времени куда надежнее «клепать проверенную «нет-ленку» без претензий, а не пытаться заниматься творчеством. Получать регулярно зарплату хотелось сильнее, чем искренне гордиться собственной работой. Совместить же то и другое, похоже, становилось при работе на Первый канал все менее вероятным.
Работать становилось совсем неинтересно. Пара действительно классных редакторов, старых моих знакомых, все чаще задумывались об уходе… Колебался Женя Латий. Долго сдерживаясь, все же написал заявление об увольнении Саша Галкин.
Такая ситуация лишала смысла и мое дальнейшее пребывание в «Останкино», а приличная зарплата не могла, как справедливо рассудил Сергей, быть выплачиваемой мне просто так, в качестве подтверждения уважения ко мне, как к профи. Короче говоря, Сергей и я решили по взаимному согласию, что должность моя, как таковая, компании сейчас просто не нужна.
Не нужна она, очевидно, ей и до сих пор, поскольку мой небольшой кабинетик на третьем этаже Телецентра занят вовсе не преемником, а ребятами, клепающими очередной выпуск из числа «брендовых» телепередач, поддерживающих компанию на плаву.
Расставались мы дружески, я сказал, что больше служить нигде не собираюсь и возвращаюсь из родной Москвы в ставшую уже привычной за годы тамошней жизни Баварию. Сергей еще раз похвалил подаренные ему две мои книжки, пригласил непременно сотрудничать уже как автора, мы договорились созваниваться.
Через несколько дней, порадовав избавлением от своей опеки сына, перешедшего на очередной курс режиссерского факультета ВГИКа и, похоже, искренне огорчив своих студентов в Высшей школе телевидения и Институте телевидения им. Литовчина, где преподавал, я улетал из Москвы. Я был абсолютно уверен, что это было мое последнее место службы. Хватит… «Свободен, свободен, наконец-то, свободен…», – хотелось проорать любимые слова Мартина Лютера Кинга. Мне бы еще помнить, что написаны они на его могиле.
Германия, Бавария, 2010–2011 годы
Понадобилось не так много времени, чтобы отдышаться в моем уютном университетском городке на юге Баварии от московского смога и телевизионной нервотрепки. Здесь все было размеренно и спокойно, городские автобусы ходили минута в минуту, как написано в расписании, под балконом гуляли упитанные белки, а в магазинах кассирши с улыбкой желали «хорошего уикенда», независимо от стоимости совершенной покупки. Когда по Первому каналу, принимаемому тут как на тарелку, так и по кабелю, вышел очередной фильм «Останкино», я вдруг с удивлением обнаружил, что многое из моих рекомендаций в этой работе оказалось все-таки реализованным. Поздравив Сергея с очередной премьерой и получив в ответ благодарственную эсэмэску, я задумался.
Все более очевидным становилась опять наступавшая тягостность существования тут, в Германии, без постоянной востребованности, фактически, без реальной цели. Скука бездеятельности начинала угнетать. Это только кажется, что затягивающая круговерть повседневности – груз, который, получив возможность с радостью сбросить, потом легко забыть.
Попытка обмануть самого себя, что так часто приходилось делать в жизни, по определению обречена на провал. Свободен, свободен, наконец-то свободен.
С течением времени, говорят, приходит явственное осознание того, что прожитая жизнь на самом деле измеряется не числом нолей на счете кредитки и не количеством смененных за эти годы автомобилей. В конце концов, у гроба карманов нет, а авто с персональным водителем рано или поздно обеспечено каждому, поскольку самостоятельно идти последний раз в указанном судьбой направлении затруднительно… Ценность минувших лет, вероятно, определяется в итоге числом состоявшихся за жизнь уникальных встреч и оставленными за плечами километрами в движении по планете. Правда, мол, чтобы понять это, надо сначала их прожить… Однако так ли очевидно все это, или это простое самоутешение ошибавшихся?..
Когда-то в Москве, даже если сроки сдачи поджимали, я часто оставлял листок в пишущей машинке и по доброй воле топал на кухню, чтобы предложить жене помощь в чистке картофеля – тут, в отличие от сочиняемого сценария, эффект мог быть мгновенным, можно было сразу увидеть, подержать в руках овеществленный результат затраченных усилий…
Теперь уже и не вспомнишь, каким образом, разгуливая по Интернету, я попал на сайт этого московского Агентства. В принципе, судя по первому впечатлению, наши интересы были достаточно далеки друг от друга – сугубо банковская и биржевая информация, на которой, как мне вначале показалось, только и специализировался этот портал, всегда меня волновала мало – во всяком случае, за пределами ежедневных цен на бензин и актуального курса обмена валют. Но вроде бы они позиционировали себя как интернет-СМИ, рассказывающее обо всех аспектах взаимоотношений денег и людей, а это уже было несколько иное. Они искали человека, владеющего азами письменного русского и способного фактически выполнять роль их собственного корреспондента в Западной Европе. Непременным условием было проживание в местах описываемых событий и, естественно, возможность круглосуточного пользования интернетом. Поколебавшись, я послал им свое резюме.
Начав сотрудничать с Агентством К2К News, оказавшимся одним из старейших русскоязычных источников информации такого рода в Интернете, я неожиданно для самого себя попал в совершенно особый мир современной международной информационной интернет-журналистики. Здесь, оказывается, были свои законы, обусловленные спецификой функционирования Интернета. Поначалу большинство моих заголовков, к примеру, безжалостно исправлялись, поскольку по мнению выпускающего редактора они не отвечали принципам функционирования поисковых систем. Лучше от этого они, с моей точки зрения, не становились, но то, что казалось мне логичным и даже хорошим с точки зрения профессионального литератора, оказывалось непригодным в интернет-журналистике просто по определению. Потом, после нескольких месяцев, мне доверили самому ставить их на ленту – процесс, от которого испытываешь редкое удовольствие: вот оно, реальное овеществление сочиненного тобою. И если пару часов спустя набрать название своей статьи в поисковой страничке Google, то уже можно найти ее цитируемой по всему русскоязычному интернету – и не только в России, но и в Казахстане, Испании, Украине… Все происходит как с той самой очищенной картошкой на московской кухне. сделанное быстро и наглядно овеществляется – уникальная возможность для пишущего… Только несколько кликов мышки по виртуальным кнопкам на сайте – и написанное могут сразу же прочитать десятки тысяч. Позднее оказалось, что я имею возможность по собственному вкусу еще и подбирать к статье соответствующее фото – вообще, кайф, почти кинематограф.
Открытие совершенно нового для меня пространства произошло в разгар мировых финансовых катаклизмов и, готовя очередной материал, каждый раз я погружался в увлекательный мир реальных человеческих страстей. Просто иногда в роли более привычных придуманных персонажей выступали реальные правительства или безымянные граждане. В итоге легко сложилась и вышла толстая книжка – «Европа на ленте».
Но ежедневная жизнь в виртуальном мире не могла, как вскоре выяснилось, заменить смысл реального существования.
В молодости я любил бывать на вокзалах. Практически в каждом городе большой страны, куда доводилось приезжать, я непременно выбирался на местную железнодорожную станцию. Не потому, что мне так уж нравились обшарпанные полупустые «залы» ожидания с исцарапанными деревянными креслами, захлопнутым оконцем кассы и запахом мочи. Я выходил на перрон и долго сидел на неудобной скамейке, а чаще, просто спускался на шуршащий под ногами гравий и устраивался на какой-нибудь тумбе у самых рельсов. Запах нагретых, в крупных трещинах деревянных шпал, стягивающих опрокинутую лестницу железнодорожного пути, казался мне загадочным и многообещающим. Переругивание местного диспетчера через громкоговорители на столбах с составителями поездов, позволяющее узнать всю биографию последних, доставляло особое удовольствие своей непосредственностью и богатством выражений. Почему-то казалось, что нет ничего более мирного на земле, чем эта гудящая тишина в перерыве между руганью и вид уходящих вдаль рельсов. Тогда становилось слышно громкое чириканье мелкой птичьей сволочи, прятавшейся в пожухлой придорожной траве. Вот так бы сидел и слушал всю жизнь и было бы мне счастье.
Кажется, на третьем курсе ВГИКа, мы должны были ехать на производственную практику на одну из телестудий страны. Из длинного списка я выбрал самую дальнюю от Москвы – Читинскую. Самолет летел туда часов шесть с непременной посадкой в Иркутске, причем над Байкалом возникла такая турбуленция и воздушные ямы, что практически никто из пассажиров не спускался из салона на летное поле без бумажного пакета. Забайкалье поразило меня чаем с молоком, большими «позами», как именовали тут бурятское подобие пельменей, и длинными ногами ассистентки по имени Татьяна Афанасьева. К сентябрю она приехала ко мне в Москву, и мой сокурсник Тед Макаров все издевался, почему это я стал засыпать на лекциях. Сегодня она режиссер спортивной редакции в Останкино и ведет трансляции всех самых громких футбольных матчей из разных стран.
В свободное от общения с ней в номере гостиницы «Забайкалье» и съемок документального фильма о местном рабочем-ударнике время я часто ходил на вокзал станции Чита. Если спуститься с короткого перрона и устроиться на пригорке, можно было увидеть километровый столбик, на котором было написано 6152. Это означало число километров от Москвы, и я гордился тем, как далеко от дома сумел забраться. Я сидел там, вдыхая горячий воздух от проносящихся мимо длинных товарных составов, идущих на Дальний Восток. Ближайшая станция в том направлении называлась Домна и была еще километрах в тридцати пяти отсюда. Но туда я так и не попал. Теперь обидно.
…Прошло Рождество и приближается Новый год, который в Европе именуют Сильвестром и почти не празднуют. Разве что используют как повод для запуска в небо разнообразных фейерверков и стрелялок, от которых весь асфальт и крыши припаркованных у домов машин становятся рыжими от выпадающей пыли.
Наша немолодая уже кошка Никита с началом зимы стала жить по чекистскому девизу – она садится у приоткрытой двери и высовывается наружу на заснеженный балкон только наполовину, ухитряясь сохранить холодную голову, горячее сердце и чистые лапы. На замечания, что так в доме всем холодно, она не реагирует.
Валентина часто ездит в местную православную церковь, подвозя соседей – семью крещеных евреев. Она ведет там уроки православия на немецком языке для малышей из русскоязычных семей. Несколько раз она предлагала мне поехать на службу или встретиться с местным батюшкой. Вечерами, когда мы дома, в нашей квартире часто стоит долгая тишина.
У Андрея в Москве свой очень напряженный график, в который я помещаюсь редко. Еще не закончив ВГИК, он уже начал работать в большом кино. На Новый год на сутки он заедет к нам из Берлина, куда прилетел на перезапись звука совместной российско-немецкой картины «В субботу», на которой летом работал вторым режиссером у Александра Миндадзе. На днях Саша прислал мне электронное письмо: «…парень у тебя совершенно замечательный. Конечно, он из 21 века в умении ориентироваться в непростых хитросплетениях дня… Живет зряче, осознанно, не то, что мы, жившие вслепую.».
Мастер во ВГИКе, один из очень немногих оставшихся в нашей «Альма-матер» настоящих режиссеров, Вадим Абдрашитов, судя по всему, Андреем доволен.
Таким образом, он, надеюсь, станет третьим в фамилии выпускником и, возможно, я еще успею увидеть его на красной дорожке какого-нибудь международного кинофестиваля. У нас договоренность – после первого «Оскара», он подарит мне маленький домик на берегу океана.
В «Оскара» я верю, в домик – не очень.
Середина 90-х, Испания, побережье Малграт де Мар
Узловатые пальцы старика тщательно разминали кусочки влажного песка. Он подцепил металлическим лотком еще одну пригоршню пляжа и, просеяв через отверстия, опять начал этот процесс, растирая в пыль каждый песочный бугорок, словно расщепляя его на составляющие.
Алексу казалось, что сам поиск для его визави не менее важен, чем итог – и в этом была логика – пока процесс идет, живет надежда… Счастье – это вовсе не сбывшаяся мечта, а всего лишь реальная надежда на ее осуществление. Поэтому, когда в лотке что-то тихо звякнуло, они оба не удивились. Старик, на секунду оторвавшись от струйки падающего вниз песка, поднял голову и посмотрел на Алекса.
– Сколько же ему уже лет?.. – отчего-то подумал Алекс. – Они тут, у моря, живут долго потому, что человек и должен тут жить. Все-таки я обязательно когда-нибудь поселюсь на берегу моря.
Старик аккуратно сдул прилипшие песчинки с какого-то небольшого металлического предмета и, обтерев его прямо о край шортов, положил на ладонь, рассматривая. Теперь и Алексу удалось разглядеть стальной крестик из двух скрещенных перекладин, аскетично простой.
Старик поднес ладонь совсем близко к глазам, рассматривая найденное, потом аккуратно попробовал заскорузлым ногтем чуть царапнуть край крестика. То, что это обычная сталь и никакой материальной ценности находка не представляет, было очевидно.
Он, вздохнув, разогнулся и выпрямился. Сонный кружок пиццы-солнца уже оторвался от морского горизонта и, меняясь в цвете, начинал свое утреннее восхождение. Закончив уборку своей части прибрежной полосы, двое работяг в желтых комбинезонах, переругиваясь, возвращались вслед за минитрактором обратно.
Алекс отряхнул от песка отельное полотенце. Надо было возвращаться в номер – помочиться, умыться, натянуть другую майку и спускаться к завтраку. А потом он будет решать. И, возможно, включит свой мобильный. Или не сделает этого, и тогда у него еще будет время, в котором он никому и ничего не должен.
– Хей…
Он посмотрел на старика. Тот протягивал ему ладонь, на которой среди песчинок лежал металлический крестик.
– Эсто а ти.
Поколебавшись, Алекс осторожно взял стальной крестик с ладони старика. Крестик почему-то был теплый. Старик смотрел на Алекса и улыбался щербатым ртом.
Потом, отряхнув от песка, он сунул в холщевую сумку с изображением Христа свой лоток и, поправив сползшие наушники, пошел, шаркая сандалиями, дальше. Длинной металлической штангой металлоискателя он тяжело водил перед собою из стороны в сторону, задевая влажный песок.
День только начинался, и что будет в его конце не знал никто. Во всяком случае, из них двоих.
Фотографии
Отец
Мама
С отцом
Валентина
Андрей
С сыном
На Босфоре
Турбоход «М. Горький»
На открытии ресторана в Баварии (из газеты)
Со студентками своей мастерской. 4-й курс, Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М. Литовчина. Москва, 2009 г.
Книги А. И. Анненского
• «Инспектор таможни». Киноповесть. – Москва. «Глобус», 1991. – 62 с. – тираж 50000 экз. ББК-85.374 А68
• «Карусель». Киноповесть. – Hannover. «Bukwa», 2006. – 57 с. «Bukva Verlag ®»2006
• «Эти поразительные Russians!» – Москва. «Астрель», 2008. – 315 с. (вариант в мягк. обложке). ISBN 978-5-97625697-2
• «Наши в городе» – Москва. «Астрель», 2008. – 315 с. (вариант в тверд. переплете). ISBN 978-5-17-049780-5
• «ПАРИЖ» – Москва. «Эксмо», 2008. – 192 с. (в соавторстве). ISBN 9785699-284450
• «Европа на ленте» – Sindelfingen, «Stella», 2010. – 495 с. ISBN 978-3-941953-14-7
/Анненский, Александр Исидорович
E-mail: alex.annenski@gmail.com



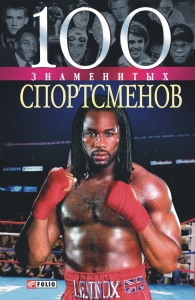
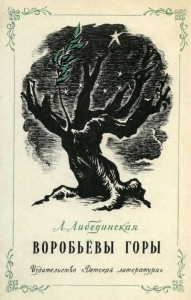
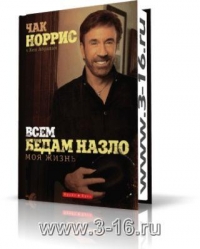
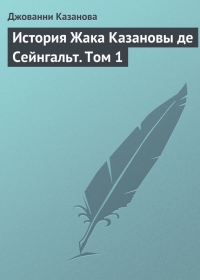

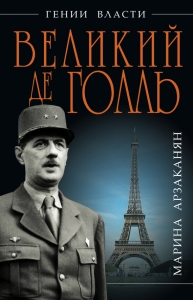
Комментарии к книге «Фанера над Парижем. Эпизоды», Александр Исидорович Анненский
Всего 0 комментариев