Капитонов Роман
ЭХО ВОЙНЫ
Этот «Дневник» Романа Капитонова был опубликован в семи или восьми номерах якутской газеты «Эхо столицы» в первой половине 2000-го года. Признаюсь — в то время эти публикации мне на глаза не попадались. Узнал о том, что он писал, только после его смерти, — совершенно недавно. Романа убили в мирном городе и в мирное время, — просто убили на улице.
«Я направил ствол и… сделал. «Убиваешь не ты, — подумал я, — убивает твой автомат, ты только нажимаешь на курок. Трудно убивать, ножом или рукой. Самое главное, чтобы после твоего выстрела человек сразу же умер, не мучился».
Эта страшная запись — из дневника Романа, — он выполнял приказы «лживого и вонючего правительства», не скрывал того, что делал будучи простым солдатом там, на войне, не скрывал своего раскаяния, не скрывал липкого чувства омерзения от действий родного правительства. Писал прямо, без оговорок. Писал, не выпячивая своего «Я». Писал просто, как мысли вслух.
Чем руководствуются подонки, обрывающие жизнь человека на взлёте, на улицах мирных городов, — просто так, ради развлечения? Романа Капитонова, ветерана войны, молодого пенсионера, инвалида — убили.
«Неужели мы рождены ради того, чтобы погибать и остаться в памяти миллионов незнакомых нам людей, как было сказано [в приказе о награждении посмертно]. Зачем? Ради чего?!» — Это мысли Романа по поводу по поводу гибели его друзей на войне.
Возможно, его Дневник — результат мук совести, возможно — он хотел выплеснуть то, что накопилось в его душе за одиннадцать лет жизни на войне: крик в народ равносилен исповеди Богу — это очищает душу, снимает Горечь, Обиду и Боль с души; его статьи шли под рубрикой «Болевая точка». Роман публиковался под своим именем, это тоже смелость.
«…все воспринимается обостренно, любая несправедливость, нервы, как оголенные провода… Но никого и никогда, пока я здесь [в мирной жизни], не ударил, даже не нагрубил. Почему? Просто я никому после Афгана уже не могу, не хочу делать больно»...
Дать вторую жизнь его труду меня попросили его друзья. Нашел все газеты с его публикациями (публикации в так называемой «толстушке» — итоговый номер в конце недели, сама газета — ежедневная) в библиотеке Северо-Восточного Федерального Университета, но в одном из номеров одна страница была вырвана — не знаю, были ли там его записи. Известно — Роман хотел написать и издать полноценную книгу; этот «дневник», я считаю, лишь черновой набросок.
В планах — публиковать статьи из «Дневника Ромы-Динамита» в журнале «Трезвый взгляд», но если найдётся желающий опубликовать этот Дневник сторонним издателем — никто против не будет.
Дневник Романа перемежаю статьями журналистов — тоже память. Выражаю благодарность работникам библиотеки СВФУ Хамаровой Татьяне Петровне, сотруднику ОБКСМ капитану милиции и ветерану боевых действий Борису Алексееву, журналисту Виктории Габышевой, и всем неравнодушным людям за оказанную помощь.
(Прим: как мог, по возможности, убирал все многочисленные «любимые» слова Романа: «и тут», «опять», «начал», «потом» — текст от этого не пострадал. Просьба «афганцам» — если заметите неточности в тексте: названиях населённых пунктов, или чтото другое — сообщите).
Андрей Брэм* * *
В предновогодние дни в редакцию подошел молодой человек. Мы были страшно заняты последней в году «толстушкой», всюду царила предпраздничная суматоха. А он тихонько стоял у дверей, стянув с головы лохматую шапку, и, наконец, подошел ко мне:
— Вот, рукопись у меня. Мне посоветовали обратиться к вам. Может, посмотрите?
— Посмотрю, — пообещала я, закинув пачку мелко исписанных мятых листочков в верхний ящик стопа, — вы приходите после праздников.
— Хорошо, — покорно сказал он, но не уходил, очевидно, чтото осталось недосказанным, а может, ему трудно было расстаться со своей рукописью. Почувствовав неловкость, я спросила:
— Это вы написали?
— Да. Это мои воспоминания, а может, дневник. Как вам больше понравится. Я ветеран Афганистана…
Сколько живу, не могу привыкнуть к слову «ветеран», когда оно применимо к молодости. Война — это всегда страшно. И страшно вдвойне, когда твой ровесник, а порой даже парень, гораздо младше тебя, видит смерть, убивает, и сам может быть убитым в любую минуту. И страшно, что ветераны — это не только старики, убеленные сединами, а вот такие молодые люди, знающие о войне не понаслышке…
«Я приду…», — сказал он. Но не пришел. И каюсь, я даже не спросила — ни как его зовут, ни где его искать. Но, продираясь через колючий почерк, я с удивлением, восхищением и запоздалым раскаянием поняла, что эта мини-повесть обязательно должна быть напечатана. Если бы можно было вернуть тот день, узнать фамилию, поговорить нормально, сфотографировать парня, в конце концов…
Судя по записям, его зовут Роман Капитонов, но вполне возможно, это псевдоним.
В очень простых, порой безыскусных, а где-то и неумелых строчках столько искренности, непосредственности и чистоты, что это задевает, заставляет думать и переживать.
Любители острых ощущений не найдут в повести описаний боев, разрывов снарядов и разлетающихся в разные стороны человеческих тел, по крайней мере, в первой части. Это действительно воспоминания — записи простого якутского паренька, пока только солдата, «духа». Я надеюсь, что вещь моего знакомого (по повести) незнакомца найдет отклики в душе читателя.
А автора я убедительно прошу прийти в редакцию и обещаю, что обязательно расскажу о нем.
Виктория ГАБЫШЕВА.
ЭХО ВОЙНЫ
8 мая 1987 года, 7 ч. утра
Утро сегодня солнечное. Так бывает всегда перед праздником Дня Победы. А вчера моросил дождь. Было очень грязно и холодно. И хотя от общаги до учебного корпуса всего где-то метров двадцать пять, пока дошли, ноги стали такими тяжелыми от прилипшей грязи, будто в ботинки налили свинец.
А сегодня светит солнце. Сегодня у нас всего две пары, а после обеда будем готовиться к празднику. Пока я лежу и думаю о том, какой прекрасный будет день, к нам без стука вошла комендант Шура. Сейчас она начнет нас разносить и тратить свои драгоценные нервные клетки. Про Вальку Стручкова скажет, что он будущий хронический алкоголик, про Игоря Лебедева — что он способный Дон Жуан, и пожелает, чтоб он со второго этажа упал, когда будет лезть к девушкам в их общежитие. Мне же скажет, что меня не зря в армию забирают, и что я вообще не должен был быть в СПТУ, а работать где-то в порту грузчиком, а лучше всего ассенизатором. После чего она пойдет дальше — мучить и убивать свои нервные клетки…
8 мая 1987 года, 13 ч. 30 м
После очередных пар занятий мы приколачивали красный плакат с надписью «С Днем великой Победы советского народа над фашистской Германией». Ленка Саввинова идет. По ней все СПТУ, если еще и не весь поселок сохнет, а ведь дураки, не понимают, что она любит только «первых». Кстати, завтра будут соревнования по легкой и тяжелой атлетике, а также по вольной борьбе. Я ей тогда покажу, подумаешь, она только «первых» любит. Ну вот, она прошла, взяла ведро и начала мыть стены, кокетливо поглядывая на нас, т. е. в нашу сторону, потому что она знает, что все училище сохнет по ней. Я не понимаю — ей, по-моему, это приносит какое-то удовольствие. Павлик Томский вены себе вскрывал из-за нее… А она вместо того, чтобы вообще уехать из училища, еще пуще начала дразнить его. То записки шлет, то на свидание зовет, сама потом не приходит. А Павлик простоит зимой в -50 градусов два-три часа и приходит в общагу весь обледеневший. Мы ему и так объясняли, и эдак — все равно до парня не доходит.
Ну вот, по-моему, приколотили нормально.
— Капитонов! Стручков! Лебедев! Портнягин! Прокопьев! Леонтьев! Хорунов! Заканчивайте работу, быстро собирайте вещи, попучите продовольствие на три дня, в канцелярии получите документы.
Это наш военрук раскомандовался, значит, не 17 мая, а сегодня мы отправляемся вставать под славные знамена.
— Товарищ старший лейтенант! — Это у меня со школы осталось по званию обращаться к военруку, а не по имени-отчеству.
— Ну что тебе, Капитонов?
— Понимаете, я, то есть, за меня паек, деньги и документы возьмет Игорь Лебедев. Разрешите на некоторое время отлучиться. Она здесь недалеко живет (слова «моя девушка» я пропустил, но военрук без того понял, с кем я хочу попрощаться).
— Ладно, только побыстрей.
— Есть!
Я бежал сломя голову и боялся — не ушла ли она на работу. Спотыкаясь, зашел к ней домой и спросил у ее матери, где Света. Она сказала: «Пройди в комнату, она спит». Я зашел, но будить ее почему-то не стал: или я заранее знал, или просто думал, что она все равно не дождется меня, и не хотел обременять ни ее, ни себя…
«По машинам!» — раздалась команда военрука, и мы быстро начали рассаживаться в автобус. Мне было жаль Павла Томского, он смотрел на нас и чуть не плакал. Ведь его сочли негодным из-за той истории, когда он вскрывал себе вены. Ему оставалось только завидовать нам. Наконец заревел мотор нашего ПАЗика, и наше СПТУ начало уходить все дальше и дальше…
18 мая 1987 года, 20 ч
«Ну что, молодняк, вешайтесь!» Через полчаса мы отправляемся на УРАЛах в знаменитую учебку «Дурдом Солнышко» (это наш будущий замкомвзвода сержант Лагутин). Ехали мы долго, где-то два или чуть больше двух часов, наконец, приехали ночью. Когда мы повыпрыгивали из кузова, я еще подумал, что попали в черту города, так как было множество жилых домов. Затем нас привели в казарму, где сразу же уложили спать…
19 мая 1987 года, 6 ч. 30 м
— Ты что, охренел, салага! Подъем! Когда я проснулся от удара сапогом, тогда только понял, что нахожусь не дома, а в армии, и что строй уже стоит.
— Ладно, на первый раз прощаю, — эти слова для меня прозвучали как свежий и чистый воздух после длительной нехватки кислорода.
19 мая 1987 года, 8 ч. 30 м
Нас завели в столовую, приказали всем сесть, перед нами уже были тарелки с какой-то баландой, чай в железных кружках, по два куска черного хлеба, по куску белого, по два кусочка сахара и по маленькому (всего 20 грамм) кусочку масла.
19 мая 1987 года, 9 ч. 00 м
«Ну что, сынок, не кормили тебя в детстве, что ли? Че такой маленький-то? Эх, наберут в армию детей, потом мучайся с ними», — с этими словами пожилой прапорщик начал копаться в стеллажах, подыскивая подходящую обувь, тельняшку, брюки и китель. Панаму, правда, выдал большую, со словами: «Головной убор — это не ботинки, голову не натрешь». Затем посмотрел на меня пристально и спросил, в какую роту определили, я ему и отчеканил: «В четвёртую учебную десантно-штурмовую роту, товарищ гвардии прапорщик!». Помню, как он на меня посмотрел с сожалением и сказал, явно не в мой адрес: «Суки, что же вы делаете!» (эти слова и этот взгляд я вспомню и пойму только потом, когда буду сталкивать горящий бензовоз под Джелалабадом вместе со сгоревшими в том бензовозе пацанами).
После посещения склада нас повели в баню, если это можно назвать баней, в предбаннике сняли гражданку, надписали бирки и адреса — куда посылать одежду, засунули в мешки и сдали банщику. После чего голыми завели в баню и начали обливать водой из тазиков и выгонять из бани. Я одного не понял: зачем тогда надо было выдавать мочалки и мыло. Выходили уже с другой стороны. Там, на другой стороне, тоже был предбанник. С этого момента начались кошмары (как нам тогда казалось), тут же все напялили форму, и началась наша армейская жизнь…
«Становись! Меня зовут гвардии прапорщик Лопатин. Я старшина четвёртой учебной роты. Весь этот учебный период заменю вам всем мать и отца», — такими словами представился нам старшина гвардии прапорщик Лопатин, впоследствии названный нами «Лопата» не столько потому, что его фамилия соответствовало этому прозвищу, сколько потому, что он умел владеть этим инструментом, как Брюс Ли — нунчаками. Наверно, оттого, что долгое время служил в спецназе ВДВ инструктором по рукопашному бою, а в Афгане — командиром разведдесантного взвода в Мозари-шарифе. После долгого объяснения и разъяснения о службе в ВДВ, в частности, в нашем учебном полку, он повел нас на так называемую экскурсию.
25 мая 1987 года, 11 ч. 00 м
— Р-р-о-т-а-а!.. Отставить! Р-р-о-т-а-а!.. Не слышу роты!.. Стой! Раз, два! Товарищи солдаты, я вам еще раз объясняю, то есть объясняю для особо тупых: по команде: «Р-рота!» переходи сразу на строевой шаг. Нога поднимается на 20–25 сантиметров. Печатаем шаг. Вопросы?!!
Строй гаркнул: «Никак нет!»
— Направо! Строевым! На ВДК (так называется воздушно-десантный комплекс, где проходят предпрыжковую подготовку) шаго-ом — марш! Земля задрожала под ногами гулко и синхронно. Нам тогда всем, по-моему, было немножко не по себе слышать, как гудит под ногами земля.
Так начались наши первые занятия в этом прославленном УДШП (в учебном десантно-штурмовом полку). Нас сразуже начали обучать, как отделяться с борта, как действовать в особых ситуациях в воздухе (при схождении, при частичном и полном отказе купола и т. д., и т. п.).
Жара стояла неимоверная. Наше отделение отрабатывало «действия в воздухе», я висел на подвесной системе и думал о том, как хорошо сейчас у нас: мама, наверное, сделала кумыс, и о том, что закончился ледоход, и ребята сидят на берегу, рыбачат с закидушками и рассказывают разные истории о шаманах и призраках.
А наверху, на песке, девчонки и мальчишки играют в лапту. Ведь на гражданке не проходило и дня, когда бы мы не играли по вечерам в волейбол, лапту или же не рыбачили. Ведь было очень хорошо, как же все-таки быстро летит время.
«Товарищ солдат!!! Не спи, а то замерзнешь!» — этими словами меня вернул в настоящее время от тех далеких счастливых дней сержант Лагутин и начал меня, так сказать, разносить не имеющимися в русском словаре словами; с его слов, я превращался то в мужские, то в женские половые органы, или же в птицу, обитающую, в основном, в Сибири, то есть в глухаря. После чего мне было предоставлено право сделать двадцать кругов почета вокруг ВДК (естественно, бегом и с ранцем).
По окончании накручиваний он подозвал меня к себе и как-бы извиняющимся тоном сказал: «Слушай, солдат! Я не хочу, чтобы ты при первых же прыжках «просвистел» до самой матушки земли и объяснять твоей матери, что ваш сын был дурак и ничего не слышал во время занятий, после чего разбился». Когда вернулись в казарму, ко мне подошёл Пашка Артемьев и попросил меня, чтобы ночью с ним вместе встал и помог написать план-конспект Лагутину. Так как он не успеет написать за ночь целых три конспекта.
Я согласился, затем подошел к Коле Вострикову, чтобы он тоже помог. (Впоследствии эти ребята стали самыми лучшими друзьями, с ними мы и попали в 217 полк под Кандагаром, — нас всех троих забросили в Гератскую заставу у моста через речку Герируд). В ту ночь мне снилось, как будто я нахожусь у себя дома и мы с ребятами купаемся на реке. И вдруг я понял, что уже переплыл реку, а ребята кричат мне: «Рома, побыстрей возвращайся, мы ждем тебя!»
Я проснулся от резкого толчка, открыл глаза и увидел, что надо мной стоят Вострик (Коля Востриков) и Пашка Артемьев. Сразу соскочил с кровати, и мы пошли в канцелярию вместе писать конспекты — нашему «замку». Коля во время писанины нам рассказывал, что он после дембеля будет поступать в сельхозинститут и что его призвание быть агрономом, и что землю в данное время используют неправильно и даже пагубно. Хотя его белиберда нам была не интересна, мы как все уважающие себя и друг друга культурные люди слушали его ахинею, ничего не понимая в этом, и все время кивали и поддакивали: «Да, конечно», или же — «Нда…». После того, как мы закончили писать, до подъема оставалось меньше получаса, и мы решили посвятить их пагубному для здоровья занятию, то есть глотанию никотина с помощью курения и пропуска этого самого никотина через дыхательные каналы к легким, и стали в туалете рассказывать друг другу о гражданке, о девочках, с которыми гуляли, а так-же травили анекдоты. Вот когда начали громко ржать, нас засек дежурный по роте младший сержант Кондратьев (прозвище Мандраж) и заставил передраить весь туалет, а заодно и умывальник.
26 мая 1987 года, 9 ч. 00 м
Развод.
— Полк, равняйсь, смиирно! Равнение направо! — начальник штаба полка подполковник Баталов четким строевым шагом (приложив руку к черепной коробке, у которой, кроме берета, ничего не было), пошел навстречу командиру полка полковнику Тонину. — Товарищ полковник! Учебный десантно-штурмовой полк для развода на занятия построен. Начальник штаба полка подполковник Баталов.
Полковник, как подобает строевому командиру четко повернулся своей «облицовкой» к нам и выбросил: «Здравствуйте, товарищи десантники!». И мы тут же ответили: «Здравия желаем, товарищ полковник!» (хотя половина желала совсем обратного). После постановки задач на текущий день он опять гаркнул: «По-олк! В походную колонну!». Тут офицеры, прапорщики и сержанты заняли свои места. «Поротно! Шаго-ом марш!» Зазвенел военный полковой оркестр, и опять загудела земля под тяжелыми солдатскими ботинками перемежаясь со звуком, издаваемым военным оркестром.
Шли гордо, подтянуто и все в душе гордились, что они идут в строю, четко печатая шаг, гордились тем, что у нас, в отличие от других солдат, на груди были видны тельняшки, гордились тем, что мы служим в воздушно-десантных войсках, тем, что впереди, четко печатая шаг, шли капитан Елисеев, кавалер ордена Красной Звезды, имеющий медали за отвагу и за боевые заслуги, прошедший Афганистан и Анголу, старший лейтенант Козлов, тоже афганец, лейтенант Трофимов, — молодой и энергичный офицер. Мы гордились нашим старшиной, который замыкал наш строй, как подобает старшине, кавалеру двух орденов Красной Звезды…
30 мая 1987 года
Стояло жаркое утро в Ферганской долине. Мы приехали в район посадки в восемь часов утра. Несмотря на ранний час, было довольно жарко, где-то под +30 градусов.
«Четвертая рота, повзводно становись!» Ну, наконец-то, неужели началось? У всех тогда было праздничное и в то же время волнующее и немного страшноватое чувство. Лопата оглядел нас тяжелым взглядом, а потом улыбнулся и сказал: «Ничего, ребята, это как у девственницы перед брачной ночью: сперва страшно, а потом приятно. Четвертая рота, надеть купола!»
После нескольких разговоров с командованием батальона и полка к нам подошли Елисеев, Козлов и Трофимов. Елисеев встал перед нами, приказал офицерам осмотреть нас. Козлов и Трофимов шли не спеша, то и дело подергивая за ранцы, делая замечания и подтягивая перекаты. Затем осмотрел сам ротный. Затем роту разбили по «бортам». Каждый борт тщательно проверялся офицерами и прапорщиками ВДС (воздушно-десантной службы), после чего всю роту разбили на четыре потока и прозвучала команда: «На борт шагом марш!», и мы пошли.
Перед нами стоял разинув свою пасть «ИЛ-76». Слева и справа тянулись такие же цепочки парней к другим бортам. Наконец, мы вошли и заняли свои места. Я оказался в третьем потоке последним, — и это меня это успокоило.
Наконец, этот «крокодил» взмыл в небо. Мы сидели, прислушиваясь к гулу двигателей. У меня пропало всякое желание прыгать, но я не хотел показаться трусом, не хотел позориться. Я понимал, что если в воздухе сделать всё правильно, то всё пройдет; но это уже не успокаивало.
Открылась рампа, выпускающий встал около ограничителя, пошли короткие гудки, и мы встали правыми руками держась за кольца основных куполов, вытянутыми левыми касаясь плеча впереди стоящего. Вот завыла сирена, загорелась зеленая лампа, и все побежали. Я зажмурил от страха глаза и тоже побежал, и через некоторое время под ногами ничего не чувствовал. Меня стало вертеть потоками воздуха. Когда я открыл глаза, перед моими глазами вертелись и мелькали то земля, то небо. На счет «пятьсот три» я дернул за кольцо, хотя в этом необходимости не было: к этому времени сработал прибор, и кольцо выдернулось само, потом где-то секунду летел в свободном падении, и вдруг хлопок — и все остановилось.
Ребята были рады до беспредела, кто-то кричал: «Я лечу!» Кто-то просто орал во весь голос. Ощущение было ни с чем не сравнимое. После того, как приземлились, нас внизу уже ждали Лагутин, Кондратьев, Рустамов (наши сержанты) и мы по очереди подходили к ним, вставали в совершенно не мужскую позу, а они били запасными парашютами (запаской) по тем местам, которыми мы обычно садимся на табуретки. Это неписаный закон десантников, это значит, что мы стали настоящими мужчинами — десантниками.
Перед строем каждому вручили «тошнотики» (значки за прыжки в виде парашюта и с числом прыжков под «тошнотиком»). Когда тебе говорят, что теперь ты не просто солдат, а солдат-десантник, гордись этим званием.
Где-то в конце июня…
Мы бежим по полосе препятствий с элементами имитации боевой обстановки, я уже прополз под «колючкой». Ввиду того, что меня матушка-природа обидела ростом, мне приходится намного труднее. Во-первых, «броник» (бронежилет). Мало того, что он тяжел, он еще мешает двигаться ногам, так как прикрывает мне не только корпус, но и колени. В связи с этим мне было вдвойне тяжело, и я бежал, покрывая матом этот броник, всю эту полосу, заодно и службу ВДВ.
Впереди — «забор». Подбегаю, подпрыгиваю — не могу достать. Сзади уже подбегает кто-то и толкает меня. Я перелетаю через забор и падаю, тут же слышу душераздирающий крик: «Встать, бегом!». Вновь встаю и бегу. Голова как не своя, в ушах гудит от разрывов взрывпакетов и тротила, закопанного вдоль полосы препятствий, глаза слезятся и ничего не видать от запущенных дымовых шашек. Вот впереди «разрушенное здание». Карабкаюсь на него и прямо под ухом раздаются резкие хлопки автоматных очередей. Но я не обращаю на это внимание, потому что от этих разрывов, по-моему, я временно оглох.
С «разрушенного дома» я спускаюсь на канате, в это время какая-то сволочь подложила под меня взрывпакет, в ушах загудело. Спустился и побежал дальше; пробежал «взорванный мост» и еще одно «разрушенное здание», затем «брод» и, наконец, вот он — «ход сообщений». Пробежал по нему, вылез в окоп и закинул гранату в «танк», попал…
Изнуренная июньским солнцем и занятиями на полосе препятствий, наша рота разбрелась по лужайке. Кто на карачках, кто, еле волоча ноги, находил более удобное место и тут же падал, кто-то жалел, что попал в армию, кто-то о том, что попал в ВДВ, а кто-то вообще жалел, что мужиком родился. Было странно слышать подобное от таких здоровенных, почти двухметровых амбалов. Один Пашка Артемьев лежал и что-то напевал себе под нос. Я не знаю, о чем он пел, но было ясно, что был в бодром настроении. Мне даже показалось, что он вообще не устал. Я и Вострик сидели на откосе и, ни о чем не разговаривая, курили. Коля сидел задумчиво. Его мысли, наверное, были где-то там далеко-далеко в Алтайском крае, где его ждали мама, дом и любимая девушка.
Конец июня, 20 ч. 00 м
Всю роту загнали в Ленинскую комнату, пишем письма домой. Я не знаю даже, что писать родителям. А Свете напишу.
«Здравствуй, Света! С пламенным горячим солдатским приветом к тебе, твой друг Рома. В первых строках хочу передать тебе свой нежный поцелуй, ну, а во-вторых… Сообщаю, что я жив, здоров, чего и тебе желаю. Рядовой Капитонов» (это я у Вострика подсмотрел).
Через минуту раздалась команда: «Рота встать, смирно!», — это зашел Лопата. Калюжный доложил как положено, после чего Лопата, не обращая на него никакого внимания, приказал всем сесть. Вслед за тем началось. Дело в том, что он нашёл в туалете разорванную простыню, а в расположении — бычок
Его экзекуция началась со слов: «Встать! строиться в расположении». После построения дневальные постелили перед строем ту самую разорванную простыню и положили туда бычок. Старшина приказал аккуратно завернуть бычок в простыню, после чего принесли носилки и четыре лопаты. Бережно положили простыню на носилки, и вышли на улицу. Старшина объявил, что сейчас будет «похоронная процессия» и дал команду «направо, бегоом марш», и мы побежали в сторону учебного городка, что в трех километрах от части. Впереди бежали носильщики «с телом покойного», затем вся рота. Похоронную процессию замыкал старшина, он же Лопата.
Через полчаса забрались на высотку. Старшина велел четверым солдатам — Степанову, Калюжному, Зотову и мне выкопать яму глубиной два метра, шириной полтора, и длиной 2,5 метра. Мы копали яму в течение часа. После чего ребята опустили в яму бычок, свернутый в рваную простыню, и зачитали прощальные слова: «Спи спокойно, наш дорогой товарищ, мы будем помнить тебя, покуда не съест твой никотин наши легкие до конца, и не начнет капать никотин с того самого места, чем мы садимся на стул».
По окончании траурной церемонии мы закопали яму и поставили импровизированный крест. Я только тогда и заметил, что таких «могил» здесь аж штук двадцать. После чего мы опять бегом вернулись в часть.
На вечерней поверке старшина предупредил нас: «Не дай Бог еще раз найду в расположении роты хоть один бычок, вы у меня на дальней танковой дистрассе будете хоронить свой окурок». С этими словами Лопата вежливо попрощался с нами и вышел из казармы.
Дежурный по роте почему-то не спешил нас «пробивать», и мы тут же поняли, что нам пришла хана: сержанты эту вечернюю прогулку до учебного городка вряд ли нам простят. И тут случилось неожиданное: замкомандира первого взвода старший сержант Карелин признался при нас сержантам, что это он курил в казарме, а когда зашел Лопата, он потушил бычок и бросил; не дав опомниться, дал команду: «Отбой!». Раздевшись и заправив обмундирование, вся рота улеглась с чувством облегчения и большой благодарности Карелину.
«Рота, подъем, тревога!!!». Я резко вскочил, и, не до конца проснувшись, начал одеваться, ругая (естественно, про себя) на чем свет стоит дневального и того, кто ему передал ему эту команду, хотя естественно, ни дневальный, ни тот, кто передал «тревогу», ни в чем не были виноваты. Согласно боевому расчету, первый и третий взвод уже получили оружие и бежали одеваться в свои кубрики. Затем четвертый и наш взвод, т. е. второй, уже одетые к тому времени, побежали в оружейку вооружаться. Нас построили на плацу, выдали боекомплекты. Напротив каждого взвода уже стояли грузовики.
«По местам!» Мы быстро заняли места. Было странно, что постоянный состав тоже был поднят по тревоге. Заревели моторы и колонна двинулась. Не в район посадки, как это было всегда, а к центральному КПП. Мы все подумали, вернее, поняли, что едем в город. На выходе колонна остановилась. Начальник штаба по рации что-то передал, и наш взводный лейтенант Трофимов прояснил ситуацию: в городе нездоровая обстановка, нам приказано в составе роты перекрыть дорогу Фергана-Ташкент.
Наша рота свернула от Ферганы направо, взвод остался в каком-то кишлаке, и вдруг из-за домов на нас начали сыпаться камни. Трофимов приказал нам отойти за арык, но дальше не отходить и никого к дороге не пропускать. Огонь по толпе без команды не открывать. Мы цепью отошли за арык, и вдруг Калюжный схватился за лицо (ему камень попал прямо в переносицу). Его подхватили Коля Вострик и Мишка Коваленко, затащили за арык. Здесь хоть можно было укрыться за деревьями. А пьяная толпа дальше не полезла. Я чувствовал какое-то неприятное ощущение: то ли страх, то ли безысходность положения, ведь нас было всего тридцать два человека против целой деревни. И хоть мы и были вооружены, но приказа открывать огонь не было, и эта неопределенность еще больше меня убивала и сбивала с обычной колеи.
Одно успокаивало: рядом со мной стоит Пашка Артемьев; мы-то с ним друг друга в обиду не дадим. И так мы простояли до десяти часов утра. Затем в деревню приехала милиция, нас загрузили в грузовик и мы поехали обратно в часть. Я, да и не только я, все, наверное, отходили от транса. Мы не обсуждали пережитое и не бравировали друг перед другом. Просто сидели молча…
Сентябрь 1987 г.
Вот и закончилась учебка, мы стали «деревянными дембелями». Наша троица (Пашка, Коля и я) лежали на лужайке за нашей казармой. Перед этим мы в чайной купили всякой всячины: конфет, пряников, лимонад и т. д. и млели под сентябрьским солнцем. Коля опять начал про свое: «На зиму, наверное, приготовили закрома, и сено уже заготовили», и еще про коров и коз что-то плел. И Пашка не выдержал: «Слушай, Вострик, ты можешь о чем-нибудь другом говорить?». А он удивленно: «А о чем еще?». Тут я влез в их спор: «Ну, например, о женщинах. Или же о том, как ты в санчасти с фельдшером познакомился, кстати, как её зовут? Может, она пожелает со мной тоже познакомиться, а?». «Да ну вас, извращенцы, никакой культуры», — с этими словами он отмахнулся от нас и тут же пересел (обиделся).
Через некоторое время прибежал дневальный и позвал нас: ротный приказал всем строиться. Через пять минут мы уже стояли в строю. Вышел ротный. Он долго ходил вдоль строя, а потом повернулся к нам и сказал; «Ребята, послезавтра — отправка за речку. Через пять минут будет объявлено построение. Кто не желает, может не становиться в строй». С этими словами дал команду «разойтись». Все разбрелись по койкам и каждый без лишних эмоций рассуждал и взвешивал свой будущий шаг. И вот поступила команда на построение, в строй не встали только четверо. Ротный посмотрел на меня, позвал в канцелярию и сказал: «Тебе пришло письмо. Ты извини, что мы вскрыли его, но перед отправкой мы все письма вскрываем, чтобы не было при первых же боях самострелов или глупых смертей». И он прямо сказал, что моя девушка вышла замуж, я вздохнул и отчеканил: «Разрешите идти?» Ротный удивленно посмотрел на меня: «Тебя что, совсем ничего не волнует?». «Никак нет, товарищ капитан!». И, даже не забрав письмо, вышел из канцелярии. Но на душе все равно скребли кошки. У ребят было чемоданное настроение, все были возбуждены и рады, что наконец эта адская «учебка» закончилась. Мы с сержантами уже разговаривали на «ты» (они сами на этом настояли).
Ранним утром нас подняли по тревоге, прихватили с собой заранее приготовленные шмотки: ботинки, РД-шки, шинели в скатку, сухие пайки и т. д. Нас построили, прямо на плац заехали КамАЗы. Полковник Баталов (командир части) начал толкать речь, он говорил о том, что нам выпала честь выполнять интернациональный долг и оказать неоценимую помощь дружественному афганскому народу, и еще много о чем-то говорил, до меня доходили лишь обрывки фраз.
Затем прозвучали команды: «Равняйсь, смирно! Торжественному маршу — поротно! Управление прямо! Остальные — напраа-во! Дистанция шесть метров! Равнение направо! Шаго-ом марш!». И тут зазвучала до боли знакомая музыка «Прощание славянки» и опять, как всегда, загудела под нами земля.
Мы расселись по машинам и поехали на станцию.
Я знаю, как перебегать под прикрытием огня с позиции на позицию, умею переползать под колючей проволокой и воткнуть штык в голову чучела, имитирующего часового. Могу пробежать с полной выкладкой сорок километров, умею вонзать нож в имитатор, умею водить по горным дорогам боевую машину десанта, метнуть гранату. Я научился убивать, убивать ради жизни, ради того, чтобы я и мои друзья вернулись домой. Уже далеко учебка, а впереди Фергана, Душанбе, Кабул, Кандагар, Файзобад, Герат, Кундуз…
Рома «Динамит»
Нас оставалось совсем немного, Враги нас прижимали к скалам. Тот день запомню я надолго, Хотелось время повернуть обратно. В тот миг я осознал, что очень молод, И даже не успел познать любовь… (из стихотворения Романа Капитонова)…Он быстр, подвижен и энергичен. Такова и его речь, сплошь усыпанная шутками и прибаутками. Коротко стриженые волосы уже убелены сединой, а зеленые глаза сметливы и смешливы одновременно. Милицейский бушлат — на несколько размеров больше. Он делает его чуть несуразным, что владельца ничуть не смущает, и получил он такой специально, чтобы ходить в нем на охоту и рыбалку.
Теперь Роман Романович Капитонов не ездит в Чечню и в другие «горячие точки». В свои сорок лет он инвалид, ставший таковым вследствие боевых действий, ветеран милиции и человек, повидавший в жизни многое, если не все.
Полутораметровый десантник
То, что повидал старший прапорщик Роман Романович Капитонов, легендарный Рома «Динамит», хватило бы на несколько жизней. Уже в восемнадцать лет в его жизнь вошла война. Тогда в 1987 году молоденьких солдат-срочников отправили в Демократическую Республику Афганистан выполнять интернациональный долг в составе десантно-штурмового полка. До призыва в армию Роман окончил Соттинское СПТУ, получив специальность водителя, тракториста и стал в армии механиком-водителем боевой машины десанта.
То, как Роман Капитонов при росте в полтора метра стал десантником — история отдельная и особая. Стать военным Роман мечтал еще с детства, прошедшего в городе Вилюйске. Примером для подражания был отец Роман Николаевич, в прошлом артиллерист, капитан сухопутных войск, прошедший всю Великую Отечественную с боями до Кенигсберга. Очень скрупулезный, аккуратный, Роман Николаевич много дал своим девятерым детям, все делал в жизни на совесть и учил их ничего не бояться, мудро полагая, что в жизни нет ситуаций, из которых нет выхода.
О военной форме школьнику Роману мечталось еще и потому, что любимое занятие — чтение книг — подарило ему множество героев. Отважных, сильных и смелых людей, на которых хотелось походить. Это и герои романов Фенимора Купера и Александра Дюма, и великие полководцы, знаменитые тактики и стратеги войны — Суворов, Кутузов, Блюхер, Жуков.
Когда пришло время собираться в армию, Роман понял, что наконец-то претворяется в жизнь его мечта и решил стать десантником. В то время в ВДВ — войска дяди Васи, то есть генерала Маргелова, создавшего этот род войск, брали только при росте 170 сантиметров. Роман, разумеется, не подходил по этому параметру. Разве что спортивное достижение кандидата в мастера спорта по вольной борьбе, полученное им еще в школе, было плюсом.
Тогда он решил взять прибывшего из центра для набора капитана ВДВ измором. С раннего утра до позднего вечера в республиканском сборном пункте он буквально бегал за ним, умоляя взять его в ВДВ. Капитан отмахивался, как мог. Но Роман был очень настойчив, и тот, наконец, устало сдался: «Иди в отдел формирования, черт с тобой…».
В учебке, которую Роман проходил в Фергане, попал в руки замкомвзвода, старшего сержанта Лагутина. Последний каждое утро по полчаса буквально подвешивал Романа на турнике, а на ноги прикреплял тяжелые танковые траки, то есть гусеницы. Лагутин кормил его, как на убой, давал витамины. И случилось небывалое — за четыре месяца Роман вырос аж на 10 сантиметров!
После учебки «срочники» попали в Афганистан. Сразу на войну. В первом бою механик-водитель боевой машины десанта Капитонов особого страха не ощутил и не понял, почему командир отделения крикнул ему: «Открой люк!». После боя Роман спросил его, зачем это надо было. Тот ответил, что в случае взрыва механик-водитель может вылететь наружу и остаться живым. При закрытом люке его просто расплющит внутри.
Через четыре месяца БМДэшка подорвалась на противотанковой мине, а механика-водителя Капитонова вышибло наружу. Он обошелся лишь легкой контузией. Романа перевели десантником-автоматчиком, а через три месяца ему присвоили звание младшего сержанта и назначили замкомвзвода.
Вскоре сержант Капитонов после вывода советских войск из Афганистана, оказался в Тульской дивизии, где предложили отучиться в школе прапорщиков спецотдела ВДВ. Так он стал инструктором-парашютистом и инструктором-сапером.
Далее были спецкомандировки в Сирию. Там он был трижды ранен и дважды контужен. Лечился в военном госпитале имени Н. Бурденко. Потом Алжир. Вернулся оттуда живым и невредимым через три месяца. Затем его ждала Ангола… Наконец, Родина. Служил в Каунасской дивизии, где его назначили командиром инженерно-саперного взвода. Участвовал в штурме Вильнюсского телецентра. Военную службу закончил в Уссурийске.
Сапер-балагур
Это только писать и перечислять легко, где воевал старший прапорщик Капитонов. Война — дело сугубо мужское. Здесь сразу видно, кто на что годен. В афганских горах, сирийских песках, в песках Алжира, в джунглях Анголы он терял своих близких друзей, поднимался и шел вперед. Вражеская пуля щадила шустрого бойца.
До сих пор помнит своего командира роты, капитана Чернышенко, который, прикрывая бойцов, сам в одиночку отбивался от «духов», напавших на командный пункт. Капитану тогда раздробило плечо, но он не сдался, а впоследствии был представлен к Ордену Ленина. Это был настоящий командир, честный и справедливый.
… Романа рвало, когда он впервые увидел «красный тюльпан» — зверски убитых в Афгане советских солдат с содранной и завязанной над головой кожей…
— Неправда, что мужчины в бою бесстрашны, — говорит Роман Романович, — все люди хотят жить. Всегда наступает замешательство. Но хочешь жить — умей вертеться. Нужно успеть нажать на спусковой курок первым…
Разным специальностям обучила его война. И автоматчик, и механик-водитель, и парашютист. Но основная все же — сапер. Как говорит Капитонов, сапер, оказывается, ошибается не один раз, как принято считать, а дважды. В первый раз, когда выбирает специализацию, второй — когда предстает перед апостолом Петром…
Он, вообще, очень юморной, Роман Романович Капитонов. Например, говорит, что военный должен знать четыре языка. Это русский, русский армейский, русский матершинный и четвертый — просто матершинный. Или расскажет анекдот о том, что у отца было три сына — старший учился в академии, второй тоже там что-то выбрал, а третий, дурак, стал военным.
Балагур и весельчак, Капитонов верит людям, верит во все хорошее, как бы ни била его жизнь. Мужчина-воин, прошедший в мирное время ад войны, — большой оптимист. И только ночью по-прежнему он продолжает воевать, раздавая короткие боевые приказы…
Заминировать и разминировать он может практически все. Все мины прошли через его руки. Однако, как все скромные люди, Роман Капитонов никогда себя не выпячивает, полагая, что никакого героического поступка не сделал. Просто служил.
У него много друзей, которые обращаются к нему, и всем он всегда помогает. Этому научили родители. Он не пройдет мимо, если кого-то обижают, и себя не даст в обиду.
Многочисленные командировки «на войну» разрушили его семейную жизнь. Сейчас в сорок лет он верит, что найдет свое счастье. Младшая дочь Нина обучается музыке. Ее находят очень способной. Нину Роман Романович растил без матери. Средняя Арыйана живет в Верхневилюйске. А в Туле другой Роман Капитонов, сын, надел погоны сержанта ВДВ, курсант Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища решил стать защитником отечества, как отец и дед, дошедший до Кенигсберга.
После войн была милиция. Но не потому, что некуда было деваться, а по зову сердца, так как хотел внести свою лепту в дело противостояния разгулявшейся тогда преступности. Боецмилиционер ОМОНа при МВД республики применял свои навыки сапера на минных полях Чечни, где разминировал минометные мины, артиллерийские снаряды, авиабомбы и другие взрывчатые вещества. Там же он минировал подходы к российским позициям, предупреждая внезапные нападения противника.
За 1995–96 годы старший прапорщик Капитонов был в командировке в Чечне четыре раза. После первой командировки его представили к Ордену Мужества. Скромный старший прапорщик Роман Капитонов имеет немало высоких правительственных наград. В редкие праздники на его камуфляжной форме можно увидеть медаль «За отвагу» за участие в боевых действиях в Сирии. В январе 1990 года лично Михаил Горбачев вручил ему в Георгиевском зале Орден Красной Звезды, за Алжир у Романа Романовича — медаль «За боевые заслуги». Ее вручал уже президент Борис Ельцин в том же Георгиевском зале.
Немало и иностранных наград, таких, к примеру, как медаль от благодарного афганского народа.
После Чечни снова была милиция. В 1 ГОМе он стал помощником оперативного дежурного, в Хангаласском УОВД — командиром отделения ППС поселка Мохсоголлох. И в милиции, как и в армии, он обзавелся друзьями и соратниками. Друзья, товарищи — Юрий Михайлов, работавший помощником оперативного дежурного Мохсоголлохского ПОМ, Сергей Близнец и многие другие. Они всегда были рядом в трудные для него минуты.
Сегодня он иногда жалеет о том, что выбрал военную стезю. Стань он врачом или биологом, не стал бы инвалидом в молодом возрасте. Но душа у него по-прежнему военная. Когда по телевизору он смотрит новости о террактах, то от всей души сожалеет, что не в строю. Тогда бы он снова взял в руки автомат и поехал в «горячие точки»…
Альбина Избекова,
пресс-служба МВД по РС (Я)
Кабул, октябрь 1987 г.
Какой-то полковник толкал речь перед строем, но внимание всех привлекал стоящий в стороне КАМАЗ с пулевыми пробоинами на лобовом стекле. Где-то вдалеке прозвучали взрыв и несколько автоматных очередей. Все стоящие в строю повернули головы туда. Полковник тут же осекся и сказал: «Ничего, скоро привыкнете к подобным вещам». После чего он начал разъяснять, что по прибытии в часть нам надо быть предельно осторожными. Что ни в коем случае не надо покидать расположение части, нельзя трогать что-либо, будь это даже слиток золота, валяющийся на дороге. После часового инструктажа нас погрузили в машины. Колонна еще долго не трогалась, ждали, пока «броня» подойдет. Через полчаса колонна уже была готова к движению.
Наконец пролетели две пары «вертушек» и мы двинулись… Ехали долго, останавливаясь в частях. Со временем наша колонна поредела и к концу дня мы уже приехали в часть. Мы тогда еще не знали, что попали в Кандагарский полк.
Нас завели в «модуль» (в казарму) и построили. И тут я понял, что в Союзе принял неправильное решение. Тут было не как в учебке: не было ни аккуратно заправленных кроватей, ни сержантов, одетых с иголочки… Какой-то «чиж» (человек, исполняющий желания) носился с ведром и на него кричали все, кому не лень. По разговорам дедов мы поняли, что его фамилия Хохлов. Он с нашего призыва, только неизвестно, каким макаром он попал в часть раньше нас, и еще больше меня интересовало, откуда он попал сюда, судя по всему, он был один с нашего призыва.
Деды то и дело подходили к нам и искали земляков, кто-то находил, а кто-то нет. Ко мне подошел один казах и спросил: «Казах смен?» Я ему ответил: «Нет, я якут», и тут все заржали. Потом только я узнал, что слово «кут» по-казахски «что» и по-узбекски «задница», и получилось «я, кут».
Меня заколотило чувство собственного достоинства, и я вскипел. Тут же схватил казаха за ноги и бросил об пол, после чего получил удар в ребро. Это оказался рядом стоящий узбек Мамонозаров, и тут все пустили меня под «молотилку». Не знаю, чем бы все это закончилось, но, к моему счастью, в казарму зашли Саид (чеченец), Полищук и Ростовцев. Они тут же разогнали толпу «урюков», затем подняли меня, и Саид мне сказал: «Я уважаю гордых, только не наглых. Ты зачем на деда кинулся? В следующий раз я сам тебе челюсть снесу». После чего подошел старшина. Он, как и полагается, представился. Затем принял наши вещи, записывая что-то, поставил на довольствие и после вечерней поверки дал отбой.
После подъема, к моему удивлению, не вся рота стояла в строю, — вернее, в строю стояли только мы, прибывшие с «учебки», а остальные кто спал, кто мылся в умывальнике. После зарядки и утреннего туалета мы пошли в столовую. И тут было не как в учебке, пищу получал каждый сам, а после мы по привычке стояли и ждали команды. Тут зашел Полищук и крикнул: «Чего сидим? Бегом в казарму, сейчас Бобер придет!». Пашка Артемьев встал и сказал, что ждем команды. Полищук засмеялся и сказал: «Ну, тормоза, по ходу в учебке вас здорово загоняли, без команды даже шагу не можете сделать! Здесь вам не учебка, и ко мне и к остальным сержантам не стоит обращаться по званию, это нас может обидеть, так что давайте бегом в казарму!»
В казарме старшина закрепил за каждым оружие. Днем деды и остальной старший призыв ушли на рейд. А нас старшина (прапорщик Бобров) и ротный (капитан Лебедев) повели на полигон. Система обучения была далеко не похожа на систему обучения в учебке. В отличие от учебки, нас гоняли по склонам да по обрывам, учили стрелять навскидку, вытаскивать из-под огня раненых, как и куда ставить «промидол» и т. д. На все про все ушло восемь часов. После ужина мы практически ничего не делали. Деды были на рейде, по-моему, была какая-то крупная операция. Во всем полку остались только молодые да несколько старослужащих, которые несли караульную службу.
На следующий день после обеда вернулись старослужащие. Построили весь полк. Замполит объявил, что вчера вечером, во время проведения операции погиб рядовой Зинченко Виктор Николаевич с третьей ДШР (десантно-штурмовой роты), то есть нашей. У меня никакого чувства эти слова не вызвали, ведь я этого солдата совсем не знал, и поэтому у меня не было ни жалости к погибшему, ни злости на того, кто его убил.
Затем замполит сказал: «Вот, мы написали письмо матери Зинченко», — и начал зачитывать: «Уважаемая Марина Николаевна, в каждом человеке с рождения заложено чувство ответственности за себя, за друзей, за мать, за Родину, которая воспитала и вырастила его. И. когда приходит время, мы должны отдать свой долг перед Родиной и правительством»… Пашка, который стоял рядом со мной, шепнул: «Вот видишь, оказывается, мы еще с рождения поголовно погрязли в долгах. Может, нам вовсе не стоило родиться на белый свет, — и со вздохом, — эх, мама, что же ты наделала. Да и папа тоже, кобель проклятый». Я ему ответил: «Как ты можешь о своих родителях так говорить? Неужели где-то по дороге совесть свою потерял?». «Да нет, я просто из-за злости на этого плешивого подпола и на тех, кто там, в Союзе, на хрен надо было в армию переться — была же возможность отсрочку получить».
После обеда нас повели на занятия. Механики-водители, то есть мы, пошли на вождение, а остальные на полигон. Принцип был такой — мы проходим вождение, а сержанты — стрельбу. Так нас обучали где-то с месяц.
29 октября 1987 г.
Утром Пашке, Вострику и мне приказали собрать вещи, нас отправляли на заставу в Герот. На мосту реки Герируд нас встретил прапорщик Стасюк. Поздоровался с нашим взводным, о чем-то говорили, мы стояли около своих машин. Я даже не заметил, как нас окружила толпа. Первый спросил: «С Ростова кто-нибудь есть?» Мы ответили: «Нет». «А откуда вы?» — сразу же последовал вопрос. Я сказал, что с Якутии, Вострик: «А я с Алтая», «А я с Перми», — Пашка Артемьев. И тут же посыпались вопросы: «Как там, в Союзе?», «Как в полку?». Мне показалось, что их интересовало все, хотя через эту заставку колонн с Союза проходило, видимо, много. Я заметил, что тут все одеты как попало, по форме N8. Сразу вспомнил, что еще в учебке слышал, что здесь все по форме 8 ходят, то есть — что нашел, то и одел. Мы начали их расспрашивать, много ли нападений бывает, как воюют «духи», но, к нашему сожалению, ничего интересного не услышали. Один сказал, что духи воюют будь здоров, но насчет нападений сюда, наверное, уже как год никто не нападает. Все тихо, ну, иногда с «шайтан трубы» (гранатомета) раз в месяц пульнут и то ночью, а так все тихо. И мы с сожалением вздохнули. Ведь тогда нам так хотелось показать себя, совершить какой-нибудь подвиг, а тут на тебе — ни выстрелов, ни канонад, разве что где-то далеко в горах…
Какой-то солдат, волоча непонятный мешок, подошел к нам и сказал: «Ничего, ребята, самое главное — отсюда выбраться живыми, а каким образом — не волнует. Главное — не «грузом 200». И тут Вострик спросил: «А что такое «Груз-200?». И Леня пояснил, что это — труп.
«Самое главное, — продолжал он, — пока вы молодые «черепа», не стоит борзеть на дедов, иначе будет очень трудно жить; убегать тут бесполезно, духи могут поймать, в кишлак в одиночку не ходить, тоже могут поймать. Лучше от своих за дело получать, чем на духов пахать или же ими быть зарезанными». И начал рассказывать, как он пришел молодым, как с ихним призывом обращались деды, как учили они их всему тому, чему сами научились.
Солнце уже клонилось к зениту. Броня из трех машин двинулась в сторону полка…
Проводив колонну, мы пошли на построение. Лейтенант зачитал наряд, я попал в первую смену вместе с Ростовцевым, Пашкой, Саидом, Востриком и Полищуком.
На посту ночью было холодновато, и я по совету Ростовцева прихватил с собой бушлаты. Ростовцев спросил меня, как я попал в ВДВ.
— Насколько я помню, — сказал он с сомнением, — в ВДВ берут не ниже метра семидесяти.
— А черт его знает, если я здесь, значит, наверное, служу, или как ты думаешь?
— А ты, оказывается, не такой уж глупый, как я погляжу. Ты с Якутии, Говоришь? Правда, что у вас девять месяцем зима?
— Да, конечно, зато остальное — лето, и живём мы в чумах вместе с оленями, собаками, тюленями и белыми медведями, и сношаемся, не снимая лыж.
— Ты че, салага, издеваться вздумал, я же тебя по-человечески спросил, мне же по гражданке рассказывали студентки. Кстати, твои землячки рассказывали еще, что алмазов и золота не меряно, что аж детишки на песке играют ими, что живете не в чумах, а ярангах.
— Ну, ты даешь, если бы так, я бы самым богатым человеком был бы, и жил бы не в яранге, как там эти твои шалавы рассказывали, а в благоустроенном коттедже, и ты бы меня не видел сейчас здесь, а только когда-нибудь по телеку увидел бы. Да, конечно, алмазы и золото добывают, но они же не валяются на улицах. И населенные пункты есть, как и в средней полосе России и в Сибири.
— Да, ладно, откуда мне знать было, ведь я никогда не был там.
— А для этого не надо обязательно там быть, учиться надо было нормально, и по телеку хотя бы один раз в месяц смотреть научно-познавательные программы типа «Клуб кинопутешествий». Я же никогда не был ни в Москве, ни в твоей Калуге, ни в Оренбурге и знаю же почему-то, что в Москве, кроме Кремля, есть Третьяковка, МХАТ, Мосфильм и что в Калуге множество фабрик и заводов или вы думаете, у нас там пятидесятиградусный мороз и мозги давным-давно у всех позамерзали?
— Да ладно тебе, не обижайся, Капитонов. Кстати, как тебя зовут?
— Рома.
— Ладно, давай дуй на кухню, притарань заварку с сахаром, и у повара коробку сухпайка возьми. Скажи, что я тебя послал. Сейчас мы чайку сварганим, есть-то хочешь, наверное. Да, ладно тебе, сам был молодым. Думаешь, не вижу, что ли, иди…
Вечером следующего дня мы занимались техникой, солнце уже клонилось за горизонт, и вдруг около пятого капонира раздался взрыв. Посыпались команды: «К бою!» Я занял свою огневую позицию и не знал, что дальше делать, прозвучала длинная пулеметная очередь в сторону речки тоже. Я дал очередь, хотя никого и не видел. Тут все молодые открыли огонь и прозвучала команда Филимонова (нашего взводного): «Прекратить огонь!». И все затихло. Потом ко мне подошел Ростовцев и спросил:
— Ты чего стрелял?
— Не знаю, все стреляли же, а че, нельзя было?
— Ну ты даешь, вроде бы сообразительный парень, а тупишь. Ну да ладно, идем, «броней» займемся.
Я боялся выйти из укрытия:
— А что, можно сейчас выходить?
— Ну, тормоз! Да, выходи, все уже давно из укрытий вышли. Запомни одно, — продолжал читать наставления Ростовцев, — самое главное здесь — не терять голову, тем более, что ты механик-водитель. Скоро я дембельнусь, через неделю вертушка за дембелями прилетит, так что слушай меня внимательно и жадно глотай то, что я тебе скажу. Если начнется, не дай Бог, обстрел, для начала ты должен укрыться, осмотреться, после чего только должен действовать. А если ты, как сегодня, будешь открывать огонь, не зная куда и зачем, то очень скоро поймаешь «сувенир» от снайпера. Ты понял меня?
— Так точно, товарищ сержант.
— И не надо ко мне обращаться по званию, иначе я твою безмозглую башку сверну, прежде чем ее продырявят. Понял?
— Понял. И запомни: во время сопровождения не бойся держать люк открытым. Здесь мин больше, чем духов, если наедешь на мину, то хоть жив останешься. Ну, а насчет здоровых и целехоньких ног я тебе не обещаю. Но если будешь делать так, как тебя учили в учебке и как я сказал, то тебе повезет. Но от всех случаев жизни у меня советов нет, так что по ходу дела мы с тобой еще вернемся к этой теме. А пока подайка мне ключ на семнадцать…
В середине ноября дембеля улетели, а еще через неделю нашу роту перебросили в Файзобод. К тому времени я не был механиком-водителем в связи с тем, что две «брони»: мою и Пашки не оставили на заставе. На первом рейде из молодых был я один, так как Пашка и Вострик были в наряде. Меня то и дело подгоняли, ругали. После обработки какого-то кишлака «вертушками» пошли мы.
Я шел замыкающим, и вдруг увидел женщину с пробитым бедром. Она лежала и молча смотрела на нас. И я услышал то, чего боялся: «Ну, парень, сделай-ка»! Я направил ствол и… сделал. «Убиваешь не ты, — подумал я, — убивает твой автомат, ты только нажимаешь на курок. Трудно убивать, ножом или рукой. Самое главное, чтобы после твоего выстрела человек сразу же умер, не мучился».
… Мы пошли дальше. Шел дождь. Скользкая, липкая грязь затрудняла движение. И проклиная эту страну, все это лживое вонючее правительство на чем свет стоит, а заодно и самих себя за то, что ввязались в эту войну, шла наша рота. Нам было противно все: и этот разбомбленный кишлак, и та женщина, которая лежала посреди дороги, эта грязь. Мы желали только одного — окончания рейда…
Война — это всегда страшно
Наверное, в каждом мальчишке живёт жажда подвигов и войны, и оттого их рисунки пестрят танками и самолётами с фашисткой свастикой, разламывающиеся пополам; оттого и играют они в войнушки, оголтело бегая с деревянными автоматами. Война в воображении и с телеэкранов кажется им романтичной и возвышенной. И только те немногие, кому по-настоящему довелось взглянуть в глаза войны, понимают, что война — это страшно. Это пот и грязь, это сбитые в кровь ноги, это последний стон умирающего друга, когда твоё тело в любую минуту может разорвать снаряд. Война — это липкая бессонница и пробуждение в холодном поту, это поствоенный синдром…
Роман Капитонов пришел в редакцию, когда была опубликована первая часть его повести («Эхо войны» N8 (188), 12 (192), 16 (196) «ЭС»). Мы сидели, разговаривали, и я поймала себя на странной мысли, что он меня не знает, а я его знаю. Знаю характер, привычки, знаю его друзей. По дневниковым записям, сохранившимся с войны.
— Роман, вот в Великую Отечественную была всеобщая воинская повинность. А тут ты сам мог распоряжаться своей судьбой. Никто не заставлял, даже не уговаривал. Почему ты не вышел из строя, сделав шаг, перевернувший всю твою жизнь?
— Но ведь не я один. Сначала мальчишество, жажда подвигов. Всю жизнь пытался доказать себе, окружающим, что я тоже что-то умею, могу. Я ведь был маленького роста, когда призывался, всего 1,50. Занимался вольной борьбой, даже был победителем республиканских соревнований, конечно, в наилегчайшем весе. Им не понять, амбалам, как трудно в армии быть маленьким. Отсюда, наверное, и служба в ВДВ. Ведь там не берут ниже метра семидесяти. Есть же такая черта — честолюбие. Вот она таким образом у меня и выразилась. Маленький? А ни хрена, служить — так в десантниках. Я был очень настойчивым, и меня взяли, в конце концов, пожалели, а может, пошутили. Меня еще в учебке сержант Лагутин взял под свое шефство и вытянул за полгода на 11 сантиметров. Паек мне выдавал двойной, а когда приходили посылки пацанам с витаминами и провизией, заставлял делиться со мной. Каждый день я висел на перекладине с 16-килограммовой гирей, привязанной к ногам. Спасибо Лагутину, а то бы остался каким был, метр с кепкой.
— Ну хорошо. В Афганистан ты попал из-за жажды подвигов. Но ведь война в твоей жизни на этом не закончилась.
— Понимаешь, там, в Афганистане, не было чего-то нечестного, подлого, предательства не было. Если ты не прав, тебе об этом скажут в лицо, никто по углам шептаться не будет. Если не понял, в морду дадут в крайнем случае. Там никто не будет лезть тебе в душу, если ты этого не хочешь. А здесь… Здесь совсем по-другому… Вот недавно познакомился с парнем. Мы случайно вместе пришли снять одну и ту же квартиру. Так и зажили вместе, деля и еду, и оплату за жилье, и радость, и горе, как говорится… Он, как мне казалось, на Пашку Артемьева походил, я привязался к нему, доверял как себе… Ну, я как-то пенсию получил за несколько месяцев. Утром — ни его, ни денег… Он же знал, как мне они были нужны на лекарства, на жизнь, дочке что-нибудь купить… Он же мне в доверие вошел, чтобы так все растоптать потом…
— Так надо было в милицию заявить.
— А разве это его исправит? Бог ему судья, хотя осадок в душе остался. Хорошо, мне ребята из нашего комитета воинов-инвалидов скинулись, помогли. А почему война для меня продолжалась?… Ну, приехал домой. Ни кола, ни двора, родственников загружать своими проблемами не хотелось. Здесь другой мир, не вписался я в него, а может, привычка сработала. Дальше были Сирия, Алжир, Чечня.
— Тебе удалось хорошо показать характеры своих друзей. Я очень хорошо представляю и Пашку Артемьева, и Вострика. Как сложилась судьба у них, где они сейчас?
— С Востриком мы переписывались до недавнего времени. Но, боюсь, он меня потерял; ведь у меня сейчас нет ни постоянного адреса, ни прописки. Стало быть, писать мне некуда. У Вострика исполнилась его большая мечта — он стал агрономом. Сейчас у него большое фермерское хозяйствов Калуге, где, очевидно, он использует землю разумно и щадяще, именно так, как должно быть и про что он нам с Пашкой постоянно втирал. Я очень рад за него. А Пашка… Пашка погиб у меня на руках. Последнее, что сказал: «Мама». Мама у него старенькая, одна его воспитывала; так и не дождалась… Вот в песнях про Великую Отечественную часто поется, мол, друзей хоронил. А я многих друзей потерял, но никого не хоронил, только отправлял грузом 200. Потому что умирали они на чужой земле, а хоронить надо на своей, родной. Где-то слышал такую мысль, что, мол, мы попутчики в поезде. Кто-то сошел, а мы дальше поехали. Мы-то поехали дальше, но ведь больно, как больно… А Пашка, он особенный. Он был самый-самый. Все вспоминаю, какой он веселый был, бесшабашный. Я ведь был самый маленький, к тому же единственный якут — он всегда за меня заступался. Когда его не стало, до меня это не дошло по-настоящему, может, разум не хотел, отказывался понимать, а может, просто мы были молодые… Вот сейчас… В своих записях я не смог написать, что он погиб, обойдя эту тему стороной. Не захотел, потому что больно, очень больно.
— Сирия, Алжир… Каким образом тебя тудато занесло?
— После Афгана, в 1989 году поступил в школу прапорщиков спецотдела ВДВ, потом прошел переподготовку и отправили меня в Сирию в составе группы военных специалистов инструктором-сапером. Прилетели в Дамаск, там объяснили, что мы предназначены для пресечения транспортировки оружия через Сирию, Турцию на Кавказ. Разведка передавала, по какому маршруту идут караваны с оружием, и моя задача состояла в том, чтобы расставлять мины на их пути. Однажды напоролись на засаду: я только выпрыгнул с БТР, как меня сразу прошило — сквозное осколочное ранение в бедро и касательное осколочное ранение головы. Контузило сильно. Отправили в Москву, провалялся я там в центральном военном госпитале месяца три, оклемался. Потом отправляли на Сахалин в разведбатальон мотострелковой дивизии, потом были Хабаровск, Псков, там я несколько месяцев командовал инженерно-саперным взводом. А после вызвали в спецотдел и направили в Алжир. Мы иногда сопровождали дипломатов, а в основном вели караульную службу. Все местные в белых штанах, как в Рио-де-Жанейро, и большие фанатики. Там было очень распространено религиозное движение «Ходжума». В Бешаре к нам подбежал мужик: чуть ли волосы на себе не рвет, кричит, руками машет — оказывается, его дочка упала в заминированную яму глубиной в два метра. Каким образом она умудрилась упасть, не задев ни одной проволочки, — уму непостижимо. Меня спустили на веревке, я не успел даже автомат снять. Ребята все отошли подальше от ямы — мало ли что. Я осторожно стал снимать растяжки, а она давай от меня шарахаться, дурная какая-то. Хотя я ее понимаю, конечно. Запрыгнул маленький, страшненький, да еще с автоматом. Я работаю, а сам уговариваю ее: «Не прыгай, милая, я тебя не трону, я с миром, не шевелись, а то сейчас оба в воздух взлетим!» Она, конечно, не понимает ничего и от меня по яме чуть не бегает; Хорошо, хоть переводчица вовремя подошла, объяснила что к чему. Потом вытащили нас. Но история этим не кончилась. Как оказалось, по их религии принято: если я к ней прикасался, то обязан жениться.
— Ну и женился бы, что за дела?
— Че я, дурак что ли, жениться на тринадцатилетней девчонке, она же ребенок еще! Командование вошло в положение, меня сразу отправили из Алжира в Москву, чтобы родственники девочки, обидевшись на отказ, не сделали мне харакири. В Москве я и получил медаль «За боевые заслуги», кажется, именно за этот случай. Потом начались вильнюсские события, и меня направили в каунасскую дивизию. После расформирования — на Сахалин, где медицинская комиссия выдала такой вердикт: «Годен к службе вне строя». Это было похоже на то, что я бежал, бежал и вдруг столкнулся со всего маху с прочной бетонной стеной. Когда немного привык к мысли, написал рапорт и подался в Вилюйский военкомат. Но из-за квартиры, вернее, из-за отсутствия ее пришлось перевестись в Абыйский военкомат.
Скоро я понял, что канцелярская работа не по мне, попросился в строй и вскоре получил распоряжение командующего ВДВ: мне надлежало отправляться в Уссурийскую воздушно-десантную бригаду, из-за отсутствия вакансий командиром взвода связи. Оттуда несколько раз ездил в Таджикистан на боевые операции. Однажды, когда уезжал, оставил свою квартиру знакомому. Приезжаю: дома дым коромыслом, крик, шум, короче, драка. Впоследствии оказалось, что еще голову соседу разбили. В общем, командованию доложили, что у Капитонова пьяный дебош в квартире, и, хотя я был к нему непричастен, объявили выговор с занесением. В принципе, сам виноват, конечно, не пускай в дом кого попало. С этого случая в моей жизни и началась продолжительная черная полоска… Может, озлобленность какая во мне появилась или что, но все пошло наперекосяк. Во время прыжков солдат один прыгать не хотел, я его пнул. Он приземлился, конечно, как надо, но пожаловался. Ну, и меня спросили, в чем дело. А я как раз свой 245-й прыжок отмечал, ребята мне пиво принесли, ну и уволили меня по дискредитации звания служащего… Приехал в Якутск. Снова старая волынка: ни кола, ни двора, ни денег. До октября проходил в летней форме, попросился в МВД, в ОМОН. И меня взяли. Начались командировки в Чечню. У меня их было четыре. Чечня от Афгана отличалась. Если в Афганистане было много боевых рейдов, то в Чечне мы больше охраняли себя. Но война есть война. И это всегда страшно. Очевидно, учитывая опыт прошлых лет, после командировок стали давать 25 дней на реабилитационный отдых. А потом меня списали, и я в неполные тридцать стал пенсионером… Когда узнаю, что наши опять едут в Чечню, я готов молиться — хоть Богу, хоть черту, пусть только вернутся, только живые, здоровые! Я знаю, что не смогу повлиять на ситуацию, и больно, так больно, что чувствую непонятную вину. Они там, а я… Я здесь и ничего не могу сделать. Больно за Рыжикова, которого я знал лично, больно за молодого парня Голомарева, которого я не знал никогда и уже никогда не узнаю…
— Была ли у тебя ненависть к врагу?
— Какая ненависть… Снайпер убил моего друга, а может, в прошлом бою я убил его брата… На войне все несколько абстрактно, как при игре в солдатики. Я успокаивал себя так: убиваешь не ты, ты просто нажимаешь на курок. Страшно, когда приходится убивать рукой или ножом. Тогда пахнет кровью, — она впитывается в одежду, и еще долго потом преследует запах крови, не может выветриться.
— А если можно было повернуть время вспять, ты бы прошел все заново?
— Нет. Если бы у меня был сын, он бы обязательно служил в армии. Сейчас в армию попадают практически необученные люди, толком не державшие автомат. Он бы умел все, но служил бы в мирной армии. А я всю жизнь пытался что-то доказать всему миру. Ну и что я доказал? Когда уходил на пенсию, понял, что ни мне, ни кому бы то ни было это не было нужно; самоутверждаться можно не только на войне… Но думаю, что нигде я не нашел бы такой настоящей мужской дружбы, как там. Когда ушел, грешным делом подумал, что меня забыли. Оказывается нет. Нашему республиканскому комитету воинов-инвалидов в этом году исполняется пять лет. Мне бы очень хотелось от себя лично и от всех, кому они помогли, поблагодарить председателя Сергея Анатольевича Шкуренко, заместителя Василия Вендюка, зам. командира ОМОНа Василия Острелина, председателя ассоциации боевых действий Николая Гребенникова и Ульяну Григорьевну Алексееву, работающую в санчасти МВД, невропатолога Любовь Николаевну Приходько. Большое спасибо вам!
Как-то был случай: в аптеку зашел, спокойно так лекарства перечисляю, думая, что инвалидам бесплатно. А тетя-кассир как выдала сумму, так я чуть не присел — одна тысяча 640 рублей. Покупай, мол. Мне чуть дурно не стало. При пенсии 1840 — эта довольно большая денежка, с тем, что за квартиру надо платить и все-таки еще что-то кушать надо. Мне тогда в РКВИ здорово помогли, да и не только тогда… А во что оценить моральную поддержку, когда тебе дают почувствовать, что ты все-таки не один, что тебя помнят, что ты вроде бы еще можешь где-нибудь пригодиться…
Там, на войне, кажется, что человек создан для уничтожения себе подобных. Ну, посуди сама, в армии все самое лучшее — техника, оборудование и т. д. А как люди здесь живут? Убогие деревяшки, заливаемые нечистотами, безденежье, нищета… Я не про всех говорю, конечно. Но ведь на армию, на ту же войну в Чечне тратятся огромные деньги.
— Рома, есть такое выражение «афганский», позже «чеченский синдром».
— А, это ты про то, что, мол, у бывших вояк «крыша» едет? Сны снятся, конечно, часто. Ночью бывает: просыпаюсь от собственного крика. И все воспринимается обостренно, любая несправедливость, нервы, как оголенные провода. Боевик, к чертовой матери… Но никого и никогда, пока я здесь, не ударил, даже не нагрубил. Почему? Просто я никому после Афгана уже не могу, не хочу делать больно…
Записала Виктория ГАБЫШЕВА.
20 ноября 1987 года, Фойзобод
Под утро нас подняли по тревоге, погрузили в «вертушки» и мы полетели в район Кундуза. Разведрота, которая ушла ещё вечером, напоролась на засаду, и мы полетели к ней на выручку. Я уже сверху увидел, что горят несколько БТРов.
После высадки мы тут же побежали в сторону выступа, откуда лупили по разведчикам «духи». «Бобёр», плюнув в сторону, сказал сквозь зубы: «Ну, ребята, сейчас будет конкретная мочиловка. В групповой драке когда-нибудь приходилось участвовать?». Я тогда не понял, к чему это он спросил. Когда мы подошли к разведчикам и начали прикрывать их отход, подлетели несколько «вертушек» и открыли огонь. Было достаточно светло, чтобы увидеть, как разрывы ПТУРСов (противотанковые реактивные снаряды) разрыхляют каменистую землю вместе с залегшими за камнями «духами». После подлетели транспортные «вертушки» и начали грузить трупы и раненых, а «духи», как ошалелые, не переставали вести огонь.
После того, как были погружены все, мы начали отходить. В тот момент я впервые в жизни увидел, как погибает знакомый мне человек. Это был «Бобёр» — гвардии старший прапорщик Бобров. Он погиб обычно, даже не взмахнул руками, не прогнулся от боли назад, хотя, видимо, попали в спину. Я сначала подумал, что он просто споткнулся и упал. Но он так и не поднялся. К нему подбежали Рогов и Лагонян, подхватив его под мышки, забросили в «вертушку». Тогда до меня еще не дошло, что я никогда больше не увижу этого бравого рыжеусого строгого прапорщика со смешным прозвищем «Бобёр». Я тогда не знал, что у него кроме старого отца на Украине никого нет, хотя он был уже не молод, не имел ни детей, ни жены.
После боёв, я ещё не раз услышу, что это даже хорошо, что, кроме отца, никому больше горя не будет.
Сверху в иллюминатор я наблюдал, как горят БТРы, как «духи», словно саранча, облепили целехонькую БМП, которую при отходе не успели поджечь. В этот момент я ничего не слышал, кроме гула двигателей и звона в ушах, зазвеневшего еще во время боя. Я тогда не придавал особого значения тому, что происходило вокруг меня, не было даже стрессового состояния, и это казалось мне необычным. Наверное, это из-за того, что был первый бой и я ничего не успел понять, даже и пострелять-то толком не успел, наверное, растерялся.
После возвращения, ко всеобщему удивлению молодых, не было ни построений, ни громких разговоров о прошедшем бое, даже о старшине никто словечка не проронил. Как будто и не было в помине никакого боя — ни раненых разведчиков, ни обгорелых трупов, ни прапорщика Боброва. Всё шло обычным чередом. Офицеры и прапорщики чего-то бегали, суетились, а мы спокойно пошли отдыхать в свои палатки.
После чистки оружия ко мне подошел Пашка и начал рассказывать о том, как он героически пытался присоединить «рожок», когда у него закончился первый магазин:
— Понимаешь, у меня руки трясутся, как у моего отца после пьянки, царствие ему небесное. «Мотор» вот-вот выпрыгнет с того места, где ему предназначено быть по законом природы и общей анатомии человека. У меня всё внутри вскипело, ребята бьют по «духам», а у меня «рожок» не лезет, мать его…
— А ты хоть в кого-нибудь с первого рожка попал? — спросил я.
— Не знаю, не заметил, но рожок быстро закончился, хотя лупил я одиночными.
— Нет, я даже ничего и не понял, по-моему у выступа что-то мелькнуло, я туда три-четыре очереди дал, потом чё-то замешкался да и РД-шка как назло отстегнулась, потом побежали к «вертушкам», увидел, как «Бобра» мочканули, а ты видел?
— Что видел?
— Ну, как «Бобра» замочили?
— Нет, честно говоря, мне не до этого было. «Дрозд» — сволочь, покрывая матом, погнал меня первым к «вертушке». А как его мочканулито?
— Да он к «вертушке» бежал с Роговым и пулю, по-моему, в спину поймал, я-то подумал, что он просто споткнулся, упал, а он, оказывается, Богу душу отдал.
— А откуда ты знаешь, ведь его же в другую «вертушку» погрузили, в ту, которая раньше улетела.
— Идиот, наша «вертушка» чуть позже полетела, потому что Агонян не поместился в той «вертушке» и залез в нашу, а та уже улетела, и Агонян нам рассказал, что «Бобер» дуба дал. Надо тебе иногда глаза от пыли протирать, и мозгами, логической цепью работать. Заметь, мозгами, понял?
— Ишь ты, какой умный нашелся, может, прикажешь еще на лекции к тебе записываться, кандидат неопределенных наук.
— Да, ладно не обижайся, это я так, усталость свою снимаю.
— Ты свою усталость снимай блаженным сном, умник.
Мы немного бравировали, буднично и даже цинично, говоря о смерти. Так, будто ничего необычного не произошло, хотя на душе было муторно.
После недолгой дискуссии никак не мог уснуть. Тогда я понял, как соскучился по родине. Мне так захотелось хотя бы на миг, хоть одним глазком увидеть дом на берегу реки, где мать суетится около плиты. Несмотря на то, что она не могла хорошо передвигаться, она довольно ловко справлялась с домашним хозяйством. Мне так захотелось оказаться рядом с родными, пойти на охоту с братом… Я никогда не любил ходить с ним на охоту, а то как ни пойдем — обязательно поругаемся. Он постоянно указывал, что можно и что нельзя делать во время охоты, и это меня задевало, ведь я-то был старше его!
Его указания заканчивались взаимными словесными перепалками и, в конце концов, наши дороги расходились. В результате я возвращался без добычи, а Коля всегда возвращался с трофеем, потому что он был лучшим во всех отношениях, что касалось охоты, а может, не только охоты. И мне так захотелось быть рядом с ним на охоте, и пусть бы он ругался и важничал, ведь он мой брат, и лучший охотник на свете.
Утром мы с Востриком помогали разгружать продукты, которые прибыли к нам из полка. После разгрузки писали письма домой. Вострик, естественно, писал о том, что служит в Монголии, а я вообще писал, что служба идет своим чередом, а как и где — неважно…
31 декабря 1987 г.
Вечером привезли почту. Пашка был на седьмом небе от счастья, потому что получил сразу три письма: одна от матери с поздравительной открыткой, и от двух девчонок. Вострик от своей девушки не получал ещё с учебки, и хотя понимал, что «врата любви» уже закрылись, но по-прежнему не переставал ждать и с каждым днем становился всё мрачнее. А в этот день он просто сиял от радости, потому что его работу, которую он писал полгода с лишним и отправлял уже с Афгана, приняли в НИИ сельского хозяйства. Он опять начал рассказывать о своей работе дословно и никак не мог остановиться. Мы слушали его и думали, наверное, все, когда же заткнется этот тронутый, на ниве сельского хозяйства, мудак. Затем мы приступили наряжать новогоднюю елку. Рогов врубил недавно купленный в Дукане «Шарп»…
Ночью «духи» начали осыпать нас новогодними «подарками». В это время мы лежали в палатках. А когда началось, мы все, как тараканы, рассыпались по траншеям. Тут же трассера начали рассекать воздух. Со мной рядом раздался оглушительный взрыв, я сначала не понял, что произошло, ощущение, как будто меня кто-то долбанул кувалдой по затылку. Встряхнув головой, я снова встал и начал лупить по вспышкам автоматной очередью. Потом всё резко прекратилось. С БМПшек как бы вдогонку дали несколько залпов. После этого мы, на полусогнутых, разбежались по палаткам. Когда подбежали к своей палатке, то её не обнаружили. Прямое попадание гранаты разворотило палатку, заодно и то, что там было. Мы начали разбирать хлам и искать свои шмотки. К счастью, мои вещи оказались на месте, так как они лежали под нарами в углу палатки. После того, как разобрали вещи, я, Пашка и Вострик пошли в 3-й взвод. Мы так и не уснули, проговорив всю ночь до утра.
Пашка рассказывал о тех девчонках, от которых получил письма, Вострик — о своей работе. Я, как всегда, о том, как сейчас холодно у нас. Тут меня Пашка спросил:
— А как же вы там живете в такие-то морозы?
— Мы не только живём, но и размножаемся.
— Прямо на снегу? — встрял Вострик.
— Идиот, как можно размножаться в 50-градусный мороз? Неужели в школе не изучали, что при минусовой температуре все живое и жидкое кристаллизуется, а человек из 80 % состоит из жидкости. Ты понял?
— Понял, понял и откуда ты такой умный взялся? А, это потому, что зимой сидите дома, ничего не д?лаете, смотрите «ящик» да книжки умные читаете.
— Пусть будет так, как ты думаешь, если ты идиот, то это надолго. Хватит, давайте спать. Завтра в рейд.
Где-то в феврале 1988 года
Нашу роту ночью отправили на блокирование. С района посадки двинулись в пешем порядке по скалам. Шли долго. Впереди меня шел Вострик с пулеметом и со стороны казался этаким суперменом из кинофильма «Рэмбо». Было видно, что он вовсю старался показать себя бравым, без страха и упрека боевиком типа Шварценеггера. Пашка шел где-то сзади; рядом, прихрамывая, шел Покровцев Олежка. Он, по-моему, натер мозоли на ногах, потому что шёл, покрывал матом того, кто придумал эпи ботинки. Он вдруг так застонал, что я подумал: у него не в порядке с головой, ведь его в новогоднюю ночь капитально долбануло. Где-то почти с месяц в госпитале провалялся. Мы еще думали, что его дембельнут, но нет, обратно в роту прислали.
— Ссука! Ноги в кровь потер, слышишь как хлопает?
— Да. Ты потерпи, через полчаса привал. Там и перевяжешь ногу.
— Падла Дрозд на той неделе ботинки на размер больше дал, вот и болтаются ножки в ботинках как хер в стакане, а теперь даже на привал ротного не упросишь, гонят как лошадей по прериям.
— Хорош сопли распускать, десантник! — «Лавровый лист», наш дед, встрял в наш разговор.
— Да я молчу…
Мы шли дальше, поднимаясь по скалам все выше и выше. Нам тогда казалось, что не будет ни конца, ни края нашему пути. Шли молча, думая каждый о своем. Через полчаса поступила долгожданная команда «Привал». Мы уселись с Востриком, прибежал Пашка и тут же начали вытаскивать из РД-шек пайки. «Деды» подогрели свои пайки на сухом горючем, а мы даже не стали подогревать, терпения не хватило, да и кушать сильно хотелось. По сравнению с нами, у «дедов» было больше и терпения, и опыта. Лавров подошел к нам и сказал:
— Вы че, как будто месяцами не жрали, едите, не подогревая пищу, ведь через полчаса опять жрать захочется. Ну, мудилы.
С этими словами «Лавровый лист» оставил нас в покое и удалился.
После привала мы двинулись дальше. Дошли до места где-то под утро. Ротный рассредоточил нас вокруг кишлака, который находился внизу. И мы сверху наблюдали за кишлаком. Так мы просидели до следующего утра на голых камнях. Утром ко мне подошёл Коваленко и сказал:
— Слушай, у меня, по-моему, чирей появился, задница что-то болит.
— Ладно тебе, Серега, отсюда все равно в санчасть не отправят, как ни коси.
— Да я не косю… не кошу… во, смотри…
Когда он снял штаны, то там точно был чирей, тут подошел «Дрозд», взял гильзу из-под КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова, танковый) приложил её к заднице Сегея, да ка-ак долбанет! У бедного Серёги чуть глаза не повылетали с орбит. Потом он долго будет благодарить «Дрозда» за оказанную таким нетрадиционным методом медицинскую помощь.
Спустя время чирей на заднице прошел, и он зашагал нормально. Где-то часа через три мы спустились в кишлак, начали проческу. Вдруг из-за дувала прогремел выстрел. Пашка, идущий впереди меня, вдруг покачнулся и упал. Поначалу я растерялся, потому сразу упал за соседний дувал; в голове все перемешалось. Все случилось как-то спонтанно, в сознании мелькал Пашка, упавший то ли замертво, то ли раненый. И тут я поймал себя на мысли, что я — трус. Пашка, мой самый лучший друг, лежит в пыли, истекая кровью, и, может, надеется, что я вытащу его из-под огня, а я… я, как трусливый щенок, защемился за дувалом и лежу.
Лавров лупанул по дувалу из гранатомета. Воспользовавшись этим, я подбежал к Пашке, потащил его за укрытие. Он что-то говорил невнятно, глаза были расширены, и то, что я сумел расслышать, было слово «мама!». Он, по-моему, звал маму. Я в горячке пытался заткнуть кровоточащую дыру на его теле. Потом… Потом он как-то страшно захрипел и застыл, а глаза так и остались открытыми. Мне тогда даже не верилось, что Пашки больше нет, — того самого весёлого и справедливого парня, который должен был обязательно вернуться к себе домой в Пермь. Он должен был остаться в живых… Я, еще ничего не понимая, уговаривал его не умирать, как будто это зависело от него.
Не помню — сколько я просидел около Пашки, но меня, матерясь на чем свет стоит, позвал ротный, приказав взять Пашкин пулемет и бить по всему, что движется. Я бил по дувалам, которые находились через дорогу. В горячке боя я постепенно отошел от шока, затем поступила команда покинуть кишлак, и мы с Востриком потащили Пашку. После того, как мы покинули кишлак, подлетели «вертушки» и начали бомбить. После налета наша рота по новой пошла прочесывать кишлак. «Вертушки» поработали на славу, почти камня на камне не осталось от места, где раньше жили люди. Вострик шел со мной рядом и о чем-то думал, по-моему, до него никак не доходило все то, что произошло в тот день. Наверное, человеческая психология такова, что мы все осознаем гораздо позже. Мы, конечно, понимали, что Пашки больше нет, но никак не могли поверить в это.
Вострик палил куда не попадя — будь это баран, чудом оставшийся в живых, будь это давно окоченевший труп. На миг мне показалось, что он и на меня недобрым взглядом посматривает, и у меня мурашки по спине пробежали от мысли, что он винит и меня в том, что произошло с Пашкой. Мне захотелось что-нибудь сказать в свое оправдание, но я не смог, потому что это, наверное, было бы глупо.
После прилета в батальон я долго не мог прийти в себя. С Востриком мы долго не разговаривали. Потом он подошел ко мне и спросил:
— Ты видел, как в него попали?.
— Да…
— Ты не думай, что тебя кто-то, тем более я, винит, это же война…
— Какая к черту война! Ты что, ничего не соображаешь?.. Пашка погиб! Нету больше Пашки, нет! Понимаешь?! Нет!!!
— От того, что ты закатываешь истерику, Пашка не поднимется… Че психуешь?
— Не знаю, может у меня крыша съехала.
— Ну вот что, Ромыч, идика, отдохни. Ротный сказал, что нам надо как следует отоспаться, иначе у тебя точно крыша съедет.
— Ладно, будь по-твоему.
— Кстати, Коваленко ранили, по-моему.
— Да нет, это у него чирей был, Дрозд гильзой из-под КПВТ выдавил.
— Да ну, а он мне, сволочь, сказал, что на скалах его ранили…
— Ну правильно, его Дрозд ранил знахарским способом. Ну да ладно, пойду отдохну, а то у меня точно «планка упадет» скоро. Да и устал часом, пойду, прилягу.
Я лежал и думал, Когда же это все закончится, вся эта война, мать ее за ногу. Служба, черт бы ее побрал. Когда же я, наконец, окажусь у себя дома…
28 марта 1998 года
Майор Фролов зачитал письмо, составленное для матери Пашки Артемьева. Точно такие же строки, что писались и прежде. Там говорилось про долг и беззаветную преданность партии и правительству. Затем зачитали приказ, вернее указ президента Верховного Совета РСФСР о награждении Артемьева Павла Ефимовича за проявленное мужество и героизм при выполнении интернационального долга в ДРА орденом Красной Звезды, посмертно. Слушая эти скупые строки, я поймал себя на одной мысли и ужаснулся. Неужели мы рождены ради того, чтобы погибать и «остаться в памяти миллионов» незнакомых нам людей, как это было сказано в письме. Зачем? Ради чего?!
После построения мы с Востриком сидели в палатке и разбирали фотки. Ни о чем не хотелось говорить: И тут Вострик закатил истерику. Начал кричать и плакать. Материл всю эту страну, службу, командиров, заодно и меня задел. Мы начали его успокаивать. Но он успокоился не скоро, да и то только после нескольких тумаков, которые дал ему Дрозд. После чего он сел на пол и, не переставая, говорил одно и то же слово: «долг, долг, долг»…
В июне 1988 года
Ко мне подошел Вострик и с радостью сообщил:
— Наверное, нас скоро будут выводить.
— А с чего ты это взял? — спросил я.
— Да все же говорят, вон Дрозд тоже сказал, что наша очередь скоро.
— А ротный че говорит?
— Не знаю, Дрозд говорит, что все офицеры об этом только и трещат, что скоро — в Союз.
— Ихние бы слова да Богу в уши.
— Не говори…
Наш разговор прервал Дрозд.
— Ну что, ребятки, готовьтесь в рейд, все свои манатки вытаскивайте, через полчаса проверю.
— Есть, товарищ гвардии прапорщик!
Мы начали собираться. Через некоторое время перед палатками лежали РД-шки, сигнальные ракеты в полиэтиленовых пакетах, «лифчики» (нагрудники для боекомплектов), личное оружие и т. д.
— Ну что, поехал в Союз? Идиот!
— Да ладно тебе, я же не сказал, что прямо сейчас выводить будут. Может, через неделю или же через месяц.
— Ага, жди. Я чувствую, мы тут до самого дембеля кувыркаться будем. Через день на боевые и, как в песне, «что ни выход сразу в бой, так сразу в бой».
— Я не понял, че ты такой кислый сегодня?
— И ничего я не кислый, это мое естественное состояние.
«Рота, становись!» — ротный со старшиной приступили проверять снаряжение, затем встали перед строем и начали зачитывать боевой приказ.
— Р-равняйсь! Смирно! Слушай боевой приказ! По трассе Хайратон — Кабул направляется колонна с продовольствием. Наша задача — обеспечить беспрепятственное прохождение колонны по всей протяженности трассы. В случае нападения на колонну принять все необходимые меры для отражения и, по возможности, уничтожения нападающих. Первый, второй взводы входят в состав головной маневренной группы, третий и четвертый взвод — арьергард. Обращаю внимание механиков-водителей и водителей БТР: держать установленную дистанцию. Вольно! По местам!
Мы разбежались по машинам, заревели моторы и наша колонна двинулась в сторону Хайратона…
В Хайратоне нас уже ждала колонна. В колонне вместо продовольствия было больше «наливников» (бензовозов), чем грузовиков.
Коваленко чуть инфаркт не схватил:
— Боже мой, так нас решили зажарить, что ли?
— А че ты паникуешь? — спросил я.
— Да с шайтан-трубы не глядя долбанут, из нас шашлыков понаделают.
— Да ну их, все равно нам некуда деваться, наше дело маленькое: нам приказали, мы выполняем.
— Да, конечно, но нужно будет как можно дальше держаться от этих цистерн. Как говорится, «береженого Бог бережет».
«По машинам!». И снова заревели моторы, и мы двинулись в сторону Кабула.
Колонна шла без остановок, наш взвод шел в арьергарде. Сначала все было нормально, пока один «Камаз» прямо на подъеме не начал пыхтеть, — что-то случилось с движком. А перед Шиндантом он и вовсе заглох, преградив дорогу еще трем машинам.
Наша «броня» получила приказ прикрыть оставшийся «Камаз». Солнце уже катилось к закату, и мы сидели, матеря на чем свет стоит, водителя того «Камаза». Водитель был маленький, рыжеволосый паренек, бегал, суетился что-то; прапорщик, подгоняя его матом, копался в движке. Но нам от того, что они суетились и пытались что-то сделать, легче не стало. Время поджимало. Колонна ушла далеко, начало довольно быстро темнеть. Как назло, где-то рядом был кишлак, и это очень нас настораживало. Мы на всякий случай рассредоточились.
Когда стемнело, водилы прекратили копаться и всю ночь мы просидели втихаря, чтобы не привлекать внимания непрошеных гостей. Мы с Востриком договорились спать поочередно, и так как Вострику не хотелось спать, я решил лечь первым. Потом оказалось — я проспал до утра, потому что Вострику все равно до утра не спалось, и он не стал меня будить.
Утром мотор «Камаза» заработал, и мы все вздохнули с облегчением. Через некоторое время двинулись. В Шиндант колонна ждала нас. Как выяснилось, несколько «наливников» должны были остаться в автобате. Затем двинулись дальше. Жара стояла неимоверная, и мне казалось, что не будет концакрая этому жаркому дню. Не будет конца этой пыльной, противной горной дороге. Не будет конца этим бесконечным сопровождениям, рейдам, блокированиям дорог, кишлаков, перевалов, проческам. Не будет конца этим длинным колоннам, что идут в основном из Союза, гораздо больше, чем в Союз. Хер поймешь, — вывод продолжается или нет.
В конце июля…
Батальон подняли по тревоге. Получили приказ заблокировать участки дороги: Ханабад — Кабул, Газни — Кабул. Первая и вторая рота полетели на блокирование участка дороги Газни — Кабул.
Прибыв в район высадки, нашу роту тут же рассредоточили. «Вертушки» облетали близлежащие кишлаки. Где-то далеко раздались автоматные очереди и несколько разрывов в том районе, куда высадилась третья рота и два вертолета огневой поддержки, которые облетали наш участок, развернулись в боевой порядок и полетели на помощь. Видать, там началась хорошая заварушка. Звуки выстрелов и разрывов усиливались все больше и больше, «броня» одна за другой мчались на подмогу третьей роте. Наша рота, рассредоточившись на своем участке, лежала по обе стороны дороги.
Бой на участке не умолкал, наоборот, усиливался.
Вострик, болтая своим пулеметом, подбежал ко мне и давай опять заливать про свое. Взял в ладонь землю и начал доставать меня своими агрономическими исследованиями. По-моему, ребята «послали» его вместе с его сельхозоткрытиями и научными познаниями в земледелии, и ему ничего не оставалось, как прибежать ко мне. Ведь я-то его терпел; хотя это мне удавалось с трудом, и, делая умное и заинтересованное лицо, слушал его с огромным вниманием.
— Вот, смотри, если эту землю обработать фосфором, торфом, а также добавить сюда чернозем средней полосы…
— А почему именно чернозем средней полосы, а не московской или же, к примеру — харьковской области?
— Дурак, ничего ты в земледелии не понимаешь, в средней полосе России чернозем содержит очень много полезных компонентов и жиров…
— Первый раз слышу, что земля может быть жирной, че они ее там свиным салом мажут, что ли, или маслом растительным поливают? Я понимаю, в гараже у брата на работе или у нас в батальоне в парке, от горюче-смазочных материалов…
— Ты что?! Издеваешься?! Или ты действительно идиот?! Не понимаю…
— Ну че ты психуешь, я же слушаю тебя все-таки, а не «посылаю» тебя, как это остальные делают.
— Да лучше бы послал. А то полтора года скоро будет, как распинаюсь перед всеми.
— А кто тебя просит, сам же достаешь, ходишь, у тебя есть интерес… Вот и занимайся этим сам, а у меня к твоему земледелию никакого интереса нет. Понял?!
— А че ты кричишь на меня?
— Ты же сам начал психовать…
Потом начались взаимные, так сказать, словесные перепалки. Я его начал, посылать туда, откуда обычно не возвращаются, а тем более, куда попасть физически невозможно, он обзывал меня трудновыговариваемыми, простыми смертными фразами. Из этих слов я запомнил только одну фразу и то, наверное, неправильно произношу «Не-ан-дерта-лец!», по-моему.
Бой на участке третьей роты не утихал до самого вечера. Только когда стемнело, были слышны лишь редкие автоматные очереди. Мы уже начали было скучать от безделья, как вдруг из-за скал ударили из гранатометов. Первым же выстрелом попали в БТР нашего взвода, прозвучала команда: «К бою!» И мы открыли огонь по скалам, хотя грохот стоял такой, что, казалось, от него может рухнуть гора, было отчетливо слышно, как перекрикиваются между собой духи. С горящего БТР Коваленко, вытащив своего земляка Олега Стосюка, тащил в укрытие, сбивая с его комбеза языки пламени. Стосюк орал, матерился, плакал и умолял. Он горел. У меня от увиденного пробежали мурашки по спине. Раньше я на подобные вещи не обращал внимания, но теперь… я чув-ствовал, как ему больно и страшно. Я чувствовал запах обгорелого мяса и мне стало очень жалко Стосюка. Мне вдруг пришла очень ясная, и вместе с тем очень жестокая, как мне тогда показалось, мысль: «Лучше бы он сразу погиб». И от этой мысли я разозлился сам на себя.
«Че глаза вылупил?! Духи справа, к дороге спускаются. Огонь!» — орал на меня ротный. Вострик тут же припал к своему пулемету и начал палить, как сумасшедший. В связи с тем, что я ничего не видел, то и не спешил открывать огонь. Но это длилось недолго; через некоторое время я начал различать человеческие силуэты в полумраке бил одиночными по группе, которая спускалась к дороге.
Бой длился недолго, где-то четверть часа, затем все вокруг стихло. Я увидел Коваленко, который сидел перед трупом Стосюка и молча мотал головой…
В сентябре
… Капитан Головешков завалился к нам в палатку вдребезги пьяный:
— Вы что, не хотите поздравить меня? — глаза у него были остекленевшие, непонятные.
— С чем? — спросил я, — к ордену представили?
— Нет, сегодня День танкиста, а я в свое время Омское танковое училище закончил.
— А как в десант попали?
— В училище один взвод готовили для ВДВ и для морской пехоты.
— А-а, вот то-то от вас солярой попахивает постоянно…
— Ты че сержант, берегов уже не видишь?! С кем ты так разговариваешь?!
Я не стал дожидаться дальнейших его действий и тут же сиганул вон из палатки. Головешков в нервно-пьяном угаре помчался за мной, покрывая матом, при этом не забывая перечислять в оскорбительном тоне моих родственников по материнской линии, а так-же мое мужское достоинство. Затем схватил камень и ка-а-ак запустит в меня! Я только успел увернуться, камень со свистом проле-тел над ухом. После чего я свернул за палатки в парк, где стояла техника, и тут же запрыгнул в первую попавшуюся БМПшку. Там я просидел где-то с полчаса, только потом вернулся в палатку.
Мужики долго не могли избавиться от приступов смеха. Вострик рассказал мне, что его в парке комбат задержал и увел с собой, Головешка продолжал материть меня, угрожал скорой расправой над маленьким «кусочком свежемороженого мяса»… Так он меня называл…
Если говорить о том, что на войне отсутствует «дедовщина», то это, пожалуй, будет неправда, потому что в каждой мужской среде всегда и во все времена существовали негласные законы. Вот только выражаются они в разных местах и ситуациях по-разному. Я не берусь говорить про все части, которые были расположены за «речкой». Но у нас было все, и за водой, и за «травкой» вниз в кишлак ходили, бывало, и получали за дело, уборка в палатках тоже доставалась молодым и многое другое. Но и берегли молодых, учили всему, чему сами научились.
Я много раз слышал уже в Союзе, что дедовщины там не было, потому что «старики» боялись, что молодые могут во время боевых в спину застрелить своего обидчика. Чушь собачья! Там было самым низким и подлым делом, обидевшись на своего сослуживца, замочить его во время боевых. Так поступают шакалы.
Война — это не только бесконечные боевые рейды, бои и марши. Война — это грязь, пот, несправедливость, верность, честность, грусть и боль потерь.
В середине января 1989 года наш батальон вывели в Союз. А там за речкой остались:
Пашка Артемьев — Файзобад,
Олег Стосюк — Газни,
Зинченко Олег — Кандагар,
ст. прапорщик Бобров — Кундуз,
лейтенант Соловьев — Файзобад,
капитан Селиванов — Газни, Шаповалов
Никита — Сангчарак,
майор Канкаурис — Фарах…



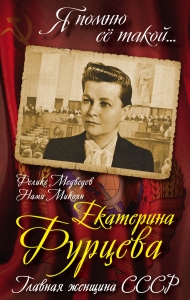

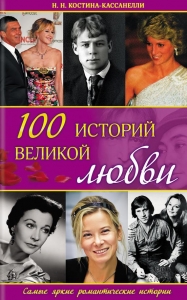

Комментарии к книге «Эхо войны», Роман Капитонов
Всего 0 комментариев