Когда Володька-лейтенант вскарабкался на заднюю площадку трамвая, все шарахнулись от него в сторону, и он, поняв причину этого, сразу же озлился и настроился против публики.
Правда, какая-то женщина поднялась, уступая ему место.
— Садитесь, товарищ военный… — Но он глянул на нее такими мертвыми глазами, что она, вздрогнув, пробормотала: — Господи, а такой молоденький…
Нечасто видели в Москве вот таких — прямо с передовой, обработанных и измочаленных войной, в простреленных, окровавленных ватниках, в прожженных, заляпанных двухмесячной грязью сапогах… И на Володьку смотрели. Смотрели с сочувствием. У некоторых пожилых женщин появились слезы, но это раздражало его — ну чего вылупились? Не с тещиных блинов еду. Небось думаете, что война — это то, что вам в кино показывали… Особенно раздражали его мужчины — побритые и при галстучках.
Когда он сел на уступленное ему место, соседи заметно отодвинулись от него, и это добавило раздражения — видите ли, грязный он больно… Так и сидел, покусывая губы и не глядя на людей, пока не почувствовал себя так неудобно — разве таким он мечтал вернуться в Москву, — что, рванув борт ватника, приоткрыл висевшую на гимнастерке новехонькую медаль "За отвагу" нате, глядите! А то грязь и кровь приметили, а на награду ноль внимания! И, быстро встав, прошел на площадку, толкнув не совсем случайно хорошо одетого мужчину с портфелем и при галстуке.
Уткнувшись в окно, он глядел, как проплывают мимо знакомые московские улицы, но все еще не мог представить реально, что это московские улицы, что он живой и едет домой….
И только тогда, когда трамвай остановился почти у самого его дома, что-то дрогнуло в душе. Значит, это правда! Он дома! И все позади…
Он вылез из трамвая, но не побежал, шалея от счастья, а, наоборот, даже приостановился, приглядываясь к родной уличке, и, лишь увидав свой дом — целый и невредимый, лишь больше прежнего обшарпанный, с грязными, видать, давно не мытыми окнами, с выпавшими кое-где глазурованными кирпичиками у подъезда, — он вздохнул, выдохнул и ощутил, что с этим выдохом уходит из души то неимоверное, предельное напряжение, в котором жил он те страшные, ржевские месяцы.
Не то всхлипнув, не то застонав, он побежал. И на третьем этаже, около двери своей квартиры, стоял не тот отчаянный, шальной лейтенант Володька, пехотный ротный, поднимавший людей в атаку, выпученных, бешеных глаз которого боялись не только обычные бойцы, и даже присланные к нему в роту урки с десятилетними сроками, а стоял намученный, издерганный донельзя мальчишка, для которого все пережитое подо Ржевом было непосильно трудно, как ни превозмогал он себя там, как ни храбрился…
* * *
— Господи, что с тобой сделали! — услышал он откуда-то издалека голос матери, а на своем жестком, неделю не бритом лице ощутил ее слезы. — Ты живой! Живой! — бормотала она, не обнимая, а ощупывая его всего, словно стараясь убедиться, что это он, ее сын.
— Живой, мама… Только очень грязный, — наконец-то нашел силы ответить Володька и тихонько отстранился от матери, когда почувствовал ее пальцы на том месте своего ватника, где были зажухлые пятна крови.
Он отступил от матери и начал снимать его.
— Я помогу тебе, — заспешила она.
— Нет, нет… Я сам… — И стал стаскивать ватник, освободив руку от косынки. — Куда бы его деть?
— Я отнесу в чулан. — Мать протянула руки.
— Я сам, мама, — выдернул он ватник у нее и вышел из комнаты.
Когда он вернулся, она спросила:
— У тебя тяжелое ранение?
— Нет. — И этот ответ не обрадовал ее. Она как-то сникла и прошептала:
— Значит, ты ненадолго?
— Да, мама, наверно, ненадолго… — Он присел на диван и стал оглядывать комнату, и только тут мать обратила внимание на его медаль.
— У тебя награда! За что?
— За войну, мама, — ответил он довольно безразлично.
— Я понимаю… Но чем-то ты ее заслужил.
— Там, где я был, все заслужили… Только давать уже было некому.
— Почему некому? — спросила она с беспокойством, но, когда Володька в ответ пожал только плечами и нахмурился, поняла.
После недолгого молчания он глухо произнес:
— Мама, у нас нет водки?
— Нет, Володя. Но я сейчас сбегаю к соседям. У кого-нибудь да найдется, и мне не откажут…
Потом, когда мать согрела в ванной колонку, он залез в горячую воду, все еще ошеломленный тем необыкновенным происшедшим с ним рывком из одного пространства в другое. Всего неделю тому назад была развороченная снарядами передовая, где Москва, дом представлялись ему чем-то таким далеким, недоступным, не существующим вообще. И вот — дом, его комната, мать, зовущая его к столу, а на столе — вареная в мундире картошка, тоненькие ломтики черного хлеба, бутылка водки и… банка шпрот.
— С едой, значит, у вас не так плохо, вырвалось у него.
— Нет, Володя, очень плохо… Кончилась крупа, и вот пришлось прикупить на рынке картошки, а она стоит девяносто рублей килограмм. Мне пришлось продать серебряную ложку. Ну, а шпроты еще с довоенных времен храню.
— Мама, — полез Володька в карман гимнастерки, — вот деньги. Много, три моих лейтенантских зарплаты.
— Сколько же это?
— Много. Около двух тысяч.
— Спасибо, Володя. Я положу их здесь, на столик… Но, увы, это совсем не так много, как ты думаешь.
— Две тысячи немного? — удивился он.
— Да. Садись, Володя.
Он сел, налил себе полный стакан, и мать широко раскрыла глаза, когда он сразу, одним махом, не поморщившись, выпил его, а потом стал медленно, очень медленно, как ели они на передовой, закусывать.
— У тебя очень странные глаза, Володя, — сказала мать, тревожно вглядываясь в его лицо, видно ища те изменения, которые произошли с сыном за три года.
— Я ж выпил, — пожал он плечами.
— Ты с такими пришел… Они очень усталые и какие-то пустые. Такие пустые, что мне страшно в них глядеть… Почему ты ничего не рассказываешь?
— Что рассказывать, мама? Просто война… — И он продолжал долго прожевывать каждый кусок, и поэтому мать догадалась.
— Вы голодали?
— Да нет… Нормально. Только вот странно есть вилкой, — чуть улыбнулся он, впервые за это время.
Они долго молчали, и Володька непрестанно ощущал на себе тревожный, вопрошающий взгляд матери, но что он мог ей сейчас сказать? Он даже не решил еще, о чем можно говорить матери, а о чем нельзя, и потому налил себе еще полстакана, отпил и молча закусывал.
— Мама, что с ребятами? И школьными и дворовыми? — наконец спросил он.
— Кто где, Володя… Знаю, что убит Галин из твоего класса и погибла Люба из восьмой квартиры.
— Люба? Она-то как попала на фронт?
— Пошла добровольно… — Мать взглянула на него и продолжила: — А ты?…
Володька не отвечал, уткнувшись в тарелку.
— Меня это мучает, Володя. Одно дело — знать, что то судьба, другое, когда думаешь — этого могло и не быть. Ты молчишь?
— Это судьба, мама, — не сразу ответил Володька.
— И ты не писал рапортов с просьбами?…
— В начале войны мы все писали. Но это не сыграло роли… Не сыграло… Володька видел, что мать не поверила ему, но сказать правду он не мог.
Спустя немного мать робко спросила:
— Ты, наверно, Юлю хочешь увидеть?
— Нет… Пока нет, — не сразу ответил он.
— Как началась война, она почти каждый день прибегала ко мне. Мы вместе ждали твоих писем, вместе читали… По-моему, Володя, в том, что она так долго не писала тебе, нет ничего серьезного. Просто глупое, детское увлечение. Она совсем еще девчонка. Вы должны увидеться, и ты… ты должен простить ее, сказала мать, видимо, придавая большое значение этому, надеясь, что Юля как-то поможет сыну прийти в себя.
— Что простить? — равнодушно спросил Володька.
— Ну… ее долгое молчание, — немного растерялась мать.
— Это такая ерунда, мама, — махнул он рукой.
— Но ты как будто очень переживал ее молчание?
— Когда это было? Теперь все это… Мать опять пристально поглядела на него — такого сына она не знала и не понимала. Он стал другим.
— Где Сергей?
— Сережа в Москве. У него белый билет после ранения на финской… Ему я очень обязана, Володя. Он устроил меня надомницей. Видишь, я шью красноармейское белье и получаю рабочую карточку. А до этого целый месяц была без работы. Наше издательство эвакуировалось, ну а я не поехала. Все время думалось… вдруг ты попадешь каким-то случаем в Москву…
Володька поднялся, подошел к дивану.
— Я прилягу, мама…
— Да, да, конечно, тебе надо отдохнуть, — заторопилась она, укладывая подушки.
— Пока я никого не хочу видеть, мама. И Юльку тоже. — Он зевнул и растянулся на диване.
* * *
Но с Юлькой он увиделся в тот же день, точнее, вечер. Она пришла, когда он только что проснулся, и, услыхав два звонка, уже понял, что это Юлька. Он закурил и, не вставая, напряженно уставился на дверь. Он слышал, как топают ее каблучки по коридору, как здоровается она с матерью, как приближаются ее шаги к комнате. И вот…
Юлька впорхнула и, увидев Володьку, отпрянула назад, потом охнула, всплеснула руками и замерла, а в ее глазах вместе с удивлением, радостью мелькнуло какое-то отчаяние.
Он нарочито не спеша поднялся с дивана и начал натягивать вымытые уже матерью свои кирзяшки, которые и сейчас выглядели неприглядно, потом так же нарочито медленно сделал шаг к Юльке и остановился.
— Володька… ты? Господи, так и умереть можно. Твоя мама ничего не сказала… Когда ты приехал?
— Утром.
— Ты ранен?… И у тебя медаль! Я знала, что ты будешь хорошо воевать… Господи, я не о том… Ты надолго?
— Ну проходи, раз появилась. Нечего в дверях стоять.
Юлька изменилась. Нет, она не выросла и не попышнела телом. Только не стало смешных, нелепых косичек, а была короткая стрижка "под мальчика", были чуть подкрашены губы, и были серьезные, очень серьезные глаза.
— Я пройду… — сказала она, но продолжала стоять к дверях. — Господи, что я натворила! Ты надолго?
— Не знаю… Проходи.
Юлька как-то неуверенно подошла к нему, остановилась, словно ожидая чего-то, но Володька только протянул ей руку и довольно грубовато сказал:
— Ну садись. Рассказывай, чем занималась, пока я ишачил в училище и ждал твоих писем?
— Володя, это потом… Это не главное. Я принесу тебе такую черную тетрадочку, там все описано, и ты… ты поймешь. Это была глупость, Володя, страшная глупость.
— Что же не глупость? — хмуро спросил он.
— Сейчас не могу… Ты меня убьешь.
— Не очень-то я походил на Отелло, — усмехнулся Володька.
— К сожалению, да… — Юлька вытащила из сумочки папиросы, спички и закурила.
— Это что за новость? А ну, брось! — почти крикнул он.
— Я курю, Володя. Давно, с начала войны.
— Брось! — Юлька сделала короткую затяжку и положила папиросу в пепельницу. — Чему еще ты научилась с начала войны?
— Больше ничему…
— Вон водка… Может, тоже научилась?
— Нет, но налей немного. Мне надо прийти в себя…
— Бить тебя было некому, — сказал Володька, покачивая головой, но взял из буфета рюмку и налил.
Юлька выпила и начала так серьезно, что Володька насторожился.
— Я должна сказать тебе… Не знаю, с чего начать. Но ты должен понять меня и… простить.
— Говори! — нетерпеливо, приказным тоном сказал он.
— Завтра к двенадцати мне нужно… в военкомат… С вещами…
— Какой, к черту, военкомат! — загремел он. — Ты сдурела, что ли!
— Я ж не знала, что ты приедешь… Я хотела быть с тобой… на фронте, еле слышно произнесла она и присела на диван.
— Дура! Ты знаешь, что такое война! И для девчонок! Это ты понимаешь?
— Зато я испытаю все, что и ты…
Вошла Володькина мать.
— Мама, представляешь, что она выкинула? Завтра ей в армию!
— Господи… Как же это, Юля? Володя приехал, а вы… вы уезжаете… И вообще…
— Откуда я знала, что он приедет? Я думала, вдруг мы на фронте встретимся, — чуть не плача, пробормотала Юлька.
— Нашла место для свиданий! Ну, не дуреха… — Володька бросил в сердцах папиросу и стал вышагивать по комнате, громыхая сапогами.
— Успокойся, Володя, — сказала мать.
— Я спокоен. Пусть отправляется, если…
— Володя… — укоризненно прервала мать.
— Я не Майка! И ни по каким рукам ходить не собираюсь! Я воевать еду! вскрикнула Юлька и заревела уже по-настоящему.
— Воевать! Ты знаешь, что это такое! Вздуть бы тебя сейчас как следует! взорвался опять Володька.
— Володя… — остановила его мать.
— Какой ты трудный, Володя, — сквозь слезы бормотала Юлька. — Моя мама всегда говорила, что ты трудный мальчишка.
— Мальчишка! Я мужик теперь! Понимаешь, мужик! Я видел столько за эти месяцы, чего за сто лет не увидишь. Ты посмотри на меня, посмотри. — Он подошел к ней и стал.
Юлька подняла глаза и, наверно, только сейчас увидела, как изменился Володька, как он худ, какие черные круги у него под глазами, в которых стояла какая-то непроходимая усталость и пустота. И она прошептала:
— Скажи, что там было? У тебя такие глаза… Господи. Почему ты молчишь? Она глядела на него в упор и вдруг, закрыв лицо руками, прошептала: — Мне почему-то стало страшно. И я не хочу завтра в военкомат.
У Володьки кривился рот, ему было нестерпимо жалко Юльку, но он сказал:
— Я даже не пойду провожать тебя завтра.
— Не мучай меня… У нас всего один вечер. И ты пойдешь…
И Володька пошел. На другой день в одиннадцать часов он уже был у Юльки дома, о чем-то говорил с оплаканной ее матерью, чем-то успокаивал растерянного, пришибленного Юлиного отца, который, конечно, не зная, что она идет в армию добровольно, все время безнадежно приговаривал: "Довоевались… Девчонок в армию забирают. Довоевались…" Он отпросился с работы, чтобы проводить дочь, но Юлька категорически заявила: провожать ее будет только один Володька. Мать суетливо собирала вещи, которые Юля молча выкладывала обратно, говоря, что они ей не нужны, а мать через некоторое время опять собирала их в маленький Юлькин чемоданчик, памятный Володьке еще со школы.
Отец дрожащими руками достал из буфета початую четвертинку, стал разливать, и горлышко бутылки било по краям рюмок, и они дребезжали дробным печальным тоном, от которого всем было не по себе.
Володька, глядя на эту предотъездную суету, на страдальческие лица Юлькиных родителей, на муку в их глазах, почему-то вспомнил очередь к штабу полка, в которой они стояли с докладными в руках, возбужденные, гордые своими решениями, полные ощущения своей значительности, совсем не думая о том, что где-то далеко их матери молят бога, молят судьбу, чтоб остались их сыновья на Дальнем Востоке и война прошла бы для них мимо…
Тем временем Юлькин отец, разлив водку, протягивал неверной от волнения рукой рюмки и, видимо, будучи не в силах ничего говорить, приглашал жестом присесть всех перед дорогой. Они присели на разбросанные по комнате стулья, молча выпили по маленькой рюмке теплой противной водки и поднялись. Володька, взяв Юлькин чемоданчик, вышел в коридор и уже оттуда услышал, как заголосила ее мать, как выдавливал из себя какие-то прощальные слова ее отец…
Призывной пункт в Останкине они нашли сразу: около него толпились девчушки — и красивые, и не очень, высокие и маленькие, худенькие и полненькие (таких меньше), но все до невозможности молоденькие, совсем-совсем девчонки. Одеты они были во все старенькое, так как знали, что одежду эту отберут и дадут военное. В руках у всех маленькие чемоданчики или вещмешки. Все были коротко острижены, как и Юлька, и только одна высокая вальяжная блондинка не смогла расстаться со своей роскошной, в руку толщиной косой. И провожали их только матери или младшие сестры и братья.
Стоял нервный шепотливый гомон. Матери что-то говорили им напоследок, давали какие-то наказы или напутствия, а девчонки почти беззвучно шептали в ответ: "Да, мама. Хорошо, мама… Конечно, мама…"
На Володьку посматривали — он был единственный мужчина из провожающих, да еще раненый, с фронта, на который скоро попадут и они, эти глупые девчушки. И слышалось: "Видать, только приехал и сразу на проводы попал… Вот не повезло парню… А может, брат? Да нет, непохожи вроде…"
Из одноэтажного деревянного домика, где располагался призывной пункт, вышел немолодой старший лейтенант. Володька бросил руку к шапке, тот ответил на приветствие, обвел всех усталым, сочувственным взглядом и вытащил список.
— Ну вот, девчата… Надо построиться, — начал он. — Буду выкликать фамилии, отвечайте — "я". Поняли?
Девушки стали неумело строиться. Было их человек пятнадцать.
— Абрамова Таня…
— Я!
— Большакова Зина…
— Я!
Так выкликнул он все пятнадцать фамилий. Все были на месте. Все ответили "я", кто смело и громко, кто тихо и неуверенно, а кто и с легкой дрожью в голосе.
— А теперь, девушки, попрощайтесь со своими родными и проходите.
Юля сразу же ткнулась холодными губами в Володькино лицо и, круто повернувшись, пошла в дом. Только перед дверью приостановилась, махнула ему рукой и улыбнулась. Улыбка была вымученной и жалкой.
Тем временем за Володькиной спиной слышались материнские причитания:
— Как же ты будешь там, девонька? Господи…
— Пиши. Как можно чаще пиши. Как время выдастся, так и пиши…
— Мужикам-то не особенно верь…
— Бог ты мой, как же отцу твоему пропишу про это?
— Береги себя, девочка… Прошу тебя, береги… Раздавались всхлипы, рыдания… У Володьки придавило грудь, и он начал кашлять — ну, какие дурешки, какие дурешки, думал он, и было ему и жалко их всех, в том числе и Юльку, до невозможности, и зло брало за глупость их, наивность.
— Куда их, старшой? — подошел он к старшему лейтенанту. — Понимаешь, только вчера с фронта, и вот… выкинула номер моя.
— Не беспокойся, — улыбнулся тот. — В Москве пока будут. Запасной полк связи на Матросской Тишине. Знаешь, недалеко от Сокольников.
— Знаю, конечно, — обрадовался Володька.
— Сам-то надолго?
— А хрен его знает. Не был еще на комиссии. Думаю, месяц, полтора…
— Ну, а их пока обучат, пока присягу примут, пятое-десятое, и больше пройдет. Так что не теряйся, когда в увольнение прибегать будет, — подмигнул старший лейтенант.
— Будь спок, не растеряюсь, — в тон ответил Володька, а у самого ныло в душе.
Постоял он еще немного вместе с плачущими матерями, искурил папиросу, а потом медленно пошел вдоль трамвайной линии. Перед глазами все еще стояла вымученная, жалкая Юлина улыбка, не очень-то его успокоило то, что Юлька будет пока в Москве. Все равно же впереди фронт.
Выйдя на Ярославское шоссе, он стал подниматься в гору и тут бросилась ему в глаза огромная очередь около продмага, но тянущаяся не из дверей, а со двора, и было в ней, в этой очереди, порядочно мужичков, что удивило Володьку.
— За чем очередь? — поинтересовался он.
— Водку без талонов дают.
— А сколько она стоит без талонов?
— Вы что, с неба свалились? — обернулась женщина. — Ах, простите, вы, наверное, недавно в Москве, тридцать рублей бутылка.
— Дешевка! — поразился Володька. — Я в деревнях за самогон пятьсот платил.
— Так на рынке у нас столько же берут. Мы стоим-то, думаете, чтоб выпить? Нет. Ну, мужики, те, конечно, в себя вольют, а мы, женщины, только посмотрим и на рынок…
— Пожалуй, я встану, — решил он, тем более что до встречи с Сергеем оставалось еще два часа.
— Так вас, раненых да инвалидов, через пять человек ставят. Идите вперед, как увидите калеку какого, отсчитывайте от него пять человек и становитесь… Привыкли, наверное, на фронте к наркомовским граммам? — добавила женщина.
— Не очень-то, — ответил он и пошел вперед.
Очередь была длинная, но инвалидов стояло только трое — двое на костылях, один с рукой на черной косынке. За ним-то и стал Володька отсчитывать пять человек. Очередь не очень-то охотно, но потеснилась, пропустив его.
— Наши-то уже головы сложили, а эти отвоевались, живыми вышли, а все им льготы разные, — проворчала одна женщина в черном платке, но на нее зашикали:
— И не стыдно тебе? Кому пожалела? Им-то теперь забыться надо хоть на миг, отойти мыслями от войны этой проклятой…
— Я, бабоньки, не отвоевался, — сказал Володька, перейдя на армейский говорок. — Я на месяцок только. И обратно — добивать фрица.
— Ну вот, в отпуске человек, а ты… — Женщина в платке потупилась и замолкла, но тут вступил пожилой мужчина:
— Добивать, говоришь? Что-то не больно вы его бьете, солдатики. Пока он вас кроет.
— Ну, ну, разговорчики. — Подошел инвалид с рукой на косынке, а потом к Володьке: — Давно, браток, с фронта?
— Только вчера прибыл, — ответил Володька.
— Слыхала, язва? Человек, можно сказать, только из боя вышел, а ты хвост поднимаешь. На кого? — набросился он на бабу в платке. — Небось для спекуляции за водкой-то стоишь?
— Конечно, глаза наливать вроде вас не буду. Мне дитев кормить. Понял? огрызнулась та.
— Ладно, кончаем базар. Закурить у тебя, лейтенант, не найдется? Ты извини, что я тебя на "ты", по-свойски, по-фронтовому. На каком участке лиха хватил?
— Из-подо Ржева я, — ответил Володька, давая закурить инвалиду.
— Калининский, значит… А меня под Смоленском шарахнуло, еще осенью. Я уж месяц как в Москве, а то все по госпиталям разным валялся. Нерв у меня перебитый. Видишь, как пальцы скрючило — не разогнуть. Пока на полгода освобождение дали. Но вряд ли рука разойдется. Обидно, что правая — рабочая. В общем, видать, отвоевался…
Володька с интересом слушал и инвалида, прислушивался и к разговорам в очереди. Они шли разные, кто о чем. И о том говорили, как карточки в этот месяц удалось хорошо отоварить, и о том, как в деревню ездили без пропуска менять вещички на картоху, и о том, что соседка две похоронки сразу получила на мужа и на сына, и о том, что самое страшное позади — зима прошла, что теперь полегче в тепле-то будет… Колхозничков поругивали за сумасшедшие цены на рынках… И радовались, что налетов немецких совсем поменело и, дай бог, больше к Москве не допустят… О многом еще говорили в очереди, но плыли эти разговоры спокойно, без особого уныния и паники, а главное, без страха. А ведь немец-то пока еще как близко от города. Но чувствовались и вера и убежденность — в том, что случилось прошлой осенью, больше не повторится.
Давали по две бутылки в одни руки. Володька получил, засунул в карманы бридж и подумал, что ему повезло — при встрече с Сергеем можно будет выпить маленько, и хотел было идти, как подошел к нему тот инвалид разговорчивый, видно, поджидавший его.
— Побалакать не желаешь, лейтенант? — предложил он. — О многом спросить тебя хочется.
— Давай поговорим, — согласился Володька.
Они отошли от магазина в сторону, завернули в какой-то небольшой дворик, нашли скамейку, присели, закурили…
— Ну, как фриц поживает? — начал инвалид.
— Фриц пока лучше нашего поживает, — в тон ему ответил Володька.
— Чего-то мы прохлопали с этой войной. Небось товарищу Сталину много липы подсовывали. Обманывали его начальнички. Да и не без вредительства было. Вот танки-то и самолеты-то и вышли на бумаге только… Знаешь, как он летом пер? Ох, как пер! Я ж с самого запада драпал. Меня ж в тридцать девятом из запаса взяли, да так и не отпустили… Понимаешь, только мы кой-какую оборону организуем, а он, сука, обтекает нас с флангов и в кольцо…
— Как сейчас-то живешь? — прервал Володька его разглагольствования.
— Как живу? — усмехнулся инвалид. — Моя жизнь теперича, можно сказать, пречудная… Пенсии мне положили по третьей группе триста двадцать рубликов, выдали карточку рабочую и к спецмагазину прикрепили — к инвалидному. Там и продукты получше, и сразу за месяц можно все отоварить… Ну, пенсия эта, сам понимаешь — только паек выкупить. А пайка этого, сам увидишь, на месяц, тяни не тяни, никак не растянешь. Его в три дня улопать можно, за исключением хлеба, конечно… Вот так… Значит, если хочешь жить, — соображай. Вот и соображаешь. Бутылку одну я, конечно, употребляю, а вторую — на базар, как те бабоньки, что в очереди стояли. За пятьсот, может, и не продам, долго стоять надо, а за четыреста верняком… Вот на них-то тебе и килограмм картошечки, вот тебе немного маслица или сальца… Вот так, браток. Понял?
— Понял, — кивнул Володька, добавив еще несколько словечек из своих любимых.
— Гадство — верно. А что делать? Водку без талонов, поди, каждый день где-нибудь, да дают. Я вот сейчас до Колхозной пешочком пройду, авось еще где дают, может, еще пару бутылок приобрету. Вот так, брат, пока и кручусь. Жрать-то надо…
— В общем, в рот пароход, якорь… — процедил Володька хмуро, без усмешки.
— Ха-ха, — грохнул инвалид. — В самую точку! Ты откуда понабрался такого, лейтенант? Не из блатных или флотских будешь?
— С Рощи я. С Марьиной…
— Тогда понятно, — досмеивался инвалид.
— Не противно базарить-то? — спросил Володька после паузы.
— Противно! Первый раз с этой водкой на рынке стоял, аж покраснел весь — и стыдно, и гадостно, и себя жалко, чуть ли не слезы на глазах. Обидно уж очень. А потом привык. Все сейчас так. Хочешь жить — умей вертеться. Угости еще папиросочкой.
— Держи. Может, в запас дать?
— Нет, спасибо. Махорочки куплю на базаре… Ты пивка небось давно не пивал?
— Давно.
— С пивом в Москве порядок, и по довоенной цене — два двадцать кружечка, почитай даром. Ну, очередя, разумеется, но нас, инвалидов, как везде — через пять гавриков. Но все равно постоять надо. Зато дорвешься и сиди себе, попивай всласть… Иной раз кружечек десять в себя вольешь — и сыт, и пьян…
Они помолчали немного, попыхивая папиросками. Переваривал Володька услышанное. А инвалид тем временем поднялся, спеша, видно, к следующему магазину, где вдруг удастся отхватить еще пару бутылочек.
— Ну, бывай, браток. Желаю погулять как следует, пока вне строя. Второй раз можешь и не попасть в Москву, да и вообще… никуда… — Инвалид протянул левую руку, Володька правую. Пожали крепко и разошлись.
* * *
Проходя на обратном пути мимо своего дома, повстречался Володька с двумя пареньками со своего двора Витькой-Бульдогом и Шуркой-Профессором. Когда уезжал в армию, были они еще совсем пацанятами, а сейчас один вымахал ростом выше Володьки, а второй стал хоть не высоким, но крепким, складным парнем.
— Володь… — жали они ему руку, глядя с восхищением на его медаль и на перевязанную руку.
— Ну как, мелочь пузатая, живете? — небрежно спросил он, прекрасно понимая, что он для них сейчас представляет.
— Призываемся мы, Володь. Вот Шурка выпускные экзамены сдаст и сразу в армию.
— Витьке бронь могут дать, но он не хочет, — сказал Шурка.
— Какую борнь? Ты работаешь? — удивился Володька.
— Конечно. Разряд у меня… Ну ее, эту бронь… Про Любу-то знаешь?
— Знаю, — кивнул Володька.
— Мы зимой ее последний раз видели. Приходила во двор. В полушубке белом, а сама такая веселая. Она с Зоей Космодемьянской вроде пошла. — Витька-Бульдог шмыгнул носом и потер глаза.
И Володька понял — влюблен, видать, был Витька в Любу первой мальчишеской любовью, какая тут может быть бронь…
— И Абрама убило, Петьку Егорова тоже… А Вовка-Кукарача Героя получил, выпалил Шурка. — Он трех фрицев из разведки приволок. Один. Понимаешь?
Володька кивнул головой, задумался…
— Да, ребятки, не очень веселое вы рассказали. — Вытащил папиросы, угостил ребят, а сам подумал, что разметала война весь их двор и никогда, никогда не увидит он тех ребят, с которыми толкался в подворотне, играл в "казаки-разбойники", перекидывался мячом на волейбольной площадке… Да, никогда! И ткнуло тупой болью в сердце.
Восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый… вот и двадцать четвертый год уходит — и сразу на войну… Володька смотрел на ребят — мальчишки же совсем, но уже знают, что можно и не вернуться, так война прошлась по их дому, смела старших товарищей; но по мальчишеству, конечно, всерьез не могут вникнуть, а потому и сверкают в их глазах огоньки восхищения от блеска Володькиной медали…
— Куда собрались такие приодетые? — спросил он.
— В "Эрмитаж".
— В "Эрмитаж"? — удивился Володька. — Неужели он открыт?
— Открыт… Пойдем с нами, Володь, погуляем…
— Нет, ребятки. Встреча у меня. Идите, гуляйте…
— Последние денечки… — сказал Витька, вздохнув.
* * *
Встреча с Сергеем была назначена в центре, на Кузнецком мосту, и Володька пришел точно к двум. Сергей уже ждал его. Он был одет в полувоенное, на груди "Звездочка". Они молча потискали друг друга в объятиях, но не поцеловались нежности у них были не приняты.
— Ну, пойдем, — сказал Сергей. — Спрашивать я тебя пока ни о чем не буду, придем в одно местечко — посидим, выпьем, поговорим.
— Неужели есть в Москве такие местечки?
— Только одно — коктейль-холл. Он открылся уже после твоего отъезда в армию.
— Может, там и пожрать можно? — заинтересовался Володька.
— Увы. Ты голоден?
— Пожрал бы…
Сергей взглянул на Володьку и покачал головой.
— Вижу по твоей физике — досталось. Да?
— Досталось, — безразлично ответил Володька.
Дальше они шли молча, и Володька с интересом поглядывал по сторонам, ища изменений в знакомой улице, но их не было. Кузнецкий мост, Петровка выглядели, как и раньше, до войны, только народу поменьше, но все равно по сравнению с обезлюденной передовой много, очень много.
Так вышли они к улице Горького.
— Нам сюда, — сказал Сергей, показав на вывеску — "Коктейль-холл" и на дверь, около которой стояла очередь.
Сергей, бесцеремонно отодвигая стоящих в очереди, пробился к двери и постучал. Дверь приоткрылась, и бородатый швейцар заулыбался.
— Милости просим, Сергей Иванович. Здравствуйте. Проходите.
— Этот товарищ со мной, — сказал Сергей и взял Володькину руку в свою.
— Извините, Сергей Иванович… Разве вы забыли… В военной форме не положено. Не могу-с, — сладким голосом заизвинялся швейцар.
— Ах ты, черт! Совсем забыл. Придется тебе, Володька, съездить переодеться…
У Володьки задрожали губы, сузились глаза.
— А в какой положено, борода? — процедил он, наступая на швейцара.
— Ну-с, в обычной гражданской одежде. — Все еще улыбался тот.
Но на Володьку уже накатило — такой обиды он не ожидал, и глаза начали наливаться кровью.
— Это моя Москва, борода! Я ее защищал! Понял? И в сторону! — Володька оттолкнул плечом швейцара, и тот уже не улыбался, а начал бормотать:
— Уж так и быть… Как исключение… Я бы сам с радостью. Приказ такой… — но Володька уже прошел…
Сергей с любопытством глядел на эту сцену и, когда они вошли в зал, сказал:
— Пойдем наверх, там уютней.
Но Володька остановился посреди зала и оглядывал ресторанное великолепие этого "коктейль-холла", которого еще не было в Москве, когда он уезжал в армию. Да, это был не обыкновенный ресторанный зал какого-нибудь "Иртыша" или самотечной "Нарвы", где когда-то бывал Володька, — это для него было дворцом… Наверх шла широкая лестница, устланная темно-вишневым ковром, справа — полукруглая стойка с высокими стульями, за которыми сидели мужчины в гражданском и тянули что-то из соломинок. За стойкой стояла хорошенькая девушка.
Несовместимость этого с тем, что все еще стояло перед его внутренним взором, — изрытого воронками поля, шатающихся от усталости и голода бойцов в грязных шинелях, бродящих от шалаша к шалашу в поисках щепотки махры, вони от тухлой конины, незахороненных трупов, — была так разительна, так неправдоподобна, так чудовищна, что у Володьки рука невольно полезла в задний карман бридж — ему захотелось вытащить "вальтер" и начать палить по всему этому великолепию — по люстрам, по стеклам, по этому вишневому ковру, чтоб продырявить его пулями, услышать звон битого стекла… Только это, наверное, смогло бы успокоить его сейчас, но Сергей, внимательно наблюдавший за ним, взял его под руку…
— Пойдем… Сейчас выпьешь, и все пройдет…
Они поднялись наверх, заняли столик, к которому моментально подошла черненькая официантка и, ослепительно улыбнувшись, сказала:
— Добрый день, Сергей Иванович. Вам, как всегда, бренди? Или мартини?
— Познакомься, Риммочка. Это мой друг… Только вчера с фронта, так что, сама понимаешь, обслужи нас — шик модерн.
— Разумеется, Сергей Иванович, ответила она, протянув Володьке руку, и как-то многозначительно пожала Володькину своими теплыми мясистыми пальцами.
Володька все еще не мог прийти в себя и сидел набычившись, чувствуя, как нарастает внутри что-то тяжелое и недоброе… Ему было совершенно невозможно представить, что этот зал и болотный пятак передовой существуют в одном времени и пространстве. Либо сон это, либо сном был Ржев… Одно из двух! Совместить их нельзя!
А Риммочка тем временем принесла высокие бокалы, наполненные чем-то очень ароматным и, видимо, очень вкусным, потому что Сергей уже причмокивал губами.
— Ну, давай, за твое возвращение… живым, — протянул он Володьке бокал. Да, живым, — добавил он дрогнувшим голосом, положив руку на Володькино плечо. И Володька оценил и сердечность тона, и дрогнувший голос. Для Сергея, не отличавшегося сентиментальностью, это было уже много.
— Пей.
Володька взялся за соломинку, втянул в себя что-то освежающее и необыкновенно вкусное.
— Ну, как мартини? — спросил Сергей, улыбаясь.
— Мне стрелять охота, Сережка, — тоскливо как-то сказал Володька.
— Не глупи… Это пройдет. Тыл есть тыл, и он должен быть спокойным.
— Серега, но ты-то почему здесь, с этими… Да еще Сергеем Ивановичем заделался…
Сергей засмеялся.
— Привыкаю помаленьку. Я ж теперь знаешь кто?
— Мать что-то говорила…
— Я коммерческий директор. Ничего не попишешь, семья, ребенок…
— Я сегодня услышал от одного: хочешь жить — умей вертеться. Это что, лозунг тыла?
— Все гораздо сложней, Володька, — очень серьезно произнес Сергей, и по его лицу прошла тень. — Рассказывай, что на фронте?
— Поначалу наступали, и здорово. Драпал немец, дай боже. А потом выдохлись. Возьмем деревню, а на другой день выбивает нас немец. Опять берем, опять, гад, выбивает. Так по нескольку раз — из рук в руки. Ну а затем распутица, подвоза нет, ни снарядов, ни жратвы… Вот в апреле и досталось. Володька отпил из бокала, задумался, потом сказал: — Я, разумеется, храбрился… перед людьми-то, все-таки ротным под конец был… Но досталось, Сергей, очень досталось. И не спрашивай больше. Отойти мне надо.
— Понимаю, — кивнул Сергей. — Только один вопрос: за что медаль?
— За разведку… "Языка" приволок.
— Ого, это кое-что значит.
— Для меня это слишком много значило, — тихо сказал Володька и опустил голову.
Они молча потягивали мартини, а Риммочка все приносила и приносила бокалы, и Володька пил, надеясь, что хмель как-то забьет душившую его боль, но мартини не помогал…
Перед ним проплывали одно за другим лица оставшихся ребят его роты, их обреченные глаза, их оборванные ватники, их заляпанные грязью обмотки… Да, за них было больно ему сейчас, больно так, будто рвали из души что-то.
— Мне стрелять охота, — опять пробормотал он почти про себя.
— Не дури! У тебя действительно пистолет с собой?
— С собой.
— Это уж глупость! Для чего таскать?
Володька ничего не ответил, но немного погодя спросил:
— Они что, все такие нужные для тыла? — обвел он глазами зал.
— Ну, знаешь, хватит! Тебе прописные истины выложить, что победа куется не только на фронте… — чуть раздраженно буркнул Сергей.
— Да, я понимаю… Но вот этого лба. — Показал он пальцем на полного мужчину. — Мне бы в роту. Плиту бы ему минометную на спину — жирок быстро спустил бы… А то за соломинку держится.
— Это становится смешно, Володька. Ну, хлебнул ты горячего, так все, что ли, должны этого хлебова попробовать? Ты же не удивляешься, что работают кинотеатры, что на "Динамо" играют в футбол, что…
— Тоже удивляюсь, — прервал его Володька. — Ладно, ты прав, конечно. Нервишки…
— Тут же мальчишек полно, которым призываться на днях, ну и командированные… Набегались по наркоматам, забежали горло промочить…
— Ладно, — махнул рукой Володька.
И тут подошел к ним высокий, хорошо одетый парень с красивым, холеным лицом, который уже давно поглядывал на Володьку с соседнего столика, словно что-то вспоминая. Володьке тоже казалось, что где-то встречались они, но припомнить точно не мог.
— По-моему, мы знакомы… — неуверенно начал парень.
— Как будто, — поднял голову Володька и вдруг сразу вспомнил, но вида не подал — ох, как обрадовался он этой встрече. — Да, мы где-то видались. В какой-нибудь довоенной компании, наверно.
— Возможно.
— Там твоя девушка сидит?
— Да, — подтвердил тот.
— Познакомь. А?
— Что ж, пожалуйста. У нее брат на фронте, ей будет интересно с тобой поговорить.
— Может, не стоит, Володька. Нам уже пора, — Сергей увидел по Володькиным глазам, что назревает неладное.
— Стоит, — промычал Володька и направился к столику.
— Вот товарищ хочет с тобой познакомиться, Тоня.
Девушка подняла голову, хотела было мило улыбнуться, но, столкнувшись с шальными глазами Володьки, испуганно отпрянула назад, как-то сжалась, но быстро овладела собой.
— Тоня, — представилась она и протянула ему руку.
— Володька. Лейтенант Володька. — Он охватил ее тонкую кисть своей шершавой, заскорузлой, еще со следами ожогов, еще как следует не отмытой лапой и крепко пожал.
— Больно, — воскликнула Тоня.
— Извините, отвык от дамских ручек, — усмехнулся Володька.
— Почему так странно — лейтенант Володька? — спросила она, потирая кисть правой руки.
— Так ребята в роте прозвали… Наверно, потому, что я хоть и лейтенант, но все-таки Володька, то есть свой в доску…
— Присаживайся, — пригласил парень.
— Спасибочко…
Перед дракой Володька всегда был спокоен и даже весел, и сейчас шальной блеск в его глазах потух, а большой лягушачий рот кривился в вполне добродушной улыбке. Тоня, видно, совсем успокоилась и глядела на него с некоторым любопытством, ожидая рассказа о его фронтовых товарищах, прозвавших его так чудно, но вроде бы ласково. Но Володька молчал. Он еще не знал, с чего начать.
— Мой брат на Калининском… И очень давно нет писем, — сказала Тоня.
— Я тоже оттуда… Распутица… Значит, брат на Калининском, а вы… тут. Интересно…
— А почему бы нам здесь не быть? — с некоторым вызовом спросила Тоня.
— Я не про вас, а вот про него.
— У Игоря отсрочка, он перешел на четвертый курс.
— Уже на четвертый? Ох, как времечко-то летит… Не вспомнил, где мы встречались?
— Пока нет, — ответил Игорь, пожав плечами.
— Напомню… Тридцать восьмой год. Архитектурный институт. Экзамены… И оба не проходим по конкурсу. У тебя даже, по-моему, на два балла меньше было.
— Да, да, верно… Ох, уж эти экзамены… — заулыбался тот, не заметив пока в голосе Володьки странных ноток.
— Но ты все же поступил? — Володька поднял глаза и уже не сводил их с Игоря.
— Да, понимаешь, был некоторый отсев и… мне удалось…
— С помощью папаши?
— Нет, я ж говорю… отсев… Освободилось место.
— А на следующий год вы поступили? — живо спросила Тоня, видно, желая переменить разговор.
— Поступил… Но через пятнадцать дней… "ворошиловский призыв". Помните, наверно?
— Да, — кивнула Тоня.
— Так-то, Игорек, — начал Володька вроде спокойно. — Выходит, мое место ты занимаешь в институте.
— Ну почему? Просто мне повезло, — сказал Игорь, уже с некоторой опаской поглядывая на Володьку.
— Просто повезло, просто отсев? Здорово получается… А я сегодня девчонку в армию проводил… Маленькую такую, хрупкую. Связисткой будет… Добровольно пошла, между прочим. А ты знаешь, сколько катушка с проводами весит? И как таскать она ее будет? Да под огнем, под пулями? — Володькины глаза сузились, губы подрагивали. — Нет, вы здесь ни хрена не хотите знать, вы тут… с соломинками. Вам плевать, что всего в двухстах километрах ротные глотку рвут, люди помирают… Эх, тебя бы туда на недельку!… — потянул Володька руку к лицу Игоря.
— Знаешь что, иди-ка ты за свой столик. Посидел и хватит, — приподнялся Игорь и отвел Володькину руку.
— Погоди, погоди… Не торопись, — растягивая слова, произнес Володька, а потом, резко встав, ударил Игоря по щеке. — Это тебе за институт, а это за то, что в тылу укрываешься, падло. — И второй раз тяжелая Володькина рука выдала пощечину.
Игорь замахнулся, но Тоня встала между ними.
— Не отвечай! Ты можешь задеть ему рану. Он сумасшедший! Разве не видишь!
Несколько мужчин, сорвавшись из-за столиков, подбежали к ним. Кто-то схватил Володьку за руку, кто-то за плечо.
— Нельзя так, товарищ военный, — сказал один из них.
— Успокойтесь, успокойтесь, — уговаривал другой.
Но Володька завопил:
— Руки! Прочь руки! — и стал вырываться. — Ах, гады, рану… — Володька разбросал державших его людей, отскочил к стене, резко бросил руку в задний карман. Секунда, и ствол "вальтера" черным зловещим зрачком уставился на окружавших его людей.
— А ну, по своим местам! Живо!
И люди стали медленно отступать к своим столикам — зрачок пистолета и сумасшедшие, выпученные Володькины глаза были достаточно выразительны, чтобы не сомневаться — этот свихнувшийся окопник, и верно, начнет палить… Когда все отошли к своим столикам, Володька скомандовал:
— А теперь слушать мою команду! Встать! Всем встать! И две минуты — ни звука! Помянете, гады, мою битую-перебитую роту! И ты встань, Сергей. Гляди на часы. Ровно две минуты! Там все поля в наших, а вы тут… с соломинками…
И люди поднялись. Кто неохотно с кривыми усмешечками, кто быстро. Молодые ребята, призываться которым, глядели на Володьку с восхищением: "Во дает фронтовик!…" Кто-то сказал, что они бы и так помянули его роту, зачем пистолет?… Один начальственного вида мужчина поднялся с ворчанием:
— Безобразие, распустились там…
— Не тявкать! Влеплю! — резанул Володька, направив пистолет в его сторону, и тот поневоле вздрогнул, а Володька, кривясь в непонятной улыбочке, водил пистолетом по залу — затвор не был взведен, но никто этого не заметил…
Сергей смотрел на часы — ему, видимо, все это казалось забавным. Тоня стояла почти рядом с Володькой и глядела на него в упор без всякого страха, только тяжело дышала…
Но не прошло двух минут, как вбежала Римма.
— Сергей Иванович! Внизу патруль вызвали! Я вас черным ходом!
Сергей бросился к Володьке, схватил за локоть, и они покатились вниз по крутой, узкой лестнице… Выбежав во двор, рванули влево. Выскочили они со дворов где-то около "Арагви" и скорым шагом стали спускаться к Столешникову переулку. Там, смешавшись с людьми, прошли немного, потом остановились и закурили.
— Ну, вы даете, сэр… — усмехнулся Сергей. — А если б патруль?
— Черт с ним! Кого я теперь могу бояться? Это ты понимаешь? — Володька сказал это без рисовки, просто и как-то уныло. — Для чего ты повел меня в этот кабак?
— Как для чего? Посидеть, выпить… поговорить.
— Нет, Серега, не только для этого…
— Может быть, — неопределенно произнес Сергей, усмехнувшись и сломав папироску в пальцах. — Ладно, пошли…
* * *
Три дня после этого отлеживался Володька дома, сходив только на перевязку. Идя в поликлинику, прошел он мимо своей и Юлькиной школы. Сейчас там находился пункт формирования, у калитки стоял часовой, а во дворе он увидел две большие воронки — рыжая развороченная земля… И то, что на передовой казалось обычным, здесь, на родной Володькиной улице, всего в одном квартале от его дома, представилось ему неправдоподобным.
Дальше прошел он мимо старинного особняка, в котором до войны была психбольница, с примыкающим к нему садиком. В этот садик забирались они с Юлькой через дырку в заборе. Вечерами был он пуст, темен, и они могли без опаски, пристроившись на одной из скамеек, целоваться… Сейчас забора не было, и садик со срубленными, наверно, на дрова деревьями был доступен взору, и эта открытость сняла былую таинственность с его дорожек.
В поликлинике Володьку пропустили без очереди. Хирург, обработав и перевязав рану, сказал:
— Вы должны оформить отпуск, иначе я не имею права принимать вас больше. Потом, глядя на Володьку тоскливыми глазами, он спросил, как дела на фронте. Володька пробурчал в ответ нечто невнятное. — От моего сына уже месяц нет писем… — Врач вопросительно поглядел на него, и Володька поспешил его успокоить — месяц это не страшно, сейчас еще распутица, и перебои с почтой вполне закономерны…
Валяясь дома на диване, Володька думал: для чего все-таки Сергей повел в "коктейль"? Должен же он был предполагать, какие чувства вызовет у Володьки этот кабак… А Сергей ничего не делает просто так.
— Мама, — спросил он мать. — Что ты думаешь о Сергее? Сегодня о нем?
— Сережа для меня многое сделал, я говорила тебе… Не забывал он и тебя эти годы. Он порядочный человек, Володя…
Он усмехнулся… Для его матери мир делился на порядочных и непорядочных. Мать продолжила:
— Он пошел добровольно на финскую, он женился на Любе. Не знаю, Володя, кроме хорошего, я ничего не могу сказать про Сережу. Да разве ты сам не знаешь его?
— Теперешнего не знаю. В нем появилось что-то…
— Это тебе кажется… Сейчас тебе все видится не таким. Я понимаю, но это пройдет…
Но это не проходило… Все Володьке казалось каким-то не таким. Оформив отпуск — сорок пять дней с обязательным амбулаторным лечением, — он получил в домоуправлении продовольственные карточки, и, когда показал их матери, та несказанно обрадовалась.
— Ты получишь продукты за весь месяц! Понимаешь, они не вырезали талоны за прошлые дни… В общем, держи сумки и отправляйся в магазин.
Инвалидный магазин находился у Сретенских ворот, и Володька затопал по знакомой с детства Сретенке, довольно многолюдной, и вглядывался в прохожих в надежде, а вдруг встретит кого-нибудь из школьных ребят или хотя бы девчонок. Из девчонок ему хотелось бы увидеть Майю, в которую с восьмого класса сразу влюбились все ребята — она пополнела, у нее стала умопомрачительная походка, ее бедра почти взрослой женщины колыхались так, что мальчишки столбенели и как загипнотизированные не могли оторвать от нее глаз, когда величаво, чувствуя свою силу и прелесть, проходила мимо. Снилась она и Володьке на востоке часто и сладко-мучительно.
Проходя около "Урана", подивился он на рекламы и на то, что крутят тут фильмы, несмотря на войну. Повернув голову налево, увидел очередь в пивной бар, находящийся в переулке, и сразу сметало губы сухостью и страсть как захотелось выпить пивка, но он прошел мимо.
— Садись, садись. Мы сейчас тебя мигом отоварим за весь месяц сразу. Чего тебе, раненному, ходить несколько раз? Верно? — говорил Володьке директор магазина, мужчина лет тридцати с розовой физиономией и мутноватыми глазками, в кабинет которого он вошел, чтоб прикрепить карточки.
Володька молчал, не очень-то тронутый лебезящим тоном директора, и смотрел на него угрюмо, думая, что такого здорового бугая неплохо бы на передовую жирок спустить.
— Значит, заместо мяса у нас селедка сегодня, но какая! Залом настоящий! Ну, за жиры я тебя, конечно, сливочным маслицем отоварю. Зина! — крикнул он, и сейчас же вошла полноватая молодая продавщица. — Обслужи товарища… Да, водочки, разумеется, получишь бутылочку. Отдай сумки-то, она тебе все завесит… Да, за крупы гречку получишь. У нас в магазине все первый сорт. Знаем, кого обслуживаем: фронтовиков, защитников наших…
— А ты, что ж… не там? — спросил Володька в упор, сузив глаза.
— Я бы с радостью! Не берут. Язва проклятая! Жрать ничего не могу. Казалось бы, все в моих руках — жри сколько влезет, а не могу.
— А водочку можешь, — скривил Володька губы.
— Водочку могу. Ну, будь здоров. Отоварил я тебя на все сто, — заерзал директор на стуле.
— Ну, спасибо, — промычал Володька, а сам подумал: попробовал бы ты, гад, отоварить меня не на все сто, я показал бы тебе что почем. Умел Володька качать права.
Да, раздражение против всего, что он видел в Москве, не проходило. Он понимал, что причиной этого его растрепанные нервишки и голод, который он не переставал ощущать, — ему не хватало хлеба. Поэтому, придя домой, он, не дождавшись обеда, который сегодня должен быть роскошен благодаря полученным им продуктам, не выдержал и навалился на хлеб. Он сидел и медленно жевал черняху и дожевал перед обедом всю свою пайку в восемьсот граммов…
После обеда разморило, и он отправился в свою комнату подремать. И снилось ему снова заснеженное поле с подбитым танком, чернеющие крыши деревни, которую они должны взять, и его ротный с загнанными глазами, говоривший ему: "Надо, Володька, понимаешь, надо…"
* * *
От Юльки пришла открытка. "Дорогой Володя, — писала она. — Вот я уже красноармеец. Занимаюсь строевой, зубрю уставы. Тоскую. Нас никуда не выпускают, и мы все свободное время сидим у окон и смотрим… Под нами московская улица, ходят прохожие… Приходи завтра к трем часам к проходной. Я увижу тебя из окна, а может, сумею выскочить на минутку на улицу (это смотря кто будет на посту). Вообще-то ребята относятся к нам хорошо, жалеют… Приходи обязательно. Целую".
На другой день в три часа был уже Володька на Матросской Тишине около кирпичного забора с проходной, за которым краснело трехэтажное здание училища. Он остановился на противоположной стороне улицы и стал глядеть в окна — они были открыты, но пусты. Пока он закуривал, зажигал спичку, а потом опять поднял голову, в окнах уже зазеленели гимнастерки и замелькали разноголосые девичьи головки. Он прищурился, стараясь разглядеть Юльку, но вдруг услыхал свое имя — она стояла у проходной. Он побежал…
На глазах у часового было неудобно ни поцеловать ее, ни обнять, он только схватил ее руку.
— Ну, как ты, дурочка?
— Отойдем немного, чтоб нас не видели из окон. — И она потащила Володьку влево.
Гимнастерка была ей немного великовата, юбка длинна, но пилотка шла.
— Я очень уродливая… в этом?
— Тебе идет, — не совсем правду сказал он, и щемящая жалость скребанула по сердцу.
— Ты очень сердишься, что я испортила тебе отпуск? — Виноватая улыбка пробежалась по лицу.
— Сердишься — не то слово, Юлька. Я злюсь…
— Ну, Володечка, что ж делать? Но знаешь, я все-таки не жалею, — тряхнула она головкой.
— Дурешка. Еще как будешь жалеть. Все впереди.
Они остановились и замолчали. Володьке не хотелось ее расспрашивать; она стояла, потупившись, и крутила пуговицу на гимнастерке. А время шло. И то, что оно шло, и то, что его было очень мало, еще больше сковывало. Наконец Юлька тихо и робко спросила:
— Ты не прочел еще мою черненькую книжицу?
— Нет.
— Ты прочти… Тогда ты все поймешь. Хорошо?
— Хорошо, прочту…
Они еще постояли несколько минут молча.
— Ну, мне пора, Володька. — Она прижалась, как-то нескладно поцеловала его и побежала. — Я постараюсь позвонить, — крикнула она на ходу и исчезла в проходной.
Володька постоял еще немного, понурив голову… Радости эта короткая встреча не принесла ни ему, ни, наверное, Юле.
Обратно Володька пошел пешком. У трех вокзалов его окликнули:
— Здорово, браток! Как жизнь крутится? — Володька обернулся и увидел того инвалида, с которым говорил во дворике после проводов Юльки.
— Здорово. — Он даже обрадовался немного: настроение после встречи было скверное.
— Куда топаешь?
— Прогуливаюсь.
— Пойдем со мной. Пивка хочешь?
— Хочу. Только очереди везде.
— Для кого очереди, а для нас… Пошли. — И они отправились по Домниковке, потом по Уланскому и вскоре вышли к Сретенским воротам. Ивалид был сегодня неразговорчив, лицо помятое, припухшее. Володька тоже помалкивал, поглядывая по сторонам: ему все еще было чудно и странно ходить по московским улицам. Дошли до Кузнецкого, и только тут инвалид, мотнув головой на большое здание слева, буркнул:
— Кидал сюда немец. Он, сука, что ни говори, знал, куда метить. Здесь небось шпионов его уйма сидит. Думал, разбомблю, может, разбегутся… И вообще, я смотрю, зря он не кидал. Разведка у него поставлена.
— Да, — согласился Володька, вспомнив воронки около своей школы.
— Теперь уж не бомбит. Так иногда один-два самолета прорвутся.
— Куда идем-то? — спросил Володька.
— В кафе-автомат возле метро. Знаешь? — Володька кивнул: как не знать первый автомат в Москве, специально бегали смотреть, когда открылся он.
Они вошли в переулок, сразу в глаза очередь, но не только мужички стояли, было и женщин много с маленькими детьми, а еще больше старушек и старичков. Володька удивился.
— Они что, тоже за пивом? — спросил тихо.
— Нет. Тут, кроме пива, пшенку дают без талонов.
— Тогда неудобно вроде… через пять человек, — смутился Володька.
— А мы и не будем через пять. Держи, — инвалид высыпал в Володькину ладонь несколько медных жетонов. — Ну, а теперича смело вперед. Швейцару скажешь выходил оправляться. Туалета там нет. Понял?
Показали они швейцару жетоны, и тот пропустил их без звука. Справа у прилавка давали кашу, маленькую порцию, ложки на две, и туда направлялись женщины из очереди, держа в руках бумажные талончики, выдаваемые при входе, а мужички отправлялись налево, где стояли пивные автоматы.
Володька пил с удовольствием. За всю службу на Дальнем Востоке ему только один раз довелось выпить пива. Вообще там с этим было строго. Ни в магазинах, ни в ресторанах вина военным не продавали, даже командному составу.
После двух кружек инвалид поживел.
— Ну, как тебе жизнь в Москве показалась? — спросил он.
— Странная.
— А я что говорил! Знаешь, я решил жить, ни о чем не думая. День прошел и слава богу. Стопку выпил, брюхо набил, и на боковую. Главное, живой, а остальное все мура… Хорошо пивко? Ну а как, по-твоему, война летом повернется?
— Не знаю… Совсем не знаю, — задумчиво произнес Володька, нахмурившись.
— Попрет он опять. Только где?… Да, такую силищу обратно повернуть, да до границы дойти, да еще Германию протопать… А жравты уже нет, а если еще год, два?…
За такие разговорчики на передовой обкладывал Володька марьинорощинским матюгом с блатными присказками, да такими, что грохали бойцы смехом: во дает ротный, откуда такого поднабрался… Но здесь не передовая, да и была горькая правда в словах инвалида. И, вспоминая обезлюденный передний край, понимал Володька: туго нам придется, еще как туго, но по привычке взгляд его построжал.
— Ты глаза не пяль, лейтенант, — сказал инвалид. — Я теперь вольный казак, ни перед кем тянуться не обязан. Я тебе по-откровенному, по-солдатски, свои мысли высказываю и нечего таращиться… Ты небось надеешься живым из этой войны выйти?
— Не очень-то.
— Врешь, надеешься! Без этого ни жить, ни воевать нельзя. Но вот помяни мое слово, попрет немец летом. А чем остановим? Много ли техники, много ли народу, сам знаешь. — Он безнадежно покачал головой и закурил.
— Ты ж говорил, брюхо набью и на боковую, а сам… — усмехнулся Володька.
— Мало ли что говорил. Душа-то болит. И знаешь, что еще мучает? Ненужный я сейчас человек… На завод вот зашел — одни девки да пацаны. Какая, думаю, работа от них? Смотрю, нет, получается. Но разве сравнить, ежели бы я сам к станку стал! Постоял я около своего станочка… Руки-то работы требуют, соскучились. Эх, лучше бы в ногу долбануло, — закончил в сердцах инвалид и переменил тему. — Как пивко? Давай еще по паре кружечек махнем. Учти — после него себя сытым чувствуешь.
Конечно, Егорыч — как звали инвалида — о своей войне рассказывал, как отступали, как из окружений выходили, какие бои страшенные под Смоленском приняли… Володька про свой Калининский особо не распространялся, только вырвалось у него, что должен он по одному московскому адресу сходить, что это для него сейчас главное…
— Не ходи, — решительно заявил Егорыч, поняв сразу, о чем речь, — только ей душу растравишь и себе. Не ходи.
— Надо.
— Ты знаешь, как на живых смотрят те, у кого убитые?
— Представляю.
— Ты представляешь, а я знаю. Ходил я, как в Москву вернулся, к жене дружка своего убитого. Обменялись адресочками перед боем. Ну что? Лучше не вспоминать! Не знал, как от нее выбраться поскорей. Три ночи потом не спал.
— Должен я.
— Почему должен? — спросил инвалид, прищурившись и начав вроде догадываться. — Себя, что ли, виноватым считаешь?
— Да, — тихо произнес Володька.
— Тебе через полтора месяца обратно. Там за все вины и разочтешься. Жизнью своей молодой. Сколько годков-то тебе?
— Двадцать два. В августе будет.
— Эх, тебе сейчас девок любить, песни петь, на танцульки ходить, а тебе роту всучили и… в бой… насмерть. — Егорыч потер переносицу, потом глаза. Я-то хоть не очень пожил, сам понимаешь, годы нелегкие были, но все же хоть повидал чего, хоть девок всласть до женитьбы попробовал, а ты… — Он отхлебнул из кружки, потом вскинул голову, словно что-то вспомнив. — Хочешь, познакомлю тебя с девахой одной? Соседка у меня твоих годков, на "Калибре" работает. Огонь девка! Понимаешь, у станка всего несколько месяцев, а вкалывает, дай бог. Наши мужские довоенные нормы перебивает. Только жаль одна мается. Женишка ее на границе убило, в первые дни… Хочешь?
— Нет…
— Ну и дурак! А то бы сейчас и поехали. Она как раз с ночной пришла, дома… Бутылочка у меня найдется. Ну, поехали?
— Нет, Егорыч, — покачал головой Володька.
— Ну, если не хочешь, запиши-ка мой адресок на всякий случай. На Домниковке я живу… — Володька записал, чтоб не обидеть. На этом и разошлись.
* * *
Следующий день Володька слонялся по дому, не зная, чем себя занять. Часто подходил к книжной полке, вынимал какую-нибудь книгу, перелистывал и откладывал — неинтересно. После того, что им пережито, этот, когда-то захватывающий его книжный мир с его выдуманными героями сейчас оставлял его равнодушным. Не мог он начать читать и Юлькину черную тетрадку. Не хотелось ему выходить и во двор — боялся встретить матерей тех ребят, которые уже не вернутся…
Привыкший за два с половиною года армии быть все время с людьми, сейчас он изнывал от одиночества и от ничегонеделания. А воспоминания о Ржеве не уходили, и нечем было отвлечься от них. Выходя иногда на улицу, он уже видел, что Москва не такая, какой показалась ему в первые дни, что не так уж красивы и нарядны московские девушки. Они были худы, бледны, а их платья не так цветасты, как виделось поначалу его глазам, привыкшим за годы службы к серо-зеленым цветам военного обмундирования. И не так много было народа на улицах. Пусты были дворы, и совсем не видно было детей…
Вечерами плыли по улицам аэростаты заграждения, как какие-то гигантские рыбы, которые, зацепив на крючок, тащили девушки в военной форме. И совсем становилась Москва пустынна, когда темнело, а за час до комендантского часа на улицах уж не было никого.
И вот, намаявшись в тоске и безделье несколько дней, Володька решил заглянуть в кафе-автомат, благо медные жетоны позвякивали в карманах.
Не успел он допить первую кружку пива, как к его столику подошел инвалид на костылях и с ходу спросил:
— Не с Калининского, командир?
— Как угадал? — удивился Володька.
— Угадать немудрено. По лицу видно, что распутицу прихватил.
И пошел разговор… Воевал инвалид под самым Ржевом и рассказывал такое, что было, пожалуй, пострашнее Володькиной войны, так как нейтралка местами в городе была не более пятидесяти метров и каждую ночь либо наши, либо немцы делали вылазки, и почти всегда доходило до рукопашной… А что может быть страшней боев лицом к лицу, когда идет в ход что попало — и штык, и кинжал, и лопата порой.
Потом еще кто-нибудь к столику пристраивался и тоже о войне. Так до обеда пролетало время незаметно, и был Володька среди людей своих в доску, тоже хвативших лиха.
Появлялся в кафе-автомате и Егорыч, и тогда с ним текли беседы. Однажды к их столику подошел мужчина с перевязанной рукой. Егорыч, конечно, сразу спросил:
— На каком фронте трахнуло?
— Ни на каком, — весело ответил мужчина. — Не рана у меня — травма. Бюллетеню сейчас. С начала войны к пивку не прикасался, некогда в очередях-то стоять. А сегодня схитрил, за инвалида через пять человек прошел, дорвался до пивка…
И вправду дорвался. Принесенные три кружки выпил почти разом, не прерываясь на разговоры, только подмаргивал им после каждой. Лицо у него было землистое, с проваленными щеками — будто с передовой. Выпив и отдышавшись, он утер вспотевший лоб платком.
— Вот теперь и поговорить можно…
— Теперь можно, — подтвердил Егорыч.
— Вы, фронтовики, небось думаете, что в тылу малина?
— Малина, может, и не малина, но с фронтом не равняй. Что ни говори, в своей постели спишь да с бабой, если она у тебя имеется, — сказал Егорыч.
— Имеется, — усмехнулся мужчина. — Только хошь смейся, хошь нет, а я до нее цельную зиму не дотрагивался. Так прижмешься иногда для согреву, а другого тебе от нее и не надо. Вот так.
— Ты хоть прижмешься, а бойцу в окопе только костлявую обнять можно, а от нее и тепла нет, — заметил Егорыч.
— Знаю. Я ж финскую попробовал. А все равно в середине зимы заявление в завком грохнул — снимайте с меня бронь к чертовой матери и на фронт, — он допил пиво. — Конечно, есть, которые устроились, а нашему брату, рабочему, достается. Рабочий день сами знаете какой. Жратвы не хватает. Зимой на заводе холодина, дома тоже зуб на зуб не попадает. Кипяточку попьешь, зажуешь чем-нибудь и еле-еле до кровати дотягиваешь…
— С передовой все же не равняй, — опять заметил Егорыч.
— Я не равняю… Но перед боем хоть покормят досыта, стопочку дадут и была не была.
— Не всегда покормят и не всегда стопочка, — уточнил Егорыч, усмехнувшись и глотнув пива.
— И это знаю, но все же заявление грохнул.
— Я понимаю, что не ради водочки заявление-то ты… Немец-то зимой под самой Москвой стоял. Но такие, как ты, с квалификацией, здесь нужны. Техники на фронте не хватает… Ты вот жалишься — работы много, а я бы сейчас, честное слово, от станка и ночь бы не отходил… Кто я теперь? Пар отработанный, не нужный никому человек… — Егорыч склонил голову, задумался.
И тут загремели на улице тягачи… Все к окнам бросились. Проезжали несколько тяжелых артиллерийских орудий, блестели свежей зеленой краской.
— Нашего завода работенка. Прицельные приспособления делаем, — сказал мужчина с перевязанной рукой и расплылся в улыбке. — Хороши игрушки?
— Хороши! — восхитился Егорыч и хлопнул соседа но плечу. — А ты заявление… Я, знаешь, к тыловикам, которые вкалывают, полное уважение, но есть в тылу и дрянь. Верно, лейтенант?
Володька ничего не ответил. Постепенно, из разговоров с разными людьми вырисовывалась у него Москва совсем другая, чем в первые дни, когда огорошил его Сергей "коктейль-холлом", когда увидел он там холеного Игорька, занимающего его, Володькино, место в институте и ничуть не стыдящегося того, что он не воюет. Да, Москва была спокойна, но настороженна и очень сосредоточенна. И люди работали по двенадцать часов, на скудном пайке, который в три дня "улопать можно", как говорил Егорыч. И Володька смотрел на москвичей уже другими глазами, начиная понимать, что жизнь их не так уж резко отличается от фронтовых будней. Тот же недоед, тот же труд невпроворот и смерть тоже вполне возможна — много было бомбежек зимой…
Так прошло несколько дней. Мать поглядывала на него, когда он возвращался домой, не то чтобы с осуждением, но с некоторым недоумением и наконец не выдержала:
— Мне кажется, отпуск ты проводишь не лучшим образом.
— Посоветуй лучший, — пожал он плечами.
— Я не знаю… Тебе там лучше, чем дома?
— Не обижайся мама, но, видимо, так. Я привык быть с людьми. Ну и там в разговорах незаметней проходит время, и не думаешь ни о чем.
— Я тоже стараюсь не думать о том, что нас ждет… Но я слабая женщина, Володя…
— Ты сильная, мама, — улыбнулся он. — Но ты не поняла меня. Я не боюсь возвращения на фронт. Мне не хочется думать сейчас о том, что было подо Ржевом. Понимаешь?
— Стараюсь понять, но… каждый день пить пиво… Прости, для интеллигентного человека это, на мой взгляд…
— Какой, к черту, я интеллигентный! — перебил ее Володька, усмехнувшись. Никому это не нужно сейчас, даже мешает…
— Я не согласна с тобой. Интеллигентный человек должен оставаться им всегда и везде, независимо от обстановки и обстоятельств. Даже вопреки им, если хочешь знать.
— Тебе легко рассуждать. Ты всю жизнь просидела в своем редакционном закутке с тремя литературными дамами. А я с детства на нашем марьинорощинском дворе, где не очень-то ценились хорошие манеры. Там для того, чтобы быть своим, требовалось нечто другое… Кстати, и в армии тоже, — Володька свернул цигарку и продолжил: — Знаешь, был у нас в полковой школе взводный, лейтенант Клименко. Бывший беспризорник, матерщинник жуткий, но свой в доску. Ребята его обожали. Мне тоже он нравился, и думалось, что таким вот командиром надо и быть, наверно…
— И ты стал подражать ему? От него и некоторые выражения, прорывающиеся у тебя?
— Ну, выраженьица-то у меня со двора, мама, — улыбнулся Володька.
— Раньше я их не слыхала.
— Разумеется. Дома я был пай-мальчик, но разве ты не помнишь, с какими фингалами я появлялся частенько. А ведь это были драки, хорошие драки…
— Ты говоришь об этом, словно о чем-то приятном…
— А было неплохо! Кстати, мама, вот это дворовое презрение к трусости очень сгодилось мне на фронте… понимаешь, струсить казалось страшнее смерти… — Володька задумался на миг, — и знаешь, как меня прозвали ребята? Володькой-лейтенантом. Чувствуешь в этом этакую солдатскую ласковость? Таким быть на войне легче, мама… А интеллигентность… — Он махнул рукой.
— Но скажи — "легче" это и лучше? — очень серьезно спросила мать.
— Наверно, — небрежно бросил Володька.
— И тебе нравилось это прозвище?
— Нравилось. А тебе нет?
— Мне трудно судить, ты же ничего не рассказываешь. — Мать сказала неуверенно, но он понял, что она не разделяет его "нравилось".
* * *
На площади Коммуны в середине скверика стояла зенитная батарея, а театр ЦДКА был весь перекрашен для маскировки, располосован черными линиями, намалеваны были фальшивые окна, и вид его был странен. Володька постоял, посмотрел и побрел дальше к парку, где находилась выставка трофеев немецкой техники, взятой в зимних боях под Москвой. Туда Володька и отправился, в родной парк ЦДКА, куда часто они ходили дворовой компанией, зимой — на каток, а летом просто так потолкаться среди народа около танцплощадки. На саму площадку танцевать ходил из них только Володька-Кукарача, потому так и был прозван. Нередко затевались тут и драки, о которых говорил он матери.
Парк был почти пуст, но к выставке, расположенной на бывшем катке, тянулся народ — в большинстве военные и подростки.
Володька со странным чувством глядел на немецкие танки, орудия, самолеты, машины — такие, казалось, неуязвимые подо Ржевом, но теперь выглядевшие совсем по-другому: разбитые, поломанные, покореженные, они уже были не страшны. Но… но чтобы все это уничтожить, нужны такие же орудия, такие же танки, такие же самолеты. Володька усмехнулся, вспомнив свой восторг при получении ППШ. Семьдесят два патрона! Можно разбить целый немецкий взвод! Одному! Вспомнил самодельные мишени, по которым хлестал очередями, и продырявленные пулями немецкие рожи, намалеванные им на листах газеты. Было здорово! А подо Ржевом мертвая деревня за полем и ни одного живого немца, по которому можно было стрелять из этого ППШ с семьюдесятью двумя патронами. А из деревни на них снаряды, мины, пулеметные очереди…
Около бронетранспортера на гусеничном ходу его кто-то спросил:
— У нас есть такие?
— Нет.
— Да, этот гад Гитлер готовился как следует, — вздохнул спросивший.
Володька прошел дальше, остановился около танка, и тут кто-то осторожно положил руку ему на плечо. Он обернулся.
— Володя, ты? — спросил его человек, которого он не сразу узнал.
— Я, — ответил Володька.
— Я — Мохов. Помнишь? Я учился с тобой в одном классе. А после седьмого ушел в техникум.
— Помню, Мохов. Привет, — Володька протянул руку.
Одно время они дружили, но потом как-то разошлись. Странноватый был Мохов. С класса пятого ходил он всегда в галстуке и белой рубашке, но пиджачок был плохонький, из чего-то перешитый, видимо, самой матерью. И поражал всех его идеальный пробор. Волосы он припомаживал чем-то, они блестели, и никто никогда не видел его растрепанным.
Сейчас он был худ, лицо в каких-то прыщах, но тщательно выбритое. Рубашка была ослепительна, пробор тоже, а черный галстук аккуратно завязан.
— С фронта? — спросил Мохов.
— Да, в отпуску. А ты работаешь, бронь?
— Да, на заводе, мастером цеха. Пацанами командую да девчонками. Скажи, что же случилось? Ведь в октябре многие думали…
— Что я знаю, Мохов? Барахтался в болотах подо Ржевом под тремя деревеньками. Вот и весь сектор обзора… Куришь? — вынул Володька кисет.
— Не курю… Техники не хватает на фронте?
— Хотелось бы побольше.
— Да… — вздохнул Мохов. — Работаем сейчас много. И знаешь, что удивительно? Организованней стали работать. Хотя все время чего-то не хватает, но дело идет… Если бы так работали, вот с таким же накалом до войны, было бы у нас всего навалом.
— Ну а как вообще жизнь? — спросил Володька.
— Трудная, Володя, — очень серьезно сказал Мохов. — Устаем все до невозможности. Даже не знаю, сколько еще можно выдержать такой темп. О зиме не спрашивай. Зима была очень тяжелой. Если вторая такой же будет… — он помолчал немного, потом добавил: — Я понимаю, на фронте тяжелей. Все это понимают, потому и работают так, выкладываясь до последнего… Как ты думаешь, надолго война?
— По-моему, надолго, Мохов… Как бы немец опять на Москву не начал наступления. Всего двести километров от Ржева, а он там уперся, не сдвинешь. Оттуда может и начать. И по сводкам, все время там бои местного значения, на Калининском… А мы там здорово выдохлись. Нажмет немец, может, на Волгу нас откинут. Каждый день включаю радио и боюсь — вдруг там началось?
— Да, двести километров не много. Но, по-моему, что-то на юге начинается?
— Это могут быть отвлекающие операции. Мне все кажется, что подо Ржевом главное будет. Может, потому, что я там был и знаю, как там дела.
— Да вот, Володя, не думали, не гадали, а случилось такое, — вздохнул Мохов.
— Мы на Дальнем Востоке чувствовали приближение войны. Это вы здесь не гадали… — Володька прижег потухшую цигарку, затянулся.
— А я один сейчас, — сказал после паузы Мохов. — Умерла мать.
— Умерла? От чего?
— Так она у меня старенькая была. Поэтому я в техникум и пошел. Мне надо было скорей на ноги становиться.
Володька посочувствовал, пожал еще раз руку, и жалко ему стало почему-то Мохова, мочи нет. Он долго стоял и глядел, как шел тот от него какой-то деревянной походкой, размахивая не в шаг руками, сгорбившийся и нелепо старомодный со своим галстучком, пробором клерка и — как показалось Володьке все в том же перешитом пиджачке, хотя пиджак, конечно, был другой.
Выйдя из парка, Володька опять бросил взгляд на зенитную батарею на скверике. Красноармейцы были справные, в чистом обмундировании, на вид сытые. Сидели на солнышке, попыхивая папиросками. Тут воевать можно, подумал Володька, но не было в этой мысли зависти. Тем более, знал он, что первые бомбы и первые очереди всегда обрушиваются на зенитчиков.
Медленно поднимался он в гору по Божедомке, а теперь улице Дурова, прошел "Дуровский уголок", а дальше налево увидел полуразрушенное здание "Цветметзолото". И опять воронки так недалеко от его улицы напомнили, что Москва не такой уж тыл, что эти бомбы могли попасть в его, Володькин, дом и… страшно подумать… убить его мать.
* * *
Наконец-то приступил Володька к Юлькиной черной тетрадке. Это были не то обрывки дневника, не то неотправленные письма к нему, потому что в некоторых местах она обращалась прямо — "Володя".
"Ты помнишь, Володя, — писала она на одной из страниц, — как я признавалась тебе в любви? Это было на школьном вечере. Ты все время танцевал с Майкой, и я умирала от ревности. И вдруг я решилась на отчаянное. Я подошла к тебе и сказала, что мне неприятно смотреть, как ты танцуешь с Майкой, что у тебя при этом идиотское выражение лица. Ты засмеялся, пожал плечами и спросил, а какое мне, цыпленку, до этого дело, и тут я пролепетала, что люблю тебя. Ты, по-моему, очень растерялся и пробормотал что-то невразумительное, вроде того, что я тебе тоже нравлюсь, так как я свойская девчонка. Потом ты пошел меня провожать. Наверное, счел своим долгом. Таким же долгом, по-видимому, ты считал и поцелуи в парадном, который порадовал меня только тем, что я поняла целуешься ты, как и я, в первый раз… Потом я ждала тебя все время после уроков, но у тебя расцветала тогда дружба с Сергеем, и ты часто бросал мне, что сегодня тебе некогда меня провожать, а сам шел с Сергеем шататься по улицам и философствовать…
Сейчас у меня другое. Меня любят по-настоящему! Любит человек, который для меня готов на все. Он намного старше нас, но зато умнее и интеллигентнее в тысячу раз. Мне столько пришлось прочесть, чтоб хоть чуток стать ему вровень. И ты знаешь, на какое-то время твои письма мне стали не интересны…"
Володька читал все это, не ощущая почему-то ревности, ему даже казалось, что Юлька все нафантазировала, выдумала себе эту любовь, но по некоторым деталям все же было видно — что-то и вправду было.
Правдой было и то, что относился он к Юльке несерьезно, особенно вначале, когда разница в возрасте была очень ощутима, и он вроде бы милостиво разрешал любить себя глупой девчонке из седьмого "А", еще цыпленку, хотя это и льстило как-то его самолюбию. Но в дальнейшем стало в порядке вещей — для него и для остальных, — что Юлька — это его девушка… В армии же было приятно получать часто хорошие письма…
Володька задумался и вдруг понял, что той настоящей, с томлениями, с муками ревности, с трепетным ожиданием встреч, влюбленности у него не было. Может быть, это еще у него впереди, подумал он, но сразу же перебил себя, усмехнувшись — когда впереди-то? В эти полтора месяца? На другое время он рассчитывать не может. Ладно, усмехнулся он еще раз, переживем, и вдруг… схватило холодом низ живота — неужели у него только полтора месяца жизни всего?! Только! И сдавило душу — не страхом, не ужасом, а какой-то неимоверно горькой обидой, что он еще ничего не испытал в жизни, ничего не сделал, а жизни-то впереди только полтора месяца… Даже меньше…
Ночью ему приснилась Майя. Он встретил ее на улице, и она бросилась к нему, сияющая, обрадованная, и он тоже почему-то почувствовал необыкновенную радость, почти счастье, словно ожидал этой встречи всю жизнь. И они вдруг начали целоваться, не обращая внимания на прохожих, и Володька, как наяву, ощущал Майкино тело и ее горячий, жадно открытый рот, до боли прижатый к его губам… Потом она потянула его в какую-то дверь, и Володька знал зачем, но сон прервался. Он лежал с открытыми глазами, сердце билось, и ему нестерпимо захотелось увидеть Майку. Сейчас казалось, что он любит ее и что только она нужна ему…
* * *
Утром, выйдя на улицу, Володька дважды прошелся по переулку, где жила Майя, постоял недолго около ее дома, смотря на парадное — вдруг она выйдет?… Но понемногу ночной сон стал рассеиваться, а он трезветь. Но все же, идя по Сретенке, он часто, на всякий случай, поглядывал по сторонам…
Повернув на Сретенский бульвар, шел он мимо пустых скамеек, задумавшись и чуть было не столкнулся с какой-то девушкой, читающей на ходу письмо.
— Простите, — сказал он, отступая в сторону.
Девушка посмотрела на него заплаканными глазами, кивнула, хотела было идти дальше, но неожиданно остановилась, взглянула еще раз, внимательно и нерешительно спросила:
— Вы — Володя?
— Да, — недоуменно ответил он.
— Я — Ляля. Вы меня, конечно, не помните. Мы виделись только один раз у Миши…
— Я помню… А потом Мишка столько писал о вас. Что случилось? — мог быть Володька и очень вежливым, и предупредительным.
— У вас есть время? Присядем тогда и поговорим. — Он согласился, и они сели на скамейку. — Видите, я получаю Мишины письма до востребования… Мой отец требовал вообще полного прекращения переписки, — досказала она, предупредив его вопрос.
— Ведь вы, кажется, расписались перед войной, так почему же?…
— Да, расписались и… — Она горько усмехнулась. — Значит, вы ничего не знаете?
— Нет. Я почти год не получал писем от Мишки, а мать мне ничего не говорила.
— Да, мы расписались и уже… развелись, — сказала Ляля дрогнувшим голосом.
— Ни черта не понимаю! — грубовато выпалил Володька.
— Что здесь понимать? Идет война с Германией, а я, я оказалась замужем за немцем…
— Какой, к черту, Мишка немец!
— Он сам предложил мне развод…
— Где он сейчас?
— Вы и этого не знаете?
— Нет. Мне мать сказала, что они эвакуированы в Казахстан.
— Эвакуированы?… Это была не эвакуация, Володя. Он на Урале, в Сосьве, в трудармии. И ему там очень трудно. Там большинство настоящих немцев с Поволжья… Так вот, эти немцы не считают его своим, а для русских — он фриц. Понимаете — фриц! — Они долго молчали, затем Ляля продолжила: — Меня хотели исключить из института… я написала ему об этом, и он сразу прислал мне согласие на развод. Понимаете?
— Понимаю, — протянул Володька и скривил губы.
— Вы меня презираете? — еле слышно спросила она, вытирая слезы. — Он молчал, переваривая это, она добавила: — Бывают обстоятельства, которые сильнее нас, и ничего не поделаешь. Понимаете?
— Нет. Я с фронта, — Володька поднялся, но Ляля схватила его за руку.
— Погодите! Прочтите хотя бы его письмо!
— Давайте. — Она порывисто сунула ему конверт. Володька, не садясь, стал читать.
В Мишкином письме, на Володькин взгляд, не было ничего страшного. Ну, тяжелая работа на лесоповале, ну, нехватка питания (это везде), ну, угнетенное моральное состояние и прочее… Для Володьки, испытавшего во сто крат больше, все это не представлялось таким уж страшным. Он вернул письмо.
— Вы поняли — там ужасно, — прошептала Ляля.
— Все же это не фронт, — пожал плечами Володька.
— Да, конечно… Но для меня все это ужасно… Я буду ждать его. Во всяком случае, до конца войны…
Володька посмотрел на нее, сидящую перед ним, заплаканную, жалкую, и, процедив "прощайте", резко повернулся и пошел от нее.
Вернувшись домой, он сказал матери, что видел Мишкину Лялю.
— Она тебе все рассказала? — после некоторого молчания спросила она. Володька кивнул. — Я не хотела тебе говорить. Это случилось в октябре. Немцы подошли совсем близко… Видимо, это было необходимо… — не то полувопросом, не то полуутверждением закончила мать и посмотрела на него.
— Какой Мишка немец! Он по-немецки-то знал хуже меня.
— А ты помнишь, когда он получал паспорт, то не захотел записаться русским или поляком, по матери. А про это говорили ему и ты и я.
— Зачем ему было отказываться от своей национальности?
— Фашизм в Германии был уже в самом расцвете… — Она помолчала немного, потом сказала: — Мне очень жалко стариков, но в отношении Миши, по-моему, поступили гуманно.
— Гуманно?
— Да. Его — немца — не заставили воевать против немцев. И он останется живым. В этом смысле я могу только завидовать его матери.
Да, Мишка будет жив после войны, и все, что приходится ему сейчас испытывать, забудется… Здесь мать права, и Володька понимал — для нее судьба Мишки завидней, чем судьба ее сына…
* * *
А дни шли… Шли быстро, потому что были однообразны и похожи один на другой. После разговора с матерью он перестал ходить в кафе-автомат, да и наскучили как-то ему эти посещения. Если вначале ему хотелось сравнить "свою" войну с войной на других участках, с войной других, то вскоре он увидел, что война была более или менее одинакова — и на Западном и на Северо-Западном приблизительно было то же, что и на его, Калининском фронте.
Все чаще подходил он к книжной полке… Полистав Джека Лондона, он усмехался: неужели когда-то это могло увлекать, волновать, а герои служить примером для подражания?
Однажды он полез за чем-то в чулан и наткнулся взглядом на свой ватник. И то, что отбрасывал он от себя, старался забыть, — навалилось на него. Ясно вспомнилось, с каким чувством невозвратимой потери отмывал он свои руки, свой кинжал и ватник от чужой, но человеческой крови… То была черта, разделившая Володькину жизнь. После этого он стал другим и никогда уже больше не сможет стать прежним. Это необратимо. Он понимал, что это неумолимый закон войны и что он будет это делать, пока идет война, но этот ватник в его московском доме показался чем-то противоестественным, чужеродным.
Надо его выкинуть к черту или сжечь, подумал он, вытащил ватник и стал искать какую-нибудь тряпку, чтоб завернуть его, но тут пришла мать из магазина.
— Что ты собираешься делать? — спросила недоуменно, переводя взгляд с Володьки на лежащий ватник.
— Надо выкинуть, наверно, — смутился он.
— Что ты выдумал? Давай я отнесу к тете Насте, она отмоет эти пятна и, может быть, сумеет продать. — Она нагнулась и протянула руки к ватнику.
— Я сам. В какой квартире она живет, в первой? — Володька схватил ватник и направился к двери.
— Володя, — остановила его мать, — Володя… эти пятна… это твоя кровь?
— Конечно, мама, — поспешно ответил он.
* * *
Сергей не один раз звонил ему, но Володька почему-то под всякими предлогами отнекивался от встречи.
Но все же они встретились. Сергей был бодр, оживлен, крепко пожал Володьке руку, сказав, что у него здесь неподалеку есть квартирка — товарищ в эвакуации и просил присматривать. Там они смогут спокойно поговорить.
— Ну вот, располагайся, — сказал Сергей, когда они вошли в квартиру.
Он раскрыл портфель, достал бутылку пива, батон и небольшой кусок полукопченой колбасы.
— Хлебнем пивка, пожуем немного и решим все мировые вопросы.
— Так уж и все, — усмехнулся Володька.
— Как всегда, — весело ответил Сергей и вдруг посерьезнел. — Ты знаешь, Володька, по некоторым обстоятельствам у меня очень мало по-настоящему близких людей, но среди них — ты первый, а потому… Ладно, давай сперва пивка и закусим.
Он нарезал хлеб, колбасу, разлил пиво.
— А потому, сэр, мне очень важно, как вы относитесь ко мне сейчас.
Володька вздрогнул от неожиданности — не предполагал он, что Сергей спросит об этом напрямик. А тот смотрел на него пристально, в упор.
— Точнее, к тому, что я в Москве… Хотя ты и знаешь — у меня "белый билет" после ранения и осколок в ноге, — разъяснил Сергей, продолжая так же в упор смотреть на Володьку.
— У тебя семья, родился ребенок… Я понимаю, — медленно начал Володька.
— Ты знаешь, дело не в этом, — резко перебил Сергей и забарабанил пальцами по столу.
— Знаю… — опустил голову Володька.
— Так отвечай.
— Ты пошел на финскую… ради отца? — спросил Володька после долгой паузы.
— Не только. Хотя мне было нужно доказать… Да, доказать, что я не хуже других… Что воевать буду, может, лучше других. И ты видишь, — показал он на "звездочку", — зря ордена не дают.
— Это большой орден… боевой.
— Он не помог, Володька, — вздохнул Сергей. — Я бился во все двери. Стена. Понимаешь, стена. Если б получил Золотую звездочку, может, тогда?… Я хлопочу об отце и сейчас, но… — Он пожал плечами и снова вздохнул.
Они долго молчали, и только стук Сережкиных пальцев о стол нарушал тишину. Наконец Володька начал:
— Я понимаю… Но, Сергей, это же такая война… Решается судьба России быть ей или не быть?
— Нам ли с тобой решать судьбу России? Это наивно, Володька.
— А кому же ее решать? — Володька поднял голову и посмотрел на Сергея тот усмехнулся.
— По-моему, ты видел — воюют далеко не все.
— Сергей, нам должно быть плевать на этих "не всех".
— Что ж, значит, мне следует пойти в военкомат положить свой "белый билет" на стол и сказать — забирайте? Так, по-твоему? — Сергей перестал барабанить пальцами.
— Не знаю, Сергей… Я понимаю, идти во второй раз гораздо труднее.
— Дело не в "труднее", — резко выпалил Сергей. — Просто уже нет никаких иллюзий… — А потом совсем тихо добавил: — Моя Танюшка так мала…
Что мог сказать Володька, не представлявший совершенно чувства отцовства. Сергей опять забарабанил по столу и через некоторое время сказал:
— А может, мы свое уже отвоевали? — и напряженно уставился на Володьку.
Володька пожал плечами:
— Сергей, мне очень трудно поставить себя на твое место… А потому не считаю себя вправе ни осуждать тебя, ни оправдывать. Это для меня слишком сложно. Ты принимаешь такой ответ?
— Да. — Он взял Володькину руку и слегка пожал. — Мне совершенно наплевать, что думают обо мне другие, но мне было бы больно, если бы ты… ты считал меня трусом или… шкурником.
* * *
Когда вечером позвонила Юлька и попросила его прийти завтра к трем часам на Матросскую, Володька решил дочитать ее черную тетрадочку, которую он еще не дочитал, потому что слишком уж подробно было все в ней — "он сказал, я сказала"… Для Юльки все это было, наверное, значимо, а Володьке казалось скучноватым и чересчур наивным. И еще было смешно, что называла она своего типа — этот человек. Перелистав несколько страниц с любовными мерихлюндиями, он дошел до двадцать второго июня.
"Сегодня началась война! И первая мысль о Володьке! Он в армии и, хотя на Дальнем Востоке, непременно выпросится на фронт. Он такой, мой Володька! А об этом человеке совсем не подумала. Что же это? Значит, Володька все-таки мне дороже, значит, люблю-то я его, а не этого человека? В моей душе что-то непонятное, полный разброд. Надо немедленно написать Володьке! Но что? Как объяснить ему, почему не писала почти полгода? Господи, я совсем запуталась! Если Володька поедет на фронт, я должна быть тоже там. С ним. Обязательно!" Это "обязательно" было подчеркнуто тремя жирными чертами.
Опомнилась, усмехнулся Володька и стал листать дальше.
"Этот человек заболел и умоляет меня прийти к нему. Я долго колебалась, но пошла. Он лежал в постели, небритый и очень похудевший…" — тут следовало описание, какие у него были глаза, как нежно дотронулся он своей тонкой рукой до Юлиной щеки, каким трагическим голосом сказал: "Родная девочка, вот повестка, я иду на фронт. Я не боюсь, но знаю — меня убьют, и у нас только этот вечер и только эта ночь, если, конечно, ты согласишься остаться у меня…" Здесь у Володьки потемнело в глазах и похолодело в груди…
Вот гад, вот гад, шептал он про себя. В морду, в морду… Да нет, чего там в морду! Пристрелить такого! Он представил, как этот уже немолодой фрайер, видно, бабник и любитель зеленых девчонок, лезет к Юльке, а она отбивается от него своими маленькими кулачками. Адрес? Узнать адрес этого гада! Ох, как он его будет бить!
На этом и закончилась необыкновенная Юлькина любовь. И еще оказалось, что повестка из военкомата вранье, так как встретила его она через несколько месяцев в штатском.
Володька задыхался от ярости, которую нечем было разрядить. Впервые он ревновал Юльку, и это незнакомое ему прежде чувство вызывало в его душе целую бурю. Пусть не случилось главного, но совсем не невинна оказалась Юлькина любовь — были и обнимания, и всякие прикосновения, и поцелуйчики, и Володька шел на свидание с ней взбудораженный, злой и шел с одной целью узнать у нее адрес этого человека, которого он либо измордует до полусмерти, либо пристрелит, давить таких гадов, давить…
Таким и пришел он к казарме на Матросской, с перекошенным ртом, выпученными глазами и судорожно сжатым кулаком правой руки.
Ни в окнах, ни у проходной Юли не было. Володька стал сворачивать самокрутку — бумага рвалась, табак рассыпался, и он выругался про себя. Наконец-то Юлька появилась в окне, она разводила руками, стараясь жестами объяснить что-то Володьке, и показывала на проходную. Он пошел туда, открыл дверь.
— Пропуск, — строго спросил часовой, а потом улыбнулся: — Тебе, что ли, записка?
— Наверное, мне.
— Держи.
— Что вы их не выпускаете?
— Беда с этими девчонками. Пропускаем иногда, но вчера засыпалась одна. Стояла, болтала со своим парнем, а тут начальство, будь оно неладно. Ну, мой дружок, что на часах стоял, — на губе. Ясно?
— Чего неясного? Сам того же хлебова пробовал.
— Ну ты иди, на воле прочтешь. Ответ напишешь, приноси.
Володька перешел на другую сторону и стал читать записку.
"Вчера случилось ЧП, и теперь нас не выпускают. Еле-еле упросила вчера позвонить из канцелярии. Пишу тебе большое письмо обо всем, на днях получишь. Немного устала от однообразия нашей жизни. Уже научилась работать на коммутаторе (полевом). Вообще-то ничего сложного нет, особенно после института и высшей математики. Может быть, скоро станут пускать в увольнения, тогда увидимся и поговорим по-настоящему… А такие встречи мне тяжелы, да и тебе, наверно…"
Володька нацарапал на обратной стороне Юлиной записки только одно "пришли мне адрес этого человека". Передав записку часовому, он опять перешел к своему наблюдательному пункту. Минут через пять Юля показалась в окне и стала отрицательно качать головой… Адрес! — крикнул он, но Юлька все так же покачивала головой, и лицо ее было грустным, грустным.
— Ах, ты, значит, жалеешь этого типа, — пробормотал Володька, перенося сразу всю свою злобу на нее, — жалеешь… Ну, ладно. — Он круто повернулся, не сделав никакого прощального жеста, и быстро пошел от казармы.
Чтоб успокоиться и разрядить раздражение, пошел он пешком, быстрым и широким армейским шагом, и, погруженный в свои мысли, незаметно для себя вышел к трем вокзалам, а потом и на Домниковку. Мысли были такие: что ни говори, а Юлька изменила ему, пока он трубил службу на Дальнем Востоке, пока тянул тяжелую лямку в училище… Поцелуйчики, обнимания… Он себе такого не дозволял. Ну, не дозволял, может быть, слишком громко сказано, вернее, не было почти у него никаких возможностей, хотя… Те из ребят, кто уж очень к этому стремился, знакомились в увольнениях с девицами, а некоторые и с "боевыми подругами" командиров, заводили шашни в самом полку, были случаи. И на Володьку часто посматривала одна на танцплощадке, и ёкало у него сердце, но дальше танцев не пошло дело. И не из-за одной Володькиной робости, да и не был он робок, что-то другое удерживало его… И теперь душила его обида. Через месяц опять на фронт, а ничего-то он в жизни еще не видел, ничего не испытал. Сегодня же вечером иду к Майке, решил он твердо, а там будь что будет… Потом вспомнил про Егорыча, достал адрес — как раз через дом он живет. Завернул во двор.
— Эй, лейтенант, ко мне топаешь? — окликнул его Егорыч, сидящий на скамейке с двумя дружками-инвалидами.
— К тебе.
— Давай присаживайся. Сейчас мы тебя настоящей "моршанской" угостим…
Володька присел к инвалидам, завернул махорочки, задымили.
— Странно… — протянул Егорыч. — Смотрю сейчас на небо, чистое оно, без облачка, и ничего не опасаюсь, а на фронте…
— На фронте клянешь его в бога и в мать за то, что без облачка оно… пропитым басом досказал один из сидящих.
— Тоже воевали? — спросил Володька.
— Отвоевался. Как костыли куда-нибудь по пьянке задеваешь, так и прыгаешь воробьем -скок, скок. Там казалось — любое ранение, лишь бы не смерть, а сейчас ох как ногу жалко. Не вырастет же. На всю жизнюгу, до конца дней на одной прыгать…
— Что смурной такой? Не ходил? — Егорыч внимательно поглядел на Володьку, и тот понял, о чем тот спросил.
— Не ходил.
— И не ходи. Война все спишет… Ну, познакомить тебя с Надюхой? Она дома, кажись.
— Спит перед ночной, — уточнил второй инвалид.
— Разбудим. Бутылочка у меня есть.
— Давай знакомь, — вдруг решительно заявил Володька. — Войду в долю.
— Сегодня без доль — угощаю. Вот ежели не хватит и прикупать будем, тогда уж… Ну, пошли в дом.
Егорыч поднялся, безногий тоже, а другой дружок отказался почему-то. Прошли они в дом, поднялись на второй этаж по деревянной, дышащей на ладан лестнице, вошли в кухню, пахнувшую керосиновым чадом, вошли в комнатуху Егорыча, неприбранную, с незастланной постелью, с валяющимися на полу бутылками из-под пива, с остатками еды на столе.
— Садись, братва. Хоромы, как видите, не царские, но все ж не землянка стол есть, стулья есть, постель тоже имеется, — сказал Егорыч, доставая из крашеного, видать, самодельного буфета несколько кусков черняхи, несколько картофелин и завернутые в газетку кильки. Бутылка на столе уже стояла, ждала хозяина. Расселись быстро и тут же приступили. Разлили по граненым стаканам и махнули по половине. За победу, конечно. А за что могли пить бывшие бойцы в июне сорок второго? Разумеется, только за нее — за победу, до которой еще неизвестно сколько годков, но которая придет беспременно.
Вторую половину хлопнули за тех, кто там… И пошли, конечно, разговоры…
— Пей, братва! Что нам еще осталось, — разглагольствовал Егорыч. — Долг мы свой выполнили, кровушки пролили. А что немца до Москвы допустили, в том нашей вины нет. Наша совесть чиста. Верно, братва?
— Верно. Мы свое сделали. Теперь на одной ноге прыгать будем, — мрачно подтвердил одноногий.
— И так удивительно, что остановили, — продолжал Егорыч. — Гитлер, гад, все рассчитал. Он думал, что мужик-то наш коллективизацией не очень доволен, что не будет мужик особо здорово воевать, а мужика у нас — две трети России. А он стал! Да еще как! Откуда такой фокус, Гитлеру не понять, весь его расчет кувырком. А раз мужичок стал воевать, немцу рано или поздно капут… Тут уж, братцы, народ…
— Ты что ж, рабочий класс за народ не считаешь? — вступил обезноженный.
— А много ли его, рабочего класса? Не так уж. В пехоте-матушке кто? В основном — мужичок из деревни. А в пехоте вся сила. Хоть ей без техники, конечно, тяжело, но и технике без нее — труба.
Володька развалился на стуле, покуривая, и с интересом слушал Егорыча, как слушал всегда на фронте рассуждения бойцов. Ох, как порой умно говорили, метко, в самое яблочко, в самую суть попадали… Народ всё понимал. В этом Володька уверился на фронте окончательно. Это на собраниях жевал он резину, говоря трафаретные слова, а между собой… Послушать бы кой-кому.
Разговор на время иссяк, сделали перекур и молча потягивали пивко, несколько бутылок которого оказалось у Егорыча в НЗ, и в наступившей тишине ясно послышался какой-то шум в соседней комнате.
— Надюха! Не спишь? Заходи пивка выпить, пока осталось, — крикнул Егорыч.
— Не хочу, дядя Коля, — раздалось в ответ.
— Заходи. Один человек познакомиться с тобой хочет.
— Какой такой человек?
— Лейтенант один. Фронтовичек.
— Это мне без интересу. Вы бы лучше, дядя Коля, мне такого нашли, которого на войну не возьмут.
— Ладно, заходи. Нечего ломаться, а то пиво допьем.
Дверь приотворилась, и выглянула девушка с заспанным лицом, но веселыми, смеющимися глазами.
— Дай погляжу, что за человек, — сказала она и смело глянула на Володьку. — А вроде ничего лейтенантик, — усмехнулась, прикрыла дверь и уже оттуда добавила: — Сейчас зайду.
— Ну, как девка? — спросил Егорыч.
— Не разглядел, — ответил Володька.
— Не разглядел! Ты, парень, случайно в одно место не контуженный? Мне бы твои годки — я бы разглядел. Мне бы на это времени много не потребовалось.
За стеной фыркнули… Володька чуть смутился, а Егорыч продолжал:
— Если в это место контуженный — скажи сразу. Не будем девку обнадеживать, — засмеялся он, а Володька смутился еще больше, так как из-за стены опять насмешливо фыркнули.
Минут через десять вошла Надя, чуть подмазанная, переодетая в другое, более нарядное платьице. Села, взглянула усмешливо на Володьку и прыснула смехом. Егорыч налил ей пива, подвинул стакан.
— Володимир, может, сообразим еще? Я достану, только по коммерческой, спросил Егорыч.
— Давай. — Володька зашелестел тридцатками. — Сколько нужно?
— Половину я, половину ты. Двести пятьдесят.
— Держи.
— Ну, я моментом, — схватил Егорыч деньги и заторопился.
Надюха была, наверное, Володькиных лет, но казалась взрослее, держалась уверенно, чуть небрежно, видно, зная себе цену и не особо придавая значения знакомству, а Володька, наоборот, стал вдруг скован, робок, как обычно, когда ему приходилось ухаживать за простыми девушками. Не знал, с чего начать разговор и о чем говорить. И он пока молчал, не оправившись еще от смущения, в которое привел его Егорыч своими подковырками.
Надя тоже молчала, только дрожали губы в усмешливой полуулыбке.
— Ну, чего молчишь, лейтенант? Не понравилась я тебе? Или вправду дядя Коля о контузии сказал?
Безногий, уже порядком осоловевший, приоткрыл глаза и грохнул хриплым смехом. Залилась и Надюха.
— Да нет, ты ничего… — промычал Володька наконец.
— Ничего? Тоже мне комплимент! — играя глазами и деланно возмущенно ответила она. — Знаешь, лейтенант, мне же таких вот залетных не очень-то надо…
— И мне не очень-то ты нужна, — разозлившись, ляпнул Володька.
— А ты с норовом жеребчик, — рассмеялась она и хлопнула его по плечу. Ладно, пошутили, и хватит. В отпуску ты или отмучился совсем?
— В отпуску, — хмуро ответил он.
— Когда обратно-то?
— В начале июля.
— Не много гулять тебе осталось, лейтенант… — посмотрела на него жалостливо и вздохнула Надюха.
Тут вернулся Егорыч, со стуком поставил бутылку на стол, начал разливать.
Безногий накрыл свой стакан ладонью.
— Пойду я, Егорыч… Мне теперь много пить нельзя. С твоей лестницы спускаться — как бы последнюю ногу не сломать… — Он тяжело поднялся, оперся на костыли и заковылял к двери. — Бывайте…
— Страшно обратно-то? — спросила Надя Володьку.
— Как тебе сказать…
— Ты кого спрашиваешь? — вступил Егорыч. — Ему страшно! Не видишь ли, что на груди у него? "За отвагу"! А за что, спросила? За разведку! А в разведке что главное? Смелость да сноровка. Я тебя с каким-нибудь тыловичком знакомить бы не стал…
— Хватит, Егорыч, — прервал его Володька, хотя пьяные похвалы приятно ложились на душу.
Надя опять посмотрела на Володьку, опять вздохнула.
— Жалко мне всех вас, — задумчиво произнесла она. — И себя жалко … Перебьют вас всех на этой войне…
— Для тебя останется кто-нибудь, Надюха, — сказал Егорыч. — Я тебе полный наливаю — штрафную.
— Наливай, — безразлично ответила она, взяла стакан, подняла. — За тебя, лейтенант, чтоб живым остался…
— Поехали, — ударил Егорыч по стаканам.
Помнил Володька, что еще два раза шарил он по своим карманам, выгребая последние уже тридцатки, а Егорыч бегал куда-то, а пока его не было, Надя брала его голову в свои руки, притягивала к себе и как-то задумчиво, медленным, долгим поцелуем целовала его в губы, потом отодвигалась, глядела в лицо затуманенными глазами и шептала:
— Жалко мне тебя, лейтенант, жалко…
Затем приходил Егорыч, и опять глотал Володька водку под какие-то, казавшиеся очень важными, разговоры…
— Ты не смотри, что он молоденький такой на вид, — шумел Егорыч. — Он ротой командовал. Понимаешь — ротой. Это сто пятьдесят гавриков. Поняла?
— Поняла, — лениво отвечала Надя. — Только целоваться не умеет герой-то твой… — Володька возмущался и уже не стеснялся Егорыча.
— Умею, — тянулся он губами к Надюхе, но та отталкивала его ласково, мягко и только тогда, когда отправлялся Егорыч в очередной рейс за водкой, целовала Володьку сама теми долгими, неспешными поцелуями, от которых Володька терял голову…
Очнулся он в незнакомой темной комнате на разбросанной постели.
— У меня останешься или домой пойдешь, — спросила Надя, стоя у зеркала и причесываясь. — Я на работу собираюсь.
Володька протирал глаза, ничего еще не понимая.
— Я у тебя?
— А где же тебе быть? Кого ты стрелять идти собирался? Еле удержали тебя с Егорычем. Ну, если пойдешь — вставай, а если останешься — спи. Я около девяти утра приду…
— Нет, я пойду, — вскочил Володька и стал поспешно одеваться.
— Ну вот, — задумчиво протянула она. — Может, вспомнишь меня когда… Там, где около смерти будешь… Полстакана у тебя осталось, допей, если хочешь.
Володька зачем-то нашарил рукой стакан на столе и выпил с отвращением. В комнате было почти темно, и Надино лицо неясным пятном белело перед ним.
— Как работать буду? — вздохнула она. — Ну, оделся?
— Да.
— Ну, прощай тогда, — Она протянула руку, провела по его щеке, а затем тихонько подтолкнула его к выходу…
* * *
На другой день утром мать вошла к нему в комнату, когда он еще лежал с трещащей головой и пересохшим ртом.
— Я иду на рынок, Володя. Дай мне деньги, у меня уже ничего не осталось.
— Сейчас, мама, — сорвался он с постели и бросился шарить по карманам брюк и гимнастерки — денег не было. Несколько смятых пятерок и одна красненькая тридцатка — вот все, что осталось после вчерашнего "пускания лебедей". — Мама, я совсем забыл. Я дал вчера взаймы одному товарищу. На днях мне отдадут…
— Ну, хорошо, тогда я не пойду на рынок, — сказала мать и вышла из комнаты, прикрыв дверь.
И по тому, как она это сказала, и по тому, что даже не заикнулась о вчерашнем — а пришел он поздно и сильно пьяным, — он понял — мать расстроена и недовольна очень.
Первой мыслью, мелькнувшей в его тяжелой голове, было позвонить Сергею и попросить у него тысячу, но он ее отбросил — не годится. Но что же придумать? Что? Покрутившись с боку на бок в постели еще несколько минут, Володька понял, что другого придумать ничего нельзя — надо из автомата позвонить Сергею.
Завтракать он не мог, лишь выпил залпом два стакана чаю. Мать смотрела на него удрученным взглядом, который был для него хуже, чем любой самый крупный и неприятный разговор.
— Больше этого не будет, мама, — сказал он твердо, отставляя от себя стакан. — И на днях я верну деньги.
— Дело не в деньгах, Володя. Я в первый раз увидела тебя таким. И не хочу больше. Понимаешь?
— Да, мама…
Вернувшись в свою комнату, он бухнулся на постель… Несколько раз всплывали в памяти Надюхины слова, сказанные грустно, с каким-то вроде сожалением: "Я у тебя первая, видно?", "Что ж, нету у тебя в Москве девушки, с которой…". Словно и ей, Надюхе, из жалости подарившей себя ему, было неловко, что совершил он это спьяну, без любви, с совсем незнакомой женщиной, просто попавшейся под руку, будто и она понимала, что не годится так… А почему "будто"? Конечно, понимала, хотя ей самой уже не для кого беречь себя…
И получилось все это слишком просто, как-то безрадостно, совсем не похоже на его сны, а особенно на последний, в котором снилась Майя… И непонятно Володьке, почему от реального не получил того, что ожидал, что предвкушал, что было так необыкновенно во сне, почему лежит на душе мутный осадок какого-то сожаления о чем-то утраченном, потерянном навсегда, чем-то — только гораздо слабее — напоминающем то, что было после "случая" с немцем?…
Конечно, легче всего было свалить все на Юльку. Будь она с ним — этого не случилось бы. Не прочти он ее тетрадку, не взревнуй ее к "этому человеку" — не пошел бы к Егорычу, не стал бы знакомиться с Надюхой. Но таким мыслям Володька ходу не дал. Никогда не искал он себе оправданий за счет других.
Чтобы как-то отвлечься, оглядел он опять свою книжную полку и наткнулся взглядом на "Огонь" А. Барбюса. Читал он эту вещь еще до армии, но она оставила его почти равнодушным, но сейчас, раскрыв книгу, он уже не мог оторваться — это была война, страшная война, густо замешанная на деталях фронтового быта, война без романтики… Серые, жуткие, непроглядные будни войны, и, казалось, запах тлена шел со страниц этой повести… Да, это была правда войны, но не полная правда, как подумалось Володьке, потому как его война была иной. Иной в главном, в том пронизывающем всех их ясном и огромном чувстве понимания справедливости этой войны. Оно-то и помогало им всем выдерживав и превозмогать то нечеловеческое, присущее любой войне.
Именно это и заставляло хорошо воевать даже тех, кто в какой-то мере был обижен и на которых, вероятно, и возлагали надежды немцы. Володьке вспомнился один боец из его роты, раскулаченный в свое время под горячую руку середняк с Поволжья, который прямо говорил ему: "В том, что моя жизнь порушена, Россия не виновата. Это с нашей местной властью у меня есть счеты, а с Россией нету. И вы, командир, на меня положиться можете, не хуже, чем на кого другого. Вот победим немца, авось разберутся…"
В кафе-автомат Володька больше не ходил — надоело. Не хотелось ему и на улицу. Только вышел позвонить Сергею. Тот сразу же согласился дать Володьке тысячу и, казалось, был вроде рад, что может оказать Володьке какую-то услугу. Они встретились на ходу — Сергей спешил на работу — около Колхозной, и денежный вопрос был решен — Володька отдал деньги матери.
Потом он целые дни валялся на кушетке и думал… А думать было о чем. Во многом нужно было разобраться ему.
Плетясь вместе с другими ранеными рядовыми бойцами с передовой в госпиталь, слушая их рассуждения о войне, рассказы о том, что довелось испытать им на разных участках, их соображения насчет действий их командиров, Володька начинал понимать: если звание и должность давали ему право распоряжаться чужой жизнью, то он должен быть осмотрителен и осторожен, потому что все эти люди не глупей его и не хуже, а может быть, в чем-то и лучше разбираются во многом, так как старше его по возрасту и по жизненному опыту.
И что не всегда его решения были уж так правильны, обдуманны, как следовало бы.
В общем, вторая половина его отпуска началась томительными раздумьями. Он без конца прокручивал в голове Ржев, и мать, видя, как шагает он из угла в угол комнаты, все беспокойней поглядывала на него, пока наконец не сказала:
— Быть может, Володя, тебе нужно прогуливаться по улицам и заходить иногда в этот автомат с пивом?
— Мне не хочется и туда… Я думаю, мама…
— О чем?
— О многом … Дни-то бегут, а мне надо многое решить. Знаешь, мама, я обдумываю сейчас все, что было со мной подо Ржевом, и мне начинает казаться: в прозвище "лейтенант Володька" была, пожалуй, не только солдатская ласковость, но и другое…
— Что же?
— Некоторая снисходительность, что ли. Хоть ты и лейтенант, а все-таки Володька, то есть мальчишка еще. Знаешь, мои ребята одним словом определили мою тогдашнюю суть.
— Очень хорошо, что ты понял это сам.
— Ты поняла раньше?
— Да, наверно… — Она взглянула на него, ожидая продолжения разговора, но Володька отвернулся, уйдя опять в себя.
Да, очень точно определили ребята его суть, думал он, все больше начиная понимать, что, наверно, не заковыристым матом и бездумной лихостью, не небрежением к опасности, чем иногда щеголял он, можно и надо заслужить уважение людей, а чем-то совсем другим — может совсем обратным: осторожностью, тщательной продуманностью всех своих действий и решений, так как за ними человеческие жизни…
Иногда, устав от размышлений, прерывал он свои внутренние монологи горькой усмешкой: ну чего голову ломать? Через несколько недель может все кончиться. Можно ведь и до фронта не доехать, попав в "хорошую" бомбежку в эшелоне… Так чего же мучить себя? Не лучше ли, как Егорыч, — пузо набил, стопку выпил, и на боковую? Или еще лучше — двинуть на Домниковку, а там, прижимая горячее Надюхино тело, забыться, отдаться естественному чувству обреченного, вырвать от жизни напоследок все, что она может тебе дать в настоящую минуту, и не думать ни о чем?
Но не чувствовал себя Володька обреченным. Не чувствовал даже там, подо Ржевом, когда казалось — уже все, каюк, не выйти живым. Тем более не мог считать себя обреченным сейчас, находясь в Москве, в собственной комнате… Потому-то и продолжал размышлять, анализировать, чтоб в будущем не допустить тех ошибок и недогадок, которые случались подо Ржевом.
Однако Володьке был всего двадцать один год, и продолжаться такое состояние долго не могло. Однажды, убирая свою комнату, наткнулся он на обрезок трамвайного рельса, служивший ему до армии вместо гири. Было в этом обрезке пуда полтора, и поднимал он его правой до тридцати раз, а левой даже чуть больше. И вот попробовал и выжал правой еле-еле пятнадцать. Это его обескуражило. Надо входить в форму, подумал он. И хотя физическая сила пригодилась ему на фронте только один раз, при взятии "языка", он любил ощущать себя сильным, любил выходить победителем в мальчишеском состязании перегибания рук, которым они увлекались в школе после прочтения джек-лондонского "День пламенеет".
И теперь, позанимавшись до завтрака рельсом, отправлялся он бродить по московским улицам, делая большие — километров до десяти — круги по Москве, и в этом вроде бы бесцельном хождении стал находить удовольствие и какое-то успокоение. Рана в предплечье почти затянулась, и было уже не больно сжимать и разжимать кисть, и, бродя по улицам, он исподволь тренировал руку… Ходьба все-таки какое-то дело — помаленьку вносила душевное равновесие, и Володька начал оттаивать.
Так было до получения большого письма от Юльки, в котором она путано и несвязно старалась объяснить ему, почему она не хочет его встречи с "этим человеком", и просила прийти в воскресенье к училищу — может, она вырвется на минутку и объяснит ему все подробней.
Володька знал, что врать он не умеет и что по выражению его лица Юлька сразу догадается о том, что произошло на Домниковке. Но не идти было нельзя, и в воскресенье он потопал пешком на Матросскую Тишину.
Юлька не вырвалась, и он стоял вместе с другими, пришедшими навестить своих, напротив казармы и видел только Юлькино лицо среди остальных девичьих лиц, высунувшихся в окна. Он махал рукой, пытался что-то кричать, но в шуме других голосов не разобрал, что кричала ему Юлька, а она тоже вряд ли поняла, что выкрикивал ей он…
Возвращаясь домой, Володька поймал себя на ощущении, что он совсем не расстроен несостоявшейся встречей, а даже несколько рад, и тут впервые замаячил перед ним вопрос: а любит ли он Юльку?
* * *
А дни бежали… Каждый раз, когда шел он на перевязку, проходил Володька мимо дома Толи Кузнецова, приостанавливался, поглядывал на окна, закуривал, и сдавливало сердце тяжестью, будто виноват он в чем-то, что живым проходит мимо дома, в который уже никогда не вернется Толя… И заставить зайти себя в этот дом он пока не мог. Ладно, к концу отпуска, успокаивал он себя, обязательно зайду. На конец отпуска отложил он и посещение жены сержанта.
В поликлинике пожилой врач, все еще не получивший писем от сына, встречал Володьку тревожным, беспокойным взглядом, и Володьке было неловко, что своим приходом он поневоле наталкивал врача на мысли о сыне, доставляя тем самым боль. По дороге обратно кидал он взгляд на свою бывшую школу, на прибольничный садик, и тут уже кололо виной вполне понятной, виной перед Юлькой за случившееся на Домниковке.
В один из вечеров пришло письмо на имя матери. Она пробежала его глазами, почему-то разволновалась и сунула письмо в карманчик фартука.
— От кого? — спросил Володька.
— Письмо? Да так… неважное. От сослуживицы из эвакуации… — неуверенно ответила мать.
— Что же ты разволновалась?
— Я не разволновалась… Почему ты решил? — сказала она и отошла.
Но поздно вечером, перед тем как лечь спать, мать вошла к нему в комнату.
— Володя… Я солгала тебе. Правда, это письмо действительно мне. Но оно для тебя.
— Откуда? — удивился Володька.
— Оно из твоей бывшей части, — ответила она и чуть дрожащей рукой передала письмо.
Писал помощник начштаба Володькиного батальона лейтенант Чирков, скромный человек, приходивший к ним на передовую — нужно не нужно — каждый день, твердивший Володьке про неубранные трупы, про невыкопанные окопы, про небритые лица бойцов… Писал он, что бригаду отвели на отдых и формирование (наконец-то!) не очень-то далеко от тех мест, где воевали, и если мать лейтенанта такого-то имеет связь с сыном, то пусть сообщит адрес госпиталя или перешлет это письмо туда. Может быть, он захочет вернуться после излечения в свою часть. Он-де, Чирков, сейчас занимает должность начштаба и хочет по возможности собрать старый состав средних командиров, проверенных уже в боях и имеющих опыт.
Володька прочел, задумался, опустив голову и ощущая на себе пристальный и тревожный взгляд матери.
— Разумеется, ты ответишь сам? — спросила она.
— Да, отвечу.
— Что? — В голосе матери чувствовалось напряжение.
— Мне не хочется туда возвращаться, — медленно проговорил он, вспомнив их первое наступление — неподготовленное, без разведки, с ходу, и даже поежился от пробежавшего по телу холодка.
Вспомнилось и обострившееся, посеревшее лицо ротного, доказывающего помкомбату, что без артподготовки днем наступать нельзя, что нужно перенести на раннее утро, чтоб неожиданно навалиться на спящего еще немца… А потом встал в ушах его голос и слова: "Надо, Володька, надо…", — и как подтолкнул его ротный, и в этом легком ударе была какая-то отеческая ласка и просьба о прощении, что посылает он Володьку на трудное, почти невозможное, почти на верную смерть… Но смерть пришла к самому ротному, пришла через несколько минут боя, а через три часа Володька первый бросил ком земли в неглубокую ямку, в которую уложили старшего лейтенанта.
Но, несмотря на всю тяжесть всколыхнутого письмом Чиркова, обдало Володьку и чем-то теплым — помнят, значит, его в батальоне, хотят, чтоб вернулся. Значит, не так уж плохо воевал он там.
* * *
Прошло уже больше половины Володькиного отпуска. Бродя каждый день по Москве, попал он однажды к Рижскому вокзалу и решил оттуда пройти в Сокольники тем путем, каким ездили они когда-то на велосипедах — он, Солька Галин и Левка Итальянцев… Солька служил срочную на западе и убит в первых же боях, Левка же закончил военное училище перед самой войной и где-то воюет.
Проходя мимо Пятницкого кладбища, где захоронен его дед, умерший в тридцать шестом году, вспомнил, как не мог заставить себя при последнем прощании поцеловать лоб покойника, как мучился от этого, не представляя, конечно, что всего через шесть лет будет он черпать котелком воду в двух шагах от лежащего трупа, как однажды ночью привалится головой куда-то, а утром увидит, что привалился он на грудь мертвого немецкого солдата, и что это не будет вызывать у него ни страха, ни отвращения.
Уже почти перед самыми Сокольниками надо было переходить Окружную железную дорогу, но пришлось остановиться около переезда: медленно полз воинский эшелон. У раздвинутых дверей "телятников" стояли красноармейцы, но не такие мальчишки, кадровики, из которых состояла их бригада, а постарше, видать, из запаса. Были и совсем пожилые: на Володькин взгляд, у тех лица были пасмурны и сосредоточенны — они-то понимали, куда едут и что их ждет. А в Володькином эшелоне, когда они проезжали Москву, горланили ребята песни, подмаргивали женщинам и думали, что ждет их впереди что-то интересное, ждут подвиги необыкновенные, и что их бригада погонит немцев к чертовой матери от Москвы…
Поезд остановился, и один из немолодых бойцов, глядя на Володьку тоскливыми глазами, спросил:
— Отвоевался, что ли, насовсем, браток?
— Нет, в отпуску.
— Значит, скоро опять?
— Да.
— Как немец-то сейчас? — Тут повернулось к Володьке несколько человек в ожидании ответа.
— Слабеет немец… Не тот уж, — улыбнулся он ободряюще.
— Не тот, а убивать убивает, — засмеялся кто-то невесело.
— Убивает… — подтвердил Володька.
Эшелон тронулся. Володька махнул ребятам рукой, те вяло ответили. И вдруг крик:
— Командир! Командир!
Володька вздрогнул от знакомого голоса, вскинул голову — из предпоследнего вагона свесился сержант Буханов…
— Буханов! — крикнул Володька и бросился за вагоном.
Буханов протягивал руку, и Володька схватился за нее. Сердце билось, горло свело спазмом.
— Живой, лейтенант… живой, — сдавленным голосом бормотал сержант, а на глаза навернулись слезы. — Как там наши?
— Нет наших… Одиннадцать оставалось, когда меня ранило.
Володька бежал все быстрей, не отпуская руку Буханова, и не было для него сейчас на свете родней человека.
— Ребята, это ротный мой, — объяснял Буханов бойцам в вагоне. — Подо Ржевом бедовали вместе… Лейтенант! Жратвы надо?
— Да нет, что ты…
— Погоди, — вырвал руку сержант. — Сейчас я, сейчас… Ребята, давай скидывайся, кто что может… ротному моему. — И полетели на землю пачки махры, банки консервов, концентратов. Володька не подбирал, а все еще бежал за эшелоном, крича задыхающимся голосом:
— Живым желаю, Буханов, живым… На какой фронт едете?
— Не знаем… Ну, бывай, командир. Век тебя не забуду.
— Я тоже.
— Сколько гулять осталось?
— Мало.
— Я два месяца провалялся. Под Москвой в госпитале был. Ну, бывай, командир, может, встретимся еще… Бывай…
— Живым желаю… Живым, Буханов…
Эшелон набирал скорость, и Володька отставал все больше и больше, наконец остановился, помахал рукой и, когда эшелон уже отошел далеко, побрел обратно, подбирать гостинцы от Буханова и его ребят.
И так его тронула эта негаданная встреча, что долго не мог успокоиться, долго тер глаза рукой, долго откашливался, глядя вслед эшелону. Только две недели пробыли они вместе, но какие! Самые первые, самые кровавые… Вспомнил, как не хотел сержант уходить с поля, несмотря на ранение, как почти силком, отчаянным матюгом заставил его Володька ползти обратно. И как-то не по себе стало ему, что Буханов уже едет туда, а он, Володька, припухает пока в тылу…
Он распечатал пачку моршанской, поднял с земли обрывок газеты, завернул махры, и ее дым, едкий, продирающий горло, вернул его опять туда, в разбитую, изломанную рощу, где происходило самое главное в его короткой жизни. Посидел, покурил, поглядывая в сторону скрывшегося уже из глаз эшелона с сержантом Бухановым, хорошим русским бойцом, с которым бок о бок провел он самые страшные, еще непривычные дни на передке, и с которым вряд ли судьба сведет его еще раз.
Возвратившись домой, Володька вытащил из карманов свои "трофеи" и рассказал матери о встрече. Она долго растроганно молчала, глядя на него влажными глазами, а потом спросила:
— Значит, любили тебя твои бойцы?
— Вроде… — немного небрежно ответил он.
— Для меня это очень важно Володя, — серьезно сказала мать.
А для Володьки важным в этой встрече было другое: он уже реально представил конец своего отпуска, что через восемнадцать дней ждет его дальняя эшелонная дорога, перестук вагонов, протяжные гудки паровозов, отчаянные крики "Воздух!", вой пикирующих на эшелон самолетов, взрывы и треск пулеметных очередей.
* * *
А дни шли… И Володькины прогулки по Москве наполнялись грустью скорого расставания. Он уже прощался с родными московскими уличками, переулками, по которым бродил, может, в последний раз…
Но кроме грусти, томило его чувство чего-то несостоявшегося, так и не свершившегося за время его отпуска. Может быть, какой-то необыкновенной встречи? Да, пожалуй… И, бродя по улицам, он ловил себя на мысли, что он все время чего-то ждет, ждет… И это ожидание чего-то было приятным.
Как-то раз, проходя мимо сада "Эрмитаж", он решил заглянуть. Не так уж часто заходили они сюда школьной компанией — ближе был парк ЦДКА, да и публика в "Эрмитаже" была чересчур нарядная, и они в своих ковбоечках и парусиновых ботиночках чувствовали себя здесь довольно скованно, но помнил он, как еще при подходе к саду доносившаяся оттуда музыка наполняла душу праздничностью, ожиданием каких-то необычных встреч, и входили они туда всегда с каким-то трепетом.
Сейчас сад был почти пуст. В шахматном павильоне двое мальчишек играли в шахматы. На скамейках парами сидели девчонки с учебниками в руках, видно, зубрили.
Володька присел на скамейку, закурил. Если бы месяц тому назад кто-нибудь сказал ему, что этим летом он будет в "Эрмитаже", он даже не смог бы рассмеяться тому в лицо, настолько это было невероятно, немыслимо. Но вот он сидит на скамейке, рядом, отрываясь на время от зубрежки, смеются девушки, и над ним чистое голубое небо, лениво шелестят кронами деревья, из репродуктора льется какая-то музыка… И опять на миг ему показалось, что либо сон это, либо сном был Ржев. Совместить вместе это невозможно. Он прикрыл глаза, вытянул ноги. И вдруг внезапно, совсем близко — залпы зениток! Девчата взвизгнули и куда-то побежали. Володька тоже поднялся и пошел из аллеи, где деревья мешали видеть небо.
На площадке около кинотеатра несколько человек стояли, задрав головы, маленькая золотистая точка немецкого самолета очень медленно плыла среди облачков разрывов.
Никакого страха Володька не обнаружил на лицах людей, только некоторое любопытство, да и то не очень сильное. Видимо, для москвичей это было обычным и совсем не страшным. Да и чего бояться какого-то одного прорвавшегося самолета такому огромному городу! Самолет-разведчик уходил, ближайшие зенитные батареи, наверно, те, что на площади Коммуны, перестали вести огонь, и хлопки зениток уходили все дальше.
— Это вы, лейтенант Володька?
Он обернулся: около него стояла Тоня и серьезно, без улыбки смотрела на него.
— Здравствуйте, — смутился Володька поначалу, вспомнив свое поведение в "коктейле".
— Надеюсь, вы больше не носите пистолет в кармане и вас можно не бояться? — Володька как-то растерялся, не зная, что ответить, но потом нашелся:
— Вы, наверно, ждете извинений?
— От вас? О, нет, — слегка усмехнулась Тоня. — Мой Витька, наверно, поступил бы так же… Они немного помолчали.
— Я почему-то была уверена, что встречу вас, — наконец сказала она. — Как вы проводите отпуск? Сколько вам еще осталось?
— Пятнадцать дней.
— Только пятнадцать! — воскликнула она.
— Да.
Они опять немного помолчали. Тоня задумалась, будто решала что-то для себя, потом подняла на него глаза и спросила с деланным равнодушием:
— Что вы делаете сегодня вечером, лейтенант Володька?
— Ничего.
— Заходите ко мне. Будет несколько моих подруг с приятелями. Игоря, конечно, не будет, — добавила она, заметив, что Володька в нерешительности. Я живу на Пироговке. Запишите…
— К каким часам прийти? — Согласился он сразу, потому что длинные вечера наедине с матерью были не очень-то веселы.
— Часам к шести. Вы же знаете, комендантский час…
— Хорошо, я приду. Спасибо.
— Ну тогда до вечера, — улыбнулась Тоня слегка и взглянула на него каким-то странно-задумчивым взглядом, от которого у Володьки почему-то екнуло сердце.
Он сразу же, вслед за Тоней, вышел из сада и быстрым шагом направился домой — надо успеть пообедать, погладить брюки и вообще привести себя в надлежащий для гостя вид. Матери он сказал только, что он приглашен, но к кому — умолчал; так, одни знакомые.
Дом на Пироговке он нашел без труда, но, войдя в парадное, был остановлен строгой старушкой-лифтершей.
— К кому?
Володька растерялся. Тониной фамилии он не знал.
— Меня пригласили… Квартира шестнадцать… Тоня.
— Проходи, знаю… Кто головы на фронте ложит, а у кого гулянки кажинный день, — пробурчала старуха.
Володька поднялся по широкой и чистой лестнице, чему удивился — не до уборок было домоуправам в ту пору, — и позвонил в единственный звонок, около которого не висело никакого списка жильцов. Значит, квартира отдельная, подумал Володька.
Открыла ему Тоня в нарядном платье, радостно улыбнулась ему, провела в прихожую с огромным, во всю стену зеркалом, а потом и в большую комнату, показавшуюся ему чуть ли не залой.
— Это Витькин товарищ с Калининского фронта. Лейтенант Володя, — соврала Тоня без всякой заминки, видимо, отрепетировав заранее, представляя его двум девицам и двум парням, сидящим за столом.
— А Игоря разве не будет? — протянула одна из девиц.
— Не будет, — отрезала Тоня. — Садитесь, Володя.
— Тогда, может быть, приступим, — поднялся рыхлый, полноватый парень в очках и поднял руку. — Тогда за здоровье новорожденной!
Володя смутился, что пришел без подарка, и пробормотал:
— Почему вы не сказали, Тоня…
— Ребята, — не обратила она внимания на его слова. — Володя учился в нашем институте.
"Да? Когда?" — посыпались вопросы, и Володьке пришлось признаться, что учился он всего пятнадцать дней в сентябре тридцать девятого.
— Все равно он наш, — заявила Тоня.
Накрытый стол удивил Володьку не военным, не по времени изобилием, хотя ничего особенного и не было. Но все же это насторожило Володьку.
Но начались тосты за новорожденную, за победу, за Тониного брата Витьку, за всех, кто на фронте, и даже за него, Володьку, и он примирился и с сытыми лицами присутствующих, и с их хорошей одеждой, с обилием еды, что поначалу ударило резким контрастом с собственным домом, а тем более с халупой Егорыча.
Архитектурный институт был до войны моден, конкурсы были большие, поступить было трудно, так как требовался грамотный рисунок, и поступали в него большей частью ребята из обеспеченных семей, имеющих возможность нанять преподавателя и подготовить своих отпрысков. Видимо, и Тоня, и ее друзья были из таких семей… Ну, а очкарика не взяли в армию из-за зрения, а второго, может быть, еще из-за чего-нибудь, хотя на вид он был вполне здоров. В общем, Володька подавил в себе неприязненные чувства, появившиеся поначалу, а после большой рюмки водки настроился благодушно, правда, только до тех пор, пока очкарик не заявил авторитетным тоном, что Москву осенью спас случай… Володька хоть не участвовал в битве под Москвой, но знал, какое это чудо и какой случай — по пояс в снегу, в лютые морозы шли бойцы в атаки с одной мыслью: отогнать немцев от города. Он нахмурился, скривил губы и сузившимися глазами достаточно выразительно посмотрел на очкарика, и Тоня, настороженно следящая за ним, очевидно опасаясь такой же вспышки с его стороны, какая случилась в "коктейле", сразу же подошла к нему, взяла за руку.
— Пойдемте, Володя, я покажу вам Витькины фотографии. Вам будет интересно, — сказала и увела его в другую комнату, наверное, кабинет отца, где стояли большой письменный стол, кожаный диван, два кожаных кресла, а на стене висели две скрещенные шашки с именными пластинками на ножнах.
— Вам не нравится у меня?
— Зачем говорить то, чего не знаешь, — хмуро произнес он.
— Не обращайте внимания. Он неплохой мальчик, только считает, что должен иметь собственное мнение, в корне отличающееся от мнения других. Садитесь.
Володька опустился на диван. Тоня стояла напротив и смотрела на него пристально, и опять от ее взгляда у него екнуло сердце. После недолгого молчания она сказала:
— Вы все еще не можете представить, как можно веселиться, когда там, на фронте… Да?
— Нет. Я уже понял — жизнь есть жизнь…
— Расскажите что-нибудь… о фронте, — попросила она.
— Вы ждете романтических эпизодов? — усмехнулся Володька.
— Нет. Я немного представляю, что такое война. Мой отец военный. Он рассказывал…
— Ну, ваш отец видел войну, наверное, с другой точки, — взглянул он на шашки. — Не из окопа.
— Вообще-то да. Но ему приходилось выходить из окружения, и он бился вместе с красноармейцами. Что же видели из окопа?
Володька вынул из кармана папиросы, долго разминал в пальцах беломорину, потом нехотя ответил:
— Не то, что вам в кино показывают…
Тоня улыбнулась, а затем как-то застенчиво коснулась Володькиной руки.
— Я вижу, вам очень досталось подо Ржевом, лейтенант Володька, прошептала она и уже смелее провела пальцами по его руке.
И искренность ее тона, и поглаживание по руке тронули Володьку, и он подумал, что вот Тоне, пожалуй, он сможет рассказать все.
Из другой комнаты раздалась музыка: ребята завели патефон.
— Идемте танцевать, — вошла в кабинет одна из подруг. — Вы уже посмотрели Витькины фотографии? — спросила не без ехидства.
— Посмотрели, — ответила Тоня, отпуская Володькину руку. — Вы не хотите танцевать?
— Нет. Не получится у меня, наверно, — отказался Володька.
— Мы не хотим танцевать, Зоя.
— Тогда я исчезаю, — выпорхнула та из комнаты.
Они посидели еще немного на диване. Тоня молчала, а Володька опять подумал, что почему-то ей он сможет рассказать все.
— Пойдемте, а то неудобно. Бросила гостей. — Тоня поднялась.
Пластинка кончилась, все уселись за стол, и опять начались тосты и малоинтересные для Володьки разговоры об институтских делах. Часть института, как понял он, эвакуировалась, слившись со строительным, а часть осталась, но занятия шли нерегулярные, часть дня студенты работали в круглом зале, делая деревянные коробочки для противопехотных мин. Поэтому они часто собираются у Тони, чтоб позаниматься, а старушка лифтерша, считая, что идут тут гулянки, встречает всегда их злым ворчанием, как встретила сегодня Володьку.
Для него институт был сейчас чем-то очень далеким. Как началась война, он перестал совсем о нем думать, как и вообще о своем будущем.
И, слушая рассуждения очкастого о том, что их будущая профессия после войны будет самой главной — надо же столько строить, Володька даже не испытывал горечи. Было только немного грустно, что он не может вступить в разговор: его судьба другая, и главное у него в другом.
Тоня, видя отсутствующее выражение Володькиного лица, пыталась переменить тему, но для ребят она была интересна, это было их будущее, и они продолжали горячо спорить, пока кто-то шутливо не предложил: не сыграть ли им в "бутылочку".
— Вы не устарели для этой детской игры? — спросила Тоня, улыбнувшись.
— Наверное, нет. Но играл в нее очень давно, в классе девятом… — ответил Володька и посмотрел на девушек, гадая, с кем из них ему доведется целоваться: хорошенькими они были все.
— Я кручу, — сказала Тоня.
Бутылка долго крутилась и наконец остановилась горлышком против Володьки. Он покраснел.
— Берегись, лейтенант, — засмеялся кто-то.
Тоня же без улыбки, какая-то серьезная, подошла к Володьке, взяла его голову в свои руки и крепко прижалась к его губам. У него закружилась голова, исчезли все окружающие, комната куда-то поплыла…
— Хватит, Тоня, задушишь лейтенанта, — сказал кто-то.
Тоня оторвалась от него, но продолжала держать его голову и смотрела затуманенными, но серьезными глазами, и ее взгляд притягивал Володьку. Ничего не соображая, забыв о присутствующих, как во сне, поднялся он со стула, прижал Тоню к себе, нашел ртом ее полураскрытые губы…
— Это уже не по правилам, — заметил очкарик, а остальные рассмеялись.
Но когда Володька отпустил Тоню, никто уже не смеялся. Смотрели, переводя взгляды с него на Тоню, и молчали. А Володька, не сразу очнувшись, тоже обвел глазами комнату, притихших и недоуменно смотревших на него Тониных приятелей и приятельниц, и смущенно пробормотал:
— Простите… Не знаю, как это получилось… Мне уйти? — сделал он шаг.
— Нет, — еле слышно произнесла Тоня, заступая ему дорогу, тоже смущенная и побледневшая. — Нет, не уходите…
Тут поднялся один из парней.
— Кажется, надо уходить… нам?
— Да, ребята, — как-то просто сказала Тоня. — Извините, но вы видите: что-то произошло… Я пока сама не понимаю… Но что-то произошло.
Ребята без ухмылок и двусмысленных взглядов поднялись и направились к выходу, только одна из подруг что-то шепнула Тоне на ухо. Тоня слегка пожала плечами и пошла провожать гостей. Володька все еще стоял столбом посреди комнаты. До него доносился негромкий разговор в передней, но он не вникал в него — он был смятен, ошарашен случившимся. Он слышал, как захлопнулась дверь, зазвенела цепочка, затем слышал Тонины шаги и как мимо него прошелестело ее платье. Он обернулся. Тоня стояла напротив и глядела на него.
— Да, что-то случилось… — задумчиво сказала она и опять прикоснулась к его руке. — Со мной случилось. С вами-то ничего. Вы просто очень давно не целовались…
Она прошла к столу, налила себе рюмку и медленно, маленькими глотками выпила вино, затем провела рукой по волосам и как-то обессиленно опустилась на диван.
— Кажется, — начал он глухо, — со мной тоже что-то случилось. — Он вынул папиросы и жадно закурил.
— Неужели? — тихо, с радостным изумлением прошептала Тоня.
— Да… — так же тихо ответил он и присел. Но не на диван, где сидела она, а на стул. Ему не хватало дыхания, в горле пересохло, и он облизывал обметанные, сухие губы и молчал, не находя, да и не ища слов для выражения того, что чувствовал сейчас. Молчала и Тоня. И они долго не решались прервать молчание, переживая, каждый по-своему, то значительное и необыкновенное, что произошло с ними.
— Последние дни я все время бродила по улицам… И вот встретила вас все-таки. Мне вообще везет в жизни.
Володька усмехнулся и покачал головой.
— Вы считаете, что это не так? — с тревогой спросила она.
— У нас только… пятнадцать дней.
— Не надо об этом! Я не хочу думать! — почти крикнула она и, протянув руку через стол, взяла Володькину кисть. — Вы знаете, все началось с руки… Когда вы протянули ее мне, еще грязную, со следами ожогов, такую жесткую… я подумала…
— Не надо… про руку, — попросил он и осторожно высвободил ее.
Тоня пристально взглянула на него и не сразу, а помедлив немного, спросила:
— Это связано… с фронтом?
— Да.
— И это страшно? — спросила, догадавшись.
— Очень.
— Господи, я как-то никогда об этом не задумывалась. Я дочь военного, и никогда… Значит, папины сабли… Может быть, ими тоже…
— Сабли — это очень давно, — сказал Володька, и опять ему подумалось, что Тоне он сможет рассказать про все, и не только сможет, но и должен, потому что держать все это в себе больше невозможно. И его прорвало.
— Вы спрашивали — что из окопа? Так вот. — Он поднялся и начал вышагивать по комнате. — Я никому еще не говорил. Трупы. Много трупов — и немецких, и наших! А кругом вода, грязь. Жратвы нет, снарядов нет. Отбиваемся только ружейным огнем… И каждый день кого-нибудь убивает. Еле таскаем ноги. Ждем замены. Приходит помкомбата: "Ребята, "язык" нужен позарез, иначе нас не сменят! Батальонную разведку всю побило. Давайте сами!" Даем! Отбираю трех посильнее. Ночью ползем… Добираемся, сами не знаем как, до немецкого поста. Там — двое фрицев. Двоих не дотащить. Одного надо кончать. Кому поручить? Смотрю на ребят — боюсь, не сдюжат. А надо наверняка. Вот и пришлось самому… — Володька остановился около стола. — Можно выпить?
— Я налью, — заспешила Тоня и дрожащей рукой налила рюмку. Он выпил одним махом.
— Ножом в спину… Рукой ему рот зажал, а через пальцы — крик. И кровь со спины на меня! Весь ватник забрызган… Утром кинжал от крови отмываю… Ну, враг, немец, фашист, гад. Но… человек же. Не пожалел я его. Нет! Но противно, физически противно. Я буду их убивать, буду, но… понимаете, я уже никогда не буду таким, каким был. Никогда! Ну хватит вам — что из окопа?
Тоня подошла к нему, положила руку на голову, стала поглаживать.
— Вот что довелось вам, лейтенант Володя… Вот что…
— А думаете, сменили нас? Черта с два! А до этого, в первом наступлении… Я ж кадровый, привык все по уставу, как положено. Изменилась обстановка. Приказали двигаться по полю, а как? Немец лупит из всего, что у него есть, головы не поднять, а сзади ротный — вперед, давай вперед! — Володька приостановился, вытер пот со лба. — Сержант Степанов, помкомвзвода мой, говорит: "Давайте, лейтенант, чуть вправо подадимся, лощинка там, поукрытистей будет…" А я: "Струсили, сержант, какое направление указано? К трем березкам! Его и держать! Вперед, мать вашу, давай, давай…" Ну и пошли… — Голос Володькин задрожал, и он обессиленно опустился на диван, достал папиросы и закурил, часто и глубоко затягиваясь дымом, до кашля…
— Ну и пошли, — повторил он. — Я ж умнее всех, зачем мне кого-то слушаться. Сержант из госпиталя вторым заходом на фронте, а мне что — я лейтенант, училище окончил. Ну и… сержанта насмерть, и треть взвода на поле осталась… До сих пор не могу заставить себя к его жене сходить… Вот что из окопа, Тоня… — Он встал и опять замаячил по комнате.
Тоня глядела на него неотрывно и о чем-то думала.
— А отпуск к концу, — продолжил он. — Через пятнадцать дней — опять то же. И ни черта я в жизни не видел — школа, армия, фронт… Нет, вы меня только жалеть не вздумайте! Я же сам, все сам… На востоке думал — как же война без меня? Как в Москву вернусь, не мною отбитую… Нет, я все сам, сам…
— Вот вы какой, лейтенант Володька… Вот какой… — Тоня подошла к нему, остановилась, взяла его руку и вдруг очень серьезно и решительно заявила: — Я не пущу вас туда больше. Не пущу! Не верите? Вот возьму и не пущу! Когда я сильно чего-нибудь хочу, у меня выходит.
— Это не тот случай, Тоня, — пожал Володька плечами и улыбнулся.
Они сидели на диване, тесно прижавшись друг к другу, и говорили, говорили… Может, и не об очень значительном, но для них казавшемся очень важным и интересным.
Они не целовались больше, видимо, опасаясь того смятения, в которое привел их обоих первый поцелуй. И только тогда, когда Володька уходил и они прощались в прихожей, а времени было уже в обрез до комендантского часа, Володька прижался к полураскрытым Тониным губам и долго-долго не мог оторваться от них…
До Садовой он бежал, непрерывно поглядывая на часы, — было уже половина двенадцатого. Домой он вернулся в первом часу. Мать встретила его встревоженным взглядом и словами, что звонила Юля.
— Да? — равнодушно бросил он.
— По-моему, ей было неприятно, что тебя не оказалось дома.
Спать ему не хотелось. Какой сон, когда произошло такое… Когда за один вечер не знакомый до этого человек стал самым дорогим, самым близким, когда кружат голову только одни воспоминания об этом вечере…
Но все же Володька разделся и лег в постель в надежде, что память прокрутит перед ним все, что произошло с ним сегодня, и снова переживет этот незабываемый вечер, но Тонин образ не появлялся перед его закрытыми глазами, а закрутились обрывки из рассказанного им Тоне о Ржеве: то метельная темная дорога на войну, то обреченные глаза ротного, то хриплый шепот сержанта Степанова, то перекошенное лицо немца… И как ни старался он отогнать от себя это, недавнее прошлое накатывалось на него, и опять противно выли мины и стрекотали пулеметные очереди.
А когда он заснул, снилась ему не Тоня, а самолетная бомбежка. Черные тени "юнкерсов" висели над ним, и маленькая черная точка, оторвавшаяся от самолета, летела прямо на него, все увеличивалась в размерах, и он знал: это его бомба.
И утром не сразу ушло от него приснившееся, а когда ушло, то начало медленно наплывать предвосхищение того необыкновенного, что его ждет сегодня, — встречи с Тоней. И тут же резко зазвонил телефон, и Володька, неодетый, бросился в коридор.
— Это вы? Значит, правда, что вы есть на свете? Мне не приснилось? услышал он в трубке Тонин голос.
— Это я…
— Я совсем не спала… Приезжайте сейчас же. Хорошо? — И действительно, говорила она устало, измученным голосом.
— Еду, Тоня…
Когда Володька лихорадочно, как по тревоге, одевался, мать, слышавшая, конечно, краем уха его разговор, вошла к нему в комнату, остановилась и смотрела на него вопрошающим взглядом.
— Ты даже не будешь завтракать?
— Нет, мама… Я должен бежать.
И он бежал до трамвая, который потом нестерпимо медленно тащился до Самотеки. Так же бесконечно долго полз и троллейбус по Садовому кольцу. По Пироговке Володька опять бежал и только у Тониного дома приостановился, чтоб успокоить дыхание, но не простоял и минуты — бросился в парадное, буркнул сердитой лифтерше: "В шестнадцатую", — и запрыгал по ступеням.
Дверь была открыта, и Тоня стояла в проеме — бледная, с припухшими глазами.
— Наконец-то… — прошептала она и уткнулась ему в грудь. — Господи, что же это такое? Я думала — это радость, а это мука… Я совсем не могу без вас.
* * *
И полетели какие-то сказочно необыкновенные дни. Рано утром, кое-как второпях позавтракав, Володька несся на Пироговку, а там бешено крутились стрелки больших старинных часов, висящих на стене, и они не успевали оглянуться, как время неумолимо приближалось к роковым одиннадцати вечера, когда Володьке надо было уходить, чтоб успеть добраться домой до комендантского часа.
И последние минуты они стояли в прихожей, целовались, и Володька, с трудом отрывая от себя судорожно сцепленные Тонины руки, выходил на затемненную Пироговку, громадным усилием воли заставляя себя уходить все дальше и дальше от ее дома, и у него было такое ощущение, будто раскалывался мир на две половины, и в той половине, где не было Тони, ему страшно одиноко и бесприютно.
Из-за того, что ему хотелось поскорей заснуть, хотелось, чтоб быстрей прошла ночь и наступило утро, когда он опять побежит сближать расколотые миры, он, наоборот, очень долго не мог уйти в сон, и не помогали ни чтение, ни курево. Володька осунулся и выглядел сейчас не краше, чем когда вернулся из-под Ржева. Обедать домой он не приходил, а у Тони, после того как уничтожили они присланные ее отцом ко дню рождения продукты, остались в доме только кофе и галеты, да и было им как-то не до еды.
— Володя, — как-то раз сказала Тоня, когда они стояли в прихожей и часы отбивали одиннадцать, — неужели скоро наступит настоящее прощание? Неужели?
То, что это наступит, знали они оба. Потому и были так напряженно-лихорадочны их дни, потому-то и летели так минуты, часы, дни… И уже не однажды повторяла Тоня.
— Я думала, любовь — счастье, а она еще и мука.
Да, но это была сладкая мука, потому что каждое прикосновение друг к другу, не говоря уже о прощальных поцелуях в прихожей, доставляло им ни с чем не сравнимое, не изъяснимое никакими словами блаженство, горькая острота которого усугублялась неотвратимым приближением конца Володькиного отпуска.
Однажды Тоня повела его на Новодевичье кладбище — была годовщина смерти ее матери, и они долго бродили среди памятников, пока не добрались до скромной могилы. Тоня положила несколько цветков, купленных при входе, а Володька немного отошел от нее, чтоб оставить ее одну, и стал осматриваться.
Здесь смерть была благообразна, даже величественна и красива, а перед Володькиным взором маячили разбросанные по полю, окровавленные, полураздетые, то скрюченные, то распластанные, еще не захороненные русские ребята, его одногодки, которым жить бы и жить, если б не война.
Когда Тоня подошла к нему, он задумчиво произнес:
— Интересно, сколько тут могил?
— Почему тебя это заинтересовало?
— Так, — пожал плечами он, а сам подумал, что такое вот кладбище, на котором хоронят уже сотни лет, можно было заполнить после двух-трех "хороших" наступлений стрелковой дивизии.
На обратном пути, проходя мимо большого памятника, Володька усмехнулся.
— Ради такой груды мрамора и бронзы можно даже захотеть помереть. — Перед глазами стояли одинокие бугорки с фанерными звездами, которые попадались ему по всей дороге, которой он шел с передовой.
Тоня заметила и горечь слов, и боль в глазах.
— Ты что-то вспомнил?
— Да так, — нарочито небрежно ответил он и взял ее за руку.
— Пойдем.
Иногда они вместе ходили на Усачевский рынок и покупали один-два килограмма безумно дорогой картошки, и тогда Тоня командовала:
— Лейтенант Володька, вам сегодня наряд без очереди — чистить картошку.
— Есть наряд вне очереди. — И он отправлялся на кухню.
Правда, он очень скоро доказал Тоне, что чистить картошку в военное время — преступление. Ее надо варить в мундире.
Эту странную, почти семейную жизнь, только без ночей и близости, можно было бы назвать счастливой, если бы… Этих "если бы" было много. Первое и главное — это быстрота, с которой пробегали дни. Вторым "если бы" была Юлька. Потом — мать, с которой он не проводил и часа в день. Не был он и у матери Толи Кузнецова. Никак не мог решиться пойти к жене Степанова. Не очень-то ясно было с Сергеем, который, как сообщила ему мать, перешел на другую работу, где ему вроде бы дают бронь.
— Ты должен все написать Юле, — не раз говорила ему Тоня.
— Пока не могу. Понимаешь, если бы она была дома, не в армии, все было бы проще. Я сказал бы ей — и все… А сейчас… Это, знаешь, как ударить лежачего, — отвечал Володька, и она молча соглашалась с ним, но через несколько дней возвращалась опять к этому.
В отношении Володькиной матери, которая почти его не видела, Тоня была жестче.
— Ты находился с матерью больше половины своего отпуска. Остаток его — мой и только мой, — заявила она однажды. — А потом, ты знаешь, для меня сейчас отец, брат — все ушли на второй план, а они же на фронте. Это страшно эгоистично, но я ничего не могу с собой поделать. Для меня сейчас существуешь только ты, лейтенант Володька. Я спокойна, только когда ты со мной. Разве у тебя по-другому?
У Володьки было, наверное, немного по-другому. Он был мужчиной, и та полная поглощенность своими чувствами, то напряженное, но бездумное состояние, продолжавшееся целую неделю, как-то расслабляло его, и эта расслабленность была ему неприятна, потому как знал он, что ему надо собраться, решить все вопросы перед тем, что его ждет. И Тоня стала замечать, как временами он уходил в себя, задумывался, хмуря брови, и его взгляд становился отрешенным.
— Я вижу, с тебя сходит понемногу хмель, Володя, — сказала она, грустно покачивая головой.
— Не в этом дело, Тоня.
— Да, я понимаю. — Тоня положила руку ему на лоб, потом, взъерошив волосы: — Можешь уйти сегодня, когда тебе нужно… Но мне, мне будет очень тяжело без тебя.
Мать ничего не говорила Володьке, но он видел — она была обижена, обижена глубоко, что ради какой-то девчонки (а кем для нее может быть Тоня?) он забросил и дом и ее. Когда он возвращался в полночь, она разогревала обед и молча подавала ему. Володька наскоро съедал его, после чего спешил в свою комнату, бухался в постель, скорей, скорей заснуть, чтоб быстрей прошла ночь и наступило утро.
Когда же вернулся он в шесть вечера, мать была не только удивлена, но и обеспокоена.
— Что-нибудь произошло? — спросила она.
— Ничего, мама, — улыбнулся он. — Просто этот вечер мы проведем вместе.
— Ну, что ж, спасибо… Тебе без конца звонит Сергей. У него какие-то идеи в отношении твоего будущего. Вам необходимо встретиться. Это первое. Во-вторых, Володя, я не знаю, что отвечать Юле? Ну, а потом, по-моему, мне надо познакомиться с той девочкой, у которой ты пропадаешь.
— Самое сложное с Юлей, мама… Наверное, ей ничего не надо говорить. Скоро кончится отпуск, и все решится само собой… Что же касается этой девочки… Она Тоня. И у нас все очень серьезно.
— Ну, разумеется, очень серьезно. Разве в твои годы может быть это несерьезным, тем более, ты знаешь ее уже больше недели. Так, кажется?
— Не иронизируй, мама, — улыбнулся он. — Сейчас я уйду на полчаса, вернусь, и мы поговорим.
* * *
К дому Толи Кузнецова он шел медленно и тяжело, а когда дошел, остановился и долго курил, забивая волнение. Наконец постучал в дверь.
— Мне кого-нибудь из Кузнецовых, — сказал он открывшей ему женщине. Та внимательно посмотрела на него, на перевязанную руку на косынке и тихо спросила:
— Вы знаете, что Толя?… — Володька кивнул в ответ. — Проходите, темно у нас. Вот дальше, вторая дверь направо. — Она осторожно постучала. — Тетя Груша, к вам пришли.
Дверь открылась, и пожилая, гораздо старше его матери женщина, худенькая и маленькая, встретила его расстерянным взглядом, который на миг высветлился надеждой. У Володьки сжало горло. Этого он больше всего и боялся — надежды, которую принесет его приход, и того, что эту надежду ему же придется и загасить.
— Я служил с Толей… — с трудом выпершил он.
— Проходи, сынок, проходи… Поняла я, что оттуда ты. — И робкое ожидание чуда, которое вдруг принес он, Толин товарищ, опять мелькнуло в ее глазах, и она вся как-то сжалась, оттягивая свой главный вопрос, а может, просто была не в силах его задать и напряженно вглядывалась в Володькины глаза, которые тот невольно прятал, боясь, что в них она сразу прочтет правду.
Они прошли в небольшую, забитую старой мебелью комнату… Володька продолжал молчать, мучительно решая, сказать ли правду или оставить надежду Толиной матери, не говоря ей, что был с Толей на фронте, но глаза женщины потускнели уже.
— Молчишь? Значит, правда? Ежели правда, садись и рассказывай, как случилось это. Не бойся мою надежду убить, ее и нет у меня. Может, чуток на самом донышке души была. Рассказывай, сынок. Ты ж единственный, кто рассказать мне может, кто его перед смертью видел. Ты с ним и на востоке служил?
— Да.
— Тоже из института тебя взяли?
— Да.
— Ну рассказывай, да на мои слезы внимания не обращай… Мучился он перед смертью-то?
— Нет. Очень большой снаряд… Почти весь его взвод погиб.
— При тебе это было?
— Нет. Мы пришли ночью к передовой. Деревенька небольшая, разбитая. Моя рота пошла на самую передовую, а Толя со своим взводом остался в деревне. Вот тут мы и распрощались… Днем мы в наступление ходили, а вечером немец открыл очень сильный огонь и по передовой и по деревне. Вот в этот обстрел… Я на другой день утром пришел в штаб и… узнал…
— Значит, до самого фронта он и не дошел?
— Да… — Немного помешкав, он добавил: — Вы знаете, были такие моменты, когда завидовал я Толе, что отмучился он сразу.
— Да, да, понимаю, — рассеянно ответила она и прижала платок к глазам, а Володька весь напрягся, ожидая тех же вроде бы укорных слов, которые слыхал он от баб в проходимых им деревнях: "Ты-то живой остался…"
Но Толина мать ничего этого не сказала. Вытерев глаза, она подняла их на него — старческие выцветшие глаза, в которых стояла непроходимая боль.
— У меня скоро кончается отпуск… вот я и решил… — пробормотал он, чтоб разрядить молчание.
— Господи, значит, опять туда!
— Опять.
— Ну, спасибо, сынок, что зашел. Хоть узнала чего… как сын мой… Господи… — опять заплакала она. — Одной доживать придется, одной. Хоть бы меня господь прибрал, старуху-то… Нет, молодые гибнут. Ну, желаю тебе счастья… Одногодок, Толин, наверное?
— Да.
— Матери-то твоей какое счастье выпало… Повидала тебя. Только каково ей опять тебя провожать? И скоро?
— Скоро… Когда мы Москву проезжали, то два дня на Окружной крутились. Хотели мы с Толей домой сбегать, но нельзя было.
— Значит, рядом был Толя, совсем рядом! И не почуяло мое сердце, не почуяло…
Вышел он от матери Толи в полном разброде и с тяжестью в душе. Как же они могли с Тоней забыть обо всем? Ведь совсем рядом война, умирают люди, срывают голоса ротные, посылая в атаку, гремят выстрелы, рвутся снаряды, а в московских домах погибают от отчаяния матери и жены, получая похоронки.
— Так больше нельзя, — заявил он Тоне на другое утро, еще не войдя в квартиру.
— Что нельзя? — испуганно прошептала она.
— Мы забыли обо всем.
— О чем, Володя?
— О том, что война, о том, что кругом горе… А мы…
Тоня помолчала немного, потом, сдвинув брови, сказала непривычно сухо, даже жестковато:
— Вот ты о чем… А что впереди у нас? Тоже горе и тоже страдания. Они совсем близко. Я не знаю, что будет со мной, когда ты уедешь, не знаю, как буду жить, если с тобой что-нибудь случится… В чем же мы виноваты? — Она говорила отчетливо и убежденно. — Нет, ни в чем и ни перед кем не чувствую себя виноватой. Даже перед Юлей…
Но почувствовав, что не убедила Володьку, подошла, обняла и уже другим тоном, ласковым и нежным, прошептала:
— Глупый ты мальчик… Очень хорошо, что ты так совестлив, но впереди у нас… И не надо сейчас ни о чем думать…
* * *
В этот день Володька пришел к Тоне не утром, как обычно, а в середине дня — ходил перед этим на перевязку и получать по карточкам продукты. Поэтому те несколько часов, которые оставались им, пролетели как одно мгновение. И когда они вышли в прихожую прощаться, старинные стенные часы пробили не одиннадцать ударов, а только один — было половина двенадцатого!
— Ты не успеешь, — сказала Тоня.
— Что же делать? — растерялся он. — Я побегу все-таки, Тоня. Как-нибудь доберусь…
— До комендатуры? Тебе очень хочется ночевать там? Позвони матери, что ты остаешься у меня. Я постелю тебе в столовой. — Тоня улыбнулась, заметив и растерянность и смущение на лице Володьки.
— Мама спит, да и всех соседей разбудишь звонком. Черт возьми, как мы проглядели время! — Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, еще не решив, что делать, но тут Тоня, уже несшая белье в столовую, сказала, что если его мать будет волноваться, то позвонит сюда, и будет лучше, если он окажется здесь, чем неизвестно где. Это убедило Володьку.
— Я открою дверь своей комнаты, и мы сможем переговариваться. Правда, я привыкла жить одна, но иногда ночами бывает жутковато. А тут я крикну — вы здесь, лейтенант Володька? А ты ответишь — я здесь, и будет очень здорово, говорила Тоня, стеля белье на диван.
И только сейчас до Володьки дошло, что этой ночью он будет с Тоней. Он не знал, что случится этой ночью, но предощущение чего-то необыкновенного пронзило его, и он неверными, чуть дрожащими пальцами достал портсигар, вынул папиросу и закурил, изломав не одну спичку.
— Надо немного отодвинуть стол, Володя, — сказала Тоня и опять улыбнулась, глядя, как Володька стал отодвигать тяжелый стол, который полз вместе с ковром, задирая его и морща, не догадываясь от волнения приподнять его.
Наконец стол был отодвинут, ковер заправлен.
— Принеси, пожалуйста, подушки из моей комнаты, — попросила Тоня.
В Тонину комнату Володька не заходил ни разу. Тоня всегда говорила: "Там у меня страшный кавардак", — и сейчас он входил туда с каким-то трепетом. Свет был там не зажжен, и в полумраке белела оправленная Тонина постель, голубовато поблескивали какие-то флаконы на туалетном столике, пахло Тониными духами… Володька, будто совершая святотатство, чуть дотронулся пальцами до ее постели и сразу отдернул руку, словно обжегшись.
— Принес? Давай. — Тоня взбила подушку и положила ее на диван. — Теперь баиньки, лейтенант Володька.
— Я не засну, Тоня, — как-то жалобно пробормотал он.
— Заснешь, — ответила она и прикоснулась губами к Володькиному лбу. Спокойной ночи. — Тоня пошла в свою комнату, щелкнув по пути выключателем. Свет погас.
Володька, не раздеваясь, сел на диван, обхватил голову руками. Громко отбивали в тишине секунды большие настенные часы, на улице изредка, шелестя шинами, проезжали машины, где-то прозвенел запоздалый трамвай. Из Тониной комнаты доносился звук ее шагов, потом скрип кровати — видимо, она легла.
— Спокойной ночи, — шепотом сказала она.
— Спокойной ночи, — ответил он почти беззвучно и стал снимать ботинки.
И от простыни и от подушки, в которую он уткнулся, пахнуло Тониными духами. Тоня была совсем рядом, всего в нескольких шагах от него. Она не закрыла дверь своей комнаты, и Володька видел синеющее окно, туалетный столик… Саму Тоню он не видел, но она была рядом, и одно это казалось чем-то удивительным и необыкновенным.
— Ты не спишь? — донесся шепот Тони.
— Нет.
— Я тоже. Но ты спи.
— Постараюсь, — прошептал он.
— Как тихо…
— Да, очень…
Этот тихий, приглушенный ночной разговор был тоже чудом. Володька перевернулся на спину, протянул руку к столу, достал папиросы, чиркнул спичкой.
— Ты куришь? — спросила Тоня.
— Да.
Потом они долго молчали… Володька чутко прислушивался — вот Тоня вздохнула, вот перевернулась на другой бок, и кровать скрипнула, вот как будто она поднялась… Да, поднялась и пошла открыть окно. Володька видел ее легкую тень около рам. Потом опять легла и долго ворочалась. Кашлянула. Вздохнула. И прошептала:
— Тебе хорошо?
— Очень.
— Мне тоже.
Володька докурил папиросу и лежал с открытыми глазами и знал, что пролежит так всю ночь не только потому, что не хочется спать, а потому, что жалко заснуть и потерять во сне то, что сейчас наполняет его.
И вдруг где-то далеко грохнул взрыв, потом еще, еще… И сразу же уже совсем близко затрещали зенитки, стоящие, видно, около Новодевичьего.
— Володя, тревога…
— Слышу.
Он видел через открытую дверь Тониной комнаты, как небо заполосилось прожекторами. Тоня в накинутом халатике бросилось к окну.
— Самолеты! Володька, иди посмотри…
Он поднялся, начал нашаривать рукой брюки, но не нашел, а тем временем Тоня, увлеченная воздушным боем, крикнула:
— Один падает! Ну, иди скорей!
Тогда он вскочил и, как был, в трусах и майке, подбежал к Тоне.
— Видишь?
— Вижу.
Немецкий самолет, взятый в перекрестье лучами нескольких прожекторов, медленно падал, перевертываясь в воздухе, а прожектора все еще не отпускали его, сопровождая почти до самой земли. Бухнул далекий взрыв. — Один готов! захлопала в ладоши Тоня. Но в небе висело несколько самолетов. Зенитки били со всех сторон, и облачка разрывов вспыхивали около них. Володька легко обнял Тоню и почувствовал через тоненький халат, как дрожало ее тело.
— Ты дрожишь. Холодно?
— Это от волнения… Смотри, Володька, сейчас второй подобьют. Смотри. Все ближе и ближе… Ага, есть! — закончила она торжествующе.
И второй самолет, также сопровождаемый лучами прожекторов, начал валиться на крыло, а потом, крутясь, падать… Через минуту-две опять раздался глухой взрыв.
Стрельба начала утихать. Прожектора потянули свои лучи в сторону, вслед оставшимся самолетам, которые уходили из города. Они еще немного постояли у окна, провожая глазами уходящие самолеты и облачка разрывов… Володька прижал к себе дрожащее Тонино тело.
— Все-таки ты замерзла, — сказал он.
— И ты. У тебя холодные руки.
И вдруг, ничего больше не говоря друг другу, будто бы с этой постели они и были подняты тревогой, они легли вместе на Тонину кровать и замерли…
Тоня лежала на спине, а Володька на боку, прижавшись к ней и обнимая ее правой рукой… Они долго молчали, ошеломленные этой неожиданной близостью, лежали не шевелясь, затаив дыхание.
— Отпусти меня на минутку, — попросила она.
— Не могу, — прошептал он.
— Я только скину халат.
Володька осторожно отнял руку. Она, не вставая, кинула халатик на стоящий рядом стул и осталась в трусиках и лифчике. Он опять обнял ее и, ощутив своими ногами ее голые горячие ноги, замер… Через некоторое время он чуть приподнялся, захотев поцеловать ее губы, но она закачала головой.
— Не надо. Мне и так очень хорошо… Ты со мной, совсем со мной. Господи, если бы можно было остановить время…
Да, было и так необыкновенно хорошо, чего же больше. И не знал еще Володька, что сколько бы ни было у него женщин и какими бы они ни были, ничего более прекрасного не будет у него в жизни уже никогда. Что эта короткая июньская целомудренная ночь, пролетевшая сказочным мигом под далекий грохот зенитных батарей, останется в душе навсегда и воспоминания о ней будут томить сердце до конца дней…
Они почти не спали… Может быть, на какие-то минуты они и уходили в сон, но только на минуты, и, просыпаясь, сразу же глядели друг на друга, чтоб увериться — они вместе, это взаправду…
Июньский ранний рассвет уже с трех часов ночи начал высветлять окна, а к пяти луч солнца пробился к ним и золотой полосой лег на их счастливые, но осунувшиеся лица. Володька решил уходить в шесть — к семи он попадет домой, и "святая ложь" — попал в комендатуру — будет правдоподобна.
В прихожей Тоня протянула ему губы для поцелуя.
— Что ж ты боялась ночью? Разве ты не верила мне?
— Я не боялась. Просто было так хорошо, что большего не нужно.
Ровно в шесть спускался Володька по лестнице, стараясь прошмыгнуть незаметно мимо лифтерши, но она бдила и пробуравила своими глазками.
Он сел в перегруженный трамвай, долго висел на подножке, пока на следующей остановке не подвалило людей и они не втиснули его в вагон. Как ни был он рассеян и погружен в свои переживания, но не мог не заметить — другой народ катит в этом первом утреннем трамвае, чем тот, который ходит в дневные часы по улицам Москвы.
Спешила на заводы рабочая Усачевка — пожилые мужчины в спецодежде, бледные, уже с утра усталые женщины и невыспавшиеся подростки. У последних-то и слипались веки, дремали стоя, а кто сидел, спали по-настоящему — несытые, с совсем еще детскими лицами, но уже какими-то озабоченными, серьезными. И эти мальчишки, работнички ранние, несмотря на дрему, все же посматривали на раненую Володькину руку, на медаль, хоть и сдержанно, но все же с интересом с войны человек, с фронта… Трамвай дико визжал на поворотах, женщина вагоновожатая остервенело звонила каждоминутно без всякой надобности. Когда Володька сходил, то увидел ее лицо — оно было заплакано и искажено горем.
Он предполагал, что мать еще спит и ему удастся незаметно проскочить в свою комнату, но она встретила его в коридоре, видно, услышав, как он ворочал ключом.
— Мама… — начал было он.
— Тише, Володя, — сказала она шепотом. — В твоей комнате Юля.
— Что? — оторопел он.
— Ее вчера отпустили в увольнение. Вечер она провела со своими, а около двенадцати пришла к нам… Ты понимаешь, что при ней я не могла позвонить, и страшно волновалась. Мы ждали тебя до двух часов ночи.
Володька подошел к своей комнатке и тихонько приоткрыл дверь. Юля спала одетая, чуть прикрытая одеялом. На зареванном лице — гримаса страдания. Рот полуоткрыт, губы опущены вниз, как у обиженного ребенка. Его ударило жалостью, он постоял еще немного, а потом закрыл дверь.
— Она спит, — сказал он растерянно, войдя в комнату матери.
— Что ты намереваешься делать? — холодно спросила мать. — Продолжать ложь? — Она набила папиросу и закурила.
— Осталось всего немного. Я уеду, и все разрешится само собой… Мама, я скажу, что попал в комендатуру, возвращаясь от Сережки, — полувопросительно закончил он.
— Говори что угодно, но не вмешивай меня…
Володька искурил папиросу, изжевав весь мундштук, несколько раз прошелся по комнате туда-сюда, прежде чем решился идти к Юле. Когда он вошел, она лежала на спине с открытыми глазами, и ничего не дрогнуло на ее неподвижном лице.
— Ты проснулась? — промямлил он, но она ничего не ответила, продолжая глядеть на него каким-то невидящим взглядом. Он совсем смутился, начал переступать с ноги на ногу и наконец раскашлялся. — Ты что, не видишь? Это я. Меня задержали по дороге от Сергея…
— Это не ты, Володька, — каким-то пустым, безразличным тоном проговорила она. — Выйди, я приведу себя в порядок…
— До каких часов у тебя увольнение?
— Не все ли равно. Я сейчас уйду.
— Юлька, но нельзя же так! Ты ничего не знаешь…
— Я ничего не хочу знать. Выйди.
Володька вернулся в комнату матери.
— Юля почему-то решила, что ты встретил эту… Майю, кажется? Была у вас в классе такая пышная девочка, и что пропадаешь у нее, — сказала мать. Он ничего не ответил и опять засмолил папиросу.
Вошла Юля, бледная, подурневшая, в помятой гимнастерке и юбке, и опять Володьку ударило жалостью.
— До свиданья, — сказала она только Володькиной матери. — Я ухожу.
— Я провожу тебя, — поднялся он.
— Не хочу, — резко бросила Юля.
— Все равно провожу.
Они молча спустились по лестнице, молча шли по улице. Когда они сходили с тротуара, Володька хотел поддержать ее за локоть, но она вырвала руку.
— Не дотрагивайся до меня!
Так в молчании они дошли до ее дома, и только тут, приостановившись, Юля дрожащим голосом сказала:
— Как ты мог…. с этой дрянью. Она же чуть ли не с восьмого класса…
— Да не встречался я ни с какой Майкой! Я напишу тебе…
— Все равно ты продал меня. — Она круто повернулась и вошла в парадное.
Возвратясь домой, Володька принялся строчить большое письмо, стараясь объяснить ей (да и себе тоже), что произошло с ним, предлагая ей остаться друзьями, не обрывать то, что у них было, но письмо не получалось, выходило вымученным, холодным, и Володька разорвал написанное.
* * *
Встреча с Сергеем произошла опять на той же квартире в Троицком переулке. Когда они говорили по телефону, договариваясь о встрече, Володьку поразил голос Сергея. Что-то у него случилось, подумал он. Но, встретившись, он ничего не заметил на лице Сережки — оно было спокойно и лишь очень сосредоточенно. Он довольно рассеянно слушал Володьку, рассказывавшего о неожиданном приходе Юли и о сцене, которая произошла.
— Ну и что же? У Юльки, по-моему, был какой-то роман, пока ты был в армии, теперь у тебя. Подумаешь, — небрежно высказался Сергей, не придавая всему этому значения.
— Мама часто мне твердила, что ее счастье и ее беда в том, что она воспитана на святой русской литературе… Я тоже в том же грешен, — заметил Володька.
— Думаю, что здесь больше беды… Слишком много психологии и "проклятых вопросов". Русская литература не смогла воспитать цельного, рационального человека. Она создала либо фанатиков, либо лишних людей, — заявил Сергей. Кстати, мы спорили с тобой об этом еще на заре туманной юности. Помнишь?
— Помню. Но ты был не прав тогда, как и сейчас. Русская литература воспитала человека, которому очень трудно быть подлецом…
— Возможно, возможно… Прости, Володька, но мне что-то не до дискуссий. Я позвал тебя по другому поводу… Вот прочти. — Сергей вынул из бокового кармана пиджака конверт. — Это от отца… — и отдал Володьке.
"Дорогой Сережа! Не знаю, получил ли ты то, о чем писал. Не знаю — нужно ли это вообще. Без твоей помощи я как-нибудь проживу здесь, и главное не во мне. Я чувствую, ты в страшном разладе и тебе трудно. Я хочу, Сережа, чтоб ты был со всеми, чтоб моя судьба никак не была помехой твоему великому гражданскому долгу. Страна в огромной беде…"
Дальше следовали обычные в письмах слова: вопросы о здоровье, приветы Любе и знакомым…
Володька прочел… Своего отца он не помнил, тот погиб в служебной командировке на Украине, случайно заехав в деревню, занятую махновцами. Поэтому слово "отец", понятие "отец" было у него чем-то большим, почти святым, и, как он ни любил мать, он знал, что отца любил бы больше… И сейчас, прочитав это письмо, он раскашлялся, стараясь выпершить подкативший к горлу ком.
— Первые строки — о броне, ну, а остальное… это тоже из области русской литературы, — пояснил Сергей. — Ну что скажешь? — Володька молчал, а он продолжал: — Ты говорил как-то, что главное слово войны — "надо"… Я не стал тебе тогда ничего говорить, чтоб не оплавилось твое железное "надо". Но видишь ли — есть и другие "надо"…
Они долго молчали. Сергей барабанил пальцами по столу, а Володька, опустив голову, думал. Он мог бы рассказать Сергею, как шел в атаку командир первого взвода Андрей Шергин, сын бывшего комбрига, передавший перед наступлением ему письмо с далеким северным адресом, как, наскоро перевязавшись после первого ранения, поднял залегших людей и, не пробежав двести метров, получил вторую пулю, после которой опять поднялся и, выхрипывая "Вперед!", не тратя уже времени на перевязку, вел взвод все дальше и дальше… Его, побелевшего, с семью пулевыми ранами, притащили ребята его взвода после того, как наступление захлебнулось… Но не стал рассказывать. У Шергина были те же иллюзии, как у Сергея в финскую: получить высшую награду, доказав этим, что не может быть врагом человек, воспитавший такого сына.
— Что же ты решил? — спросил наконец Володька.
— А что бы решил ты?
— Ты очень добиваешься брони?
— Не очень, но мне могут ее дать… Законную броню.
— Твой отец прав, — сказал Володька не сразу.
— Он думает обо мне… А кто подумает о нем?
— Тебе будет трудно жить после войны… Ты же русский…
Сергей пожал плечами, усмехнулся.
— К тому же тоже воспитанный святой русской литературой… — Он еще раз пожал плечами, а потом, сжав пальцы рук, уставился куда-то взглядом.
* * *
Дни были безоблачные, ясные, без дождей и гроз, но холод приближающейся неизбежной разлуки уже коснулся их всех.
Тоня осунулась, все чаще подолгу задумывалась и глядела на Володьку таким взглядом, что у него сжималось сердце. А их прощания в прихожей, их поцелуи перед дверью были уже тронуты ледком отчаяния.
— Я ж приду завтра, — успокаивал и ее и себя Володька.
Но и он и Тоня уже ясно представляли то настоящее последнее прощание, после которого он уже не скажет: "Приду завтра".
Дома было то же самое… Он видел, как в глазах матери металось страдание, которое она изо всех сил пыталась спрятать от него, и ему было не по себе, что он так мало времени и внимания уделял ей. И теперь был он с матерью нежней, чем обычно, стараясь в эти предпоследние дни возместить упущенное.
В своих разговорах они избегали говорить о главном, о том, что впереди, но внутренне были сосредоточены лишь на одном, думали только об одном и делали героические усилия, чтоб не показать друг другу своего состояния.
Как ни странно, сам Володька был, пожалуй, спокойней всех, и если бы не переживания близких, был бы еще спокойней. Он как-то постепенно, еще до наступления предпоследних дней, уже отрешился от московской жизни и половиной своего существа уже был там. И так же постепенно накапливалось в нем мужество, нет, не для фронта, а для скорого и неотвратимого расставания с матерью и Тоней.
Несмотря на довольно скудное, но все же регулярное питание, он поправился и чувствовал себя отдохнувшим и сильным. Рельс уже поддавался ему те тридцать пять раз, которых он хотел достигнуть.
Воспоминания о Ржеве если и не отошли совсем, то стали как-то бледней, и что самое главное — все страшное, тяжелое как-то смазалось в его памяти. И еще — очень важное — те трагические вопросы: зачем? почему? для чего? как могло так случиться? — которые мучили его на передовой, если и не получили полного ответа, то ощущение напрасности их безуспешных наступлений покинуло его. Читая постоянно сводки Информбюро, он видел войну шире, чем виделась она ему из окопа подо Ржевом. Ему стала яснее взаимосвязь всех фронтов, и он стал понимать значение боев на Калининском, которые связывали немцев и не давали им возможности перебрасывать войска на другие участки, на юг, на котором сейчас идут жестокие сражения.
Но угрозу Москве Володька видел все-таки с Ржева. Не зря немцы так отчаянно удерживали его в своих руках, не боясь даже, что мы сможем окружить город и срезать этот ржевский выступ.
* * *
В этот день Володька подходил к Тониному дому в одиннадцатом часу, позже, чем обычно, и думал, что она уже ждет его у двери. Но дверь оказалась закрытой, и Володька долго звонил, прежде чем Тоня открыла дверь. Лицо ее было заспанно, но радостно.
— Володька! — бросилась она к нему. — Сейчас мы поедем к твоей матери.
— Зачем? — недоуменно спросил Володька.
— Надо же нам познакомиться…
— Но почему так вдруг… сейчас?
— Потому! — Она чмокнула его в щеку. — Посиди немного, я переоденусь и приведу себя в порядок… Я почти не спала ночь…
— Почему?
— Много будешь знать — скоро состаришься. Я быстро… — И убежала в свою комнату.
Володька присел, закурил… Оглядел комнату. Никаких изменений не обнаружил, но что-то показалось ему в ней не так, и, когда увидел на столе серебряный портсигар с золотой монограммой, догадался — приехал, видимо, Тонин отец… Но почему Тоня решила ехать сейчас к его матери — не понимал.
— Я готова. Поехали, лейтенант Володька! — Тоня вышла из своей комнаты приодетая и похорошевшая.
— Приехал твой отец? — спросил он.
— Как ты догадался?
— Вот. — Он показал на портсигар.
— Да, приехал… ночью. Сейчас он поехал в Наркомат. Вечером я тебя познакомлю. Если он сразу же не уедет обратно. Ну, пошли…
Тоня дала ему в руку довольно увесистую сумку, и они стали спускаться по лестнице…
— Как я выгляжу? — спросила Тоня перед Володькиным парадным.
— Прекрасно.
— Я должна понравиться твоей маме, — заявила она уверенно.
— Не сомневаюсь… Но я все-таки не понимаю, почему тебе именно сегодня приспичило с ней знакомиться?
— Глупенький… — Она погладила его по щеке.
Володька открыл ключом дверь, и Тоня смело затопала каблучками своих туфель по коридору. Только перед дверью комнаты на секунду приостановилась.
— Мама, вот и пришла к нам Тоня, — сказал Володька, пропуская Тоню вперед.
— Да, это я, — чересчур решительно сказала Тоня.
Мать поднялась из-за стола, улыбнулась и пошла навстречу ей, протягивая руку.
— Очень рада… Наконец-то…
— Я давно собиралась к вам, но… мне было неудобно… Володя все время пропадал у меня, и вы, наверное…
— Проходите, Тоня, — перебила мать.
— Но вы… вы сейчас меня за все простите. Володя, вот тебе письмо, прочти вслух. — Тоня прошла в комнату и села на диван. Вид у нее был какой-то победоносный. — И, может быть, даже полюбите, — добавила она.
— Что за письмо? — спросил Володька.
— Ты читай, читай, — нетерпеливо махнула Тоня рукой.
Володька распечатал конверт и начал читать:
"Лейтенант Володя, к сожалению, не буду иметь времени с Вами встретиться день буду в Наркомате, вечером уеду на фронт. Тоня рассказала мне о Вас, однако хочется узнать Вас получше. Поэтому предлагаю Вам подумать — не продолжить ли Вам дальнейшую службу во вверенной мне части? Должен предупредить Вас — служить Вы будете в боевой части, находящейся на боевых позициях, и никаких поблажек с моей стороны не ждите. Но дочь говорила, ей будет спокойней, если мы будем вместе. Скоро в Москве будет мой начштаба, который сможет подготовить соответствующие документы. Очевидно, особых трудностей это не представит. До скорого свидания, если Вы примете мое предложение".
Володька задумался.
— Ну что, говорила я, что не пущу тебя больше под этот Ржев! — ликующе воскликнула Тоня.
— И долго ты уговаривала своего отца? — спросил он.
— Я не уговаривала! Я рассказала ему все. Все, все! И он понял, что я и вправду не могу без тебя!
— Что ты решишь? — напряженно спросила мать.
— Что тут решать? — как-то неуверенно произнес Володька. — Наверно, надо согласиться…
— Да, Володя. — Мать опустилась на стул. — Даже не знаю, как это выразить? Но понимаешь — мне будет легче.
— Понимаю, мама.
— Не будет той неизвестности, которая мучила меня, — продолжала она
— Только не смей раздумывать! Ты убьешь меня и мать! — сказала Тоня, заметив в нем нерешительность.
— Почему я могу раздумать? — усмехнулся Володька.
— Потому… потому, что ты какая-то странная смесь рефлектирующего интеллигента с марьинорощинской шпаной. И от тебя можно всего ожидать.
Мать слабо улыбнулась, а Володька стал завертывать цигарку.
— Вообще-то… это вроде поступления в институт по блату… — начал Володька, но Тоня перебила:
— Вот видите, Ксения Николаевна! Я права!
— Володя, ты же поедешь на фронт… — В глазах матери была мольба. — В боевую часть…
— Мама, в самой-пресамой боевой части имеются тылы — одни подальше, одни поближе…
— Ну и что здесь такого! Какое-то время ты не будешь на этом, как ты его называешь, "передке". Десятки тысяч военных служат вообще в Москве и вообще еще не воевали, — сказала Тоня.
— А ты воевал… И хотя ты почти ничего не рассказывал мне, я поняла, что довелось тебе там… Этот ватник, до которого ты не разрешал мне дотронуться… Разве я не догадалась, что на нем чужая кровь… — Мать нервно закурила, и ее рука, держащая папиросу, слегка дрожала.
Володька молчал… Для него самого "случай" с немцем не имел уже того значения, как-то стерся из памяти. Точнее, он стер его сам, потому как знал и понимал неизбежность этого на войне, знал, что и впереди у него будет то же самое, но для матери? Для матери это, наверно, совсем другое, и ему было нехорошо, что мать догадалась.
— Я видела — ты вернулся совсем другим, — добавила мать, поднялась и отошла к окну.
Тоня хотела что-то сказать, но Володька предупредил ее жестом — не надо ничего, а сам подошел к матери, положил руку на плечо.
— Мама, — сказал он, — ты все выдумала. На ватнике, верно, не моя кровь я помогал тащить раненого, а из него хлестало дай боже…
— Не надо, Володя… Я понимаю, война, враги… И постараюсь примириться с этим…
Потом он пошел провожать Тоню к ее тетке, которой она должна была отнести кое-что из продуктов, привезенных отцом. Тоня, не отличавшаяся особой разговорчивостью, сейчас всю дорогу о чем-то болтала… В Староконюшенном они расстались.
— Я целую вечность не была у тетки. Надо помочь ей прибраться да и вообще побыть хоть часок. Вечером я тебе позвоню, — сказала Тоня.
Володька, уже давно не бродивший по московским улицам, так как всегда торопился к Тоне, сейчас с удовольствием, неспешно зашагал к Арбатской площади, а оттуда направился по бульварному кольцу.
У памятника Пушкину он остановился — внизу, у постамента, лежали цветы! Что-то дрогнуло в душе Володьки… В военной, полуголодной, измученной непосильным трудом Москве, в Москве, около которой всего в двухстах километрах стоит враг, кто-то не на лишние деньги (таковых у москвичей не было), а может на последние, покупает на рынке безумно дорогие цветы, чтоб положить их к подножию первого поэта России. Не пайку хлеба, не кусок мяса или масла, чтобы поддержать свое оголодалое на карточном пайке тело, которые можно купить на эти деньги, а цветы… Это взволновало Володьку, он хмыкнул носом и полез за папиросами.
На бульваре было мало народу и почти не было детей. Кстати, этим тоже отличалась теперешняя Москва от довоенной. Но из немногочисленных прохожих, в большинстве военных, не было ни одного, кто бы не остановился перед памятником, не пробежался глазами по знакомым с детства строкам, не обратил внимания на цветы.
Володька присел на скамейку. Спешить ему было некуда, и он сидел, попыхивая папироской, пригреваемый ярким июньским солнцем, и наблюдал. И опять, в который уже раз, ему показался чудом тот прорыв его из одного пространства в другое — из кровавого пятака передовой в тишину Тверского бульвара… Он задумался, а когда поднял голову, то увидел подходившую к памятнику чистенькую, сухонькую арбатскую старушку в старомодной шляпке из соломки, в стареньких лайковых перчатках, в туфлях на невообразимо высоких каблуках. Ей было, видимо, трудно и неудобно ходить, так как она очень неуверенно и осторожно переступала своими тонкими, высохшими ногами. Она остановилась около Пушкина, вынула из сумки один-единственный цветок и, что-то шепча бледными губами, положила его к подножию памятника.
Что шептала эта арбатская старушка, продавшая, наверное, на Центральном рынке какую-нибудь безделушку, чудом сохранившуюся за эти годы и купившая на эти деньги цветок, мольбу или молитву, Володька не знал, но был уверен, что молит она о победе…
Ему захотелось встать, подойти к ней, взять ее руку в прохудившейся лайковой перчатке и поднести к губам, поблагодарив этим за цветок, но показалось слишком сентиментальным. Старушка все еще стояла у Пушкина, что-то шептала, и Володька не выдержал, подошел.
— У вас кто-нибудь на фронте? — спросил он.
Старушка повернула сморщенное лицо, поглядела на него.
— Увы, молодой человек… Но все… все мужчины в нашей семье воевали за Россию… Мой дед участвовал в Бородинском сражении.
— Ваш дед… при Бородино? — удивился он.
— Мне восемьдесят два… И на моем веку было много войн, но эта… эта самая страшная… Скажите, молодой человек, вы спасете Россию? — Она взглянула ему прямо в глаза.
— Спасем, — тихо ответил Володька, склонив голову.
— Дай вам бог… — Старушка быстро, стараясь сделать это незаметно, перекрестила Володьку, который чуть смутился, и пошла от памятника.
Она шла неровной, колеблющейся походкой на своих нелепых каблуках, в своей нелепой соломенной шляпке — "осколок разбитого вдребезги", но еще живого и тем самым как бы соединяющего его, русского лейтенанта сороковых, с незнаемыми им русскими поручиками и капитанами тех прошлых войн, которые пришлось вести его стране.
Дома его ждало письмо из части, и оказалось оно не от Чиркова, а от самого комбата… Не очень-то долюбливал его Володька, но тут вдруг растрогался, вспомнил, как после последнего ночного наступления, в котором сам капитан шел в одной цепи с ними с карабинчиком в руках, вернулись они в рощу, и как присел комбат на пенек, весь почерневший, в измазанной телогрейке с белевшими клочьями вырванной пулями ваты, присел, закрыл лицо руками, и заходили у него ходуном плечи… А они — двое оставшихся в живых командиров — стояли и смотрели, сами еле сдерживая подкатывающие к горлу всхлипы… Нет, не забыть такого. Хоть и осуждал Володька комбата за то ночное наступление, хоть и был зол на него, но повязал себя тогда капитан со своим батальоном одной веревочкой, одной возможностью быть убитым в цепи рядом с любым рядовым бойцом.
И сейчас, читая скупые строчки письма, зовущие Володьку вернуться в свою часть, понимал лейтенант Володька, что не ушел этот человек из его жизни, да и не уйдет никогда, потому как связаны они навечно страшными ржевскими днями и ночами.
* * *
…Чуть больше недели осталось до перекомиссии, и Тоня после нескольких спокойных и радостных дней вдруг стала опять взвинченна и нервна.
— Что-то случится, Володька… Не знаю что, но произойдет что-то непредвиденное, и все наши планы рухнут.
— Ну, что может произойти? — успокаивал ее Володька.
— Не знаю, не знаю… Но я чувствую… — И она судорожно обнимала его при прощаниях, с каким-то отчаянием целовала. — Вдруг никто не приедет от папы?
Но Володьку тревожило другое… Все чаще и чаще вспоминались ему передовая, оставшиеся там ребята, как жались в одном шалашике при обстреле, как хлебали из одного котелка, как благодарили, когда свой доппаек (иногда кусочек масла, иногда несколько галет) делил он каждый день то с одним, то с другим, как провожали его, раненного, как жали руку, как желали счастливого пути… И все чаще сжималось сердце жалостью ко всем, кто был с ним там, ко всем, кто так безропотно и безжалобно выполнял его не всегда обдуманные приказы, кто так ни разу не укорил его ни в чем, хотя и было за что… И почти каждую ночь подступало к нему: а не предает ли он своих ребят решением ехать к Тониному отцу? Имеет ли право менять свою солдатскую судьбу? Сам ведь выбрал он ее, что ж? Повоевал три месяца — и на попятную?
Но в то же время, видя, как ожила мать после Тониного прихода, как ушли из ее глаз непрерывные напряженность и страх, понимал он, как трудно ему будет обрушить на нее другое и лишить только что обретенной надежды.
И вот в эти предпоследние дни совершенно неожиданно, без телефонного звонка, появилась Юлька.
— Как хорошо, что я вас застала! Бежала и думала: вдруг никого? И что тогда делать? — выпалила она, войдя в комнату. — У своих я была, и у меня еще час времени.
— Вам очень идет военная форма, — сказала Володькина мать, обнимая Юльку.
— Что вы? Гимнастерка велика, сапоги тоже… Ну, как вы тут живете? Когда у тебя перекомиссия?… Да, конечно, очень жаль, что так получилось, Володька, что твой отпуск мы провели не вместе, но ничего, — заявила она, тряхнув головой. — Мы обязательно встретимся на фронте. Что, не веришь? Ты знаешь, как у меня развито предчувствие. Я точно знаю — встретимся…
— Я поставлю чайник, — сказала мать и вышла на кухню.
— Только жаль, Володька, что ты оказался как все. — Юлька сняла пилотку и провела рукой по волосам.
— То есть как это? — не понял Володька.
— Как все мужики, — сказала она резко.
— К тебе приставали?
— У нас на сотню девчонок тысяча мужчин…
— Я предупреждал тебя. На фронте вас будет еще меньше…
— Ну, ко мне-то не очень пристанешь… Я знаю такие слова…
— Какие же слова?
— Я просто говорю: как вам не стыдно! Я пошла в армию воевать, а вы… Это очень нехорошо и стыдно.
— И помогают эти слова? — с горькой усмешкой спросил Володька.
— Очень здорово помогают.
— Ну, дай-то бог…
— Я принесла табак тебе. Я там не курю почему-то. А сейчас хочу. Заверни мне.
— Юлька, никакой Майки у меня не было, и я ее даже не видел, — сказал он, завертывая себе и Юльке цигарки.
— Честное слово? — совсем по-девчоночьи воскликнула она.
— Честное слово.
— Значит, это правда? Ой, Володька, как это хорошо! Я же считала тебя таким… ну таким… не как все другие. Скажи еще раз — честное слово.
— Это смешно, Юлька.
— Пусть смешно. Повтори, — Володька повторил.
— Но где же ты ночевал? Только не ври, что у Сергея.
— Я скажу… Понимаешь, я… я увлекся одной девушкой… Но у нас ничего не было. Могу дать опять честное слово.
— Володька, вот это-то меня совсем не интересует, — удивила она его. Разве я могу запретить тебе влюбиться! Это же от нас не зависит. А потом, ты же уедешь, и все это пройдет. А на фронте мы встретимся… — Увидев, что Володька пожал плечами, добавила: — Ну если и не встретимся, то уж после войны обязательно… И вот, Володька, — победа, мы возвращаемся с войны… Кругом будет много всяких девчонок, гораздо красивей меня, но тебе с ними будет неинтересно. Тебе просто не о чем будет с ними говорить… А со мной — будет. Ведь у нас с тобой святое, великое общее — война, фронт… Понимаешь?
— Неужели ты думала об этом, когда обивала порог военкомата? — Он поглядел на нее внимательно и по-новому.
— Конечно, думала! Ты меня все цыпленком считаешь, а думала, еще как думала… Поэтому-то мы и будем вместе после войны. Разве не так?
— Так, — ответил Володька, смотря на Юльку, и другое предчувствие полоснуло по сердцу.
Было что-то в высветлившихся ее глазах, хоть и улыбались они, — потухшее, такое же, как в глазах его ротного перед первым боем.
Из кухни вернулась мать, и Юлька спросила шутливо:
— Ксения Николаевна, правда, что Володька в кого-то втюрился?
— Не знаю, Юля, пусть Володя расскажет вам сам… — смутилась мать и собралась опять выйти из комнаты.
— Погодите, Ксения Николаевна… Мы сейчас присядем на минутку… Ведь я завтра… уезжаю…
— Как уезжаешь? — почти вскрикнул Володька.
— Боже… — прошептала мать.
— Приезжал один дядька с Калининского, какой-тб начальник связи. Так вот, ему срочно нужны связистки. Он спросил: кто хочет? Доучитесь, дескать, на месте…
— И ты?
— И я… захотела. Знаешь, надоело уже тут. А потом… месяцем раньше, месяцем позже, чего тянуть. Ты же уедешь через несколько дней.
— Ты не знаешь, что такое месяц! — бросил Володька.
— Господи… — опять прошептала мать и опустилась на стул.
— И когда же ты едешь?
— Завтра. Нас пятеро поедет. Очень хорошие девочки… С этим начальничком и поедем до места… Выходит, я раньше тебя на фронт попаду… Так присядем на дорогу?
Володька сел, сцепил руки и уставился в одну точку…
— Ну все, — поднялась Юлька. — Теперь ты поцелуешь меня на прощание и… скажи, несмотря на свою влюбленность, ты еще любишь меня немного?
— Люблю, Юлька… — сказал он, потому как чувствовал сейчас такую нежность, которую можно было, не кривя совестью, назвать любовью. Он подошел к ней, прижал худенькое Юлькино тельце к себе и поцеловал раз, потом еще… Он почему-то ясно ощущал, что больше он не увидит Юльку, что поцелуй этот последний…
— Ничего, Ксения Николаевна, что мы при вас целуемся? Это же на прощание, — спросила Юлька, счастливо улыбаясь, почувствовав искренность Володькиного поцелуя.
Потом она подошла к помертвевшей Володькиной матери, обняла, чмокнула в щеку и, заметив слезы на ее глазах, сказала:
— Только не плачьте, Ксения Николаевна… Мы обязательно с Володькой встретимся на фронте… Обязательно!
До трех вокзалов они шли пешком… Юлька что-то рассказывала о своих девочках из роты, что некоторые боятся после войны не выйти замуж, так как не останется парней их возраста, что некоторые, их немного, все-таки трусят, хоть и пошли добровольно, и жалеют об этом, но она, Юлька, разумеется, не жалеет, но немножко пугают ее трудности быта, жизни среди мужчин… Володька не очень-то вникал в ее болтовню. У него ныло в груди какое-то очень определенное предчувствие, что эти минуты с Юлькой — последние… И чем беззаботней и веселей была ее болтовня по пустякам, тем сильней и глубже это пронизывало его…
Не сговариваясь, они оба повернули к Октябрьскому вокзалу и вошли в зал ожидания… Вокзальная предотъездная суета взбудоражила их, и они долго бродили по залам, прошлись по перрону… И пыхтение паровозов, их протяжные гудки, дым, пахнувший разлуками, лязганье буферов, нервные, приглушенные разговоры отъезжающих погрузили Володьку в то томительное, не всегда радостное, но всегда значительное предощущение дороги, которое неизменно испытывал он на вокзалах и станциях, каких немало было в его короткой жизни… Не важно, что предстоящие ему дороги была дорогами в неизвестное, дорогами, может быть, в никуда, дорогами последними, но они всегда тревожили и возбуждали…
Они подошли к расписанию и узнали, что на Калинин идет только один поезд, днем. С ним-то и должна уехать Юлька, а оттуда, как сказал им майор, поедут они машиной до места… На вокзале Юлька затихла, и ее рука, до которой дотронулся Володька, была холодной.
— Не знаю, стоит ли тебе меня провожать завтра? Боюсь разреветься…
— Но-но, товарищ красноармеец, это не положено, — попытался пошутить Володька.
До Матросской Тишины они шли почти не разговаривая… У казармы Володька поцеловал Юльку, но ее губы были холодны, и она не ответила на поцелуй. Возбужденность, с которой она пришла к ним в дом, видимо, прошла — Юлька как-то завяла, будто очень и очень устала… Он долго смотрел ей вслед, как дошла она до проходной, как перекинулась несколькими словами с постовым, как оглянулась и улыбнулась Володьке такой же жалкой, вымученной улыбкой, как и у призывного пункта…
Володька постоял еще немного, потом вынул из кармана черный футлярчик смертного медальона, развернул его, вынул вложенную туда бумажку, прочел Степанов жил где-то у Крестьянской заставы.
* * *
Он долго бродил по каким-то переулкам с одноэтажными деревянными домами, прежде чем нашел нужный. Долго стоял перед дверью, не зная, что ему говорить и как вести себя, если Степанова еще не получила похоронку, и так, ничего не придумав, постучал.
Открыла ему девочка лет двенадцати, поглядела на него и, ничего не спросив, убежала в темноту коридора.
— Мама, мама! К нам дяденька с фронта…
Володька сделал шаг… Навстречу ему шла женщина, на ходу вытирая мокрые руки.
— Вы к нам? — спросила, остановившись перед ним и глядя холодноватыми, настороженными глазами.
— Вы — Степанова? — Она кивнула в ответ. — Тогда к вам.
— От мужа? — спросила она сдавленным голосом, и он почувствовал, как напряглась она вся.
— Мы вместе воевали…
— Он жив? — задала она самый главный и страшный вопрос, но каким-то странно равнодушным голосом.
— Вы ничего не получили? — проклиная штабную канцелярию, пробормотал Володька.
— Нет, ничего, — мертво ответила она и перестала вытирать руки, которые плетьми упали вдоль тела. — Ну, проходите же, чего мы тут, в коридоре. — Она открыла дверь комнаты и пропустила Володьку.
В довольно большой комнате — простой стол, три кровати, славянский шкаф с зеркалом, в беспорядке расставленные венские стулья. На одной из кроватей, прижавшись друг к другу, сидели девочка, открывшая ему дверь, и мальчуган лет семи. Они смотрели на Володьку как-то очень серьезно, без обычного детского любопытства.
— Садитесь, — сказала женщина, подвигая ему стул, и сама села напротив.
— Спасибо, — поблагодарил он и взглянул на ребят — говорить при них было нельзя.
— Маша, пойдите прогуляйтесь, — поняла женщина его взгляд.
— Да, мама, — сразу согласилась девочка, взяла брата за руку, и они вышли из комнаты.
Женщина стала скручивать цигарку из филичевого табака, пачка которого лежала на столе. Руки ее дрожали. Володька вытащил папиросы и предложил. Она взяла, поблагодарив.
— Никак не научусь крутить, — сказал она, бросив изорванную бумажку на стол. — Да и табак этот — одно название. — Володька зажег спичку. — Вы давно… оттуда-то?
— Третьего мая меня ранило… Отпуск у меня к концу идет, — поспешил добавить он.
Женщина молчала. Молчал и Володька. Оба оттягивали неизбежное.
— Вы, наверное, тот самый лейтенант, о котором муж с Урала писал?
— Он писал?
— Да. О взводном.
— Тогда обо мне. Что же писал?
— Могу показать письмо, если хотите.
— Покажите. — Женщина поднялась, нашла письмо, протянула Володьке. Он стал читать:
"Командир наш взводный вроде ничего, только больно горяченький да молоденький. Правда, хорошо, что не из новоиспеченных — служил кадровую, дело вроде знает. Но боюсь, дров наломать может. Нас гоняет на тактических, жмет на рукопашный, а будет-то на фронте совсем не так: и тактика эта не пригодится, а уж рукопашный тем более. Намекал я ему, что, дескать, это все ни к чему, что отдохнуть людям надобно. Уж я-то знаю, сколько силенок передок потребует, но впустую намеки мои. Пока сам этого хлебова не попробует — не поймет. Нога моя совсем зажила, но когда лейтенант все бегом и бегом — чувствую боль, и трудно мне это…"
Сжало у Володьки горло запоздалой жалостью, вспомнил, как гонял ребят по сугробам, как доводил их со штыковым боем… И верно, не пригодилось ничего. Положил он письмо и дрогнувшим голосом сказал:
— Да, про меня это…
И опять тягостное молчание придавило обоих.
— Ну, чего уж больше тянуть, — сказала наконец женщина. — Поняла я сразу, как вас увидела. Когда убило-то?
— В апреле.
— Чего ж похоронку не присылают? Вы точно знаете, что убило?
— На моих глазах… Вот, — достал он смертный медальон. — Сам из кармана вынул, чтоб адрес узнать. Он говорил: "Ты, землячок, если в Москву таким случаем попадешь, зайди ко мне непременно и расскажи, как мы на этом болотном пятачке помирали. Ну, а я, ежели живой останусь, к твоим зайду".
И опять потянулось тягостное молчание… Женщина не плакала, не всплескивала в отчаянии руками, только лицо окаменело и чуть подрагивали руки, когда подносила ко рту папиросу.
— Трудно было ко мне идти?
— Да.
— Вижу. Сколько времени не решались. Понимаю, что такую весть приносить и врагу не пожелаешь… Но я-то, я этот час давно поджидала. И приготовилась. Не было у меня надежды, с самого начала не было. Как письмо его с дороги получила, так в сердце что-то и ударило — не увижу больше. Я вам, наверное, бесчувственной кажусь? А я эту минуту в своей душе не один раз уже пережила… Другие как-то надеются все, до последнего… Похоронку получат — и то все надеются… А я как письма перестала получать, так и поняла: все. Так что не удивляйтесь. Все у меня было — и слезы и отчаяние, все.
— Я пришел… — стал выдавливать из себя Володька. — Я должен… должен рассказать вам, как все это…
— Не надо, — прервала его она. — Скажите только, захоронили где? Может, после войны удастся на могилу съездить.
И опять ударило Володьку по сердцу. Не может же он сказать, что оставили они Степанова на поле, что еле-еле раненых вытащили, живых, что не до мертвых было, когда немец не переставал разметывать их огнем до тех пор, пока ни одного человека не осталось на поле.
— Я… я не знаю точно. В похоронке должны написать. Ну, — а место, где находились мы, могу назвать. Это от Ржева километров двадцать на северо-запад… Три деревни там — Погорелое, Черново, Усово… За Черново лес большой, там наш передний край проходил. В лесу мы и хоронили.
— В общей могиле, значит?
— Да, в общей… — ответил он, а сам подумал: потому и похоронку не присылают пока, что надо в ней место захоронения указать, а убрали ли с поля убитых или нет? Видно, не убрали еще. Да и как их уберешь? Пробовали. Посылали по четыре человека ночью, а возвращались три. За каждого мертвого по одному живому отдавать приходилось. И оставили. Но и этого не скажешь женщине.
— Надо бы помянуть Василия… Есть у меня пайковая бутылка, да для продажи приготовила… Но ладно уж, — Она медленно поднялась и пошла к буфету.
— Не надо, — быстро остановил ее Володька. — Дети у вас…
— Да, дети… Не обессудьте тогда. — Она вернулась к столу, села. — Ну, вот все… Настоящая я теперь вдова.
— Я все же должен рассказать вам… — начал опять Володька.
— Что? Почему вы живым остались, а он мертвый? Про это хотите? Так я не виню вас… Каждому своя судьба.
— Но я… я виноват. Не послушал его тогда, в том бою…
Женщина подняла голову, прошлась глазами по его лицу, и еле заметная горькая усмешка тронула ее губы.
— Наломали-таки дров?
— Наломал… — опустил глаза он и весь сжался.
Женщина долго молчала, потом, вздохнув, сказала тихо:
— Бог вам судья. Не хочу я ничего знать.
— Но я должен… должен объяснить вам, что по-другому поступить я не мог. Понимаете, не мог!
— Хотите, чтоб полегчало вам? А обо мне подумали? Каково мне будет думать — кабы не этот мальчишка-лейтенант, живым мог остаться муж мой? Этого хотите? Не надо ничего, — устало закончила она и лишь через некоторое время продолжала: — Что ж, возненавидеть мне вас? А вам через несколько дней опять на войну. Нет, не говорите ничего. Одна война во всем виновата. Только скажите: мучился перед смертью Василий?
— Нет.
— Вот это самое главное. Ребятам, наверное, не скажу пока, — в раздумье проговорила она. — Пусть надеются. Скажу, что ранен сильно отец, писать не может… Не проговоритесь, когда уходить будете.
— Да, конечно…
— Ну, ладно, — поднялась она. — Даже не знаю, что и сказать вам. Благодарить за то, что такое известие принесли, как-то слова не выговариваются… Ну, а что зашли, все же хорошо, наверное. Исполнили последний наказ Васин… Отпускаю я вам вину вашу, если и есть она какая. Ну, прощайте, — протянула она руку.
— Спасибо вам, — пожал Володька холодную, безжизненную руку, и вдруг то, что сжимало ему горло все это время, прорвалось — он опустился на стул, закрыл лицо и зарыдал.
Женщина положила ладонь на его вздрагивающее плечо, потом перенесла на голову и стала тихо поглаживать.
— Ну, будет вам, будет… Мальчик вы еще совсем… Ну, будет…
А он, бывший отчаянный ротный лейтенант Володька, не позволивший себе ни единой слезинки на передовой, сейчас не мог совладать с собой и бился в всхлипах, ощущая, как горячие слезы пробивались сквозь пальцы и тяжело падали на стол.
— Ну, будет вам, идите, а то и мне держаться невмочь уже. — Она отвела его руки от лица и взяла за плечо.
Володька поднялся и, пошатываясь, вышел из комнаты. Женщина проводила его по коридору, придерживая за плечо и повторяя:
— Ну, будет вам, будет…
Очнулся он на улице, когда, щелкнув английским замком, закрылась за ним входная дверь. Его еще пошатывало, еще били беззвучные рыдания, но он чувствовал, как с каждым толчком его сердца выбивалась из него та холодная тяжесть, которую носил он все дни отпуска и которая мешала ему ощущать и радость возвращения, и радость свидания с близкими, и радость любви к Тоне…
Он глубоко и как-то свободно вздохнул. Огляделся — золотое закатное небо с медленно поднимающимися лиловыми тенями аэростатов заграждения висело над уже окутанными синей предвечерней дымкой московскими домами…
Когда он добрался до Садовой, было уже около десяти вечера и ехать к Тоне вроде бы поздно, да и хотелось ему сегодня побыть одному. Он подошел к телефону-автомату и набрал Тонин номер.
— Куда ты пропал? Я звоню тебе целый вечер. Приезжай немедленно. — Голос Тони и вправду был измучен. — Что произошло?
Володька, поразившийся женской интуиции, ответил не сразу.
— Ничего не произошло, Тоня. Я сейчас далеко от Зубовской, пока доеду… Я приду к тебе завтра утром.
— Нет, приезжай сейчас. Володька, я прошу тебя — приезжай немедленно, иначе я не знаю, что со мной будет… Слышишь — немедленно.
— Хорошо, Тоня, еду.
Пока троллейбус тащился по Садовой, Володька думал, говорить ли Тоне об отъезде Юльки и о посещении им вдовы Степанова. Но так и не решил…
Тоня, открыв ему дверь, сразу же спросила:
— Что случилось?
— Ничего не случилось. Тоня, — ответил он, опять удивившись женской догадливости.
— Случилось… Я вижу по твоему лицу. Говори, Володька, и не мучай меня.
— Приходила Юля…
— Ну и что?
— Приходила прощаться… Завтра она уезжает на фронт.
— Господи, — упавшим голосом прошептала Тоня. — Ты пойдешь ее провожать?
— Нет, она не хочет… Она уверена, что мы встретимся на фронте.
— Но ты же знал, она рано или поздно должна уехать…
— Да, знал… Принеси воды, пожалуйства, — попросил он.
Тоня принесла воды, которую Володька жадно выпил, и положила руку ему на голову.
— Я понимаю, Володя… Это несколько неожиданно для тебя. Ну ничего, вряд ли их пошлют на передовую. У вас же не было девушек-связисток?
— У нас не было…
— Ты хочешь есть? Сейчас я разогрею консервы… Без тебя я даже этого не могу. За весь день — ни кусочка. — Не дожидаясь Володькиного ответа, она вышла на кухню, а возвратившись, обняла его. — Ты помнишь, когда мы каждый вечер прощались в прихожей, я говорила, что мне страшно того последнего вечера, после которого ты уже не придешь?
— Помню.
— Сейчас у меня нет этого страха… Пока папина часть недалеко от Москвы, он сможет, наверно, посылать тебя в командировки. И твой приезд будет всегда неожиданным — вдруг звонок, и лейтенант Володька появляется на пороге, и я буду умирать от счастья. Ведь здорово?
— Да, — пробормотал Володька, а сердце сжалось оттого, что скоро — нет, не сегодня, сегодня нельзя — должен он будет разрушить все Тонины надежды. Юлькин отъезд на фронт, да еще на Калининский, добавил ту последнюю каплю, которая и перевесила чашу весов, — все стало на свое место. Выбор был сделан, и после этого уже было не так трудно идти к Степановой.
— Разогрелось, — сказала Тоня, сходив на кухню и принеся еду.
— Что-то не хочется…
— Это мясные консервы, — с ударением на "мясные" произнесла она и поставила перед Володькой сковородку, а потом вдруг, вскинув на него глаза, вздрогнула и прошептала: — Что произошло еще, Володя?
Володька поднял голову, столкнулся с Тониным вопрошающим взглядом и уткнулся в сковородку. "У человека не одно "надо" — вспомнились ему слова Сергея.
— Я был у Степановой, — с трудом произнес он.
— Зачем?! Я же просила тебя!
— Это было необходимо, Тоня.
— Стало легче? — спросила Тоня.
— Не знаю, — пожал плечами Володька. — Наверно.
— Тогда — слава богу.
Володька посмотрел на часы и резко поднялся.
— Мне пора.
— Нет, нет! Не уходи! — бросилась она к нему. — Ты так мало был у меня!
— Я все оставшиеся дни буду только у тебя, Тоня… Только у тебя. И вообще… спасибо тебе. Без тебя мой отпуск прошел бы пусто, скучно, а с тобой было хорошо… очень хорошо. Ну, и я пойду. Я все время буду у тебя, все время… — Володька медленно отступал к двери.
— Володька! — остановила его Тоня. — Поклянись мне, что никакого сумасбродства. Поклянись! Иначе не отпущу! — Тоня схватила его руку и крепко держала.
— Да, Тоня, никакого сумасбродства… Я приду утром и буду весь день, приду…
До Зубовской он бежал… Троллейбус, на который он сел, был пуст. Видимо, последний. Синие лампы еле-еле освещали салон неприятным мертвым светом. От Самотеки Володька пробирался дворами, благо они стали проходными — все заборы были сожжены зимой москвичами, — наступил уже комендантский час, и он боялся наткнуться на патруль.
Домой он вернулся в первом часу.
— Я думала, ты уже не придешь, — встретила его мать вздохом облегчения. Будешь пить чай? Я тоже выпью с тобой.
Володьке показалось, что матери хочется поговорить с ним, и он согласился. За столом она часто поглядывала на него тем мучительным вопрошающим взглядом, от которого Володьке было не по себе. Он знал, о чем спросит его сейчас мать, и он внутренне сжался.
— Володя, отъезд Юли… — начала мать.
— Не знаю, мама, не знаю, — резко прервал Володька и поднялся.
* * *
На другой день отправился Володька на Домниковку — надо с Егорычем проститься, да и с Надюхой. Неудобно получилось — не заходил к ней с того раза…
Егорыч сидел во дворе на скамеечке — сумрачный, вялый, смолил самокрутку.
— А, лейтенант… — как-то равнодушно поприветствовал он Володьку. — Чего не заходил? Поминала тебя Надюха…
— Дома она? — спросила Володька.
— Нет, на работе.
— Передай ей привет тогда.
— Что привет? Зашел бы, приласкал… Пожалела она тогда…
— Понимаешь, Егорыч, не успею я… А потом… Ты передай ей, что встретил я… ну, одну свою девушку… Она поймет.
— Чего не понять — побаловался и в сторону. Нехорошо, браток. Она ж не такая, чтоб с каждым… Значит, понравился ты ей.
— Ты передай, она поймет…
— Поймет — не поймет, мое дело маленькое, передам… — Егорыч затянулся и выплюнул цигарку. — Знаешь, не вышло у меня с этой торговлей, черт бы ее подрал. Из-за нее, проклятой, привык к стаканам… День не выпью — сам не свой. Вот какое дело, браток, получилось. — Он подрагивающей рукой вынул платок, отер пот со лба. — На работу сейчас устраиваюсь. Хоть какое дело, но буду делать. Когда уезжаешь-то?
— На днях…
— Ну что ж, бывай… Хочешь, я тебе про один канал расскажу? На прощальный вечерок водочки-то нужно достать… Так вот, иди в бывший Елисеевский и прямо к директору — так и так, пришел конец отпуску, а выпить на дорожку нечего. Он тебя сразу — платите в кассу шестьдесят рубликов, ну, а когда ты чеки выбьешь, он тебе из собственного сейфа две бутылки. Понял? Мировой мужик… Только по второму разу не вздумай — прогонит.
Володька поблагодарил за "канал", хотя знал, что никакой водки добывать он не будет: не до нее как-то. Попрощался с Егорычем, который напоследок расчувствовался, жал Володькину руку и приговаривал:
— Ты поосторожней там… Что ни говори, а береженого и бог бережет, хотя и понимаю — от судьбы не уйдешь. Но ты все же подумай и о себе, и о ребятках своих… Наобум и на авось воевать негоже.
— Я понял это, Егорыч… Понял…
* * *
Осталось до перекомиссии пять дней… Рана на Володькиной руке давно затянулась, пальцы работали, правда, чуть больновато было, когда кисть сильно сожмешь, но врач сказал, что отпуск ему не продлят — годен Володька к дальнейшей войне.
Начальник штаба Тониного отца должен был приехать сегодня вечером. Так как никто не знал, когда он поедет обратно, — вероятно, что завтра утром и уедет, то прощальный вечер Тоня решила устроить сегодня.
Володька лежал в своей маленькой комнатке при кухне с раскалывающейся от боли головой. Уже второй день ломило голову, видать, оттого, что мучило Володьку — как он скажет матери и Тоне о принятом решении. Не думал он, что будет это таким трудным. И не раз всплывали в памяти слова Сергея о том, что у человека не одно "надо".
Из кухни, где хозяйничали мать и Тоня, до Володьки доносилась часть разговора.
— Знаете, Ксения Николаевна, мне сейчас даже хочется, чтоб Володя поскорей уехал к отцу. Меня не пугает разлука, лишь бы он был там. Все время кажется что-то случится, что-то случится…
— Что может случиться, Тоня? — успокаивала мать.
— Не знаю… не приедет папин сослуживец или еще что-нибудь…
Для Володьки каждое слово — будто удар по голове, и он закрывал уши руками…
Потом он слышал, как пришел Сергей, поздоровался, спросил, где Володька, передал что-то из продуктов, бросив: "Тут кое-что к столу", — а затем, видно, присел на кухне и со вздохом сказал:
— Вот и пролетели сорок дней…
— Именно пролетели, Сережа… И они были очень нелегкими и для меня и для Володи. Он так ничего и не рассказал мне о фронте, но я о многом догадалась сама… — Мать тоже вздохнула.
— В Володьке слишком много психологии, — заметил Сергей.
— Это хорошо или плохо? — спросила Тоня.
— Увы, мы все воспитаны на святой русской литературе, а в ней слишком много психологии.
— Этим она и хороша, — сказала мать.
— Для мужчины много психологии, наверно, плохо, — заявила Тоня уверенно.
— Браво, Тоня! Для дочери военного такое заключение вполне естественно. Я согласен — плохо. — Сергей засмеялся.
— Сережа, вы сами не верите в то, что говорите.
— Возможно, Ксения Николаевна, возможно… — небрежно бросил Сергей.
Потом они говорили еще о чем-то. Володька не прислушивался — голову толчками била боль, но когда Тоня завела разговор о Степановой, он напрягся.
— Какой Степановой? — спросила мать.
— Это жена… точнее, вдова его однополчанина, — ответила Тоня. — Когда он пришел от нее, я еле-еле вырвала у него клятву не совершать сумасшедших поступков…
— Расскажите подробней, Тоня. Я ничего об этом не знаю, — взволнованно попросила мать.
— Ну, Володька, выполняя приказ, не послушал этого Степанова… В общем, почему-то он считает себя виноватым в его гибели…
— Опять психология, — бросил Сергей.
— А может, это совесть, — не сразу и очень тихо произнесла мать.
— Глупость! — быстро вступил Сергей. — В суматохе боя совершенно невозможно рассчитать последствия своих поступков. Володька ни в чем не виноват!
— Что вы еще знаете? — так же тихо спросила мать, но тут раздались звонки в дверь, и она пошла открывать. — К тебе пришли, Володя.
Володька с трудом поднялся, вышел из комнаты — в кухне стояли Витька-"бульдог" и Шурка-"профессор".
— Проститься пришли, Володь… В училище нас берут. Меня в артиллерийское, а Витьку в пехотное, — сказал Шурка.
— Прекрасно, что в училище! — бодро произнес Сергей. — Через три месяца лейтенанты.
— Нам сказали — шесть месяцев, — уточнил Витька.
Володька смотрел на этих мальчишек и думал, что действительно через шесть месяцев они будут командирами, будут распоряжаться жизнью и смертью десятков людей, и нет у них за плечами даже тех лет срочной службы, которым он придавал такое значение.
— Как настроение? — таким же бодрым голоском спросил Сергей.
— Хорошее, — ответили они разом.
— Витька, ты хоть знаешь, сколько бойцов в стрелковом взводе? — как-то уныло задал вопрос Володька.
— Пока не знаю… Но подучат нас, Володь…
— Подучат, подучат, — подтвердил Сергей.
У Володькиной матери повлажнели глаза. Она подошла к ребятам, провела рукой по остриженным их головам и прошептала:
— Мужества вам, мальчики, мужества.
Потом ребята простились со всеми за руки, особенно трясли Володькину, и вышли тихо, чинно, как и вошли.
— Господи, — пробормотала мать. — Такие мальчики — и будут воевать.
— Я таким же был на финской, — пожал Сергей плечами, вынул папиросы, закурил.
Затем они пошли в комнату, сели за стол. Володька тер голову и морщился от боли.
— К нашему счастью, — начал Сергей, — сегодняшний прощальный вечер не должен быть уж очень печальным. Конечно, фронт есть фронт, но будем надеяться, Володька, что твоя дальнейшая служба будет немного полегче и тебе не придется больше хлебнуть того, что довелось подо Ржевом. Мне хочется поблагодарить Тонечку, которая, как я уже говорил не раз, прямо-таки ангелом-хранителем пришла в этот дом… Но хочу напомнить, — добавил он шутливо — без меня вашей встречи не произошло бы. Салют!
Надо сейчас и сказать, думал Володька, надо сейчас и сказать… Рубить так сразу! Чем дальше, тем трудней будет это. Он измученным взглядом обвел всех, и когда встретился с глазами матери — та вздрогнула, сжалась, отвела глаза, а потом вдруг выпрямилась и сказала тихо, но очень отчетливо:
— По-моему, мы все заблуждаемся… Володя… Володя… кажется, принял другое решение…
— Мама! — вырвалось у Володьки облегченно, и сразу же прошла боль, сдавливавшая его голову.
— Володька! — вскрикнула Тоня.
Сергей каким-то мертвым голосом, глухо спросил:
— Это правда, Володька?
— Мама… значит, ты поняла… Тоня… Простите меня, но по-другому я не могу. Я должен… должен к своим ребятам… Ждут же меня… Им, только им я должен доказать… Понимаете? Должен!
— Нет, нет! Володька! Ксения Николаевна! Сергей! Да скажите же ему! Нельзя так, нельзя! Он ни о ком не подумал — ни обо мне, ни о матери! Ни о ком!
— Он и обо мне не подумал, — странно усмехнувшись, сказал Сергей.
— Вы-то здесь при чем? — почти грубо и в упор спросила Тоня.
— Во мне тоже есть эта… психология, — он пожал плечами. — И я тоже воспитан на этой самой… святой… — Он оглядел всех с той же непонятной усмешкой, а потом, буркнув "Салют!" — быстро вышел из комнаты.
Володька бросился за Сергеем, но в коридоре уже хлопнула входная дверь, и он вернулся. Не входя в комнату, он услышал, как мать что-то говорила Тоне…
Он повернулся и пошел в свою комнату, бросился на кушетку вниз лицом. Самое главное позади. Он закрыл глаза, и перед ним поплыла дорога… Замелькали телеграфные столбы, побежали поля, перелески, березовые рощи, бедные серые деревни — русская, родная, политая потом и кровью земля, которую должен он во что бы то ни стало защитить и спасти…
И покой, особенно ощутимый после разлада и разброда последних дней, сошел на него: он возвращается "на круги своя", на свой, выбранный им самим путь, путь, по которому идет его народ, и ему остается только одно — пройти этот путь достойно, без тех ошибок и недогадок, которые допустил по неопытности и по мальчишеству…
Он сразу словно вырубил себя из московской жизни… Он был уже там, подо Ржевом, рядом со своими ребятами.


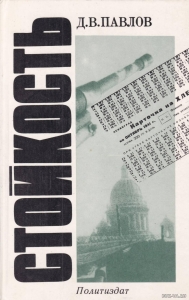

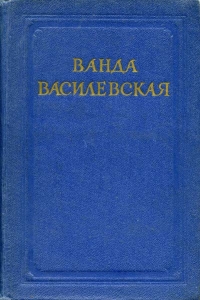


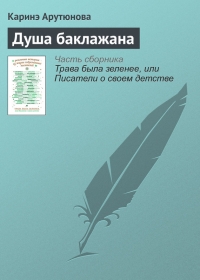
Комментарии к книге «Отпуск по ранению», Вячеслав Кондратьев
Всего 0 комментариев