И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.
Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?
Иоанна, IX, 122Вместо предисловия
Миновало сто лет с тех пор, как на Дальнем Востоке грохотали залпы, рвались торпеды, тысячами гибли человеческие жизни. Сражались две империи, которым судьба определила быть тихоокеанскими соседями.
Всему миру стали тогда известны Чемульпо и Ляоян, Кинчжоу и Мукден. Но прочнее всего в историю вошли Порт-Артур и Цусима. Небольшой порт в Северном Китае и островок, затерянный в океане между Кореей и Японией, попали на первые полосы газетных обозрений, затем перекочевали в учебные курсы, монографии, исторические атласы. И ни две грандиозные мировые войны, ни революции, ни нынешние конфликты на Ближнем Востоке так и не заставили нас забыть о войне 1904–1905 годов.
Война эта породила обильнейшую литературу, в том числе — мемуарную. Перед нами воспоминания человека, не ставшего крупным военным деятелем. Не он решал судьбы миллионов, распоряжался флотами и армиями. Он был честолюбив (как почти любой из нас), но не мог похвастаться старинной дворянской родословной, капиталом или же придворными связями, которые облегчали карьеру.
Выходец из семьи заурядного петербургского чиновника, Владимир Иванович Семёнов не владел недвижимостью. В служебных формулярах таких офицеров значилось: «Средств не имеет». Он стал «одним из многих», на плечах которых лежала основная тяжесть повседневного руководства нижними чинами.
Отдавший морской службе около двадцати лет, много плававший на старых и новейших судах двух флотов — Балтийского и Тихоокеанского, хорошо образованный, Семенов к 1904 году дослужился только до лейтенантского звания. Это и не удивительно. С фотографии на нас смотрит, судя по облику, человек беспокойный, готовый к полемике, задиристый — словом, не «службист». Он в этом отношении имел много общего со своим старшим современником — Николаем Оттовичем фон Эссеном, которого на пятом десятке назначали командовать то захудалым портовым пароходом, то маленькой номерной миноноской. Но Эссен позже все же вошел в военную элиту империи — стал адмиралом, а Семёнов — нет.
И все же судьба наградила Владимира Семёнова. Первый из ее даров — литературный талант. Семенов переводил с японского, публиковал фантастические повести, фельетоны, сатиры, даже стихи. Он составил первую биографию адмирала Макарова. Из стихов Семёнова выделяется поэма «Петропавловск», посвященная триумфу наших воинов — обороне Камчатки во время Крымской войны. Такой человек без труда мог бы стать казенным летописцем. «Царь и бог» русского Дальнего Востока, наместник императора адмирал Алексеев недаром предлагал 33-летнему худородному лейтенанту-строевику перейти к нему адъютантом.
Вторым подарком судьбы стало состоявшееся в конце 90-х годов знакомство с самыми известными нашими адмиралами эпохи парового флота, столь не похожими друг на друга, — Макаровым и Рожественским. Заметим, что все трое двигались по службе без протекции (Макаров был из семьи боцмана, Рожественский — из семьи священника), что незримой стеной отделяло каждого из этих адмиралов от многих их собратьев знатного происхождения. Ведь несмотря на адмиральские эполеты, Макаров и Рожественский так и не стали своими среди моряков-аристократов: светлейших князей Ливенов, «просто князей» Трубецких, Черкасских и Церетели, графов Капнистов, что и способствовало сотрудничеству «беспородных» флотоводцев с такими же, как они сами, офицерами.
Карьера Владимира Семёнова, добровольно поехавшего на войну с Японией, сдвинулась с мертвой точки. Служба под началом Макарова принесла ему погоны капитана 2-го ранга, а работа с Рожественским — звание начальника военно-морского (оперативного) отдела штаба эскадры.
В дни расплаты империи за грехи мирного времени Сёменову выпала уникальная участь. Ему суждено было стать единственным офицером, сражавшимся сначала на Первой, а затем на Второй Тихоокеанской эскадрах нашего флота. Он — единственный со стороны России участник двух великих морских битв — Шантунгской 28 июля 1904 года и Цусимской 14–15 мая 1905 года. Он же стал не казенно-официальным, а независимым летописцем драматической борьбы, которую пришлось вести нашим эскадрам в водах Дальнего Востока.
Правда, в последнем качестве Владимир Иванович не был одиночкой. Кадровые строевые офицеры — Бубнов, Вырубов, Колоколов, Таубе и Штер, корабельные инженеры Костенко и Политовский, бывший матрос Новиков-Прибой — таков далеко не полный перечень его собратьев, морских мемуаристов японской войны. Однако Владимир Семнов далеко превосходит их в искусстве владеть пером. Его слог упруг, динамичен, по-современному отрывист. Его диалоги — подлинный разговорный язык эпохи начала XX века. И вместе с тем это добротный литературный язык человека, воспитанного не только на морском уставе и технических инструкциях, но и на Карамзине и Гоголе.
Удивительная была эпоха! Человек всю сознательную жизнь служил государству. Впрямую зависел от государства, от казны. А писать умел не по-казенному.
Мы совсем не обязаны принимать на веру все, что писал автор «Расплаты». Владимир Семенов был откровенным недоброжелателем наместника Алексеева, страстным оппонентом капитана Кладо, рьяным защитником адмирала Рожественского, недостатки которого замалчивал. Но Семенов никогда и не рядился в тогу объективности. В его словаре слов «объективность» и «субъективность» не было вовсе.
В наше время справедливо говорят, что воспоминания — самый субъективный источник. Но данный недостаток — одновременно и достоинство. Воспоминания доносят до нас живые голоса и помыслы наших предков. На страницах «Расплаты» — пламя истории, а не ее пепел. И сколько же близкого и понятного нам, потомкам, на этих страницах! Смелость физическая — и смелость гражданская, бюрократическое руководство — и творческое начало, военное могущество империи — и ее неспособность переломить ход войны, стойкость многих — и их зачастую напрасная гибель. Беззаботная и безумная растрата самого дорогого капитала — человеческого — и горькая гордость тех, кто нанес сильному врагу серьезный урон и уцелел.
Сто лет назад напряженная борьба на море с соседней империей завершилась нашим поражением. Война эта считается едва ли не самой неудачной в нашей истории. Чужое знамя взвилось над Порт-Артуром, Дальним и Южным Сахалином. Рейды Кронштадта, Либавы, Владивостока надолго опустели. Две наших эскадры перестали существовать. На дне Тихого океана нашли могилу почти семь тысяч русских моряков. Но они сложили головы в честной борьбе, вызвав уважение противника.
И мы ловим себя на мысли — а была ли их трагическая и славная участь хуже участи нашего теперешнего флота, корабли которого безо всяких боев и без славы изгнаны из многих исторических баз. Ныне они обречены ржаветь на якорных стоянках («из-за отсутствия кредитов», как говорили сто лет назад) или гибнуть от бесконечного разгильдяйства в мирное время, к тому же в родных водах.
До такой расплаты Владимир Семенов не дожил…
Доктор исторических наук Сергей Данилов
Трагедия Цусимы
От автора
«Расплата», еще в то время, как она печаталась в виде ряда фельетонов в газете «Русь» (в настоящей своей редакции она значительно мною пополнена против первоначальной), — вызвала в печати несколько статей и заметок, авторы которых обыкновенно называли ее «воспоминаниями».
Не могу воздержаться, чтобы не протестовать против такой характеристики моего труда. «Расплата» не есть «воспоминания», а переданный в литературной обработке «дневник» очевидца, и в этом вся ея ценность, как исторического материала. Я вел этот дневник с 17 января 1904 г. до 6 декабря 1906 г. (и даже дальше) изо дня в день, а в дни особо знаменательные — из часу в час. Все, о чем я рассказываю, основано на записях, сделанных тогда же: часы и минуты записаны в самый момент совершавшегося события; настроение, господствовавшее в данный момент, непосредственно вслед за тем и отмечено; даже разговоры, отдельные замечания — и те заносились в дневник под свежим впечатлением (конечно, в сжатой, отрывистой форме).
Мне приходится особенно настаивать на том, что в «Расплате» нет ничего, рассказанного «на память» (конечно, есть примечания, есть пояснения, но всегда с оговоркой, что те или иные сведения получены позже), особенно настаивать на ее характере «дневника» потому, что из личного опыта я мог убедиться (и неоднократно), как обманчивы «воспоминания». В бою — тем более. Не раз, перечитывая собственные свои заметки, я, если можно так выразиться, сам себя уличал, обнаруживал, что совершенно определенное представление о подробностях того или иного момента, очевидно, создавшееся под влиянием (под внушением) рассказов, слышанных впоследствии, оказывалось в противоречии с записью, сделанной en flagrant delit, но стоило лишь прочесть эту короткую, в несколько слов, заметку, чтобы в памяти вновь ярко восстала действительная картина происшедшего.
Позволю себе привести здесь пример того, как основательно можно забыть подробность, не только не оставленную в свое время без внимания, но даже отмеченную, тогда же и собственноручно, в записной книжке.
Японцы в официальном описании боя при Цусиме (14 мая 1905 г.) упоминают, что в 4 ч. 40 мин. пополудни (по нашим часам в 4 ч. 20 мин., так как они считали время по меридиану Киото, а на эскадре — по меридиану полуденного места перед боем) отряд их дестройеров под командой капитана 2-го ранга Судзуки атаковал вышедший из строя, объятый пожаром «Суворов», причем одна из выпущенных мин попала в кормовую часть броненосца с левой стороны, и он накренился градусов на 10. Никто из лиц, снятых с «Суворова» на «Буйный», не помнили о таком взрыве и прямо отрицали самую возможность его, утверждая, что подобный факт не мог бы пройти не замеченным ими, несмотря даже на тот адский расстрел, которому в то время подвергался «Суворов». Вместе с тем многочисленными свидетельскими показаниями офицеров и команды «Буйного» было установлено, что когда миноносец подходил к «Суворову», то последний «имел крен налевую, приблизительно градусов 10, если не более». Снятые с «Суворова» офицеры и нижние чины подтверждали эти показания, так как все хорошо помнили, что бесчувственного адмирала удалось сбросить на миноносец по спинам людей, цеплявшихся за обухи и кронштейны, расположенные по ватерлинии правого борта, которая в то время была высоко над водой. Когда же появился этот крен? Правы ли японцы, приписывая его происхождение взрыву мины, возможность которого отрицают люди, бывшие на самом броненосце, или он явился следствием течи по стыкам броневых плит и по швам обшивки левого борта, подставленного под град японских фугасных снарядов?.. Никто из очевидцев не мог «вспомнить», установить, хотя бы приблизительно, момент появления крена. Следует заметить, что нас опрашивали через несколько месяцев после боя. Я сам долго думал, пытался восстановить последовательность событий в своей памяти… и чистосердечно ответил — «Не помню», а вернувшись к себе и пересматривая листки моих лаконических записей во время самого боя, прочел: «3 ч. 25 мин. пополудни. Сильный крен палевую; в верхней батарее большой пожар». Сразу же все вспомнилось. Не будь этой записи, удостоверявшей, что крен был уже в 3 ч. 25 мин., т. е. за час до момента минной атаки, удаче которой японцы приписывают его появление, — я, может быть, присоединился бы к мнению тех, которые полагали, будто в горячке боя можно было не заметить минного взрыва.
Не буду хвастать моей памятью (хотя многие находят, что Бог не обидел меня этим свойством), но и для любого человека казалось бы странным так основательно забыть факт, не только им замеченный, но и записанный тогда же.
Вот почему я подчеркиваю то обстоятельство, что «Расплата» — не воспоминания, а дневник.
Не скрою: не раз, под впечатлением сведений, полученных позже, у меня являлось искушение выпустить то или иное место, не приводить оценки того или иного события, которую давали ему мы, там и тогда, — но я воздерживался. Я говорил себе: — Это было. Мы так думали, так понимали. Пусть заблуждались, но это заблуждение ложилось в основу настроения масс и, несомненно, сказывалось в дальнейшем развитии их деятельности. Разве я взялся писать историю войны? — Нет. — Цель моего труда — дать читателям правдивое описание того, что пережил один из ее участников, заботливо, тогда же, на месте, заносивший в свой дневник все, доступное его наблюдению.
До сих пор ни один из соплавателей, ни один из боевых товарищей не обратился ко мне с пожеланием внести какие-либо поправки в мое изложение. Были возражения, но они исходили от лиц, пишущих историю по поручению начальства и на основании официальных реляций в тиши своих кабинетов. С ними я спорить не буду.
Вл. Семёнов
Предисловие ко второму (посмертному) изданию
Книги моего покойного брата: «Расплата» — «Бой при Цусиме» — «Цена крови» в настоящем посмертном издании впервые объединены в одно целое — трилогию, с общим заглавием — «Расплата».
Трилогия эта не явилась результатом заранее выработанного автором плана, а составилась до известной степени случайно. Прежде всего брат приступил к описанию Цусимского боя. Он начал эту работу 1 февраля 1906 г. на Cap Martin (близ Ментоны, на Французской Ривьере), куда он был послан врачами после возвращения из плена. 12 февраля брат записал в своем дневнике:
«5 час. 30 мин. вечера. — Сейчас кончил писать «Бой при Цусиме». Кажется, вышло хорошо. Может быть, после будет скучно без дела, но сейчас я так доволен… так тяжело было писать…»
Осенью того же года он приступил к обработке своего дневника за период с начала войны до Цусимского боя. Этому описанию пережитого и виденного им в Порт-Артуре и во время похода эскадры Рожественского автор дал заглавие «Расплата».
Закончив «Расплату», брат в первое время не предполагал продолжать своего повествования, но успех первых двух книг и получаемые им многочисленные письма от читателей с вопросами, почему он прервал свой рассказ на 7 час. 40 мин. вечера 14 мая 1905 г., побудили его написать «Цену крови» — скорбную повесть о днях плена и о возвращении на родину, где его ждали новые и едва ли не самые тяжкие испытания…
Эти три книги («Расплата», «Бой при Цусиме» и «Цена крови»), составляющие одно целое и излагающие события, которых автор был очевидцем, до Цусимского боя, во время боя и после боя, впервые были названы «трилогией» в иностранной печати, откуда это наименование перешло к нам. В последнее время сам автор стал называть свой труд трилогией, причем высказывал мысль, что название «Расплата» следует отнести ко всем трем составным частям этой трилогии.
Если успех «трилогии» в России уже при жизни автора можно было назвать очень большим, то за границей этот успех нельзя не признать совершенно исключительным.
Напомню, что «Бой при Цусиме» был издан в 1906 г., «Расплата» — в конце 1907 г., и «Цена крови» — только в конце 1909 года.
Несмотря на такой короткий промежуток времени, прошедший с появления в свет трилогии, «Бой при Цусиме» оказался переведенным на восемь иностранных языков. На те же языки в большинстве стран уже закончен, в других еще делается перевод остальных частей трилогии.
Некоторые из этих переводов появились одновременно и в Европе, и в Америке, причем самостоятельные издания были выпущены даже в южноамериканских республиках. Кроме того, имеются сведения о готовящихся новых переводах трилогии и на те языки, на которые она уже переведена, — и над этими новыми переводами работают авторитеты военно-морского дела и заслуженные адмиралы. Ссылки на мнения Вл. Семёнова и цитаты из его книг появились в таких настольных справочниках каждого моряка, как Brassey's Naval Annual и т. д. (А также в курсах военно-морской истории (А. Штенцель. История войны на море. Т. 5. Пгр. 1916. С. 396, 398–402, 411,414, 438, 445-6, 450, 453-5, 460-2, 466, 472, 489.)
По количеству изданий переводов трилогии соперничают между собой Франция и Англия.
В Лондоне первое издание «Боя при Цусиме» вышло в декабре 1906 г. и было распродано в несколько дней. В январе 1907 г. появилось второе издание, а через два месяца — уже третье. В Париже «Бой при Цусиме» вышел третьим изданием только по истечении полутора лет со времени появления в свет первого издания (В настоящее время вышло, насколько мне известно, пятое издание.), но зато «Расплата» потребовала четырех изданий в продолжение одного года, а «Цена крови» — также четырех изданий в продолжение всего лишь полугода со дня выхода первого издания.
По свидетельству г. Murray, лондонского издателя трилогии, «имя никакого другого нового иностранного автора давно уже не достигало в Англии такой высоты, на какой стоит имя Вл. Семёнова». Его книги приобрели широкую популярность во всех слоях английского общества. «Расплата» была настольной книгой покойного короля Эдуарда, и вместе с тем оказалось необходимым выпустить, кроме обыкновенного дорогого («The Battle of Tsuhima» — 4 s. 6 d., «Rasplata» — 10 s. 6 d., «The Price of Blood» — 5 s., т. е. вся трилогия стоит 20 шил. — 10 рублей.) издания трилогии, еще дешевое народное издание. Этой чести удостаивались до сих пор в Англии только классические произведения литературы. Впрочем, некоторые из серьезных английских критиков уже теперь находят возможным причислить трилогию к произведениям классической литературы и находят, что художественные достоинства «Расплаты» и «Боя при Цусиме» таковы, что эти книги следует поставить на ряду с «Севастопольскими очерками» Льва Толстого, по своим же качествам военно-морского труда они представляют произведения совершенно исключительного значения. Эпитет «подобный Толстому» был повторен и в прочувствованных статьях английской печати по поводу кончины моего брата (см. «Times» от 6 мая 1910 г. и друг.). Что касается собственно «Расплаты», то первый перевод ее на иностранный язык появился в июне 1908 г. — в Германии. Этот перевод, так же как и перевод «Боя при Цусиме», сделан кап. — лейт. Герке по поручению Германского Морского Генерального Штаба. Книга издана роскошно (Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Konigliche Hofbuchhandlung), причем название ее не переведено, а так и оставлено — «Rassplata».
В начале 1909 г. появился французский перевод «Расплаты», сделанный капитаном 1-го ранга французского флота маркизом де Баленкур. Перевод сделан в двух книгах, под общим заглавием «L'Expiatiom»: первая — «L'Escadre de Port-Arthur», вторая, представляющая перевод второй части «Расплаты» — «Поход второй эскадры», озаглавлена: «Sur le Chemin du Sacrifice». Изданы книги изящно, фирмой Aug. Chalammel (Paris).
В том же 1909 г. появился английский перевод «Расплаты», сделанный вице-адмиралом британской службы принцем Людовиком Баттенбергским, командующим Атлантическим Флотом (Atlantic Fleet) Великобритании. Издана книга Фирмою John Murray, как все английские издания, прекрасно. Название оставлено также без перевода — «Rasplata», и только в скобках добавлено — «The Reckoning».
На итальянский язык произведения моего брата первоначально переводились лейтенантом Бианкини и печатались в «La Rivista Marittima». В настоящее время над новым переводом всей трилогии работает адмирал А. де Орестис де Кастельнуово, командующий итальянским флотом. «Бой при Цусиме», в переводе адмирала де Орестиса, только что вышел в свет. Эта изящная книга, с русским Андреевским флагом на обложке, издана в Ortona a Mare (Casa Editrice Carmine Visci) и снабжена портретом моего покойного брата и его автографом. «Расплата» и «Цена крови», в переводе адмирала де Орестиса, готовятся к печати. Этот итальянский перевод авторизован моим братом, который проверял его уже во время болезни.
Из переводов трилогии на другие иностранные языки следует отметить перевод на испанский язык, очень изящно изданный в Буэнос-Айресе. Перевод сделан с английского капитаном 1-го ранга аргентинского флота Angel J. Elias.
Сведений относительно перевода трилогии на японский язык у меня еще нет, но, судя по тому, что «Расплата» цитируется адмиралом Того в официальном описании «военных действий на море в 37–38 гг. Мейдзи», можно заключить, что такой перевод в Японии имеется.
В России при жизни автора трилогия далеко не имела того успеха, как за границей. Ко дню смерти автора не было еще распродано второе издание «Боя при Цусиме» и первое издание «Расплаты».
И только когда Вл. Семёнов сошел в могилу, сопровождаемый единодушными соболезнованиями печати, когда стали приходить телеграммы с известиями, что смерть его оплакивается за границей, тогда сразу появился такой спрос на все произведения брата, что большая часть их была распродана в самый короткий срок.
Третье издание «Боя при Цусиме» (всего 9000 экземпляров) пришлось спешно выпустить уже через две недели после кончины автора.
В пасхальную ночь, с 17 на 18 апреля 1910 года, после болезни, продолжавшейся почти пять месяцев и выразившейся в последовательном воспалении серозных оболочек (плеврит, перикардит, опять плеврит и, наконец, воспаление брюшины), — автор «Расплаты» скончался.
Имеются основания полагать, что если не возникновение болезни, то ее обострение и последовавшие осложнения были вызваны нахождением в левом боку больного двух мелких осколков снаряда (В бою при Цусиме мой брат получил пять ран, из них одна — тяжелая, в правую ногу (длина раны 130 мм, глубина — до кости — от 25 до 37 мм), другая — серьезная, в левую ногу (раздробление большого пальца) и три мелких — в поясницу и в левый бок. Последние три раны были причинены мелкими осколками, оставшимися в теле раненого; при этом осколок, попавший в поясницу, был извлечен, а два осколка, проникшие в бок и в первое время залегавшие неглубоко под кожей, не были вынуты японскими хирургами, так как эти осколки не беспокоили больного, положение же его было тогда настолько тяжелым, что вынуждало воздерживаться от всяких операций, не настоятельно необходимых. (См. «Цена крови», стр. 4 и 26.)).
Вследствие воспалительного процесса у больного постоянно держалась высокая температура (продолжительное время выше 39 °C), но тем не менее он сохранял полную ясность мышления, чем приводил в изумление пользовавших его врачей. За два дня до смерти он провел более часа в оживленной беседе, притом еще на иностранном языке, с приехавшим его навестить итальянским военным агентом, флиг. — адъют. майором Абати, и на вопросы своего гостя относительно лиц, выведенных в рождественской сказке-сатире «Заседание Адмиралтейств-Коллегий», давал самые подробные и точные пояснения. Он не хотел слушать моих просьб не утомлять себя и заставил меня взять из его библиотеки том «Истории России» Соловьева и сам указывал, какие места относительно Якова Долгорукого (упоминаемого в сказке) могут быть интересны для майора Абати, и просил меня их перевести.
Его тело умирало, он уже не в силах был сделать ни одного движения без посторонней помощи, но дух его по-прежнему был бодр и сердце его по-прежнему горело любовью к Родине.
«Россия… нет, даже для вечности не могу забыть тебя!..» — писал он в своем дневнике, незадолго до Цусимского боя.
Только о ней, о России, были его думы и в долгие дни болезни.
«Господи! дай мне счастье хотя бы каплей в океане, хотя бы искрой в пожаре послужить ее спасению! — говорил он в том же дневнике. — Не было бы во всей вселенной счастливее меня, если бы Ты дал мне перед смертью счастье видеть ее торжествующей…»
И если не исполнилась эта последняя его мольба, если не суждено ему было увидать возрождение боевой славы России, ее торжество, то послужить своей Родине ему было дано в полной мере.
Он послужил ей и кровью своей, пролитой в бою с врагом, а еще более — своим правдивым словом, горькою правдою о тех событиях, которых он был нелицеприятным свидетелем и летописцем.
Критики произведений моего брата ставили ему в заслугу, что он, в своих описаниях, стремится быть строго объективным и мало дает места личным переживаниям. Он и сам говорит в своем предисловии к «Бою при Цусиме», что усиленно избегал говорить о себе, чтобы «не вызвать обычного, в подобных случаях, упрека, что автор повествует не столько о развитии боя и о действиях окружающих, как о собственной особе».
Но теперь, когда произведения моего брата, переведенные на все европейские языки, получили столь огромную известность, теперь, когда он умер, оплаканный, по словам «Times», «всеми, кому дорога истинная морская доблесть», и когда печать всех цивилизованных стран, и Старого и Нового Света, высказала глубокое соболезнование по поводу его безвременной кончины, мне думается, что настало время дать возможность многочисленным читателям его произведений ближе ознакомиться с личностью их автора.
С этой целью я готовлю в настоящее время к печати «Дневник Вл. Семёнова (1904–1909 гг.)», который он вел во время войны изо дня в день, а после войны с перерывами. Последняя запись в этом дневнике помечена 3 сентября 1909 г., т. е. уже незадолго до начала болезни.
Этот самый дневник послужил брату материалом для трилогии, которая, по его собственному выражению, является не чем иным, как «литературной обработкой дневника». В «Расплате» и в «Цене крови» довольно часто встречаются даже точные выдержки из сделанных в этом дневнике записей.
Тем не менее дневник представляет большой самостоятельный интерес. В нем читатели найдут и некоторые фактические данные, по тем или другим соображениям не помещенные братом в его книгах и таким образом дополняющие их. Но главная ценность дневника — именно те чисто личные переживания, о которых брат старался, насколько это было возможно, меньше упоминать в своих книгах.
Эти переживания брата, эти интимные его беседы с самим собою дают полное представление об его внутреннем мире, который был озарен только одним никогда не заходившим солнцем — любовью к Родине.
«Клятву, страшную клятву даю: Тебе, Родина, весь остаток моей жизни, все силы, всю кровь!.. Тебе — всё!..»
И он сдержал свою клятву…
Август, 1910.
Виктор Семёнов
Расплата
Порт-Артур
I Отъезд из Петербурга. — В сибирском экспрессе. — Первые вести о войне. — Прибытие в Порт-Артур
— Ну, вот. Добились своего. Теперь уж нечего разговаривать. Дай Бог, в добрый час!.. — говорил адмирал, прощаясь со мною, и уже в дверях скороговоркой добавил: — Послушайте совета: не суйтесь зря. Судьба везде найдет. Если само начальство вызывает охотников — значит, надо, а без этого — свое дело хорошенько делайте, и довольно. Выскакивать нечего. Погибнуть нетрудно и не страшно, но погибать зря — глупо!
Проведя почти всю службу (за исключением двух лет в академии) в плаваниях на Дальнем Востоке, я осенью 1901 г. получил предложение занять место адъютанта штаба кронштадтского порта, соединенное с должностью адъютанта главного командира по его званию военного губернатора. Несмотря на нелюбовь к береговым штабам и канцеляриям, нелюбовь, взращенную долгой службой исключительно в строю, т. е. на воде, я согласился, и даже охотно, так как в то время главным командиром в Кронштадте был вице-адмирал С. О. Макаров.
Не берусь давать здесь характеристики покойного адмирала, так трагически погибшего в тот именно момент, когда, наконец, после долгих лет борьбы с людьми, упорно тормозившими все его начинания, злорадно «совавшими палки в колеса», — он получил возможность без помехи, неся ответственность только перед Государем Императором, отдать на пользу Родине свои способности, ум и неутомимую энергию. Его дела — достояние истории.
Я не обманулся в моих ожиданиях. Служить с адмиралом было нелегко; приходилось частенько недоедать и недосыпать, но в общем жилось хорошо. Отличительной чертой его характера (которой я восхищался) являлась вражда ко всякой рутине и, положительно, ненависть к излюбленному канцелярскому приему — «гнать зайца дальше» — т. е. во избежание ответственности за решение вопроса сделать на бумаге (хотя бы наисрочной) соответственную надпись и послать куда-нибудь в другое место «на заключение» или «для справки».
Единственные случаи, когда на моих глазах адмирал терял самообладание и лично, или по телефону, отдавал портовым чинам приказания в резкой форме, делал выговоры, грозил ответственностью за бездействие и проч., - это бывало именно тогда, когда обнаруживалось с чьей-нибудь стороны стремление «гнать зайца дальше» или утопить какое-нибудь требование в массе справок.
Нечего и говорить, что я, как «прирожденный строевой», глубоко сочувствовал такому настроению моего начальства и готов был служить ему по мере сил. Словом — как я уже говорил — жилось хорошо.
Но вот осенью 1903 года в воздухе запахло войной, и, несмотря на весь интерес тогдашней моей службы, я заволновался и стал проситься туда, где родная мне эскадра готовилась к бою.
Адмирал с первого раза принял меня в штыки, но я тоже ощетинился и настаивал на своем. Адмирал пробовал убеждать, говорил, что если война разразится, то это будет упорная и тяжелая война, и за время ее «все мы там будем», а потому торопиться нечего: здесь тоже дела будет до горло, и в такой момент адъютант уходить не имеет права. Я не сдавался и возражал, что если во время войны окажусь на береговом месте, то любой офицер с успехом заменит меня, так как я вместо дела буду только метаться по начальству и проситься на эскадру.
За такими спорами раза два-три чуть не дошло до серьезной размолвки. Наконец адмирал сдался, и 1 января 1904 г. последовал приказ о моем назначении старшим офицером на крейсер «Боярин». Еще две недели ушло на окончание срочных дел, сдачу должности, и прощание, с которого я начал эту главу, происходило уже 14 января.
В Петербурге, являясь перед отъездом по начальству, я был, конечно, у адмирала Р. и после обмена официальными фразами не удержался спросить: что он думает? будет ли война?
Фотография вице-адмирала Степана Осиповича Макарова (1848–1904) с собственноручной подписью.1903
— Не всегда военные действия начинаются с пушечных выстрелов! — резко ответил, адмирал, глядя куда-то в сторону. — По-моему, война уже началась. Только слепые этого не видят!..
Я не счел возможным спрашивать объяснения этой фразы — меня поразил сумрачный, чтобы не сказать сердитый, вид адмирала, когда он ее выговорил. Видимо, мой вопрос затронул больное место, и в раздражении он сказал больше, чем хотел или чем считал себя вправе сказать…
— Ну, а все-таки, к первым выстрелам поспею?
Но адмирал уже овладел собой и, не отвечая на вопрос, дружески желал счастливого пути.
Пришлось откланяться.
На тот же вопрос добрые знакомые из Министерства иностранных дел отвечали: «Не беспокойтесь — поспеете: до апреля затянем»…
Я выехал из Петербурга с курьерским поездом вечером 16 января.
Кое-кто собрался проводить. Желали счастливого плавания. Слово «война» никем не произносилось, но оно чувствовалось в общем тоне последних приветствий, создавало какое-то особенное приподнятое настроение… Какие это были веселые, бодрые проводы, и как не похоже на них было мое возвращение…
Но не будем забегать вперед.
До Урала, и даже дальше, экспресс был битком набит пассажирами, и общее настроение держалось самое заурядное; вернее, — никакого особенного настроения в публике не обнаруживалось; но по мере движения на восток, по мере того, как местные обыватели, занятые исключительно своими делами, высаживались в промежуточных городах, определялась понемногу кучка людей, ехавших «туда». Их можно было подразделить на две категории: офицеры и вообще служащие самых разнообразных чинов, родов оружия и специальностей и (как говорят матросы) «вольные люди», самых неопределенных специальностей и народностей. Эти последние являлись наиболее характерными вестниками войны, как вороны, следующие за экспедиционным отрядом, как акулы, сопровождающие корабль, на котором скоро будет покойник.
И та, и другая категории вскоре же сплотились, и между лицами, их составлявшими, завязались знакомства. К сожалению, «наших» было немного, так как большая часть из них ехала в Западную Сибирь. Последними нас покинули в Иркутске генерал и капитан Генерального штаба, отправлявшиеся куда-то на монгольскую границу, а после Иркутска единственным моим компаньоном оказался полковник Л., ехавший в Порт-Артур командовать вновь формируемым стрелковым полком.
Отчетливо, как сейчас, помню переезд через Байкал по льду. Не воспользовавшись правом пассажира экспресса занять место в неуклюжих железнодорожных пошевнях, взяв лихую тройку (идя на войну — чего ж считать деньги!), я, около полдня, отвалил со станции Байкал на станцию Танхой — 43 версты по льду озера-моря. Был чудный, солнечный день с морозом 10–12°R, при полном штиле. Тройка с места взяла марш-маршем и только верст через пять-шесть перешла на крупную рысь. Ямщик обернулся ко мне:
— Слышь, барин! В полпути — постоялый. Поднесешь стаканчик — уважу!
— Будь благонадежен: не обижу!
Ямщик слегка привстал, свистнул, и — коренник зарубил такую дробь, пристяжные свились в такие кольца, что только морозная пыль клубом встала за нами!.. Вот где, на Байкале, еще сохранилась русская тройка, воспетая Гоголем!..
В чистом, морозном воздухе горы противоположного берега выступали так отчетливо, что привычный «морской» глаз совершенно терял свою, долгой практикой приобретенную, способность оценивать расстояния. Казалось, они совсем близко; казалось, видишь самые мелкие складки гребня и в них налеты снега, — а на деле это были глубокие ущелья, под снегами которых можно было бы похоронить целые города…
Со станции Байкал несколько раньше меня на такой же «вольной» тройке отвалил, не скажу молодой, но моложавый генерал. Должно быть, у него не было особого уговора с ямщиком, потому что версте на 15-й мы его обогнали, как раз в то время, когда он, забрав по целому снегу, объезжал какую-то воинскую команду, переходившую Байкал пешком. В наушниках, с ружьями, у кого на правое, у кого на левое плечо, солдаты, а с ними и офицеры, шагали по плотному, подмерзшему насту так бодро, так весело… — Мне вдруг вспомнилось тургеневское «Довольно», — журавли, летящие в небе и ведущие гордую перекличку со своим вожаком: «Долетим? — Мы — долетим!»
И в этой, казалось бы, нестройной толпе, не соблюдавшей равнения ни «в рядах», ни «в затылок», в их широком, свободном шаге, в окриках и взрывах смеха, внезапно вспыхивавших и прокатывавшихся по колонне, — мне почуялась та же гордая сила, та же уверенность в себе, что и в тургеневских журавлях.
— Долетим? — Мы — долетим!..
Не я один это чувствовал. Генерал, ехавший впереди, вдруг скинул шубу, в которую был закутан, распахнул свое пальто на красной подкладке и, став в санях, как-то особенно задорно и радостно крикнул: «Здорово, молодцы! Бог в помощь!»
— Рады стараться! Здравия желаем! Покорнейше благодарим! — загудело по колонне.
Генерал махал фуражкой, кричал еще что-то, чего нельзя было разобрать, и мимо нас мелькали молодые… разрумянившиеся на морозе, радостно улыбавшиеся лица. Солдаты и офицеры тоже что-то кричали, махали фуражками, поднимали кверху ружья…
— Долетим? — Мы — долетим!
С какой силой, полное надежды и веры в будущее, билось сердце! Как бодро, как весело было на душе!..
Да, прав был адмирал Р., - думалось мне, — это уже война!
На той стороне Байкала, в Танхое, нас ожидал экспресс Восточно-Китайской дороги.
В вагоне первого класса оказалось только два-три инженеpa, ехавших по линии, полковник Л. и я. Завязалось знакомство. Говорили, разумеется, исключительно о положении дел в Маньчжурии и Корее. Мнения резко разделялись. Одни утверждали, что война неизбежна, что «не зря же японцы 10 лет создавали свою военную силу», выворачивая карманы населения, должны же они воспользоваться благоприятным моментом! Другие возражали, что «не зря же японцы 10 лет создавали свою военную силу», не для того же, чтобы все сразу поставить на карту и, в случае неудачи, снова и навсегда заглохнуть! Словом — из общего признания одного и того же факта выводы получались диаметрально противоположные.
Особенно горячий спор завязался у меня с полковником за обедом 27 января.
— Не посмеют! Понимаете: никогда не посмеют! Ведь это — ва-банк! Хуже! Верный проигрыш! — горячился он. — Допустим, вначале — успех… Но дальше? Ведь не сдадим же мы от первого щелчка? Я даже хотел бы их первой удачи! Право! Подумайте только о впечатлении этой их удачи! — Вся Россия встанет как один человек, и не положим оружия, доколе… Ну, как это там говорится высоким стилем?
— Дай Бог, кабы щелчок, а не разгром…
— Даже и разгром! Но ведь временный! А там мы соберемся с силами и сбросим их в море. Вы только, с вашим флотом, не позволяйте им домой уехать!.. Да что! Никогда этого не случится, никогда они не решатся, и никакой войны не будет!..
— А я говорю: они 10 лет готовились к войне; они готовы, а мы нет; война начнется не сегодня завтра. Вы говорите: ва-банк? Согласен. Отчего и не поставить, если есть шансы на выигрыш?
— Конечного шанса нет! Не пойдут!
— Вот увидите!
— Хотите пари? Войны не будет! Ставлю дюжину Мумма…
— Это был бы грабеж. Скажем так: вы выиграли, если войны не будет до половины апреля.
— Зачем же? Я говорю — её не будет вовсе!
— Тем легче согласиться на мое предложение. К тому же — вы вина почти не пьете, и я всегда буду в выигрыше.
Посмеялись и ударили по рукам. Разнимал путеец, тоже ехавший в Порт-Артур и просивший не забыть его приглашением на розыгрыш.
Мой случайный спутник, полковник Л., был преинтересный тип. Казалось, все его существо держится нервами. Высокий, ширококостый, донельзя худощавый, с болезненным цветом лица, он в отношении физической выносливости всецело зависел от настроения: то беспечно разгуливал на 10-градусном морозе в одной тужурке, то вдруг уверял, что ему надуло от окна, несмотря на двойные рамы с резиновой прокладкой, требовал из поездной аптеки фенацетину и поглощал его в неимоверном количестве, то жевал «из любопытства» ужасающие (совершенно несъедобные) бурятские лепешки, то уверял, что кухня экспресса слишком тяжела для его слабого желудка.
В этот вечер он, кажется, решил покорить меня, во что бы то ни стало, и продолжал свои атаки до тех пор, пока я не начал в его присутствии раздеваться и укладываться спать.
— Все военные агенты европейских держав единогласно доносят, что Япония может выставить в поле не свыше 325 тысяч! — повторял он, словно читая лекцию. — Но ведь и дома надо что-нибудь оставить?
— Да как вы верите таким цифрам? Ведь в Японии народу больше, чем во Франции! Отчего же такая разница в численном составе армии?
— Не та организация! Нет подготовленного контингента!..
— Десять лет подготовляют! Мальчишек в школах учат военному делу! Любой школьник знает больше, чем наш солдат по второму году службы!
— Вооружение, амуниция — все рассчитано на 325 тысяч!
— Привезут! Купят!
— Вздор!..
Я потушил электричество и завернулся в одеяло.
— Это не доказательство… — ворчал полковник, тоже уходя к себе (Согласно санитарному отчету об японской армии, в котором число больных, раненых, убитых и умерших приведено не только в абсолютных цифрах, но и в процентах, видно, что японская армия достигала полутора миллиона.).
Около полночи мы пришли на станцию Маньчжурия. Я крепко спал, когда Л. ворвался в мое купе и крикнул:
— Вы выиграли! Сначала я не понял.
— Что? Что такое?
— Мобилизация всего наместничества и Забайкальского округа!..
— Мобилизация — еще не война! Полковник только свистнул.
— Уж это — «ах, оставьте!» — у нас приказа о мобилизации боялись… вот как купчихи Островского боятся «жупела» и «металла». Боялись, чтобы этим словом не вызвать войны! Если объявлена мобилизация — значит, война началась! значит — «они» открыли военные действия!..
— Дай Бог, в добрый час! — перекрестился я.
— То-то… дал бы Бог!.. — мрачно ответил он. — Ведь я-то знаю: на бумаге и то во всем крае 90 тысяч войска, а на деле — хорошо коли наберется тысяч 50 штыков и сабель…
Сна как не бывало. Весь поезд поднялся на ноги. Все собрались в вагоне-столовой. По правилам столовая закрывается в 11 ч. вечера, но тут она была освещена; чай подавался без отказа; поездная прислуга толпилась в дверях; все ждали следующей станции, ждали, что из пассажиров (военных и путейцев) кто-нибудь узнает что-нибудь более определенное.
В томительном ожидании миновали два полустанка. Станция. Говорят, была внезапная атака на Порт-Артур, но ничего положительного… В 4-м часу утра на какой-то станции села дама, жена служащего на дороге. Сообщила, что Артур едва ли не взят уже, что она едет в Харбин вынуть вклад из банка, забрать, что можно, ценное из харбинской квартиры и спасаться в Россию. По ее словам, японцы несколько дней тому назад начали выезжать из городов Маньчжурии, но ничего не продавали и почти не ликвидировали дел, а поручали имущество надзору соседей и говорили: через неделю, в крайности дней через 10, опять будем здесь с нашими войсками.
Заявления дамы вызвали протесты и недовольство. Публика не желала верить ее мрачным предсказаниям и начала расходиться.
— Проклятая ворона… — ворчал полковник, — стоит её слушать! Пойдемте спать!.. Впрочем, погодите, я брому спрошу в аптеке…
Следующий день принес мало нового. Однако из сбивчивых слухов и сведений выяснялось мало-помалу, что японцы первыми открыли военные действия против Порт-Артура. На чьей стороне оказался успех — разобрать было невозможно.
Выскочив на платформу в Харбине (большая остановка, помнится, около получаса), я неожиданно столкнулся со старым знакомым по Дальнему Востоку, нашим (эскадренным) поставщиком М. А. Г.
— Откуда и куда?
— Из Артура, а куда — не знаю! Помогаю, как могу, провожаю жен, детей… Все бросили, бегут… совсем сумасшедшие…
Действительно, на путях станции стояло два огромных, видимо, наспех составленных поезда из вагонов всех трех классов и даже четвертого (для китайцев, чернорабочих), идущих на север. Они были битком набиты: сидели, лежали не только на диванах, на скамейках, но и между ними, даже в проходах… Преобладали женщины и дети. Тут же были нагромождены какие-то узлы и просто кучи вещей, в которых перепутывались и предметы роскоши, и предметы самой грубой, насущной необходимости… Видимо, хватали, что попало под руку… У многих не было ничего теплого… Толпа китайцев вела у вагонов бойкий торг меховыми (часто подержанными) куртками, грошовыми чайниками, какими-то подозрительными съестными припасами… Платили деньгами, кольцами, браслетами, брошками… Какая-то вакханалия грабежа, умело пользующегося еще не остывшей паникой… Местное начальство, само захваченное врасплох, было по горло завалено своим делом. Водворять порядок пытались какие-то добровольцы — офицеры и чиновники, да те пассажиры и пассажирки, которые не совсем еще потеряли головы или уже опомнились… То тут, то там раздавались истеричные рыдания, отчаянный призыв врача к больному ребенку, мольба о помощи…
— Знакомое дело! как при боксерах! — заявил вдруг один из наших спутников, рослый путеец, обращаясь к нам, пассажирам экспресса. — Ну, господа, выворачивайте чемоданы! A la guerre comme a la guerre! придет нужда — сами возьмем, не спрашивая, где придется!
И, право странно, какую силу убеждения имеет вовремя брошенное слово: чемоданы были действительно вывернуты. Башлыки, фуфайки, меховые шапки, валенки, даже белье — все в несколько минут перешло из экспресса в поезда беглецов… И как неловко, и даже жутко, а вместе с тем хорошо и тепло было на сердце, слушая эти отрывочные, полные смущения, но зато и глубокого чувства слова благодарности…
Г. не выворачивал чемоданов (у него у самого их не было), но зато выворачивал карманы, а когда содержимое их иссякло, принялся писать чеки, которые ходили в Маньчжурии не хуже золота…
Перед отходом экспресса я обратился к нему с вопросом:
— Куда вы теперь?
— С ними же, дальше…
Но тут мы на него напали и стали доказывать, что ехать на север ему нет расчета, что теперь-то и настало время, когда в Порт-Артуре дела делать, когда его присутствие там необходимо. Особенно наседал полковник Л. Думаю, однако, все мы несколько лукавили и не столько заботились о выгодах Г., сколько хотели сохранить для себя очевидца событий, о которых, в пылу благотворительной горячки, не успели расспросить его толком.
Однако же Г. поначалу был неумолим.
— Нет, господа, война — ваше дело, а я штатский и смирный человек и совсем не хочу, чтобы меня зря убили. Поезжайте себе воевать, а я поеду туда, где безопаснее…
Довод был убедительный, но его разбил начальник поезда (прапорщик запаса артиллерии).
— Поверьте, уважаемый М. А., - заявил он, — что пока наместник в Порт-Артуре — это место самое благонадежное. Если только запахнет жареным, он там не останется. Тогда и вы с ним уезжайте, а бросать свое дело, да еще в такое время, — прямой убыток!
Это рассуждение покорило Г., который и без того уже, в нашем обществе, несколько отошел от того состояния паники, в котором поддерживало его пребывание в поездах беглецов.
Экспресс покатил на юг, а мы сидели с ним за чаем в вагоне-столовой и жадно слушали новости. Узнать пришлось не Бог весть как много. Без объявления войны, японские миноносцы вечером 26 января атаковали нашу эскадру, стоявшую на внешнем рейде без сетей и со всеми огнями. Выходило так, что сравнительно дешево отделались. Могло бы быть много хуже.
— Но, понимаете, когда я утром увидел под маяком на мели «Ретвизан», «Цесаревича», «Палладу»… Русская эскадра! Наша эскадра! Господи!..
Он схватился за голову… И, слушая его, глядя ему в глаза, я верил его ужасу, его горю… Он был по природе чужой, но он так сжился с ней, с этой эскадрой, что тут не было места коммерческому расчету… и полу шуточное название «старого приятеля» невольно сменялось в душе другим — «старый друг»…
— Но каковы повреждения?
— Не знаю точно… «Ретвизан» — в носовой части, «Цесаревич» — корма, чуть ли не винты… И для них дока нет! Понимаете, дока нет!.. «Паллада» — пустяки — дыра большая, но в доке починят… Ай-ай-ай! Как можно? Как можно? Говорят: приказано — экономия… Ну, пусть экономия, но зачем отвечать — «так точно, все обстоит благополучно»… Теперь, наверно, будут строить! И денег не пожалеют!.. Поздно!.. Ах!.. Наша эскадра!..
— Снявши голову, по волосам не плачут. Нечего горевать задним числом, — угрюмо промолвил старый путеец. — Как-нибудь надо выкручиваться. Что-нибудь делать будем…
— Умирать будем! — звенящим, нервным голосом крикнул с соседнего стола молодой артиллерийский подпоручик…
— Это наша специальность… Жаль только, если без толку… — мрачно отозвался тут же сидевший пожилой капитан…
— Но дальше? дальше?
— Что ж дальше? — 27-го пришли, постреляли 40 минут и ушли. Как было дело, право, не знаю. Нарочно стреляли по городу или перелеты — не спрашивал… Просто — бежали все, кто мог… Говорили, если бы крепость была готова к бою, им бы здорово попало, но только у нас…
Рассказчик вдруг замолчал, боязливо оглянувшись, и ни за что не хотел доканчивать начатой фразы.
— Приедете в Артур — сами узнаете. У вас ведь там знакомые… — скороговоркой шепнул он мне на ухо.
Гнетущее впечатление общей паники, по своей внезапности ошеломившее нас в Харбине, постепенно проходило по мере движения экспресса на юг. На станциях наблюдалось необычное оживление, скажу даже, суета, но суета деловая, без признаков растерянности.
Настроение, господствовавшее на линии, какими-то неуловимыми путями сообщалось и населению поезда. Полковник словно помолодел на 20 лет, забыл про свои недуги и явно пренебрегал не только погодой, но даже и фенацетином. Начальник поезда яростно доказывал всем и каждому (хотя никто с ним не спорил), что никакое начальство не имеет права не пустить его в строй, в одну из батарей отдельного восточно-сибирского дивизиона, где он был вольноопределяющимся, что для комендантства над воинскими поездами найдется довольно народу, но он, прапорщик запаса, должен быть на своем месте…
— Наши, наверно, пойдут в первую голову! — восклицал он. — Наши не выдадут! — И он, видимо, даже жалел нас, незнакомых с «его» батареей.
— Первый блин комом — велика важность! — басил путеец. — Скажем так: насыпали! А дальше? Ведь за нами — Россия! — И, пародируя манифест отечественной войны, он возглашал: — Отступим за Байкал! Оденемся в звериные шкуры! Будем питаться монгольскими лепешками, но не положим оружия, доколе ни одного вооруженного неприятеля не останется не только в пределах нашей территории, но даже и на материке Азии!
30 января, после полудня, миновали Дашичао. Короткая остановка. Суматоха на станции. Какие-то артиллеристы забегают в вагон-столовую, наскоро глотают, что попало под руку, и с полным ртом бросают отрывочные фразы:
— Везли на Ляоян, оттуда — к Ялу. Известие — появились у Инкоу. Высадка. Повернули на ветку. Охранники не стали ждать поезда. Ушли грунтовой — у них конная батарея. Две сотни — тоже. С нами — рота стрелков.
И никто не спрашивал, что в силах сделать эти две батареи, две сотни и одна рота, если японцы действительно высаживаются в Инкоу… Ясно было, что сделают все, что могут. И этого было довольно…
Ночь. Гай-Чжоу. Тревога. Здесь железнодорожный путь проходит от берега моря всего в 5 милях. С берега сообщают, что в море видно много огней. С одного из ближних постов донесли о появлении каких-то банд. Туда выступила полусотня — охрана станции. Слышали перестрелку. Хунхузы или японцы? Удобное место испортить путь. Телеграфировали по линии. С часу на час ждут прибытия 9-го полка…
— Нас все-таки больше 20 человек, и все вооруженные! — вмешивается в разговор сын начальника станции, юноша, лет 14, с винчестером в руках. — В блокгаузе отсидимся, выдержим час-другой, а там — подойдут стрелки!..
— Какой задор! Какая уверенность! Какое бодрое, хорошее впечатление оставляли в душе все эти встречи, все эти мимолетные разговоры…
Наутро Квантун встретил нас жестокой снежной пургой.
На станции Нангалин Г. нас покинул, надеясь каким-нибудь случайным поездом скорее добраться до Порт-Артура, мы же, пассажиры экспресса, связанные багажом, должны были проехаться в Дальний и уже оттуда проследовать к месту назначения. Это оказалось не так просто. Ввиду внезапно наступившей войны расписание было отменено. Удовлетворялись в первую очередь насущные потребности крепости и гарнизона. В Дальний мы прибыли строго по расписанию, но здесь вместо 15 минут оставались более 4 часов. Извозчиков не было. Жестокая пурга исключала всякую возможность передвигаться пешком, да к тому же с минуты на минуту ждали разрешения идти в Порт-Артур. Наш спутник, рослый и бравый путеец, тотчас по прибытии куда-то исчез — очевидно, к сослуживцам за новостями. Полковник Л. и я сидели в пустом вагоне, обмениваясь отрывочными замечаниями, главной, и даже единственной, темой которых была досадная задержка.
В белой сетке пурги станция казалась вымершей. Не было и следа того оживления, той бодрой, здоровой суеты, какую мы видели на севере. Лица служащих, пробегавших мимо, выражали только растерянность, озабоченность, даже словно испуг и ожидание близкой катастрофы. Мы пробовали кого-нибудь остановить, расспросить… Они отделывались какими-то неопределенными фразами и бежали дальше.
— Захотят, догадаются, — заберут голыми руками… хоть сейчас… — бросил на ходу какой-то штатский в драгунской фуражке.
Полковник совсем разболелся: ел фенацетин, принимал бром и не только бранился, но даже роптал на Провидение.
В 12-м часу дня сквозь плач вьюги до нас долетели глухие удары редких пушечных выстрелов.
— Что такое? — поймал я проходившего мимо начальника поезда.
— Вы разве не знаете? — смущенно остановился он. — Хоронят погибших на «Енисее»…
— Ничего не знаем! — заволновались мы оба.
— «Енисей» погиб на минном заграждении, которое сам же ставил… «Боярин» — тоже…
Я так и вскинулся.
— Какой «Боярин»? Что с ним? Я сам еду на «Боярин» старшим офицером! Говорите толком!
— Говорите, черт вас возьми! — захрипел полковник. — Ведь мы тут, как в одиночном заключении!
— Господа! Ради Бога! Я не могу, не приказано… — И начальник поезда убежал.
Еще больше часа томительного ожидания… Наконец раздались звонки, свистки — поезд тронулся. Перед самым отходом в вагон вскочил наш спутник-путеец. Злобно швырнув в какое-то купе свою шубу, занесенную снегом, он вошел к нам, запер дверь и тяжело опустился на диван…
— Сдали!..
— Что сдали? Кого сдали?
— Не «что» и не «кого», а сами сдали!.. Понимаете? — сами сдали! — промолвил он, отчеканивая каждый слог. — Я это помню. Нам, в 900-м, тоже приходилось туго. Тоже — врасплох. Где не сдавали — выкручивались. Сдали — значит, сразу признали себя побежденными… И будут побиты! И поделом! — вдруг выкликнул он. — Казнись! К расчету стройся! «Цесаревич», «Ретвизан», «Паллада» — подбиты минной атакой; «Аскольд», «Новик» — здорово потерпели в артиллерийском бою; «Варяг», «Кореец» — говорят, уничтожены в Чемульпо; транспорты с боевыми припасами захвачены в море; «Енисей», «Боярин» — погибли собственными средствами, а «Громобой», «Россия», «Рюрик», «Богатырь» — во Владивостоке, за 1000 миль!.. Крепость готовят к бою после начала войны! 27-го стреляли только три батареи: форты были по-зимнему; гарнизон жил в казармах, в городе; компрессоры орудий Электрического утеса наполняли жидкостью в 10 ч. утра, когда разведчики уже сигналили о приближении неприятельской эскадры!.. «Не посмеют!» — вот вам!..
Он отрывисто бросал свои недоговоренные фразы, полные желчи, пересыпанные крупной бранью (которую я не привожу здесь). — Это был крик бессильного гнева… Мы, случайные представители Генерального штаба и флота, слушали его, жадно ловя каждое слово, не обращая внимания на брань. — Мы сознавали, что она посылается куда-то и кому-то через наши головы, и, если бы не чувство дисциплины, взращенное долгой службой, мы всей душой присоединились бы к этому протесту сильного, энергичного человека, выкрикивавшего свои обвинения… Но странно: по мере того, как со слов нашего собеседника ярче и ярче развертывалась перед нами картина нашей беспомощности (как оказалось впоследствии, его сведения, хотя и отрывочные, были верными), — какое-то удивительное спокойствие сменяло мучительную тревогу долгих часов неизвестности и томительного ожидания…
Я взглянул на полковника. Он сидел, весь вытянувшись, откинувшись на спинку дивана, засунув руки в карманы тужурки, и казалось, что… если бы кто-нибудь, в этот момент, предложил ему фенацетина, то это могло бы кончиться очень дурно…
— Измена!.. Я верю, я не смею не верить, что бессознательная, но все же измена… — закончил путеец, тяжело переводя дух…
— Пусть так! не переделаешь! — воскликнул полковник. — Но все это — только начало. За нами Россия! — А пока — мы, ее авангард, мы, маленькие люди, — мы будем делать свое дело!..
И в голосе этого человека, всего час тому назад такого больного и слабого, мне послышалась та же звенящая нота, которой звучал голос молодого подпоручика, на вопрос «что ж делать будем?» крикнувшего «умирать будем!..»
И я снова поверил!..
В Нангалине опять застряли на несколько часов. Вагон-столовую почему-то оставили в Дальнем. Пришлось питаться в станционном буфете. Небольшая комната, носившая громкое название «буфет и зало I и II класса», была битком набита публикой, обитателями Квантуна, стремившимися частью в Артур, частью в глубь Маньчжурии. Здесь не слышно было разговоров ни о наших неудачах, ни о шансах будущего… Глухие удары минных взрывов, обессиливавших флот, печальные звуки орудийного салюта, провожавшие в могилу безвременно и бесполезно погибших борцов, — не достигали сюда. Снаружи плакала и злилась вьюга, наметывая сугробы над свежими могилами, а здесь — в душной комнате, в облаках пыли и табачного дыма, хлопали пробки, слышались речи о подрядах, поставках, об имуществах, приобретенных «за грош, по нынешним временам», швырялись бумажки и золото, чтобы «мне первому подали…».
Мы наскоро съели что-то и поспешили вернуться в поезд.
В Артур прибыли только около 11 ч. вечера. Полковника встретил и увез кто-то из офицеров его формирующегося полка; путейца — встретили товарищи, а я оказался совсем на мели. Бывшие спутники обещали прислать первого встречного извозчика. На этом пришлось успокоиться.
Неприятные полчаса провел я, сидя в углу станционной залы со своими чемоданами. Какая-то компания запасных нижних чинов, призываемых на действительную службу, но еще не явившихся, устроила здесь что-то вроде «отвальной».
Керосиновые лампы тускло светили в облаках табачного дыма и кухонного чада. На полу, покрытом грязью и талым снегом, занесенным с улицы, стояли лужи пролитого вина и пива, валялись разбитые бутылки и стаканы, какие-то объедки…
Обрывки нескладных песен, пьяная похвальба, выкрикивания отдельных фраз с претензией на высоту и полноту чувств, поцелуи, ругань… Общество было самое разнообразное — мелкие собственники, приказчики, извозчики… — рубахи-косоворотки и воротнички «монополь», армяки, картузы, пальто с барашковыми воротниками, шляпы и даже шапки из дешевого китайского соболя, окладистые бороды и гладко, «под англичанина» выбритые лица… Словно в тяжелом кошмаре, против воли, я смотрел, слушал, старался что-то понять, пытался уловить настроение этих будущих защитников Порт-Артура…
Как знать? — Может быть, это вовсе не пьяный угар, а богатырский разгул? — Раззудись, плечо, размахнись, рука!.. — Так, что ли?.. — не знаю… Во всяком случае, китаец, прибежавший сказать, что извозчик приехал, был встречен мною как избавитель.
Одиссея моих ночных скитаний в поисках пристанищ мало интересна.
Панорама внутреннего и внешнего рейда Порт-Артура
К утру пурга улеглась; ветер стих, и солнце взошло при безоблачном небе. К 10 часам, когда я отправился являться по начальству, улицы превратились в непроходимую топь. Пользуясь случаем, немногочисленные извозчики (большинство их было из запасных и теперь прекратило свою деятельность) грабили совершенно открыто, среди бела дня, беря по 5 рублей за 5 минут езды. Говорят, что первое время, пока для обуздания их аппетитов не были приняты решительные меры, они зарабатывали, благодаря невылазной грязи, по 100 и даже более рублей в день. Но это только так, к слову. Тогда, в охватившей всех горячке, на такие мелочи не обращали внимания.
Ныряя по выбоинам, пересекая лужи, похожие на пруды, жмурясь и прикрываясь, как можно, от брызг жидкой грязи, снопами вздымавшихся из-под ног лошадей и колес экипажей, я жадно всматривался, пытался уловить и запечатлеть в своей памяти общую картину, общее настроение города… Поминутно попадались обозы, отмеченные красными флажками; тяжело громыхали зарядные ящики артиллерии; рысили легкие одноколки стрелков; тащились неуклюжие туземные телеги, запряженные лошадьми, мулами, ослами; высоко подобрав полы шинелей, шагали при них конвойные солдаты; ревели ослы, до надрыва кричали и ссорились между собою китайские и корейские погонщики; беззастенчиво пользовались всем богатством русского языка ездовые; с озабоченным видом, привстав на стременах, сновали казаки-ординарцы; с музыкой проходили какие-то войсковые части; в порту — грохотали лебедки спешно разгружающихся пароходов; гудели свистки и сирены; пыхтели буксиры, перетаскивавшие баржи; четко рисуясь в небе, поворачивались, наклонялись и подымались, словно щупальца каких-то чудовищ, стрелы гигантских кранов; слышался лязг железа, слова команды, шипение пара; откуда-то долетали обрывки «Дубинушки» и размеренные выкрикивания китайцев, что-то тащащих или подымающих… А надо всем — ярко-голубое небо, ослепительное солнце и гомон разноязычной толпы.
«Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний…» И тем не менее чувствовалось, что в этой суете, в этом лихорадочном оживлении не было ни растерянности, ни бестолочи. Чувствовалось, что каждый делает свое дело и уверен, что выполнит его, как должно. Огромная машина, которую называют военной организацией и которую в мирное время лишь по частям поверяют и «проворачивают вхолостую», — работала в настоящую, полным ходом.
Тяжелые впечатления вчерашнего дня — станция Дальнего, буфеты Нангалина и Порт-Артура, желчные речи путейца — все сгладилось, потонуло в чувстве солидарности с этой массой людей, еще так недавно почти чуждых друг другу, а теперь — живших одной жизнью, одной мыслью…
II Порт-артурские впечатления. — Слава Богу — на миноносце! — Первый выход. — «Беречь и не рисковать!» — Тяжкая обида
Первое место, куда я направился, был, конечно, морской штаб наместника. Там я надеялся не только узнать что-нибудь достоверное о судьбе «Боярина», тесно связанной с моей собственной, но и вообще несколько ориентироваться, разобраться в слухах и сплетнях. В прихожей и в смежной с ней комнате стояли огромные ящики, в которые писаря складывали синие папки «дел» и разные канцелярские принадлежности. Работой руководил чиновник.
Временно исполняющий должность старшего флагмана и начальник 1-й эскадры Флота Тихого океана контр-адмирал Вильгельм Карлович Витгефт (1847–1904)
— Что это? укладываетесь? куда?
— Нет… так, на всякий случай… впрочем, извините! —
И он, отвернувшись от меня, с явно деланным раздражением, набросился на какого-то писаря, оказавшегося в чем-то виноватым.
Начальник штаба контр-адмирал Витгефт, мой бывший командир, с которым я сделал трехлетнее плавание, встретил, как родного. Обнял, расцеловал, но сейчас же, словно предупреждая всякие вопросы, торопливо сообщил, что, «по слухам», еще есть надежда на спасение «Боярина», что мне надо как можно скорее явиться к начальнику эскадры, что там мне все скажут, укажут и т. д., а сам в то же время схватился за какие-то бумаги, начал их перелистывать, перекладывать с места на место, как бы давая понять, что страшно занят и разговаривать ему некогда.
Выйдя из его кабинета, я попытался обратиться к офицерам, служащим в штабе, из которых большинство были старыми соплавателями и сослуживцами по эскадре Тихого океана, некоторые даже товарищами по выпуску, но все они, в момент моего прихода, видимо, ничего не делавшие, теперь сидели за столами, копались в бумагах, имели вид чрезвычайно озабоченный и отделывались какими-то туманными фразами. Однако же это отнюдь не было следствием «штабной» важности, забвения старой дружбы. Наоборот, — как только я сказал, что у меня в городе нет пристанища, на меня посыпался целый ряд самых радушных предложений гостеприимства, и люди, только что отговаривавшиеся неотложными делами, всецело занялись посылкой вестовых для сбора моего имущества, рассеянного по Артуру.
На «Петропавловске», где держал свой флаг начальник эскадры, настроение было еще более подавленное.
— «Точно покойник в доме», — невольно мелькнуло уменя в голове…
Флаг-офицеры и другие чины штаба и судового состава радостно пожимали руки, наперерыв расспрашивали о кронштадтских и петербургских знакомых, чрезмерно интересовались дорогой, но решительно уклонялись от всякого разговора о положении настоящего момента. Флаг-капитан был, по-видимому, занят еще больше, чем адмирал Витгефт. Он просто и без замедления провел меня к начальнику эскадры.
За три года, что я его не видел, адмирал мало изменился. Все та же фигура старого морского волка; даже седины немного прибавилось, но только добродушно-проницательный взгляд серых глаз сделался каким-то сосредоточенно-усталым, словно обращенным куда-то внутрь. Казалось, что, произнося ласковые слова приветствия, отдавая приказания, он делает это чисто механически, по привычке, что мысли его заняты чем-то совсем другим, что, разговаривая со мной, он слушает не меня, а какой-то тайный голос, подымающийся со дна души, и с ним ведет свою беседу.
— …Да-да… говорят — есть надежда. Командир, 70 человеккоманды отправились сегодня… искать… Может быть… Тогдазавтра — вы с остальными…
Я попытался попросить разрешения отправиться теперь же на чем-нибудь… — на миноносце, на портовом баркасе. Адмирал сначала как будто согласился.
— Да-да… конечно…
Потом вдруг, словно что вспомнив, усталым голосом промолвил:
— Впрочем, нет… все равно… вряд ли… — И, круто повернувшись, даже не простясь, тяжелой походкой направился изприемной в свой кабинет…
Выйдя на набережную, я зашел в дом (или, как говорили, «дворец») наместника, расписался здесь в книге являющихся и направился домой, т. е. к приютившему меня товарищу. Следовало бы еще явиться младшим флагманам эскадры, но я решил отложить это на завтра — не все ли равно?.. Мне было так тяжело… Так хотелось быть одному…
Хозяин еще не вернулся со службы. Сбросив мундир, я сел у окна и стал глядеть… Прямо передо мной возвышался массив Золотой горы, увенчанной брустверами батарей, над которыми высоко в небе гордо вился по ветру наш русский флаг… «Где однажды поднят русский флаг, так он уже никогда не спускается», — пришла на память знаменитая резолюция Николая I на донесение о занятии Уссурийского края. Еще вчера, еще сегодня утром я верил в ее непреложность… Ну, а теперь?.. Я не смел дать себе никакого ответа… Может быть, даже хуже — я не хотел слушать того ответа, который шептал мне какой-то тайный голос… Налево, в восточном углу бассейна, в доке, виден был «Новик», а из-за серых крыш мастерских и складов поднимался целый лес стройных, тонких мачт миноносцев, скученных здесь борт о борт; в легкой мгле, пронизанной лучами вечернего солнца, темнели громады «Петропавловска» и «Севастополя»; правее, в проходе на внешний рейд, через здания минного городка, видны были мачты и трубы стоящего на мели «Ретвизана»; еще правее, за батареями, постройками и эллингом Тигрового Хвоста, обрисовывались силуэты прочих судов эскадры, тесно набитых в небольшое пространство Западного бассейна, которое «успели» углубить… Небо было все такое же безоблачное; солнце — такое же яркое; шум и движение на улицах и в порту, кажется, еще возросли… Но это смеющееся, голубое небо не радовало, а мучило, как насмешка; яркое солнце не золотило, не скрашивало своими лучами уличной грязи и лохмотьев китайских кули, а только досадно слепило глаза; шум и движения казались бестолковой суетой… Почему?..
Старая, в детстве читанная, сказка Андерсена вспомнилась вдруг. В театре фея Фантазия нашептывает зрителю: «Посмотри, как хороша эта ночь! Как, озаренные луной, они живут всей полнотой сердца!» — а в другое ухо долговязый чорт Анализ твердит свое: «Вовсе не ночь и не луна, а просто размалеванная кулиса, за которой стоит пьяный ламповщик! А эта вдохновенная певица только что ссорилась с антрепренером из-за прибавки жалованья»…
Я, кажется, задремал…
Вечером пошел в Морское собрание. Строевых офицеров, как наших, так и сухопутных, почти не было. Изредка забегали штабные или портовые. Преобладали чиновники и штатские обыватели. Сплетни и слухи, одни других невероятнее, так и висели в воздухе. Одно только признавалось всеми, и никто против этого не спорил: если бы японцы пустили в первую атаку не 4, а 40 миноносцев и в то же время высадили хотя бы дивизию, то и крепость и остатки эскадры были бы в их руках в ту же ночь…
Курьезно, что разговоры на эту, казалось бы, наиболее животрепещущую тему носили какой-то «академический» характер суждений о материях важных, но в будничной жизни несущественных.
Существенным, наиболее важным вопросом являлось: «Как-то наместник вывернется из этого положения?» — Что он вывернется (и притом без урона), никто не сомневался. Но как? Просто талантливо отыграется или за чей-нибудь счет, т. е. кого-нибудь выставит «козлом отпущения»?
— Несдобровать Старку!.. Хороший человек — а несдобровать! Прямо скажу — жаль… А ничего не поделает! — хриплым басом заявлял грузный (и уже изрядно нагрузившийся) портовый чин.
— Напрасно так полагаете! — отозвался с соседнего стола некий «титулярный». — Не так-то просто скушать! Документик у него есть в кармане такого сорта, что «сам» на мировую пойдет! И не только на мировую — ублажать будет, к награде представит! Это все нам, в штабе, точно известно…
— А ты молчал бы лучше! — резко оборвал его сосед-собутыльник. — Документ-то у Старка, а не у тебя! Смотри, дойдет до… куда следует — от тебя только мокро останется…
«Титулярный» вдруг присмирел.
На другой день, 2 февраля, еще до подъема флага, я был уже на «Петропавловске». Печальные вести: «Боярин» погиб. Приходилось искать места, куда бы пристроиться. По моему служебному возрасту это было не так-то просто. Помогли старые друзья по эскадре. Место нашлось чисто случайно. Опасно заболел и подал рапорт о списании командир миноносца «Решительный», лейтенант. К. Для назначения меня на эту вакансию требовалась канцелярская процедура, которая обычным порядком заняла бы дня три, но тут ее обделали в несколько часов: по докладе начальнику эскадры его штаб должен был запросить штаб наместника, не встречается ли препятствий к моему назначению; штаб наместника, по докладе его высокопревосходительству, должен был ответить, и в случае благоприятного ответа, доложенного начальнику эскадры, этот последний мог отдать приказ о временном моёмназначении, которое получало формальную санкцию после утверждения его приказом самого наместника.
Миноносец «Решительный»
Дело оборудовали блестяще. Я сам служил за рассыльного и носил бумаги из одного учреждения в другое.
— Ну, братец, теперь дело в шляпе! — говорил старый товарищ, у которого я поселился. — Вечером выйдет приказ по эскадре, а о приказе наместника не заботься — он в эти мелкие перемещения не входит. Это предоставлено Вильгельму Карловичу (Контр-адмирал Витгефт — начальник морского штаба наместника.), а он ответил — «препятствий нет». Поднесем «самому» корректуру подтвердительного приказа — пометка зеленым карандашом — и кончено!
— Спасибо, дорогой! Сердечное спасибо! За обедом ставлю Мумм, а теперь пойду повидать К. Может быть, сдача, денежные суммы…
— Так я позову к обеду кого-нибудь из наших? — кричал он мне вслед.
— Зови! Зови! Спрыснем!..
Я нашел К. в запасных комнатах Морского собрания, лежащего в постели, в сильном жару (Лейтенант К. был эвакуирован, но доехал только до Харбина, где скончался.). Одно, что он твердо помнил, это отсутствие на его руках каких-либо денежных сумм.
— Только что начали кампанию, а потому денег никаких. Снабжение, припасы… там должно быть… в книгах… Вы найдёте… — Он, видимо, усиливался вспомнить, привести в порядок мысли, лихорадочно теснившиеся в голове, но его жена, бывшая тут же, исполняя роль сестры милосердия, так красноречиво взглянула на меня, что я заторопился покончить деловые разговоры, пожелать доброго здоровья и уйти.
Дома — чертог сиял. Хозяин, выражаясь эскадренным жаргоном, «лопнул от важности» и устроил обед gala.
— Идет «Решительный»! Место «Решительному»!
— Господа! без каламбуров! «решительно» прошу к закуске! — провозглашал хозяин. — Институтки вы, что ли? Лобызаться, когда на столе свежая икра и водка!
Вышла формальная пирушка.
— Надо откровенно сознаться, по совести, миноносец твой не очень важное кушанье! — басил один из гостей. — Наше, российское, неудачное подражание типу «Сокола»! Ну, а все-таки: хоть щей горшок, да сам большой! Ха-ха-ха!
Под шум общего разговора я рассказал хозяину дома результаты моего визита к К.
— Ну и слава Богу! Главное — деньги, а с отчетностями поматериалам кто станет разбираться? Да и куда его? Японцам в руки? — Вино, видимо, несколько развязало ему язык, и он вдруг заговорил торопливым шепотом, наклонившись к моему уху. — Главное: принимай скорее! Завтра же! Подавай рапорт, что принял на законном основании и вступил в командование! Проскочило — пользуйся! Сменять уж труднее! Ну?..Понял?
После полу бессонных предыдущих ночей я спал как убитый, когда почувствовал, что кто-то толкает меня в плечо, и услышал настойчиво повторяемое: Ваше высокородие! А! Ваше высокоблагородие!
— Что такое?..
— Так что вас требуют к телефону из штаба и очень экстренно!
Серый рассвет ненастного дня глядел в окна. Видимо, было еще очень рано.
— Экстренно! Весьма экстренно! — повторял вестовой…
Я вынырнул из-под теплого одеяла и, ежась от холода, подбежал к телефону.
— Алло! Слушаю! Откуда говорят?..
— Вчера вечером вышел приказ о вашем назначении…
— Знаю! Знаю!..
Можете ли вы сейчас вступить в командование? В 7 ч. миноносец должен выйти на рейд… Пары разводят…
(Я посмотрел на часы — 6 ч. 35 мин.!)
— …Там поступите в распоряжение младшего флагмана. Флаг — на «Амуре». Получите инструкции. Как доложить начальнику штаба? Можете ли?..
(Незнакомый миноносец… Черт его знает, какой… Сели — поехали… Какой вздор! Конечно, не могу… — мелькало в голове… но вдруг вспомнился вчерашний разговор — «принимай скорей, проскочило — пользуйся» — и вместо энергичного отказа я крикнул в телефон):
— Конечно, могу! Доложите адмиралу — еду сию же минуту! Дайте к пристани дежурный катер!
При помощи хозяина дома, тоже сорвавшегося с постели на звонки телефона, наскоро побросали в первый попавшийся чемодан все, что находили крайне необходимым, и через несколько минут я уже был на адмиральской пристани в сопровождении вестового, тащившего вещи, а еще минут через пять высаживался на «Решительный».
Меня встретили: лейтенант (минер), два мичмана и механик. Было не до церемоний. Познакомились, и я прямо, не спускаясь вниз, прошел на мостик.
Было 7 ч. утра.
Золотая гора на своей мачте уже держала сигнал: «Решительный», ход вперед!»
— Господи, благослови! — подумал я и скомандовал: —Отдать носовые швартовы!
Миноносец оказался на редкость послушным суденышком. Несмотря на полное с ним незнакомство, я благополучно развернулся в каше судов, заполонявших Восточный бассейн, вышел в проход, обогнул «Ретвизан», окруженный всякими «портовыми средствами», и, сопровождаемый миноносцем «Стерегущий», следовавшим за мной, оказался на внешнем рейде, где ждали нас «Амур», под контр-адмиральским флагом, «Гиляк» и «Гайдамак».
Единственная полученная мною инструкция с «Амура» был сигнал: «Следовать за мной. Держаться на правой раковине».
Пошли в направлении к Талиенвану.
Погода была подозрительная. Пасмурно. Тянул слабый восточный ветер. В воздухе кружились редкие снежинки… Я пригласил на мостик лейтенанта и спросил его: есть ли таблицы девиации компасов? — Он отозвался полным незнанием, так как назначен на миноносец только вчера… Спросил старшего из мичманов, который оказался старожилом — на миноносце уж две недели, — он сообщил, что в эту кампанию никто к компасам не прикасался и магниты стоят по-прошлогоднему.
— То-то я смотрю, что вместо курса, данного адмиралом, наш главный компас показывает не то цену дров, не то число жителей! — пошутил я; но в душе было не до шуток… Скройся за снегом берега, и я, не зная поправки своих компасов, оказался бы привязанным к «Амуру», как слепой к поводырю.
Часу в десятом подошли к островам Сан-шан-тау, у входа в залив Талиенван.
«Амур» сделал сигнал: «Миноносцам осмотреть бухты Кэр и Дип» — и вместе с прочими судами отряда («Гиляк» и «Гайдамак») дал малый ход, мы же, наоборот, увеличили скорость. Я был старшим, и «Стерегущий» следовал за мной.
Как сейчас, помню этот мой «первый выход».
Как поразительно ясно охватывая, воспринимая все мелочи окружающей обстановки, работает мысль в такие моменты! Какие неожиданные решения принимаются вдруг, внезапно, как бы являясь извне, а на самом деле (по позднейшей критике их) строго соответствуя условиям данной минуты.
Бухты Кэр и Дип (к востоку от Талиенвана) были мне хорошо знакомы по прежним плаваниям. Не было нужды ни в компасе, ни в карте — только бы видеть приметные мысы и камни. В этих бухтах мог быть неприятель. Приказано — осмотреть. Но если кого увидим?.. Запрещения нет! А значит, ясно — атаковать.
— Больше ход! Боевая тревога! — крикнул я, оборачиваясьназад с мостика.
Команда побежала по своим местам.
— Так в случае… Вы думаете атаковать? — услышал я рядом голос минера…
— Конечно!.. — И по огоньку, блеснувшему в его глазах, увидел ясно, что мой ответ пришелся ему по душе. — Да, приготовьте рулевые закладки: если миноносцы, свалка, — минами по поверхности…
— На какой борт?
— На какой выйдет! Поставьте один аппарат на правый, другой — на левый, а уж там — не зевайте!
— Есть!
К мостику подбежал механик.
— Будьте готовы на самый полный! — крикнул я, предупреждая его вопрос.
— Атака?
— А кто знает?
Мы шли узлов 16. Сзади, в кильватер «Решительному», мчался «Стерегущий», взбрасывая носом пенистый бурун.
Ближе и ближе бурая, чуть посыпанная снегом, громада утесистого мыса, скрывавшего от нас бухту… Если кто есть — ворвемся неожиданно!.. А вдруг с той стороны тоже караулят?.. Сердце билось так шибко, было так жутко и так хорошо…
Никого!..
Оба миноносца, описав по бухте дугу, выскочили в море и тем же порядком осмотрели следующую.
Опять — никого!.. Весь наш задор пропал даром…
Как только, сигналом, я донес, что обе бухты свободны от неприятеля, «Амур», приказав «Гиляку» и «Гайдамаку» ждать его на прежнем месте, сам пошел ставить мины. Мы, т. е. «Решительный» и «Стерегущий», получили приказание следовать за ним несколько в стороне и сзади, чтобы расстреливать (топить) неудачно поставленные и всплывшие мины, которые могли бы указать неприятелю место заграждения.
Это конвоирование минного транспорта, шедшего со скоростью 5–6 узлов, было только скучно…
Возвратившись к месту, где нас должны были ожидать «Гиляк» и «Гайдамак», мы их не нашли. Бродили взад и вперед, искали… наконец, ввиду скорого наступления сумерок, пошли в Дальний без них. Здесь оказался «Всадник». Наутро, справившись по телефону, узнали, что, не найдя нас среди метели, оба наши конвоира (по собственной инициативе или по приказанию начальства — не знаю) возвратились в Порт-Артур. Признаюсь, такое простое решение задачи не слишком мне понравилось. После гибели «Енисея» у нас оставался только один минный транспорт — «Амур», который стоило поберечь. Потому-то и придали ему в охрану канонерку, минный крейсер и два миноносца. Теперь имелись налицо только два последние. Между тем главную силу охраны представлял «Гиляк» со своими 120-мм пушками.
«Амур» стал в глубине гавани, а «Решительный» и «Стерегущий» — в северных и южных воротах охранными судами.
Стоянка была отвратительная. Приливо-отливное течение, направлявшееся либо в ворота, либо из ворот гавани, упорно держало миноносец поперек крупной зыби, шедшей с юга. Мотало до такой степени, что, несмотря на всю привычку, на все практикой приобретенное искусство «заклиниваться» в койке, — спать было невозможно. Пожалуй, что охранная служба от этого только выигрывала, но зато мы — жестоко терпели.
Печальный опыт «Боярина», видимо, не прошел даром. Минирование Талиенванского залива решено было закончить по строго определенному плану, и с утра следующего дня портовые паровые баркасы занялись подготовительной работой — постановкой вех, места которых точно обозначались на карте и между которыми должны были расположиться линии заграждения.
5 февраля произошел инцидент сам по себе незначительный, но причинивший мне немалое огорчение.
Я стоял борт о борт с «Амуром» и принимал уголь. Погрузка еще не была закончена, когда меня потребовали к адмиралу.
— Можете ли вы немедленно дать ход?
— Так точно!
— Рабочие баркасы почему-то возвращаются. Им было приказано возвращаться, если увидят что-нибудь подозрительное… Ступайте, узнайте, посмотрите. Если ничего нет — прикажите им продолжать работу.
— Есть!
Через несколько секунд «Решительный» уже мчался из гавани навстречу медленно двигавшемуся рабочему отряду. Поравнялись. Застопорили машины.
— В чем дело?
— В море как будто японский миноносец!
— Сколько?
— Один!
— Большой?
— Не разобрать! Далеко!
Всего вероятнее — какое-нибудь недоразумение: либо свой, либо — померещилось. Погода ясная — ни тумана, ни снега. Что же делать тут, при подобных условиях, среди бела дня одинокому миноносцу? А если забрел, то — ему же хуже! Я ни минуты не колебался.
— Возвращайтесь на работу! Я его прогоню!
Пока неуклюжие баркасы с гребными шлюпками на буксире разворачивались своим черепашьим ходом, «Решительный», лихо рассекая невысокую, но крутую встречную волну, весь в пене и брызгах, мчался к проливу между островами Сан-шан-тау.
Опять — боевая тревога; опять — с возбужденными, радостными лицами разбежались по своим местам офицеры и команда…
Выскочили в море. Горизонт совершенно чист. Видимость миль на 10. Кругом — ничего, кроме одной китайской шампунки, четырехугольный парус которой, стоявший вкось, действительно можно было издали принять за трубу…
— Не везет нам, ваше высокоблагородие! Второй раз! — не удержался от фамильярного замечания старший рулевой.
— А может быть, и есть?., за угол спрятался?.. — нерешительно, словно про себя, промолвил мичман, стоявший на ручках машинного телеграфа.
Сам я не верил в подобную возможность, но эти два замечания показались мне голосом народа, т. е. всего экипажа, и я подумал, что было бы крупной ошибкой не поддержать этого настроения бодрого, молодого задора, этого порыва переведаться с врагом…
— Ну что ж? Поищем. Может, и подвезет! От нас не спрячешься! Самый полный ход! Смотри в оба, молодцы!
Загремели звонки машинного телеграфа… Пробежали к одному мысу, к другому, заглянули — никого. Никакого признака неприятеля.
— На чистоту-то не смеют! — Что говорить! — Третий день мотаемся — хоть бы кто! — слышались самоуверенные голоса среди команды…
— Нет нам удачи! — печально вздыхал мичман…
Пошли обратно, в гавань Дальнего, для доклада адмиралу, но по пути встретили «Всадник».
— Остаться в море, на подходе к рейду и охранять рабочую партию! — сигналили с него.
Вернулись и целый день мотались на зыби.
К вечеру, возвратившись на свое охранное место, я поехал на «Амур» с рапортом. Адмирал встретил меня весьма сурово и, выслушав доклад, заявил:
— Вам было приказано только узнать, посмотреть и донести, а не пускаться в авантюры!
— Но, ваше превосходительство, на основании того, что я узнал, я считал себя вправе действовать…
— Вы не имели права рисковать своим миноносцем! Вы обязаны беречь вверенное вам судно!..
Возвращаясь с «Амура», я был совсем… расстроен.
— Как? — думалось мне. — Не рисковать?.. Но ведь вся война — это сплошной риск и людьми, и судами! Разве любая атака миноносца, даже в самых благоприятных условиях, не есть, с точки зрения благоразумной осторожности, самый отчаянный риск?.. Беречь свое судно!.. Но ведь если его берегут в мирное время, то единственно для боя! Если беречь суда от встречи с неприятелем, то лучше всего было бы спрятать их в неприступные гавани, но тогда на кой черт сам флот?!
«Не рисковать» — вот формула, которой с одинаковым успехом держались: Алексеев — на море, а Куропаткин — на суше.
Сколько раз вспоминал я эту формулу в течение войны, вспоминал со злобой… с проклятием… Ведь рискнуть все-таки пришлось, но только уже после целого ряда неудач, бесплодно растратив немало сил, не использовав первого подъема духа… В результате — Мукден и Цусима…
Тогда, в то время, я, конечно, не знал и не мог знать, чем дело кончится, но правдивый сам пред собою, в своем дневнике не мог не отметить, что в душе всецело присоединяюсь к тому глухому ропоту, который слышался кругом и который я по долгу службы старался утишить…
Полагаю, понятно, что, вернувшись домой на миноносец, я ни словом не обмолвился о моей беседе с адмиралом. Я считал, что то настроение задора, предприимчивости, жажды сцепиться, подраться, которое каким-то неведомым путем создалось и овладело офицерами и командой, — необходимое, первое условие успеха деятельности такого судна, как миноносец. Я считал преступлением расхолаживать их, внушать, что мы не должны «рисковать» (чем? — встречей с неприятелем?) и «беречь вверенное нам судно» (от чего? — от неприятельских снарядов?).
7 февраля наша работа была закончена, и мы возвратились в Порт-Артур. За все время японцев так и не видели, зато от постоянно менявшейся погоды пришлось немало вытерпеть. Иные дни, даже при ветре, температура держалась 2–3° выше нуля, иногда же, при штиле, мороз доходил до 7°, и за несколько часов поверхность гавани покрывалась льдом, впрочем, таким тонким, что миноносец резал его без затруднения и без опасности для корпуса.
За эти же дни обнаружилось весьма неприятное свойство наших мин заграждения. Испытывались они на тихих учебных рейдах, вроде Транзунда (в Балтийском море) и Тендровской косы (в Черном море), где были признаны вполне удовлетворяющими своему назначению. Но здесь, в бухтах, куда заходила зыбь с открытого (настоящего) моря, где действовали приливо-отливные течения, из-за ничтожной конструктивной ошибки они оказались опасными не только для врагов, но и для друзей. Минреп, т. е. веревка, свитая из стальной проволоки, которая соединяет мину с якорем и держит ее на месте, проходит через отверстие, вырезанное в особом щите, называемом парашютом. Отверстие в парашюте выдавливалось общепринятым для этой цели станком, и никому в голову не приходило обратить внимание на то, что края его острые. Между тем на зыби и переменных течениях минреп при малейшей «слабине», дававшей ему возможность движения, терся об эти острые края, перетирался, и мина, вполне готовая при малейшем ударе к взрыву, пускалась в плавание по воле волн.
Был случай, когда такая мина подплыла к стоявшей у самого берега моря фанзе (Фанза — китайская хижина.) рыбака-китайца, ударилась о прибрежные камни, и — от фанзы со всеми в ней находившимися ничего не осталось… Другая при тихой погоде подплыла к пологому берегу и здесь обсохла во время отлива. Ее нашел обход какого-то стрелкового полка, решил предоставить начальству и поволок… Конечно — взрыв… Из 12 человек обхода чудом уцелел только один, который и мог рассказать, как было дело… Разумеется, никто, ни мы, ни японцы, не были обеспечены от возможности наткнуться на подобную мину, плавающую в открытом море.
Уходя из Талиенвана, мы видели две таких. Было дано приказание их уничтожить.
В Порт-Артуре меня ожидал тяжкий удар…
Только что успел я ошвартоваться у набережной, где находились угольные склады, и начать погрузку, как офицер, прибывший на дежурном катере, сообщил мне, что уже состоявшимся приказом Наместника он назначен командовать «Решительным», а я перевожусь старшим офицером на «Ангару»…
Миноносец пришел на отдых? — спрашивал «новый командир», не выходя с катера…
Какой тут отдых! Приказано погрузиться углем, перейти к мастерским, за ночь выполнить необходимые работы (кое-что есть в машине) и к 8 ч. утра быть под парами в готовности идти на рейд!.. Вступайте в командование!..
«Новый» сразу переменил тон, поспешно выскочил на палубу, начал пожимать мне руки…
— Как же так! Совсем неожиданно! Я вовсе не готов!.. Уж вы не откажите в дружеской услуге: по окончании погрузки переведите миноносец к мастерским. Войдите в мое положение — первый раз на судне, в сумерках, а может быть, и ночью, менять место в такой каше… — просительно заговорил он…
Надо сознаться, это выходило довольно бесцеремонно, но я так был ошеломлен внезапностью, что машинально ответил:
— Хорошо, хорошо… поезжайте по вашим делам: я все устрою…
Катер поспешно убежал.
Было уже совсем темно, когда, установив «Решительный» у эллинга, в ряду других миноносцев, я собрался его покинуть. Сборы были недолгие — один чемоданчик, — прочие вещи еще оставались на берегу, на квартире товарища, откуда я так внезапно был вытребован. За поздним временем решил провести ночь у него же, а к месту нового служения явиться завтра.
В кают-компании офицеры собрались проводить «по обычаю». Чокнулись, выпили, но пожелания были какие-то смутные, сбивчивые, словно на поминках… Мне показалось, что за этот короткий срок — всего 5 дней — мы успели сжиться, и расставание вышло тяжелым. Надо было скорей кончать.
— Ну, господа! — обратился я к ним. — Как бывший командир, хотя и кратковременный, благодарю вас за службу. Все было отлично. С судьбой спорить не приходится. Всякому свое. Я буду гнить на транспорте, а вам желаю, чтоб на первом же шоколаде с картинками, который выпустят за время войны, — была фотография «Решительного»!
— Спасибо! Спасибо! За нами дело не станет! — Вам дай Бог! — Что вы говорите! — Вам ли сидеть на транспорте! — зашумели все вдруг.
Я поспешил выйти наверх. Там, особенно после яркого освещения кают-компании, была тьма кромешная (по военному положению — снаружи не должно быть видно никакого огня), только вестовой, чуть приоткрытым, боевым фонарем указывал дорогу к трапу.
— А команда? — схватил меня за руку лейтенант в то время, как я собирался садиться в вельбот…
Оглянувшись, уже несколько освоившись с темнотой, я различил ряды человеческих фигур, черневших вдоль борта.
— Зачем же это? Какой тут парад! Не по уставу: ночь — спать должны!..
Я не приказывал; сами вышли — хотят проститься… Я ступил несколько шагов вперед, вдоль по фронту.
— Спасибо за службу, молодцы! Дай Бог вам и вашему миноносцу скорой встречи с неприятелем и славного боя! Прощайте!
— Рады стараться! Покорнейше благодарим! Счастливо оставаться!.. — загудело во тьме нестройно, но так сердечно, что… я был рад мраку ночи…
Традиционный поцелуй боцману, последнее рукопожатие офицерам, несколько взмахов весел, и… все кончено, все осталось далеко позади…
— Что случилось? В чем дело? — набросился я на приютившего меня (штабного) товарища, — что ж ты мне сказки рассказывал, что все налажено, все устроено…
— Но, пойми…
— Нет! ты — пойми! Я бросил свое место ради войны! Кронштадтские транспорты не хуже артурских, да ведь я не пошел бы на них! Всю службу провел на боевых судах, а пришла война — попал на транспорт? Что ж это такое? Не нашлось у вас, что ли, цензовиков для «Ангары»? Непочатый угол, я думаю!..
— Погоди, погоди! Отругался — и будет. Все было сделано так, как я говорил. И корректуру приказа поднесли на утверждение, как всегда, для проформы… Вдруг — собственноручно, зеленым карандашом, вычеркнул, говорит: есть старше. Вильгельм Карлович пробовал за тебя заступиться… Куда ж, говорит, его? Ведь был назначен старшим офицером… — А он — на «Ангару»! — и сам пометку сделал… «Он» все помнит…
— Я плохо спал эту ночь, вернее — вовсе не спал.
Старшинство было, очевидно, пустым предлогом. Из числа командиров миноносцев можно было насчитать нескольких много моложе меня… Но тогда — что же? Неужели теперь, в такое время, на таком посту, помнить, что несколько лет тому назад какой-то лейтенант не захотел быть придворным летописцем… Помнит, что этот маленький чин осмелился сказать «его» адъютанту, что никогда еще не продавал ни своего пера, ни своей шпаги!.. — Но ведь, если даже унижаться до таких мелких личных счетов, так и то это — счеты мирного времени!.. Перед грозой войны о них забыть нужно! Так честь, так долг, так совесть велит!..
Не может быть! — думал я, ворочаясь на постели и тщетно пытаясь уснуть! — Ведь у нас война! Настоящая война, а не китайская бутафория… На войне охотников-добровольцев пускают в первую голову…
С невольной горечью вспомнился рассказ про одного из наших известных адмиралов, как он, будучи еще старшим офицером, на замечание командира, отличавшегося самовластием (чтобы не сказать самодурством): «У меня так служить нельзя!» — ответил: «Я не у вас служу, а с вами служу Государю Императору! Меня нанять к себе на службу — у вас денег не хватит!»
Какой ужасной ересью было бы признано такое исповедание веры в Порт-Артуре времен наместничества!..
Чуть забрезжил свет, я уже был на ногах и, едва дождавшись положенного срока (начала присутствия), поспешил в штаб.
В. К. Витгефт принял меня немедленно, но еще более, чем в первое свидание, казался озабоченным и смущенным.
— Напрасно вы так огорчаетесь насчет «Ангары», — пробовал утешить он, — это вовсе не транспорт. Она уж зачислена в крейсерский отряд. Ей, может быть, предстоят весьма важные операции… Пароход недавно принят от Добровольного флота; команда сборная… На вас рассчитывают, что вы там все устроите… Это дело старшего офицера… и очень ответственное и серьезное дело…
— Но если это назначение такое почетное, то, несомненно, на него найдутся кандидаты и старше, и достойнее меня. Я отнюдь его не домогаюсь. Я был назначен старшим офицером на «Боярин». «Боярин» — погиб. Смешно было бы проситься на другой корабль тоже старшим офицером, я и не думаю об этом, но я прошу какого-нибудь места на боевом корабле! Для этого я сюда ехал. Вы меня знаете — я штурман первого разряда, много плавал, и здешние места знакомы мне в совершенстве… — Назначьте меня штурманом! Если нельзя — хоть вахтенным начальником! Я всем буду доволен!..
Адмирал, всегда бывший плохим дипломатом, не выдержал роли и, перегнувшись ко мне через стол, беспомощно развел руками.
— Ну что я могу? Неужели вы думаете, что я бы… Но, когда… понимаете, собственноручно! Зелёным карандашом!..
Не стоит говорить о том, что я думал и чувствовал, выходя из штаба…
На пороге меня задержал один из старых приятелей.
— Макаров назначен в Тихий океан с званием командующего флотом, — скороговоркой на ухо шепнул он.
— Что?.. А вы?..
— Уезжаем… Доволен? Теперь не засидишься на «Ангаре»!Только не болтай, пока — секрет…
Я от души пожал ему руку и с облегченным сердцем отправился к новому месту службы.
III «Эскадра» под высокой рукой адмирала Алексеева. — Личные наблюдения. — Рассказы участников и очевидцев про 26 и 27 января. — Жизнь порта и портовые обычаи. — Первая попытка японцев «закупорить» Порт-Артур. — Начало разоружения судов. — В ожидании приезда С. О. Макарова
На «Ангаре» мне впервые пришлось встретиться с очевидцами катастрофы 26 января и непосредственными участниками боя 27 января, притом встретиться в кают-компании, в качестве сослуживца, а не чужого человека.
Позволю себе здесь маленькое отступление. Принимаясь за настоящую работу, я вовсе не собирался писать истории минувшей войны на море. Такой труд будет возможно осуществить во всей его полноте лишь тогда, когда для исследователя откроются ныне закрытые архивы, когда «секретные», «весьма секретные» и «конфиденциальные» донесения, предписания и отношения сделаются общим достоянием. В настоящий момент мы волей-неволей вынуждены довольствоваться официальными реляциями (в которых многое опущено, многое подчеркнуто, — сообразно условиям военного времени) и частными источниками.
В числе последних, лично для меня, является, вполне естественно, самым достоверным мой дневник, который я вел беспрерывно с отъезда из Петербурга, 16 января 1904 г., и до возвращения туда же, 6 декабря 1905 г. В него занесены все факты, которых я был непосредственным свидетелем, равно как и рассказы очевидцев, переданные под первым, свежим впечатлением только что совершившегося события. Не одни только факты, но и отношение к ним окружающих заботливо отмечались мною. Теперь я хочу на основании этих моих заметок попытаться рассказать читателю не историю войны, но историю людей, принимавших в ней участие. Я хочу, насколько сумею, с фотографической точностью воссоздать те настроения, которые владели нами, рассказать без утайки о тех надеждах и сомнениях, которые нас волновали, о тех разочарованиях, о тех ударах, которые довелось пережить…
Впечатление, вынесенное мною за первые дни моего пребывания в Порт-Артуре, было весьма странное… Казалось, только что совершившиеся грозные события не слишком занимали общественное мнение: чувствовалось, что все живут под гнетом страха, но не за судьбу эскадры или крепости, а за свою собственную, и притом не в смысле покушения на жизнь и достояние со стороны врага, а в смысле… благорасположения начальства.
Как-то еще обернется дело? Кто окажется виноватым? Не влететь бы в грязную историю? — Эти вопросы видимо мучили всех и высоких, и малых чинов.
Надо заметить, что население Порт-Артура составляли почти исключительно либо служащие, либо люди, находившиеся в непосредственных сношениях с казной, благосостояние которых всецело зависело от настроения начальства. Вот почему на мои вопросы о подробностях, а главное, о причинах разыгравшейся катастрофы я ни от кого не мог добиться обстоятельного ответа. Все либо отмалчивались, либо отговаривались незнанием, либо внезапно вспоминали неотложное дело, не позволяющее продолжать беседу. Ведь излагая факты, надо же было осветить их с той или иной точки зрения… а это было «крайне опасно»!.. Видимо, из опыта прежних лет всякий знал, что смелый отзыв, самостоятельное суждение — немедленно, неисповедимыми путями достигнут туда, куда следует, — и неосторожный (часто недоумевая — в чем дело) вдруг почувствует на себе карающую руку… Это не было проявлением суровой дисциплины, как утверждали некоторые: ведь дисциплина — это есть сознательное подчинение закону всех, от самого старшего до самого младшего «не токмо за страх, но и за совесть», а здесь был только страх, страх перед всесильным, безответственным начальством…
Зато как развязались языки, когда известие о назначении адмирала Макарова (сколько ни старались сохранить его в секрете) разнеслось по городу!.. И здесь ярче всего сказалась цена этой дисциплины «токмо за страх». Уж я-то никоим образом не мог бы быть причислен к поклонникам наместника, но и меня не раз коробило «ослиное копыто», поглядывавшее в смелых речах вчерашних «всепреданнейших»…
Эскадра Тихого океана, на которой я провел почти всю мою службу, не являлась для меня понятием отвлеченным или просто сборищем судов, — нет, это было живое, дорогое, близкое, проникнутое единым духом существо, с которым я сроднился, которое горячо полюбил. Отправляясь на Восток, мне всегда казалось, что я еду «домой». Я был участником жизни этой эскадры, когда, если можно так выразиться, она была еще в детском возрасте, а за последнее плавание, продолжавшееся пять лет, был свидетелем расцвета её сил во времена командования Дубасова и Гильтебрандта… Мне не привелось наблюдать ее постепенного упадка — я видел только ее гибель.
— Но неужели же за три года моего отсутствия, — спрашивал я себя, — могла совершиться такая перемена? — Могла погибнуть, разложиться на составные элементы такая стройная, могучая организация?..
Живя в Кронштадте, я, конечно, знал об учреждении в Тихом океане вооруженного резерва, о сокращении кредитов на плавание, вследствие чего корабли, даже избегнувшие резерва, плавали не больше 20 дней в году, а остальное время изображали собою плавучие казармы; знал также о постоянных переводах и перемещениях офицеров, но вера в «эскадру» оставалась во мне непоколебимой.
Это все временное, — думалось мне. — Внешние причины создали некоторое расстройство, и стоит им исчезнуть, чтобы порядок восстановился. Подойдет война, и «гастролеры» отхлынут; офицеры поспешат вернуться на «свои» корабли, и эскадра заживет полной жизнью.
Я так хорошо помнил, так сроднился с этим культом «своего» корабля, господствовавшим на эскадре. Я знал лейтенанта, пробывшего уже три года в чине, но за отсутствием естественного, домашнего движения все еще остававшегося вахтенным офицером (по-сухопутному — субалтерн-офицер) и упорно отказывавшегося от назначения вахтенным начальником, потому что такое повышение неизбежно обусловливало перевод с «нашего «Нахимова» на какой-то «Корнилов»; знал другого лейтенанта, бывшего офицером уже 15 лет, который, состоя старшим артиллеристом на броненосце внутреннего плавания и узнав, что его «Донской», недавно вернувшийся из Тихого океана, внезапно опять отправляется туда, — бросился просить по начальству и был счастлив, добившись назначения на «свой» крейсер на должность вахтенного начальника (на содержание вдвое меньшее)… Я мог бы привести еще много подобных примеров, но думаю, что и этих достаточно. Я помнил запальчивую молодежь, всегда готовую с оружием в руках потребовать удовлетворения за непочтительный отзыв о «своем» корабле, и разыгрывавшиеся на той же почве драки подгулявших на берегу матросов, решавших вопросы чести «своего» корабля более простым и грубым способом…
Да не подумает читатель, что это было своего рода бретёрство.
Совсем нет.
Такое настроение наиболее впечатлительных элементов вполне естественно вытекало из убеждения, что если каждый отдает всю свою заботу, всю энергию на службу «своему» кораблю, то он, этот корабль, не может не быть самым лучшим! Ведь за каждым маневром, за каждой работой, на каждом общем ученье сотни ревнивых глаз следили за своими соседями, и сохрани Бог, если дружный хор этих строгих и опытных критиков уличал кого-нибудь в том, что они «показывают Петрушку»… На почве этого соревнования кораблей вырос «культ эскадры», в которой каждый корабль стремился быть лучшим ее украшением. Боже мой, как ревниво следили (по приказам, отчетам и корреспонденциям) за тем, что делается в других морях! Как стремились к первенству в боевом отношении, перед всякими другими эскадрами и отрядами!..
Помню, как, проплавав три года старшим штурманом на «Донском», я получил предложение адмирала Дубасова вступить в его штаб старшим флаг-офицером. Вышло это совсем неожиданно и так меня поразило, что я попросил сутки на размышление и, вернувшись «домой», стал советоваться с командиром, старшим офицером и старожилами кают-компании: как быть? можно ли бросить крейсер? не будет ли это изменой? — Судили, рядили и пришли к заключению, что отказываться нельзя, что это не перевод на другой корабль, хотя бы и с повышением (что было бы некорректно по отношению к «своему» кораблю), но переход на службу всей «нашей» эскадре, в которой «Донской» хотя и самый лучший, но все же только один из многих…
Все это я помнил. И вот почему не колебалась моя вера в «эскадру». Я верил, что жив дух ее. Я не знал, что за эти три года, проведенные мною в Кронштадте, там, далеко, под Золотой горой Порт-Артура, делалось (может быть, бессознательно) все возможное к тому, чтобы угасить этот дух… что там командир, который действительно берег и любил свой корабль, который не скрывал никакой, хотя бы самой ничтожной, неисправности, докладывал о ней, просил разрешения ее исправить, так как с течением времени эта мелочь могла перейти в крупное повреждение, — такой командир считался «неудобным» и «беспокойным»… Наместнику надо было только одно: чтобы за время его владычества не было других донесений, кроме — «все обстоит благополучно» — на основании которых сам он имел бы право всеподданнейше доносить, что «вверенный ему флот неизменно пребывает в полной боевой готовности и смело отразит всякое покушение со стороны дерзкого врага».
Кто не умел или (что еще хуже) не хотел проникнуться этим принципом, осмеливался думать, что служит не наместнику Его Величества, а самому Государю Императору, что наместнику он — только подчиненный, и лишь Государю — верноподданный, что перед лицом Верховного Вождя и командующий флотом, и матрос 2-й статьи — одинаково слуги Престола и Отечества, ревность и преданность которых одинаково ценятся, вне зависимости от их иерархического положения, — те не в чести были…
Надо отдать полную справедливость: адмирал Алексеев, облеченный почти самодержавной властью, сумел достигнуть своей цели — близ него были исключительно если не «всеподданнейшие», то, по крайней мере, — «всепреданнейшие»… О plebs'e, конечно, и думать не стоило — ему нужны только ежовые рукавицы, — а что касается тех, которые были не близко и не далеко, т. е. в массе офицерства, — в среде их, путем постоянных переводов с корабля на корабль, систематически вытравливался всякий дух сплоченности, единения, внедрялась идея, что при благосклонности начальства, «числясь» на портовом пароходе, можно идти по службе много шибче, чем ревностно исполняя свои обязанности на боевом корабле.
Наместник на Дальнем Востоке адмирал генерал-адъютант Евгений Иванович Алексеев (1843–1918)
Теперь — ни в порту, ни в клубе, ни даже на эскадре — нигде не приходилось слышать разговоров на старую, дорогую тему «А вот у нас, на корабле…» или «У нас, на эскадре…»
Все интересы сосредоточивались на успешном прохождении службы. Говорили о том, «кому подвезло», соображали насчет открывающихся вакансий, где больше содержания, какое место больше «на виду» у начальства… Правда, иногда раздавалось — «У нас в Артуре…» — Но как обидно было слышать такие слова в разговоре морских офицеров, для которых, по образному определению адмирала Макарова, должно было бы считаться основой служебной этики: «В море — значит дома…» Превращение кораблей в плавучие казармы, видимо, удалось выполнить с блестящим успехом…
Я был поражен… Мне было так обидно видеть этот разгром личного состава «нашей» эскадры… Лишь кое-где, на некоторых судах, как будто сохранились еще отблески старых традиций…
Но я надеялся и, кажется, не ошибся, что стоит только стряхнуть внешний гнет, и ярким пламенем вырвется на свободу «дух эскадры», в течение трех лет старательно прикрывавшийся золой и пеплом… Признаки были… «Верхи» еще хранили величавое, почти могильное, безмолвие; канцелярии работали заведенным порядком, словно ничего особенного не случилось, а по низу, словно поземный пожар по сухому застоявшемуся бору, уже неслась радостная весть: «Макаров выехал из Петербурга».
Но возвращаюсь к моему рассказу.
Разумеется, больше всего меня интересовала достоверность ходивших по городу слухов о недавних событиях, тех слухов, которые еще в Харбине сообщали нам артурские беглецы и которые они, несомненно, развезли по всей России…
Правда ли, — спрашивал я, — что эскадра проявила беспечность прямо… непонятную? Что она стояла на внешнем рейде со всеми огнями, без паров, без сетей, без охранных и сторожевых судов? Что в самый момент атаки не только многие офицеры и командиры, но даже сам адмирал находились на берегу, празднуя день ангела М. И. Старка?
Прежде всего, признайте, что личный состав «Ангары» — (беседа происходила на «Ангаре» с одним из новых сослуживцев) — по существу дела, самый беспристрастный свидетель всего происшедшего. В эскадре мы состоим без году неделя, не связаны с ней никакими традициями, никакой привычкой долгой совместной службы, даже наоборот — можем считать себя обиженными, так как попали вместо боевого судна на вооруженный пароход… Так вот, я вам отвечу категорически: первая часть вашего вопроса — горькая истина, но с оговоркой, что не эскадра виновата в проявленной беспечности, которую вы мягко назвали непонятной, а я прямо назову — преступной! Что касается второй части — то это сплетня, пущенная с явной целью взвалить всю ответственность за происшедшее на адмирала Старка. Не знаю, может быть, в тот момент так нужно было… Ведь после первого ошеломляющего впечатления по городу, по крепости — уже пронеслось роковое слово «измена»… А если бы оно вырвалось криком?.. — Подумать страшно!..
Начальник Эскадры Тихого океана вице-адмирал Оскар Викторович Старк (1846–1928, слева) и наместник на Дальнем Востоке адмирал генерал-адъютант Евгений Иванович Алексеев (1843–1918, справа) на палубе бронепалубного крейсера 1-го ранга «Аскольд»
Наш старик выдержал тяжелую марку, но оказался на высоте — не поддался искушению всенародно оправдаться во взводимых на него обвинениях, так как, бог весть, чем бы могло это кончиться… Не обнародовал своего знаменитого «документа», который был у него в кармане… Он только напомнил о нем, кому следует, — и тотчас же все достоверные лжесвидетели и без лести преданные клеветники заткнули фонтан своего красноречия. Очевидно — приказали молчать… — Тут, батенька, древним римлянином пахнет! — Pereat mea gloria, vivat patria! Впрочем, в латыни я слаб… Однако же судите сами: скажи он тогда: «Мне не позволяли стоять по-боевому. Вот доказательства!» — может быть, на другой день от дворца наместника не осталось бы камня на камне…
— Значит — неправда?
Мой собеседник досадливо передернул плечами и резко, отчеканивая каждое слово, продолжал:
— С того момента, как эскадра стала по диспозиции на внешнем рейде, приказано было, раз навсегда, чтобы к заходу солнца, к 5 ч. дня, весь личный состав был на своих судах, и сообщение с берегом прекращалось вплоть до рассвета. Это было единственное распоряжение, в смысле мер предосторожности, которое начальник эскадры мог отдать своей властью, не спрашивая разрешения наместника. И это приказание в точности выполнялось. Особенно 26 января! Ещё бы!.. — Ведь все мы видели, как пришел пароход с японским консулом из Чифу, чтобы забрать и увезти из Артура японских подданных. Мы видели, как он стоял на якоре, чуть что не посреди эскадры, как он торопился уйти засветло. Кому же не было ясно, что это — война! Или вы думаете, что мы этого не понимали?! Да разве, если бы вся эскадра не была начеку, подхватили бы так быстро, по всем судам, боевую тревогу? Разве могли бы мы так дешево отделаться?!
Ко времени этого разговора из Чифу уже были получены (из частных, но достоверных источников) сведения, что на пароходе, приходившем в Порт-Артур 26 января, кроме консула, находился еще и неофициальный японский морской агент, проживавший в Чифу уже много лет. Говорили даже, что в Порт-Артуре он съезжал на берег под видом консульского слуги. Пароход, имевший за время стоянки полную возможность совершенно точно нанести на карту диспозицию нашей эскадры, выйдя в море, встретил на условленном рандеву японскую эскадру и передал на нее мнимого лакея, конечно, со всеми собранными им последними известиями.
Большую услугу оказало японцам также «ученье отражения минной атаки», назначенное в ночь на 27 января, для чего в море были высланы четыре наших миноносца.
Хотя это несвоевременное ученье (неизвестно по чьей инициативе) было отменено и миноносцам было приказано идти на ночь в Дальний, но последнее распоряжение на эскадре известно не было, и когда в 11-м часу вечера показались с моря миноносцы, идущие со всеми огнями, их, весьма естественно, приняли за своих. Утверждают даже, хотя факт этот неудостоверен, что один из миноносцев совершенно правильно показывал позывные сигналы «Стерегущего» — одного из наших отсутствовавших… Только глухие удары минных взрывов и звуки боевой тревоги на поврежденных судах рассеяли сомнения…
— Но пары? сети? огни? сторожевые и охранные суда? — спрашивал я…
— Ах, что вы говорите! Точно не знаете!.. Разве это мог приказать начальник эскадры? Надо было разрешение наместника!..
— Отчего ж не просили? не настаивали?..
— Не просили!.. Сколько раз просили! и не на словах только — адмирал рапорт подал!.. А на рапорте зеленым карандашом резолюция — «Преждевременно»… Теперь объясняют разно: одни говорят, будто боялись, что наши воинственные приготовления могут быть приняты за вызов и ускорят наступление разрыва, а другие — будто на 27-е предполагалось торжественное объявление состоявшегося отозвания посланников, молебствие, парад, призыв стать грудью и т. д… Только вот — японцы поторопились на один день…
— Ну, а впечатление, которое произвела атака? Настроение на эскадре?..
— Что ж… впечатление? — Впечатление, конечно, тяжелое, но паники не было. Факт налицо — все остальные атаки удачно отбили… Потери, повреждения — не сразу выяснились. «Ретвизан» только сел носом, «Паллада» — кормой. Ночь, темно, — даже заметить трудно. Вот когда «Цесаревич», повалившись на бок, крен 18°, шел в гавань, — жутко было… Думали, вот-вот перевернется… А настроение?.. Да что! — внезапно воодушевляясь, заговорил он. — Когда после первой, внезапной атаки японцы скрылись, пальба стихла, но угар еще не прошел, — наш добродушный толстяк 3. повернулся к Золотой горе и со слезами, но и с такой злобой в голосе закричал, грозя кулаками: «Дождались?., непогрешимые, всепресветлейшие!..» — и т. д. (приводить в печати неудобно). Вот это и было настроение… думаю — общее…
— Ну, а 27-го?..
— Тоже какая-то дрянь вышла… Понятно, что сейчас же после атаки, даже не ожидая сигнала, все начали разводить пары. Подбитые суда немедленно пошли в гавань, да в потемках, плохо слушаясь руля из-за пробоин, никто не попал, куда хотел. Все трое, рядышком, выкатили на отмель Тигрового Хвоста под самым маяком… На другой день «Цесаревич» и «Палладу» сняли, отвели внутрь, а «Ретвизан» так и сидит до сих пор: у него пробоина в носу, и через нее, по системе вентиляционных труб, одобренной техническим комитетом, вода медленно, но верно, сплющивая какие-то специально изобретенные шаровые клапаны, распространяется по всему броненосцу. Изолировать пробоину невозможно. Надо её, хоть временно, заделать, а без этого — слава Богу, что сидит на мели!..
— Ну, так вот: стоим под парами. Перед рассветом, когда закончились атаки миноносцев, послали крейсера на разведку. Первым возвращается «Боярин», держит сигнал: «Видел приближающегося неприятеля». — Немного погодя, полным ходом, уже в перестрелке с наседающими крейсерами японцев, идет «Аскольд» и сигналит: «Неприятель наступает в больших силах». А мы — стоим на якоре в трех колоннах, и наша «Ангара» совсем на отлете, самым восточным кораблем южной линии… Наконец — без всяких сигналов, своими глазами видим — появляется на горизонте весь японский флот… А мы — все стоим… Видите ли: с утра начальник эскадры был вызван к наместнику для получения инструкций и еще не возвратился… Это мы уж после узнали, а тогда… понимаете — так и подмывает! так и дергает!..
— Как же? не доложили? не послали сказать?..
— Не доложили! Не послали сказать! Ха-ха-ха!.. — желчно рассмеялся мой собеседник. — Да вы забыли, что ли? Ведь Золотая гора первой принимает все сигналы, и горизонт у нее много больше, чем у судов, стоящих на рейде! А с Золотой горы — телефон прямо во дворец к наместнику!.. Должно быть, все совещались, — находили, что еще «преждевременно»!.. Впрочем — как знать, чего не знаешь?.. Словом, флаг-капитан, видя, что неприятель вот-вот откроет огонь, сделал сигнал «Сняться с якоря, быть в строе кильватера» — сам, не дождавшись возвращения адмирала, который догнал «Петропавловск» на катере и высадился на него уже на ходу… Боя настоящего не было. Правильнее сказать — перестрелка. Хорошо стреляют. Первые их два снаряда так и легли оба у самого борта «Петропавловска»… Нарвались на Электрический утес. Его 10-дюймовую батарею успели изготовить. С возвышенного-то берега, да с крепостным дальномером!.. Кажется, им здорово влетело! — 40 минут постреляли и заторопились домой! У нас — азарт, подъем духа! Сигнал: «Преследовать неприятеля!» — «Аскольд», «Новик» — наши скороходы — уж бросились вперед, в первую голову… Вдруг — на Золотой горе поднимают «ферт» («Ферт», т. е. флаг, соответствующий букве Ф., означает — «Предыдущий сигнал отменяется».)… Вернулись… Потом все, в порядке постепенности, вошли в гавань… И вот — стоим…
Я слушал и хотел бы не верить…
«Ангара» тоже принимала участие в бою. Конечно, ввиду большой дистанции, вряд ли она нанесла неприятелю какой-нибудь урон своими 120-мм пушками, хотя сама порядочно потерпела. Были убитые и раненые; был критический момент, когда оказался перебитым рулевой привод и некоторое время пришлось управляться машинами; большая часть шлюпок левого борта превратилась в решето; трубы, вентиляторы пестрели мелкими пробоинами… но все от осколков снарядов, рвавшихся о воду, близ борта. Единственный (зато 12-дюймовый) снаряд, попавший в пароход, на счастье, не разорвался: пробив борт, палубу, несколько переборок, он залетел в каюту первого класса, разрушил койку и мирно опочил в ее пружинном матрасе… Похоже на анекдот — но правда.
Я не слишком верил в обещанную крейсерскую службу «Ангары». Ведь настоящие крейсера, на моих глазах, стояли без всякого дела…
«Беречь суда! Отнюдь не рисковать» — этот лозунг, с которым я недавно познакомился, вряд ли был принят младшим флагманом самостоятельно. Вероятно, он был дан «свыше»… Конечно, эти пессимистические размышления я хранил про себя и не только их не высказывал, но еще всеми мерами пытался подбодрить личный состав и привлечь его к дружной работе по подготовке «Ангары» к ее будущей деятельности. А работы было немало.
«Ангара» (бывшая «Москва») — один из лучших пароходов Добровольного флота — была принята под военный флаг перед самой войной. На нее поставили артиллерию (шесть 120-мм и восемь 75-мм пушек), грузовые трюмы засыпали углем, назначили сборную команду с разных судов, переменили название, и — вспомогательный крейсер был готов.
Организация судовой жизни, все эти непонятные непосвященным «расписания», в которых на всякий случай и во всякой обстановке каждому человеку указаны его место и обязанности сообразно его званию и специальности, — находились в зачаточном состоянии. Сверх того необходимо было озаботиться, с теми средствами, какие были под руками, блиндировать (прикрыть хотя бы от осколков) наиболее жизненные и нежные части, как то — приборы управления рулем и машинами, пожарные трубы и т. п.
Главное же — надо было до крайних пределов уменьшить количество дерева и вообще горючих материалов. «Ангара», т. е. «Москва», с ее роскошной отделкой пассажирского парохода, представляла собою настоящий плавучий костер. Счастье было, что 27 января 12-дюймовый снаряд, угодивший в каюту первого класса, не разорвался, — тут было бы где разгуляться пожару!..
В моих хлопотах я встретил неожиданное, хотя чисто формальное, препятствие со стороны командира: надо было спросить разрешения наместника. Оказывается, за несколько дней до начала военных действий он посетил «Ангару» и наметил ее как яхту-крейсер, предназначенную для него и его штаба в случае необходимости проследовать куда-нибудь морем. Принимая во внимание, что в военное время штаб наместника достигал 93 человек (адмиралов, генералов, штаб- и обер-офицеров и чиновников), действительно, «Ангара» являлась для этой цели кораблем, наиболее подходящим… Первоначально предполагалось даже совершенно закрыть все помещения первого класса и держать их в полной неприкосновенности для будущего высокого назначения, а командира и офицеров поселить в скромных каютах судового состава.
Впоследствии, когда выяснилось, что эти каюты необходимы для помещения в них кондукторов, устройства канцелярии и малых складов тех артиллерийских, минных и шкиперских материалов, которые нужно всегда иметь под руками, — последовало разрешение командиру и офицерам пользоваться некоторыми помещениями первого класса, но с наказом: ничего не испортить.
— Что ж это? — ворчали иные, — или думают, что мы ни когда не ездили на пароходах в первом классе? Боятся, что перебьем зеркала и мебель переломаем?..
Когда передо мною открыли запертые салоны promenade deck'a и cabines do luxe, я прямо ахнул: они были битком набиты креслами, стульями, легкими диванами, столами, столиками… Тут же возвышались груды ковров, занавесок…
— Как можно? Ведь это — готовый костер.
— Приказано было, — пояснил сопровождающий меня ревизор, — для сохранности, на случай поездки наместника и его штаба…
На меня вдруг пахнуло чем-то далеким, полузабытым… Почему-то вспомнилась гимназия, учебник истории Иловайского и захваченные на поле марафонской битвы цепи, которые Ксеркс, царь персидский, предусмотрительно заготовил для греков, имеющих быть плененными…
Что касается других работ, в которых требовалось содействие порта, то… каждый любитель строго заведенного порядка, несомненно, пришел бы в восторг от стойкости портовых учреждений Артура!.. Гроза войны как будто вовсе их не коснулась. Как и прежде, от момента подачи рапорта командиром судна, просившим о чем-нибудь неотложном, насущно необходимом, и до момента соответственного «наряда» терялось дней 8—10 на выполнение «портовых формальностей»… Господствовало такое настроение, словно не Россия воевала с Японией, а подрались между собой какие-то южноамериканские республики…
Не скрою, был один способ обойти канцелярскую волокиту, способ, практиковавшийся одинаково успешно и в мирное время и не имевший к войне никакого отношения, — просьба «по старому знакомству». Мне, как старожилу эскадры, участнику занятия Артура и лицу, прикосновенному к учреждению нарождавшегося порта, довелось в этом отношении оказать несколько мелких услуг «Ангаре» по просьбам механика, артиллериста и ревизора…
Помню, однажды, встав вместе с командой в 5 ч. утра, набегавшись по пароходу до ломоты в коленях, я позавтракал и только что собирался лечь, заснуть на время отдыха (до 2 часов дня), когда ко мне в каюту постучался механик.
— В чем дело?
— Простите, что беспокою, но вы сами все торопите с заделкой пробоин в непроницаемых переборках… До зарезу нужно! Уж три дня, как подан рапорт, — и никакого толку! Ведь N. N. — вам старый знакомый? — Это в его власти. Не откажите — съездите, замолвите словечко! Не для себя прошу!..
Разочарованный в мечтах об отдыхе, посылая все и всех к черту (механик отнюдь не принимал на свой счет и не обижался), собрался и поехал.
С двух-трех слов дело наладилось. Пока вестовые и рассыльные бегали с срочными записками, я, усталый, недовольный, присел к письменному столу приятеля, закурил папиросу и не удержался, чтоб не поворчать.
— Неужто у вас нет какого-нибудь особого, военного, положения? Так и тяните вашу проклятую канитель!..
— Государь мой, не богохульствуйте! — Старый приятель поднял руку, как для присяги. — Небо и земля прейдут, а отчетность не прейдет!
— Полноте балаганить! Хлопнет 12-дюймовый снаряд в вашу отчетность — и нет ее; хлопнет в склад — и нет склада!
— Исполать им! Чего лучше такого оправдательного документа, как дыра от 12-дюймового! А пока такового не имеется, пожалуйте требуемый законом!
— Однако же вы сейчас распорядились и без документа…
— Это совсем другое дело! Это — уважение хорошему человеку! Вы мне сказали: что, как, почему. Я вам верю и вижу, что документ обеспечен, всё равно, что в кармане… А без этого… ни-ни!
— Так что, будь я не я, не дали бы?
— Пока требование не прошло бы все подлежащие инстанции, ни в каком разе!
— Да если нужно! Понимаете: по условиям военного времени нужно! — горячился я…
— Порядок требований сверх штата ясно определен…
— Вы меня просто травите!..
— Совсем нет, и не злитесь — печенке вредно! — смеялся приятель. — Да что! — вдруг вскочил он. — Вот вам пример! Старка чуть под суд не отдали! Чуть не утопили! А выплыл! Почему? Из-за бумажки! Знаете? Он рапорт подавал о необходимости мер предосторожности… Так вот рассказывают, что как раз 26 января заходит он в штаб и спрашивает: — А что мой рапорт? — Ему показывают. На рапорте резолюция: «Преждевременно». Он его взял… и — в карман. Ему так и сяк, говорят: «Следовало бы пришить к делу»… А он: «Чего же, — говорит, — если отказано…» — и ушел. Тогда-то на это и внимания особенного не обратили, а как пришла беда да повели дело к тому, что он, дескать, во всем виноват, — так он только похлопал себя по карману… «Хотите, мол, покажу бумажку кому следует?..» То-то и есть!.. Нет, голубчик! Бумажка — святое дело! На словах только в любви объясняются! Есть бумажка — чист как голубь. Нет ее — пропал как швед под Полтавой!..
— Какой цинизм!.. А долг службы? Долг перед Родиной?.. Послушать вас… прямо — тошно!..
— Эх вы!.. Знаете сказочку? Жил-был маленький мальчик, жил долго, вырос, состарился, а все еще верил, что папа и мама своих детей либо под капустными листьями находят, либо их аисты приносят в нарядных корзиночках… Ну, до свиданья! Когда что нужно будет по моей части — приходите прямо ко мне.
9 февраля закончено было исправление «Новика». Его вывели из дока и вместо него ввели «Палладу». По поводу результатов взрыва на этой последней доктора рассказывали весьма любопытные вещи. Люди, находившиеся в помещениях, куда проникли газы от взрыва мины, оказались отравленными. Отравление обнаружилось лишь на второй день, причем пострадавшие обратились к медицинской помощи, жалуясь якобы на простуду: «Грудь заложило! Насморк — не прочихнешь!..» На деле же гнойное воспаление носоглоточного пространства и бронхов. Как говорил для наглядности один из молодых докторов: «Что-то похожее на сап…» Из девяти человек четверо умерли, и очень тяжело. Ясно, что в мине был не пироксилин, а что-то новое — мелинит, лиддит, шимоза — кто их знает…
Панорама внутреннего рейда Порт-Артура
— Запомните, господа: после разрыва снаряда или взрыва мины вблизи вас старайтесь не дышать, задерживайте дыхание, пока не пронесет газов! — поучал нас совсем юный эскулап «Ангары»…
«Ретвизан» и «Цесаревич» не влезали в существующий док (новый док был в зачаточном состоянии), а потому их надеялись починить при посредстве кессонов. Может быть, читатели не знают, что такое кессон? Попытаюсь вкратце дать его описание.
Строится (где-нибудь на берегу) огромный ящик, у которого две стороны из шести остаются открытыми, а именно: открыты верх и та сторона, которая будет прилегать к поврежденной части корабля, причем линии срезов боковых стенок и днища должны в точности соответствовать обводам корпуса близ пробоины. Когда подобное сооружение, затопив его предварительно съемными грузами, подведут и приладят к борту корабля вплотную, то, при выкачивании воды из затопленных отделений, внешнее давление так его прижмет к борту, что не оторвешь никакими силами. Получается как бы второй, извне надстроенный, борт корабля. Между ним и настоящим, пробитым, бортом оказывается осушенное от воды пространство и свободный выход наверх, так как внешние и боковые стенки кессона строятся с расчетом, чтобы верхний край их был на несколько футов выше уровня воды. Дальнейшие работы производятся так же, как в доке, хотя, конечно, не с такими удобствами.
Постройка кессона для «Ретвизана», получившего пробоину в носовой части, где борт почти «прямостенный», не представляла затруднений, зато относительно «Цесаревича» многие, даже специалисты, сильно сомневались. Мало того, что самый обвод борта в корме чрезвычайно сложен, оказывалось необходимым пропустить сквозь кессон вал гребного винта. Это был камень преткновения: малейшая ошибка, какой-нибудь дюйм в обводе кессона или несколько дюймов вправо или влево при его установке могли повлечь за собою погнутие гребного вала, а тогда… прощай, броненосец!..
Большие надежды возлагались на ехавшего в Артур вместе с Макаровым корабельного инженера К. и сопровождавших его мастеровых Балтийского завода. В общем, как я уже говорил выше, во всяком затруднительном случае все утешались одной и той же спасительной мыслью: «вот приедет Макаров!..»
Того же 9 февраля «Аскольд» и «Баян» ходили в море, но скоро вернулись. Какое поручение было на них возложено — осталось мне неизвестным. Неприятеля они не видели. 10 февраля «Амур» ходил ставить минное заграждение в бухтах западного берега Квантуна. Вернулся благополучно. Погода великолепная — штиль, ясно, сухо, греет яркое солнце.
В ночь на 11 февраля, набегавшись за день, я спал сном праведника, когда в 2 ч. 40 мин. пополуночи был разбужен глухими ударами пушечных выстрелов. Выбежал наверх. От нас — с возвышенного мостика «Ангары» — через низменную косу Тигрового Хвоста был хорошо виден «Ретвизан», стоявший на мели у северного склона Маячной горы. Он светил боевыми фонарями и стрелял, но только из орудий средних и крупных калибров. Пальба велась с перерывами, неуверенно. Видно было, как крепостные прожекторы своими лучами словно что-то искали в море. На окрестных батареях, обращенных к нам тылом, двигались взад и вперед светящиеся точки — должно быть, бегали люди с фонарями, готовились к бою, но батареи молчали. С моря ответных выстрелов не было. Мы — офицерский состав «Ангары», собравшийся на ее мостике, — никак не могли понять, в чем дело: если приближалась японская эскадра, несомненно, открыли бы огонь и батареи берегового фронта; если шла минная атака — не молчала бы мелкая скорострельная артиллерия «Ретвизана…»
Морозная ночь была поразительно тиха. В промежутках между выстрелами воцарялось жуткое безмолвие. Чувствовалось, что все, и в городе и на эскадре, затаив дыхание, жадно ловят каждый звук, который мог бы дать ключ к разгадке завязывавшейся трагедии.
— …Немедленно! Башня! Немедленно! — доносился вдруг с «Ретвизана» резкий, каждое слово отчеканивающий голос…
— …Спишь у третьего номера? Не своди с прицела! Фазан иркутский!., и т. д. (в печати повторять неудобно), — прорезал внезапно наступившую тишину сочный бас с вершины первой горы Тигрового полуострова…
Нервы у всех были так натянуты, внимание так напряжено, что эти отрывочные фразы, долетавшие до нас в краткие моменты затишья, казались такими забавными… Нервный смех пробегал и по мостику, где собрались офицеры, и вдоль борта, усеянного незримой во тьме толпой команды…
— А Щ. и в бою не забыл своего «немедленно!». — Богатый лексикон у нашего соседа! — Какого? — Что на Тигровом! — Ловко загнул! — Верно, сибиряк! — У них этак-то на почтовомтракте! — тут и там слышались сдержанные восклицания…
Пальба то стихала, то разгоралась с новой силой…
Так прошло больше часу…
Вдруг с внешней стороны Золотой горы блеснула зеленовато-золотистая молния… — все сразу догадались — 10-дюймовка Электрического утеса!.. Заговорили 6-дюймовки Канэ на батарее «соседа», а затем подхватила и вся линия берегового фронта… «Ретвизан», опоясанный беспрерывно мелькающими огнями выстрелов, казался вулканом… А оттуда — никакого ответа…
Было начало пятого часа утра.
— Что такое?..
Среди гула канонады явственно послышался сухой треск ружейных залпов и рокот пулеметов.
— Высадка? Атака открытой силой?..Кто мог ответить на эти вопросы?..
Вот из Восточного бассейна донеслись звуки горна, игравшего «боевую тревогу», немедленно подхваченную на всех судах эскадры…
Кому не приходилось самому, в боевой обстановке, слышать, как одновременно на десятках кораблей горнисты, под аккомпанемент глухого рокота барабанов, играют тревогу, тот вряд ли поймет меня, а передать разумной человеческой речью это впечатление — невозможно!.. Недаром горн сохранился у нас со времен Петра Великого…
Есть что-то особенно кровожадное, что-то зверское, затемняющее рассудок в этих пронзительных, ухо режущих звуках и особенно тогда, когда эти звуки не согласованы между собою, когда на каждом корабле играют, не слушая соседей… Получается хаос, чудовищная дисгармония — самая подходящая музыка для того момента, когда человек должен забыть, что он человек, разбудить в себе дремлющего зверя и, как на праздник, броситься на смерть в опьянении жаждой истребления всего, что подвернется под руку…
— На всякий случай приготовьте десант… — приказал командир.
— Десант, наверх! — скомандовал я…
Но, видимо, в этот момент вся масса людей, населявшая «Ангару», жила одной жизнью, и приказание являлось только разрешением…
Едва успели боцманы и унтер-офицеры повторить мою команду, как на палубе, торопливо оправляя на себе амуницию, уже строились ряды десантной полуроты; шлюпочные тали были разнесены и «взяты на руку», а гребцы на шлюпках, схватившись за стопора, ждали только знака отдать их и сбросить шлюпки на воду…
Внезапно из-за Маячной горы поднялись густые клубы дыма, озаренные багровым отблеском. Возможно, что был и взрыв, но среди гула канонады никто его не слышал… Зарево увеличивалось с минуты на минуту…
— Очевидно, пожар!.. Но что там может гореть? — Голый берег…
Общее недоумение еще увеличилось, когда вскоре же после начала пожара артиллерийский огонь стал ослабевать, а к 4 ч. 40 мин. утра вовсе прекратился.
Чуть забрезжил свет, по всей эскадре замелькали семафорные флажки. Все торопились узнать, что такое разыгралось минувшей ночью.
Получаемые известия были до такой степени неожиданны, что скептики даже не верили им.
Оказывается, в 3-м часу ночи лучи прожекторов открыли 4–5 пароходов, шедших с моря, явно в Порт-Артур. Пароходы шли так смело, так уверенно, что поначалу их приняли за ожидаемые транспорты с углем и другими запасами. Первым усомнился и, на всякий случай, открыл огонь «Ретвизан». Ему показалось странным, что пароходы образуют как бы линию фронта, словно собираются все одновременно подойти к узкому входу в Порт-Артур. Коммерческим судам было бы естественнее идти в кильватере, т. е. гуськом, друг за другом, так как в Порт-Артур, особенно ночью, возможно было входить только поодиночке. Подозрения еще усилились, когда, несмотря на пальбу «Ретвизана», загадочные корабли не только не стали на якорь, не начали подавать тревожных свистков, но упорно продолжали идти вперед. Наконец, когда выскочили скрывавшиеся за ними миноносцы и бросились на «Ретвизан» — всякие сомнения исчезли. Тут-то и началась та бешеная пальба по всей линии, которой мы были свидетелями. Как сообщали, один из пароходов затонул еще на подходе к рейду, другой попал на камни у горы Белого Волка, а третий, подбитый, не выдержал огня и ушел обратно, в море. Наиболее удачно действовали два, шедшие прямо на «Ретвизан». Один из них только немного уклонился вправо и затонул под Золотой горой, другой же забрал левее и выскочил на берег у южного склона Маячной горы, не дойдя до «Ретвизана» каких-нибудь 100 сажен. Здесь он загорелся, и его-то пожар и был нам виден.
В кают-компании «Ангары» шли оживленные споры. Несмотря на бессонную ночь, никому и в голову не приходило пойти отдохнуть. Мнения были самые разнообразные.
— Я так думаю, что своих раскатали! У нас это не впервой! Оттого и батареи так долго не открывали огня. В эту ночь, наверно, кого-нибудь поджидали, — заявил один из пессимистов.
— Отчего же они не стали на якорь при первых выстрелах?
— Не очень-то станешь на глубине 35 сажен! Надеялись, что у нас наконец увидят ошибку…
— А миноносцы?..
— Только новое объяснение, почему они так упорно шли вперед, — за ними гнались японские миноносцы… Что ж вы думаете? Брандеры, что ли, были высланы? Ну-ка, зажгите современный броненосец! Японцы, поди, не глупее нас…
— Назначение пароходов, как брандеров, могло быть второстепенным. Главное — очевидно, заградить выход из гавани!
— Безумная затея!..
— Однако американцы пытались же заградить этим способом выход из Сант-Яго?
— Пытались — и неудачно!..
Спор прекратился за получением вполне определенного известия, что пароходы, несомненно, японские. Захватить в плен никого не удалось, так как в последний момент малочисленный экипаж покидал свои суда и на шлюпках, пользуясь темнотой ночи, уходил в море, где их ждали миноносцы.
Мертвый штиль, отсутствие даже зыби как нельзя лучше благоприятствовали осуществлению такого плана.
Из-за Маячной горы все еще подымались густые клубы дыма, а временами, несмотря на дневной свет, видно было и пламя. С разрешения командира я взял паровой катер и поехал взглянуть.
Затея японцев вовсе не показалась мне такой безумной, какой ее признавали некоторые из сослуживцев на «Ангаре». Брандер, выскочивший на берег под Маячной горой, не дойдя до «Ретвизана» каких-нибудь 100 сажен, был пароходом, на глаз, тысячи в 4 тонн. Если бы эта масса врезалась в искалеченный, полузатонувший броненосец, то вряд ли еще оставалась бы надежда на его спасение! Если бы даже таранный удар не произвел непосредственно надлежащего эффекта, то, во всяком случае, одно соседство, борт о борт, этого гигантского костра представляло огромную опасность даже и для современного броненосца с его угольными ямами, запасами всяких горючих материалов, а главное — с его артиллерийскими и винными погребами…
Брандер, как рассказывали, не достиг своей цели единственно благодаря счастливой случайности. Обращенный на него ураган огня и железа не затронул ни одной из жизненных частей. Он шел неуклонно, параллельно берегу Тигрового полуострова, держа курс на середину броненосца, осыпавшего его снарядами, но почти у цели шальной снаряд или осколки его перебили цепочки, поддерживавшие на месте левый якорь… Именно: не сорвали якорь с места, не сбили его, а только «отдали»… Якорь «забрал»; брандер бросился носом влево и — выскочил на берег… Уголь, наполнявший его трюмы, был смочен керосином, так что в борьбе с огнем вода оказывалась бесполезной. Приходилось засыпать его землей. Тут и там в толще угля были заложены небольшие мины, частые взрывы которых сильно препятствовали успешному ходу тушения пожара. Не обошлось без жертв. В общем, работали, как на вулкане, потому что под слоем угля могла скрываться и какая-нибудь грандиозная мина, только ждавшая своей очереди…
Далеко на горизонте смутно виднелись силуэты трех миноносцев.
Лихо вышел из гавани и промчался мимо меня «Новик», очевидно, посланный прогнать этих соглядатаев. Я не мог проследить за его действиями, так как был отпущен на самый короткий срок и спешил возвратиться на «Ангару».
В 8 ч. 30 мин. утра из юго-восточной части горизонта появился отряд легких японских крейсеров — «Читозе», «Кассуги», «Такасаго» и «Иосино».
С самого начала войны эти четыре крейсера, несшие обязанности передового, разведочного отряда японской эскадры, были окрещены в Артуре прозвищем «собачки». Всякому было известно, что если «собачки» пришли, понюхали и ушли прочь — значит, ожидай скорого появления главных сил.
В тот день это правило еще не было установлено, а потому против «собачек», в поддержку «Новику», были высланы в море «Баян» и «Аскольд».
Однако вскоре же их вернули всех троих, так как следом за «собачками» появился японский флот почти в полном составе…
С того места, где стояла «Ангара» (с ее верхнего мостика), в просвет между Маячной и Золотой горами открывался свободный вид на юго-восточную часть горизонта, ту именно, откуда обычно появлялись японцы.
Странное, совсем новое, жуткое чувство испытывал я, вглядываясь в силуэты знакомых броненосцев, яснее и яснее вырисовывавшиеся в голубоватой дымке дали…
Враги!.. Почему?.. Давно ли были друзьями?.. — мелькало в мозгу, и впервые почти бессознательно я чувствовал себя перед той колеблющейся завесой, которая скрывает от нашего умственного взора роковую тайну — смысл войны.
Вот «Асахи»… Командир — Номото. Старый приятель. Если бы сейчас он был здесь, лицом к лицу со мной, разве он бы не крикнул мне со своей знакомой широкой улыбкой: — Здравствуй, дорогой!.. Нет! там, далеко, на горизонте он готовит свою артиллерию, жадно ждет момента, когда флагман позволит открыть огонь, когда его 12-дюймовки бросят смерть и страдание в ряды его недавних друзей… Почему?.. Какая нелепость!..
Резкие звуки боевой тревоги мигом стряхнули очарование, навеянное странными грезами… Словно назло кому-то, словно заглушая чей-то голос, со дна души поднималось страстное желание, почти мольба, чтобы «они» подошли поближе, чтобы и нам, с нашими 120-мм пушками, довелось принять участие в предстоящем бою…
Бой не состоялся. Японцы только прошли в виду Порт-Артура и скрылись на западе.
В предположении, что они ушли на ночь в Печилийский залив, вечером отряд миноносцев был послан следом за ними (Миноносцы, находившиеся в Порт-Артуре, были разделены на два отряда: I — состоял из более крупных, надежных, французской и немецкой постройки, а II — из миноносцев, построенных собственными средствами по типу «Сокола». В смысле активной деятельности рассчитывали исключительно на I отряд, II же предназначался главным образом для охранной и сторожевой службы.).
В ночь, как только зашла луна (около 1 ч.), и вплоть до 4 ч. утра японские миноносцы произвели целый ряд атак на «Ретвизан», но безрезультатно. С рассветом 13 февраля вернулись и наши, тоже безрезультатно, если не считать гибели «Внушительного». Им не посчастливилось. Они встретились с неприятелем уже при дневном свете, когда приходилось думать не об атаке, а о том, как бы самим унести ноги. Ведь лозунг «не рисковать, беречь суда» все еще был в силе. «Внушительный» почему-то замешкался и, отрезанный японскими крейсерами от Порт-Артура, бросился в Голубиную бухту, ища спасения. Оказалось, однако же, что батареи берегового фронта не могли прикрыть его здесь своим огнем от огня японцев, которые, не спеша, расстреливали его, как на ученье. В результате — командир затопил свой горящий миноносец, а сам с экипажем благополучно добрался до берега и пешком прибыл в Порт-Артур.
Того же 13 февраля, около 10 ч. утра, опять появилась в виду Порт-Артура японская эскадра. Опять были высланы в море «Баян», «Аскольд» и «Новик». Держась в районе действия береговых укреплений, они завязали перестрелку, в которой приняли участие Электрический утес и одна из батарей Тигрового полуострова. Вскоре, по неравенству сил, их вернули в гавань. У нас потерь не было. Около часу дня японцы скрылись.
Вечером, ввиду особой предприимчивости, проявлявшейся неприятелем, с судов, обреченных на бездействие (в том числе, конечно, с «Ангары»), свезли десант — всего около 500 человек — на подмогу гарнизону. Надо заметить, что в то время все полевые войска — стрелки и артиллерия — находились в Цзин-Чжоу, на Нангалине, в Дальнем и на других промежуточных позициях. Предписано было впредь свозить такой десант ежедневно.
За ночь было несколько тревог. Около 11 ч. вечера открыли огонь береговые батареи, поддержанные «Ретвизаном». С моря отвечали. Слышался свист снарядов. Отчетливо видели, как один разорвался на южном склоне Золотой горы. Затем около 3 1/2 ч. утра стрелял Электрический утес, а в 4 1/2 ч. — мортирная батарея Золотой горы. В чем было дело? Кто именно подходил? — достоверно узнать не удалось.
Был ли в эти дни наместник в Порт-Артуре или уже отбыл в Мукден — не знаю. В моем дневнике ничего об этом не записано, а так как ни в каких боях или стычках он непосредственного участия никогда не принимал, то на эскадре, кроме начальствующих лиц, никто не интересовался вопросом — где он и что делает?
В течение полутора недель японцев не было видно. Куда они делись? далеко ли ушли? скоро ли вернутся?.. Может быть, кой-кому и приходили в голову такие вопросы, но к разрешению их никаких мер не принималось… Эскадра словно замерла в бассейнах Порт-Артура…
— Послали бы нас на разведку!.. — мечтала молодежь в кают-компании «Ангары», — ведь, кроме этого дела, ни на кой черт не годна наша посудина!..
Смелые мечты получили неожиданное разрешение. Приказано было… разоружаться.
«Ввиду решающего значения, которое при отражении японских брандеров всецело принадлежало скорострельной артиллерии броненосца «Ретвизан», чем обнаружился крупный пробел в организации обороны внешнего рейда и входа в гавань, и принимая во внимание, что, с одной стороны, броненосец при первой возможности будет снят с мели и введен в бассейн, а с другой — что крепость не обладает средствами для усиления защиты входа, какое признано необходимым, постановлено на обращенных к морю склонах Золотой и Маячной гор построить две батареи, вооружив их 120-мм оруднями с крейсера «Ангара», причем орудия расположить возможно ниже, т. е. ближе к уровню моря, дабы в полной мере использовать преимущества настильности и тем восполнить недостаток высоко расположенных орудий батарей берегового фронта, обладающих значительным мертвым углом, а потому… и т. д.».
Приблизительно так гласило официальное постановление.
С тяжелым сердцем принялись мы за работу…
Батареи строились нашей же командой, под руководством наших же офицеров, которым только давали указания военные инженеры. Изготовление деревянных и металлических частей временных установок орудий происходило частью в порту, частью на месте, средствами порта.
Гавань и внутренний рейд Порт-Артура с Соборной горы. На фотографии просматриваются шпалеры русских войск, выстроенных к приезду на церемонию закладки городского собора военного министра генерала от инфантерии Алексея Николаевича Куропаткина (1848–1925)
В общем, приходилось довольно трудно. Почти половина команды все время была либо на работах по постройке батарей, либо в десанте. Десант свозился не только на ночь, но иногда оставался на берегу и по суткам. Производились облавы и массовые обыски окрестных китайских деревень. На основании многих данных, главным образом ввиду уверенности, с которой японцы обходили наши минные заграждения, являлось убеждение, что каждый наш шаг в точности известен неприятелю. Помимо самих китайцев, одинаково ненавидевших всех пришельцев и готовых за деньги служить и нашим, и вашим, в первые же дни войны в среде местного населения было обнаружено немало переодетых японцев. Установилось даже, как правило, при аресте подозрительного субъекта раньше всего дернуть его за косу, которая часто оказывалась привязной. Но даже подлинность косы не всегда служила доказательством национальности. Выяснилось, что японцы давно готовились к войне. Их агенты издавна посылались в Южный Китай (например, в Кантон). Там они отращивали себе косу, выучивались говорить по-китайски, приобретали все обличье кантонца и затем приезжали на Квантун, якобы искать счастья на заработках. В таких случаях пасовал самый опытный и преданный (т. е. хорошо закупленный) сыщик-китаец. Надо было иметь музыкальный, тонкий слух, чтобы в северо китайском говоре уловить разницу в акценте настоящего кантонца и японца, много лет прожившего там же. Главной уликой служили находимые в большом числе ручные сигнальные фонари с угловым освещением (система вроде французской — «La ratiere»). Очевидно, в обиходе мирного поселянина или портового рабочего они были совершенно лишними. Шпион-сигнальщик с таким фонарем был почти неуловим. Забившись между каменьями какого-нибудь мыса, он, повернув щель фонаря по известному направлению (конечно, в море), передавал по телеграфной азбуке какие угодно известия незримому во тьме разведчику, и патрули, обходившие берег, могли его обнаружить лишь случайно, наткнувшись на него, да и то врасплох. Ведь стоило ему совсем закрыть свой фонарь, забиться поплотнее между каменьями или в расщелину скалы, и самый бдительный дозор, идущий ночью по незнакомому, усеянному препятствиями берегу, мог пройти вплотную, ничего не подозревая.
О том, что делалось в это время на сухопутном фронте, у нас на эскадре не имелось подробных сведений. Говорили, что спешно вооружаются, достраиваются и даже вновь строятся укрепления, намеченные по плану обороны, из которых к началу военных действий часть оказалась невооруженными, другие — не законченными постройкой, а к сооружению иных и вовсе еще не приступали. Все это было довольно смутное.
Погода стояла переменная. Февраль в Порт-Артуре похож на наш апрель. При ясном небе, штиле или маловетрии южное солнце так припекало, что на верхней палубе ходили, расстегнув тужурки; но стоило задуть доброму норд-осту — и картина резко менялась: появлялись полушубки и валенки. Так, 14 февраля налетела гроза с градом и после нее — мороз 5°; а 20 февраля после южного ветра при +3° Реомюра и дождя — вдруг замела настоящая пурга, навалившая на палубе сугробы снега.
На эскадре, замершей в своей неподвижности, господствовало настроение какого-то томительного ожидания… Путейцев, пользовавшихся услугами железнодорожного телеграфа, беспрерывно осаждали вопросами:
— Где Макаров? Когда приедет Макаров?.. — 18 февраля прибыл в Мукден. Остановился на несколько дней для совещаний с наместником.
Это известие вызвало целую бурю.
Нашел время разговаривать! Еще чего доброго канцелярщину разведут! Начнут решать вопросы, сноситься с Петербургом… Пиши пропало! — сердились нетерпеливые.
Этого не заговоришь! Этот не засидится! — возражали более уравновешенные.
На «Ангаре» мичмана (должен отдать справедливость, и до того весьма исполнительные) вдруг начали прямо надрываться в исполнении служебных обязанностей. Посылаемые с командой в десант или на постройку батарей, они по суткам не спали, питались, чем попало, и возвращались бодрые, веселые, готовые снова, хотя бы без отдыха, взяться за новую работу. Истинный смысл этого рвения вскоре же обнаружился, когда они, улучив удобный момент, чтобы остаться с глазу на глаз, поодиночке приходили ко мне в каюту и, после нескольких сбивчивых, запутанных фраз вступления, высказывали свои мечты уйти с разоруженного транспорта на боевой корабль. Каждый такой разговор неизменно заканчивался словами: — Адмирал вас хорошо знает; весь штаб — знакомый… Перевод мичмана — пустяки… Если я не гожусь — другое дело, но если… Вы сами можете судить… обидно!., война, и вдруг — на транспорте!.. Неужели на боевом корабле не найдется места?..
Милая задорная молодежь! Как глубоко, как сердечно я им сочувствовал в их обиде!..
IV Прибытие С. О. Макарова. — Подъем духа. — Первая бомбардировка с моря. — Обучение эскадры выполнению простейших перестроений. — На боевом корабле. — Печальные итоги стоянки в резерве. — Макаровские директивы
24 февраля в 8 ч. утра командующий флотом Тихого океана вице-адмирал Макаров прибыл в Порт-Артур и до принятия дел эскадры у в. — ад. Старка, находившегося на «Петропавловске», поднял свой флаг на «Аскольде».
Взглядывая на этот флаг, многие из команды снимали фуражки и крестились. Царило приподнятое, праздничное настроение.
Кессон для «Ретвизана» был закончен постройкой уже несколько дней тому назад, но при подводке его на место оказалось, что он плохо рассчитан, не вполне закрывает пробоину или, вернее, — ее ответвления, и, несмотря на работу мощных турбин землесосов, вода в броненосце не убывает. Приходилось при посредстве водолазов разыскивать эти щели и, хотя временно, прикрывать их надежными пластырями. Как раз в день приезда вновь назначенного командующего удалось выполнить эту работу. Броненосец всплыл и на буксире портовых пароходов был введен в Западный бассейн, где его поставили на бочки под носом «Ангары», к северу от нее.
Бронепалубный крейсер 1-го ранга «Аскольд» (на переднем плане) и эскадренный броненосец «Пересвет» (на заднем плане) на внешнем рейде Порт-Артура
— Хорошая примета! — говорили в кают-компании…
— Ишь, ты! Приехал — сейчас и распорядился! Не шутки шутит! Он, брат, сделает! — толковали на баке…
Первое время адмирал, конечно, с утра до ночи был занят приемом дел, ознакомлением с местными условиями и обстановкой, совещаниями с начальствующими лицами и т. п… Все же, выбирая относительно свободные минуты, он заезжал то на тот, то на другой корабль. До нашей «Ангары», очевидно, очередь могла дойти еще не скоро.
Посещения эти были в высшей степени кратки и все по одному шаблону. Адмирал выходил на палубу, принимал рапорт командира, знакомился с офицерами, здоровался с командой. Потом — осмотр помещений и опять обход фронта. Два слова одному, два слова другому. Иного узнает, вспомнит прежнюю совместную службу или плавание, иного спросит, что он делал в последнем бою, или вдруг заведет разговор с каким-нибудь комендором, спрашивает его, сколько выстрелов и за какое время он сделал, как брал неприятеля на прицел, вызовет на ответы, на возражения, даже словно заспорит… Потом — «До свиданья, молодцы! Дай Бог, в добрый час!» — и уехал… Как будто ничего особенного — все, как всегда; а между тем каждое его слово, каждый жест немедленно же становились известными на всей эскадре. Казалось бы, что адмирал еще ничем не проявил своей деятельности, ничем не «показал» себя, но, путем какого-то необъяснимого психического воздействия на массы, его популярность, вера в него, убеждение, что это «настоящий», — росли не по дням, а по часам. Создавались целые легенды о его планах и намерениях. Нет нужды, что эти легенды в большинстве случаев являлись апокрифическими, — важно было то, что им если и не вполне верили, то страстно хотели верить… В среде личного состава эскадры, нашедшей наконец истинного вождя, проснулся её старый «дух»…
И мне казалось, что мои мечты не обманули меня, что никакой гнет последних лет не в силах был погасить этот дух… Настал час — и, разбросав слой пепла и шлаков, он вырвался на свободу ярким пламенем, могучий и страшный…
В эти дни спутник по экспрессу, бравый путеец, не посмел бы сказать, что «сдали»!..
— А как же теперь с орудиями? Назад будем ставить? — обратился ко мне боцман тем совершенно особым, почтительно-фамильярным тоном, каким говорят боцмана со старшим офицером, конфиденциально осведомляясь о намерениях начальства.
— Какие орудия?
— Наши, которые, значит, на батареях…
— С чего ты взял?
— Я так полагал, ваше высокоблагородие, что ежели нас вышлют к мысу…
— К какому мысу?
— К Доброй Надежде, контрабанду ловить… так нам без артиллерии неспособно будет…
— Да кто тебе это рассказывал?
— Все говорят, ваше высокоблагородие… сказывают, адмирал… Потому, какой ни есть крейсер, а надо использовать…
Может, это было и неразумно, и неосуществимо, но, право, хорошо…
Из Владивостока получено было известие, что с 12 по 18 февраля весь отряд крейсеров ходил в море, но безрезультатно. Все время пришлось бороться с жестоким штормом и пургой. Однако захватили какой-то небольшой японский пароход.
К вечеру 25 февраля мы «заслышали» японцев, т. е. наши приемные аппараты беспроволочного телеграфа стали получать непонятные депеши.
В сумерках с «Ангары» видели, как оба отряда миноносцев — вся наша минная сила — вышли в море.
— Эге! Кажется, «Борода»-то не склонен «беречь и не рисковать!» — «Дедушка» не из таких! — толковали у нас.
«Борода» и «Дедушка» — это были любовные прозвища, данные Макарову в первые же дни его пребывания в Порт-Артуре.
Около 7 ч. утра, 26 февраля, возвратился I отряд наших миноносцев. Найти японскую эскадру ему не удалось, но на рассвете, уже в виду Порт-Артура, он встретился с отрядом японских миноносцев. Произошла горячая схватка на самой близкой дистанции. Стреляли даже минами, пуская их по поверхности. «Властный» утверждал, что именно от такой его мины затонул один японский миноносец. На самом «Властном» была подбита машина, и отряд вернулся в Артур. Потери: ранен начальник отряда, один механик обварен паром, а из команды один убит и несколько ранено. Должен пояснить, что всякие новости, благодаря переговорам ручным семафором, немедленно же делались известными на всей эскадре.
Двум миноносцам II отряда — «Решительному» и «Стерегущему» — не посчастливилось. Также не найдя японской эскадры, они при возвращении были отрезаны от Порт-Артура неприятелем втрое сильнейшим. Здесь дело вышло еще жарче — настоящая свалка, так как надо было прорываться. Едва не дошло до абордажа. Рассказывали даже, что одному японцу удалось перескочить на палубу «Стерегущего», где он ударом сабли успел свалить кого-то из офицеров, но и сам, конечно, был немедленно убит. «Решительный» прорвался, на «Стерегущем» же, как оказалось, вероятно, от неприятельского снаряда или осколка, взорвалась мина в одном из кормовых аппаратов. Корма потерпела страшное разрушение. Японцы, бросив преследование «Решительного», всею силою обрушились на «Стерегущего». Некоторое время они его расстреливали, а затем взяли на буксир и повели на юг, но он затонул (Впоследствии из японских источников мы узнали, что, когда на полуразрушенном «Стерегущем» были перебиты все офицеры и почти вся команда, оставшиеся в живых сами затопили миноносец, открыв кингстоны.).
«Стерегущий» погиб, но зато в бою с первым отрядом погиб японский миноносец. Не было победы, но не было и поражения. Конечно, можно было жалеть, даже досадовать, что наши миноносцы плохи (добрая половина не участвовала в экспедиции, стоя в Восточном бассейне, занятая исправлением повседневных мелких повреждений), что они недостаточно подготовлены к их специальной службе, что по ночам, в море, они растеривают друг друга, не умеют найти неприятеля и т. д., -, но все же это было первое лихое дело, и вести о нем отнюдь не произвели на эскадру какого-либо угнетающего впечатления. Скорее, наоборот, подбодрили ее. В этом отношении огромную роль сыграло обстоятельство, само по себе незначительное, но для Порт-Артура столь необычайное, что в первый момент ему даже не верили.
Как только сигнальная станция Золотой горы донесла, что в море идет бой между нашими и японскими миноносцами, для прикрытия их вышли из гавани «Аскольд» и «Новик». «Новик» — впереди.
— Неужели адмирал сам отправился в эту «авантюру»? — вопрос, живо всех интересовавший и вполне естественный.
Офицеры, собравшиеся на мостике, усиленно протирали стекла биноклей, напрягали зрение… На «Аскольде» не было флага командующего…
— Ну, понятно! Нельзя ж так рисковать… На легком крейсере… Мало ли что… — говорили некоторые…
— На «Новике»! Флаг — на «Новике»! — вдруг, словно захлебываясь от азарта, закричал сигнальщик.
Всё кругом разом всколыхнулось. Команда, бросив завтрак, кинулась к бортам. Офицеры вырывали друг у друга бинокли из рук… Сомнения не было! На мачте «Новика», этого игрушечного крейсера, смело мчавшегося на выручку одинокому миноносцу, развевался флаг командующего флотом!..
Смутный говор пробегал по рядам команды… Офицеры переглядывались с каким-то не то радостным, не то недоумевающим видом…
— Не утерпел!.. Не дождался «Аскольда» — пересел на «Новик!..» Черт возьми!.. Это уж чересчур!..
Но это было не «чересчур», а именно то, что требовалось. Это были похороны старого лозунга «не рисковать» и замена его чем-то совсем новым…
Схватка миноносцев происходила милях в 10 к югу от Порт-Артура. «Новик» и «Аскольд», как ни спешили, не могли подойти вовремя. «Стерегущий» уже был затоплен, а бросившись преследовать японские миноносцы, они встретились со всей неприятельской эскадрой, шедшей к Порт-Артуру. Пришлось уходить. По счастью, скорость обоих этих крейсеров не только числилась по справочной книжке, но существовала и в действительности. Ни броненосцы, ни броненосные крейсера японцев не могли за ними угнаться, и лишь четыре «собачки» пытались некоторое время, более или менее успешно, преследовать отступающих.
С тревогой в сердце прислушивались мы к глухим раскатам выстрелов, доносившимся с моря…
«Новик» и «Аскольд» возвратились благополучно.
Но какое это было возвращение! Десятки тысяч людей, усеявших борта судов, высыпавших на бруствера батарей, толпившихся на набережных, жадно следили за каждым движением маленького крейсера, который, бойко разворачиваясь в узкостях, входил в гавань. Не к нему, не к этому хорошо знакомому, лихому суденышку было приковано общее внимание. Нет! — Каждому хотелось своими глазами увидеть на верхушке его мачты Андреевский флаг с гюйсом в крыже.
Это было больше, чем какая-нибудь победа, случайная удача в бою, — это было завоевание. Отныне адмирал мог смело говорить: «моя» эскадра! Отныне все эти люди принадлежали ему и душой, и телом…
Несомненно, что эпизод, только что рассказанный мною, произвел огромное впечатление на массы и если не создал, то во всяком случае много способствовал созданию того великолепного спокойствия, почти бравады, с которыми эскадра встретила разыгравшуюся в тот же день бомбардировку.
А положение было не из веселых!
Японская эскадра, перед которой вынуждены были отступить «Новик» и «Аскольд», казалось, поначалу прошла мимо, направляясь на запад, и скоро скрылась за горой Ляо-ти-ша-на. Против входа, вне дальности крепостных орудий остался только один крейсер, державшийся почти на месте. Но вот в начале 10-го часа утра между судами, стоявшими в Западном бассейне, внезапно поднялся гигантский водяной столб, и резкий звук, не похожий ни на выстрел, ни на взрыв мины, заставил всех бросить повседневные работы и тревожно оглянуться. Еще и еще… Скоро выяснилось, что это через Ляо-ти-шан ведут перекидной огонь японские броненосцы, крейсирующие от нас в дистанции 8–9 миль. Ни одно из крепостных орудий не могло воспрепятствовать им мирно предаваться этому занятию. Очевидно, до войны самая идея о возможности такой стрельбы признавалась недопустимой как в морском, так и в военном ведомстве. Иначе на берегу, несомненно, были бы построены соответственные батареи, а на эскадре существовала бы соответственная организация. Адмирал Макаров во время самой бомбардировки приказал немедленно же приступить к ее разработке, но, конечно, это сложное дело — разбивка всего окружающего пространства на квадраты, выбор вспомогательных точек прицеливания, устройство наблюдательных станций и создание системы условной сигнализации — не могло быть выполнено в несколько часов. Для этого потребовалось несколько дней… и невольно напрашивался досадный вопрос: что же думали до войны? Замечательно, как повторяется история. В турецкую кампанию к ружьям нашей пехоты приспособляли собственными средствами изготовленные деревянные прицелы для стрельбы на дальние дистанции; прошло 25 лет, и вот — мы вынуждены, тоже своими средствами, наносить деления на прицелы наших пушек для стрельбы на дистанции, признававшиеся чрезмерными… К тому же на иных судах организация такой стрельбы оказалась вовсе невозможной, потому что самые орудийные станки не были рассчитаны на «чрезмерные» углы возвышения!..
У японцев, по-видимому, не только станки и прицелы отвечали всем требованиям, но и личный состав был хорошо обучен. Снаряды ложились очень недурно, а ведь одного такого, упавшего сверху (они падали под огромным углом к горизонту), достаточно было, чтобы вывести из строя любой броненосец. В конце осады 11-дюймовые мортиры японцев доказали это с очевидностью.
Итак, неприятельские броненосцы беспрепятственно маневрировали к югу от Ляо-ти-шана и, приходя в определенную точку, не торопясь, как на ученье, разряжали в нас свои 12-дюймовые пушки, а находившиеся под расстрелом крепость и эскадра — безмолвствовали…
Казалось бы, у последней было еще одно средство избавиться от такой тяжелой и обидной роли — выйти в море, — , но… владея 7 лет Порт-Артуром, мы к началу войны не только не успели закончить широко проектированного углубления его внутренних рейдов, но даже и самый выход в море был доступен большим судам только в полную воду. Во время отлива боевые суда эскадры были заперты в гавани самым непобедимым врагом — мелководьем… 26 февраля малая вода в Порт-Артуре приходилась около 9 ч. утра, и вот почему именно этот момент японцы избрали началом своего первого опыта бомбардировки с моря.
Случалось ли вам, в тяжелом сне, чувствовать, как на вас надвинулось, над вами нависло что-то страшное, роковое и в то же время легко отвратимое, если бы вы были свободны в своих действиях?., сила, которой вы могли бы с успехом противопоставить свою силу, если бы это было в вашей власти?.. Но вы ничего не можете; все ваши чувства как будто парализованы, только мысль работает, но и ее вы стараетесь заглушить, потому что вся она сосредоточилась на одном неразрешимом вопросе: пронесет или не пронесет?..
Приблизительно такие ощущения переживали мы 26 февраля, стоя под расстрелом.
Я намеренно употребил это слово «расстрел», как наиболее ярко характеризующее наше тогдашнее положение. Это не была бомбардировка. Бомбардировка — тот же бой. Правда, осаждаемый обыкновенно находится в более тяжких условиях, нежели осаждающий, и несет большие потери, но все-таки не лишен возможности защищаться. Для самочувствия участников боя важны не конечные его результаты, а сознание возможности ответить ударом на удар… Здесь же, с одной стороны — была учебная стрельба, вполне безопасная, даже обставленная всем возможным комфортом, а с другой — люди, изображавшие собою живые мишени…
Это было первое мое боевое крещение, но я не стану утруждать читателей передачей того, что я думал, чувствовал… В нашей литературе после войны оказалось столько охотников анализировать и печатно поведать публике свои ощущения под огнем, что мои, пожалуй, будут совсем лишними. Ограничусь описанием событий и наблюдений над окружающими, которые я заботливо заносил в свою записную книжку.
Не берусь судить и догадываться, как отнесся бы личный состав эскадры к «расстрелу» 26 марта недели две тому назад, думаю, однако, что подъем духа, вызванный прибытием Макарова, и в особенности недавний, описанный мною эпизод переноса «флага» на «Новик» имели огромное значение.
Конечно, не только на «Ангаре», но и на любом броненосце не было такого уголка, где можно было бы считать себя в безопасности от 12-дюймового снаряда, свалившегося чуть ли не с неба, но даже и обыкновенный борт или непроницаемая переборка служили уже достаточной защитой от мелких осколков тех снарядов, которые рвались поблизости. Вывод отсюда довольно ясный — следовало бы прекратить всякие работы и занятия и всем спрятаться вниз. Однако ни на одном корабле так не поступили. Я говорю, разумеется, о тех кораблях, за которыми мог наблюдать, но в Западном бассейне мы стояли на бочках так тесно, что между линиями промежутки были меньше 100 сажен, а между кораблями той же линии — от 20 до 30 сажен, и наблюдать приходилось весьма многих; притом же паника так заразительна, что если бы и вне нашей видимости кто-нибудь поддался ей — это моментально передалось бы массам. Ничего подобного не было. На судах и в порту жизнь шла своим обычным порядком. Казалось, что, признав невозможность сопротивляться, все молчаливо решили делать вид, что не замечают падающих снарядов, не обращают на них внимания. Трубы мастерских порта выбрасывали к небу клубы дыма и пара, портовые баркасы перетаскивали баржи и плавучие краны, сновали взад и вперед паровые катера, то в одиночку, то с гребными шлюпками на буксире.
Как раз в этот день должна была быть закончена установка наших 120 шт. пушек на батареях под Золотой горой и под маяком. Команда с утра отправилась на работу и не прекратила ее, несмотря на то что места строящихся батарей были, как говорится, совсем на юру. В 10 '/2 ч- утра, как обычно, паровой катер повез рабочим Партиям обед, исполнил поручение и вернулся, но когда пристал к трапу, то одного из прислуги вывели под руки.
Что такое?
Так что, ваше высокоблагородие, еще как туда шли, «она» близко вдарила, — докладывал старшина, — и значит, задело Харченку, но только в мякоть. Пощупали: кость цельная, ногой действует. Сам сказывал: «Для ча ворочаться, только щи команде доставите холодные, и ругаться будут»… а мы его в лучшем виде перевязали…
По счастью, рана оказалась несерьезной.
Перед командным обедом (или нашим завтраком), около 11 ч. утра, неприятельские снаряды стали ложиться особенно удачно. Я стоял на верхнем мостике «Ангары», когда один из них ударил в «Ретвизан» (между его кормой и нашим носом было не больше 20 сажен). Снаряд только задел его левый борт, близ трапа, разорвался, разнес две шлюпки, стоявшие у борта, одну из них зажег и осыпал осколками тут же находившийся портовый буксирный и водоотливной пароход «Силач».
— Счастливо отделались, — подумал я, — сажени 2–3 правее, и угодило бы прямо в кормовой бомбовый погреб…
Однако на броненосце что-то усиленно забегали. Вот он отдал носовые швартовы, с помощью «Силача» развернулся вправо и выбросился на отмель носом, который заметно для глаза садился все глубже… Впоследствии выяснилось, что взрывом снаряда повредило кессон, подведенный под пробоину. Не прошло и нескольких минут, как новый снаряд ударил его в правый борт (теперь обращенный к югу), близ ватерлинии, под кормовой башней. Броня выдержала, и, когда рассеялся столб дыма и водяных брызг, мы увидели на месте удара только бурое пятно. Пробоины не было.
— Не везет «Ретвизану»! — промолвил стоявший рядом со мной вахтенный начальник…
— Так что кушать подано! — доложил внезапно появившийся старший вестовой.
Я спустился в кают-компанию.
Завтрак прошел очень оживленно, оживленнее даже, чем обыкновенно. Шутили, пересмеивались… Откровенно говоря, я не предполагал, что за нашим столом может вестись подобная беседа, вся пересыпанная блестками истинного юмора. Давно уж не приходилось сидеть в таком милом обществе, принимать участие в таком интересном разговоре… Между прочим острили по поводу того, что мы в чужом пиру похмелье терпим, что если бы японцы знали, где стоит разоруженная «Ангара», то, наверно, не стали бы стрелять в нее…
— Зря снаряды тратят! Все равно что в пустое место!..
— Говорите pro domo sua, — надменно заявил старший артиллерист, — я себя отнюдь не считаю за пустое место, и если бы японцам удалось меня ухлопать, то это, конечно, стоит 12-дюймового снаряда, и даже не одного!
К концу завтрака организовалось своеобразное petit jeu d'esprit. В наружных дверях поставили вестового (кают-компания помещалась в столовой первого класса, на верхней палубе), и тотчас после взрыва снаряда желающие высказывали свое мнение, куда он попал: в воду, на берег, вправо, влево, спереди, сзади и далеко ли? Руководствовались характером и интенсивностью звука. Всякая попытка выглянуть в окно останавливалась энергичным возгласом: «не передергивать!»
Доклад беспристрастного свидетеля-вестового — разрешал пари.
«Взирая на беспечную веселость сих героев, из угрозы смерти создавших себе невинную забаву, можно ли было не воскликнуть в сердечном умилении: такова сила любви к Родине!» — так сказал бы Карамзин, а я записал в свой дневник: «Какова сила человеческого самолюбия (или тщеславия?), вовремя взвинченного подходящим словом или поступком! Не будь здесь Макарова, и эти же люди, прикрываясь свыше данным лозунгом «беречь и не рисковать», были бы способны прятаться за траверзами, построенными из мешков с углем… А теперь они бравировали друг перед другом, ревниво оглядывались на соседей — не подметит ли кто-нибудь хоть мимолетной тени беспокойства на их лице, дружески посмеивались над молодыми матросами, кланявшимися перед шуршащими в воздухе осколками… И этим «низкопоклонникам» было стыдно. Они оправдывались тем, что «невзначай», «не подумал», «само вышло»…
Беспредельна сила могучей воли, умеющей подчинить себе волю других! Да!., но только в том случае, когда эта единая воля сама всецело отдалась служению идее, объединяющей массы, покорные ей «не токмо за страх, но за совесть…»
Завтрак приходил к концу. Мы пили кофе. Я невольно и от души смеялся над негодованием старшего механика, который, несколько туговатый на правое ухо, все звуки естественно относил к левой стороне и все время проигрывал, чем возбуждал неудержимую веселость мичманов, остривших, что если бомбардировки будут хоть по два раза в неделю, то вино к столу будет подаваться «механически».
Неожиданный удар, такой резкий, что запрыгала по столу и зазвенела посуда…
Я схватил фуражку и выбежал на палубу… По счастью, обошлось благополучно. Снаряд упал и разорвался саженях в 10 от нашего левого борта, против переднего мостика. Осколками сделало несколько дыр в шлюпках, вентиляторах, кое-что перебило на мостике, но никого не задело. Огонь, по-видимому, снова был направлен на нашу линию. Следующий снаряд лег почти вплотную к нам, но не разорвался. Только поднятый им водяной столб целиком обрушился на палубу, угостив холодным душем группу собравшихся здесь матросов.
Взрывы хохота и веселых окриков…
— Получил японскую баню? — Водой не то что осколком! — Плевать на твой осколок — новую рубаху испортило! — Хо-хо-хо! за рубаху опасается! Лоб-то всякий осколок выдержит! — Не всякий осколок в лоб! — гудела команда…
— Расходись! Честью говорю: расходись! — сердился боцман. — Сказано: лишним наверху не быть! Укройся!
— Лается тоже! а сам с «господами» на мостике маячит! Куды от «нее» укроешься? Начистоту лучше? — «Борода»-то, чего, утресь, сделал? Верно, что! — пропадай моя голова, зато пример покажу! — Так-то! — А он — укройся! — ворчали в расходившихся кучках…
Вот разорвался снаряд впереди и влево от нас, под самой кормой «Дианы». Там забегали люди, заработали пожарные помпы… Другой «крякнул» у борта «Казани», стоявшей позади нас.
— Чуть-чуть не попал! Хорошо, что «чуть-чуть» не считается, — сострил кто-то.
Однако с «Казани» семафором просили прислать врача (их собственный был болен), значит, были ранения…
Один «чемодан» («Чемоданами» называли в Артуре длинные японские снаряды. В самом деле: снаряд фут в диаметре и больше 4 футов длины, в котором находится 106 фунтов мелинита или шимозы, — разве это не «чемодан» с взрывчатым веществом? У нас таких не было.) угодил в бруствер мортирной батареи Золотой горы…
Около часу пополудни, когда прилив был в половине и эскадра могла бы начать свой выход в море, японцы удалились. Благодаря Богу, серьезных повреждений на судах не было. Потеряли убитыми и ранеными на эскадре около 30 человек.
Могло бы быть много хуже… Суда эскадры и порта, военные и коммерческие транспорты были так тесно скучены в бассейнах, что свободная поверхность воды вряд ли и в два раза превосходила площадь, занятую палубами кораблей, находившихся под расстрелом.
27 февраля, чуть забрезжил свет, около 4 ч. утра, все боевые суда эскадры начали выходить на внешний рейд. Это было распоряжение Макарова, и здесь еще раз наглядно обнаружилось, что может сделать начальник, которому верят и который сам в себя верит… До сих пор, согласно правилам и циркулярам, выработанным в Кронштадте и получившим высокую санкцию из-под шпица Адмиралтейства, ответственность за благополучный вывод корабля из гавани лежала всецело на заведующем портовыми средствами. Мудрое правило мирного времени, устранявшее всякие недоразумения между командиром корабля, всегда склонным «подвинтить» собственными машинами, и начальником буксиров, вовсе не ожидающим такого «подвинчивания». Благодаря такому свято соблюдавшемуся правилу и малочисленности портовых средств Артура оказывалось, что эскадру в полном ее составе никак нельзя вывести на внешний рейд за время одной полной воды, но только в два приема, т. е. на один вывод потратив почти сутки. Макаров все и сразу повернул по-своему, дав совершенно новую директиву: портовые суда «помогают» кораблю развернуться с места, «помогают» ему разворачиваться в узкостях, «стараются всеми силами» оказать ему содействие в затруднительных случаях, не страшась никакой ответственности за свои аварии, раз только они успешно выполнили возложенную на них задачу; с другой стороны, командир корабля «должен» забыть о всяких формальных отписках по поводу ответственности и помнить только, что в наискорейший срок «должен» вывести свой корабль в море, пользуясь всеми средствами, какие ему предоставлены. Кто при всем добром желании не сумел выполнить своих обязанностей — виновен только в не уменье, в неопытности, но кто под формальным предлогом, прикрываясь буквой закона, уклонился от их выполнения, тот — преступник.
Адмирал развивал эту идею не только в собрании флагманов и капитанов, но и перед портовыми чинами до вольнонаемных шкиперов буксирных баркасов включительно.
В результате 27 февраля вся эскадра вышла на внешний рейд, за время утренней полной воды в промежуток 2 '/2 часа, а вернулась, т. е. вошла в гавань, с 5 до 7 ч. вечера (вечерняя полная вода). Мы смотрели и глазам не верили.
— Да это не портовые баркасы, а тигры! — восхищалась молодежь на «Ангаре». — Кидаются, хватают, тащат, бросают, торопятся к следующему!..
Действительно, можно было полюбоваться.
Неприятель скрылся бесследно. Эскадра, выйдя в море, занималась только эволюциями. Адмирал Макаров тотчас по прибытии в Порт-Артур объявил приказами диспозиции походного и боевого строя. В тех же приказах были даны общие руководящие правила для действия артиллерией и маневрирования отдельных судов в тех или иных обстоятельствах боя. До сих пор этого не было. За отсутствием неприятеля производились, как бы в мирное время, маневры. Результат получился довольно неожиданный и далеко не утешительный. Два броненосца имели столкновение. «Севастополю», как говорят, изрядно попало в корму, но об этом не приказано было распространяться («Севастополь» был протаранен «Пересветом». По счастью, настоящей пробоины не получилось, а только щель в разошедшихся листах обшивки, да еще была погнута одна из лопастей правого гребного винта, которую пришлось менять при посредстве кессона-колокола. Однако и «Пересвету» столкновение не прошло даром — он свернул себе на сторону (правда, слегка) таран и получил течь в носовой части. Починили. «Севастополь» не остался в долгу и ткнул «Полтаву», тоже наградив ее щелью…).
— Вот они — результаты вооруженного резерва! — злобно ворчали некоторые. — Воевать собрались, а в строю ходить не умеют! Вывели в море плавучие казармы!..
— Макаров научит!
— Дал бы Бог сроку!..
Вместе с адмиралом приехали не только корабельные инженеры и мастеровые Балтийского завода, но также и другие специалисты, как, например, полковник М. и с ним целая партия рабочих с орудийного Обуховского. Все сразу зашевелилось. Энергично двинулась постройка кессона для «Цесаревича», до того бывшая под сомнением; старый кессон «Ретвизана» признали негодным и строили новый; в артиллерийских складах, где в полном пренебрежении валялись орудия и части их установок, забранные еще в 1900 году из тянь-тзинского арсенала, начали разбираться, и кое-что, пропавшее бесследно, сделав вновь в мастерских порта, предоставили на сухопутную оборону до 40 орудий; на батарее Электрического утеса учинили со станками что-то такое, благодаря чему возможный угол обстрела орудий увеличился на 5°… Немало поработали также вольные техники и водолазы ревельской спасательной компании… Адмирал, как ни быстро собрался в путь-дорогу, ничего не забыл, обо всем вспомнил…
День 1 марта был для меня днем радости. Я был приглашен к завтраку, на «Петропавловск», после которого адмирал увел меня в свой кабинет и, со свойственной ему краткостью и прямолинейностью, изложил суть дела.
— Уезжая из Петербурга, я имел сведения, что вы командуете миноносцем, а зная ваш нрав, был уверен, что этого назначения вы не променяете ни на какое другое. Набирая штаб, на вас не рассчитывал. Оказалось иначе; но теперь все подходящие для вас места у меня заняты. Штатного места нет. Хотите причислиться? Все-таки лучше транспорта, а я буду очень рад.
Извинившись за откровенность, я ответил не менее категорично, что в такое время «быть причисленным» к штабу без определенных занятий я не хотел бы, что за высокими местами не гонюсь, а просил бы только о назначении на боевой корабль, все равно в каком звании.
— Заранее знал ответ! Неисправим, хоть брось! — засмеялся адмирал, махнув рукой. — Ну так вот: свободного миноносца сейчас ни одного нет, но кое-что тут надо освежить; открываются вакансии; ступайте к Михал Палычу (Контр-адмирал М. П. Молас был начальником штаба С. О. Макарова и вместе с ним погиб на «Петропавловске».); он что-то придумал… А жаль!.. Так решительно не хотите быть «по особымпоручениям»?.. Ваше дело…
Я пробовал было смягчить мой отказ выражениями благодарности за участие в моей горькой «транспортной» доле, упомянув о долголетней службе в строю, о привычке к ней, которая является главной причиной…
— Вздор, вздор! — перебил адмирал. — Пожалуйста, без дипломатии! Мы с вами достаточно знаем друг друга. Я вас понимаю и на вашем месте поступил бы так же. Дай Бог, в добрый час! — закончил он своей любимой поговоркой.
— Ну, ну! Знаю, знаю! И очень рад! — с первых же слов приветствовал меня начальник штаба. — Я уж на вас прицелился: старшим офицером на «Диану»! Не особенно важно? Корабль действительно из числа «трех богинь» отечественного изобретения… Да что же делать? — другого нет! А поработать придется! Вот как поработать!..
Бронепалубный крейсер 1-го ранга «Диана» (однотипный с бронепалубным крейсером 1-го ранга «Аврора») в окраске мирного времени
Все значение этой фразы я постиг, только уже пробыв на «Диане» несколько дней. За эти дни в моем дневнике не записано ни одной строчки. Работы оказалось столько, что едва хватало времени на сон и на еду. Крейсер, начавший кампанию 17 января, до того 11 месяцев простоял в резерве! Если бы даже при уходе его из Кронштадта на Дальний Восток (осенью 1902 года) команда была сформирована строго по правилам, так и то в составе ее должно было бы находиться два призыва, т. е. около 1/3 людей, не видавших моря. На деле же этих мужиков, одетых в матросские рубахи, оказалось почти 50 %, а морская практика доброй половины остальных исчерпывалась единственным походом из Артура во Владивосток и обратно… Нравы и обычаи установились не только не морские, но даже и не сухопутно-казарменные, а просто… деревенские. При выполнении какой-нибудь работы, хотя и не общей, но требовавшей значительного числа людей, вместо определенного приказания или команды — такое-то отделение туда-то! — унтер-офицеры просили «земляков» подсобить, и даже старший боцман вместо начальнического окрика приглашал «ребят» навалиться «всем миром», чтобы скорее «отмахнуть — и шабаш!..» Я отнюдь не преувеличиваю и передаю только факты. По сравнению с этой прочно сплотившейся и сформировавшейся деревней сборная команда «Ангары», составленная из людей (конечно, не самых лучших), назначенных с разных судов эскадры (но судов все же плававших), показалась мне образцовым войском. Немало трудов и забот пришлось положить на искоренение этих патриархальных нравов и введение хотя бы некоторого воинского уклада жизни. Грязь, особенно в местах, недоступных беглому «смотровому» обзору, — была невозможная. Естественный результат 11-месячной стоянки в резерве, когда крейсер был официально превращен в казарму, но на деле, конечно, не мог превратиться в казарму благоустроенную. На корабле люди живут так скученно, в такой, строго говоря, ненормальной обстановке, что поддержание порядка, как внешнего, так и внутреннего, выполнение насущнейших требований гигиены — возможны лишь при полном, правильном и беспрерывном функционировании всех элементов этого гигантского организма. Корабль, превращенный в плавучую казарму, — это абсурд. Хуже — это растление. Стоя в резерве (я не говорю про короткий срок — месяц или два — для починки или исправления), корабль во всем своем целом, весь, со всем своим личным и материальным составом постепенно, медленно, но верно приходит в упадок, утрачивает свое значение боевой единицы. Самые энергичные, самые сильные духом люди не всегда выдерживают полярную зимовку, эту долгую безотрадную ночь, хотя и стараются заполнить её каким-нибудь делом. Однообразие родит скуку, а скука — уныние… 11 месяцев резерва! Это почти то же, что 11 месяцев тюремного заключения в общей камере… Говоря про нравы и обычаи, установившиеся на крейсере, я назвал их «деревенскими», но это не совсем точно; такие нравы и обычаи должны вырабатываться в общих тюрьмах, конечно, при наличии мягкого и благожелательного начальства…
Ломка традиций, уже успевших пустить крепкие корни, новые порядки, предъявление требований, от которых успели отвыкнуть, — не могло не вызвать глухого недовольства, даже некоторого пассивного сопротивления. По счастью, я встретил самую энергичную поддержку со стороны командира (принявшего крейсер за 2–3 дня до моего назначения) и горячее сочувствие со стороны большинства офицеров. Последнее было особенно важно.
Взысканиями, вообще насильственными мерами можно было бы заставить людей работать, даже механически выучить их чему-нибудь, но ведь этого недостаточно. В этих скучающих, обленившихся людях надо было пробудить сознание разумности, целесообразности той работы, которая от них требовалась, чтобы они не считали ее за прихоть всевластного начальства, ссылающегося на какие-то неведомые им законы… И в этом отношении приезд Макарова имел решающее значение. Они уже встрепенулись; в них пробудился тот дух, который ведет на подвиг, вера в своего вождя, готовность идти на смерть по его слову или указанию… Оставалось только внушить им, что главная цель — не смерть, а победа; что надо не только уметь умирать, но и уметь сражаться, учиться этому искусству, а на своем корабле все, до самой ничтожной мелочи, любовно содержать в полном порядке и боевой готовности. Скука и уныние сменились в массах стихийным порывом к бою — надо было этот стихийный порыв сделать сознательным.
Понемногу, не без труда, не без заминки, дело налаживалось, и главная заслуга в этом, конечно, принадлежала тем моим сослуживцам, которые так горячо и охотно взялись за разрушение глухой стены между баком и ютом, которые «пошли в народ», не упуская ни одного случая разъяснить и подчеркнуть общность задач, связывающих всех нас — от командующего флотом до новобранца. В самом деле нигде, ни в какой специальности военной службы эта тесная связь не является такой наглядной, такой очевидной, как во флоте; и здесь, казалось бы, не стоило никакого труда внедрить ее в сознание масс. Равенство перед лицом смерти — это почти братство. Если в сухопутной действующей армии фактически существует деление по ценности жизни на «пушечное мясо» и «высших руководителей», то во флоте оно невозможно. На боевой эскадре чем выше служебное положение, тем больше личный риск жизнью. Между командующим армией и командующим флотом в этом отношении целая пропасть.
Первый только руководит боем, пользуясь почти полной личной безопасностью, второй же сам ведет свою эскадру в бой, находясь на флагманском корабле, на котором сосредоточена вся сила неприятельского огня, он — в самом его центре и первый несет свою голову под удары. Матрос не может сказать — «меня послали», но только — «меня повели»… Послать на смерть или повести на смерть — это совсем разные понятия…
Вот почему выход и бой Макарова на «Новике» произвели такое огромное впечатление. А какую силу представляет собою сознание этого равенства и братства перед лицом смерти, если им проникнут весь личный состав эскадры?..
Ведь тогда каждая команда принимается, как ценное указание более опытного, старшего товарища; каждая работа является не принудительной, а радостно выполняемой на пользу общему делу… Мне так хотелось создать на крейсере подобное настроение!.. И, по счастью, у меня нашлось немало единомышленников. У нас не было ни лекций, ни сообщений, а просто офицеры, про которых я говорю, все свое время отдавали команде, находившейся в их подчинении, не столько учили, сколько знакомились с людьми, которых поведут в бой. Строго говоря, это не были даже беседы, а чаще всего несколько, как бы случайно, на ходу, брошенных слов в разъяснение того или иного распоряжения, или замечание, вставленное в разговор нижних чинов между собою… Но как это действовало!.. И, как результат, с каким чувством удовлетворения я исполнял просьбу какого-нибудь «хозяина бомбового погреба», который докладывал, что у него сыро, что ему нужно людей — обтереть пояски снарядов: «кабы не оборжавели, орудию в бою не испортить бы!»… Или другое: люди, привыкшие считать чистоту причудой начальства, жившие целый год, только «заметая сор», вдруг так легко поняли ее смысл, ее необходимость, когда им попросту объяснили, что раненый падает на палубу, что, пока подберут и унесут, грязь может попасть в рану, и выйдет, что из-за пустой царапины — режь руку или ногу, а то так и этим не спасешь от смерти.
Бронепалубный крейсер 1-го ранга «Диана» (однотипный с бронепалубным крейсером 1-го ранга «Аврора») в боевой окраске «шарового цвета» и ошвартованный у его борта дежурный миноносец. Порт-Артур. 1904 год
Лично я всякую беседу всегда старался свести к одному и тому же заключению: «Готовься к бою, потому что в бою: не убьешь — тебя убьют!» Эта простая философия оказывалась наиболее убедительной…
Среди судов эскадры «Диана» не была исключением. Правда, не каждый корабль до войны простоял 11 месяцев в резерве, но многие были к этому близки. Прибытие популярного адмирала, его личный пример могли вызвать подъем духа; старания офицеров, оживленная, одухотворенная деятельность всякого рода начальства могли способствовать обучению команды в кратчайший срок тому, чему ее недоучили в мирное время; но ничто, никакие усилия не могли наверстать безвозвратно упущенной практики плавания… Мужиков, одетых в матросские рубахи, господ, носящих форму морских офицеров, возможно было превратить в героев, но сделать их опытными моряками, сборище плавучих казарм превратить в боевую эскадру, — для этого требовались долгие годы… Печальный опыт 27 февраля как нельзя лучше подтверждал эту истину… Адмирал, принявший командование флотом для того, чтобы вести его в бой, оказался вынужденным предварительно обучать его выполнению простейших маневров… И во время этих «простейших» маневров, совершавшихся, как в мирное время, вне видимости неприятеля, происходили столкновения… Винить ли в том командиров, впервые вышедших (на своем корабле) в море?..
Но… снявши голову, по волосам не плачут. Делать нечего — приходилось перед самым боем учиться, как маневрировать в бою…
Офицеры «Дианы», рассказывавшие мне об эволюциях 27 февраля, не могли не вспомнить с глубокой горечью и первого своего выхода, когда вся эскадра, начав кампанию 17 января, через несколько дней после того предприняла плавание к Шантунгу и обратно… Это плавание иначе не называли, как «походом «аргонавтов»…
Относительно обучения личного состава каждого корабля в отдельности тому, что он должен делать в бою, положение было не столь безотрадно. В этом случае, при условии дружной работы всех — от командира до молодого матроса, — еще можно было кое-что наверстать.
На первом же собрании флагманов и капитанов адмирал высказал именно эту идею. Он говорил, что успех возможен, если каждый задастся целью работать не в силу только приказаний начальства, но из сознания, что, как бы ни была незначительна его роль, добросовестное ее выполнение может, в иных случаях, иметь решающее значение. Ведь если комендору (Комендор — наводчик и хозяин орудия.) внушить, что один удачный выстрел его орудия, разрушивший боевую рубку неприятельского броненосца, может решить участь боя, — то ведь эта мысль наполнит все его существование! Он даже ночью, даже во сне, будет думать о том, как возьмет на прицел неприятеля! — А в этом вся суть дела. Уметь желать — это почти достигнуть желаемого…
— Теперь уж поздно вести систематические учения и занятия по расписанию, — говорил адмирал. — Каждый командир, каждый специальный офицер, каждый заведующий отдельной, хотя бы и самой маленькой частью на корабле, должен ревниво, как перед Богом, как на Страшном суде, выискивать свои недочеты и все силы отдавать на их пополнение. В этом деле и начальство, и подчиненные — первые его помощники. Пусть не боятся ошибок и увлечений. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. От работы, даже направленной по ложному пути, от такой даже, которую пришлось бросить, — остается опыт. От безделья, хотя бы оно было вызвано самыми справедливыми сомнениями в целесообразности дела, ничего не остается. Помните, что мы не знаем, как считать свое свободное время, данное нам на подготовку к решительному моменту, — месяцами, днями или минутами. Размышлять некогда. Выворачивайте смело весь свой запас знаний, опытности, предприимчивости. Старайтесь сделать все, что можете. Невозможное останется невозможным, но все возможное должно быть сделано. Главное, чтобы все — понимаете ли, все — прониклись сознанием всей огромности возложенной на нас задачи, сознали всю тяжесть ответственности, которую самый маленький чин несет перед Родиной!.. Дай Бог, в добрый час!..
И работа закипела.
Никогда, даже в лучшие дни эскадры Тихого океана, не приходилось мне наблюдать такого увлечения, такого подъема духа.
Суда, тесно набитые в узкой полосе Западного бассейна, которую «успели» углубить до войны, широко использовали ту его часть, которая осталась мелководной и, при отливе, даже обсыхала. По ней были разбросаны десятки небольших щитов разных цветов и форм, по которым с утра до ночи производилась «вспомогательная стрельба» (Вспомогательная стрельба — это поверка глаза наводчика. В большую пушку вставляют специально приспособленную меньшую, а в эту — особый прибор с отрезком ружейного ствола и уж из него стреляют обыкновенным ружейным патроном. Комендор (наводчик) наводит пушку, а в искусстве своей наводки и вообще стрельбы имеет контроль, следя за попаданием выпущенной им пули.), дающая комендору возможность проверять самого себя в деле наводки, своевременности выстрела, в умении быстро переносить пушку с одной цели на другую, быстро пристреляться. Последнее обстоятельство придавало этим учениям особенное оживление.
— Все по красному! — распоряжался из боевой рубки артиллерийский офицер. — Кормовому плутонгу — по чёрному! Батарея — по рыжему!.. Сосредоточить огонь на круглом!.. — и т. д.
Казалось бы — пустяки, игра в отражение минной атаки… Но какое соревнование вызывала эта игра!.. Прислушиваясь к горячим спорам, одинаково возникавшим и в кают-компании, и на баке о том, кто сегодня лучше стрелял, я вспоминал невольно полузабытое соперничество между кораблями, между мачтами на том же корабле… Оно воскресало в этих пререканиях комендоров отдельных пушек, в язвительных замечаниях, которыми обменивались командиры плутонгов, в заявлениях старшего артиллериста, обвинявшего соседний корабль в том, что он «показывает Петрушку»… Мне было так хорошо, так весело, в центре этого оживления. Я чувствовал себя опять на «эскадре»…
V Артурская эскадра под командой С. О. Макарова. — Роковой день 31 марта. — «Голова пропала!»
5 марта начали подводку кессона под «Цесаревич». С «Ретвизана» старый, неудачный и к тому же пробитый кессон сняли и спешно строили новый, а пока он стоял поперек бассейна, кормой ошвартовавшись на бочку, носом выбросившись на мель. Рассказывали, что, несмотря на подведенные пластыри, укрепляемые водолазами, и беспрерывную работу землесосов, с трудом удается удерживать в нем воду на постоянном уровне, что он медленно, но верно погружается в жидкий, вязкий ил, составляющий грунт Западного бассейна. И тем не менее никто не отчаивался в возможности исправления броненосца.
— Макаров туда чуть не каждый день ездит! А командир? — не ест, не спит, авралит круглые сутки! — такие заявления были достаточной гарантией, что все кончится благополучно.
Особенные надежды, как я уже говорил, возлагались на Балтийскую рабочую партию, совершенно независимую от порта, являвшуюся как бы отделением своего завода, поставленного на чисто коммерческую ногу, чуждого казенной рутины и канцелярщины (Как показала действительность, надежды наши не были напрасными.
Рабочая партия (или отряд, как его иногда называли) Балтийского завода состояла всего из одного инженера Е., одного под мастера, одного чертежника, 189 мастеровых и 2 конторщиков. За время осады из партии: убито — 4, умер от цинги — 1, ранено — 11.
Ничтожная кучка по сравнению с личным составом казенного порта, а между тем вот краткий перечень работ, выполненных ею:
Заделка (при посредстве кессонов) минных пробоин «Ретвизана», «Цесаревича», «Победы» и «Севастополя» (последнего дважды).
Заделка (в доке) минной пробоины «Баяна» и добрая половина работы по заделке такой же пробоины «Паллады».
Заделка (на плаву, при крене) таранной пробоины «Амура».
Перемена (на плаву, при посредстве кессона-колокола) поврежденных лопастей гребных винтов «Севастополя».
После боя 28 июля — приведение в порядок «Пересвета», «Севастополя» и «Ретвизана».
Заделка сотен пробоин от снарядов разных калибров, на разных судах, за время бомбардировок с берега.
Исправление миноносцев: «Решительный», «Разящий», «Лейтенант Бураков», «Бесшумный», «Сторожевой» и многих других.
Активное содействие порта выражалось лишь в доставлении грубой, валовой рабочей силы, которую в осажденной крепости можно было бы получить и помимо него (распоряжением строевого начальства), важнее был тот факт, что порт «не смел мешать» талантливому руководителю партии. Это вынужденное, пассивное содействие было, пожалуй, плодотворнее активного.
Отмечу еще, что балтийцы привезли с собой 5 вагонов материалов, приспособлений и инструментов, в числе которых были пневматические, электропневматические и проч., каковых в Порт-Артуре, базе нашей боевой эскадры, не имелось…
Надо ли добавлять, что и люди были на подбор, а не по канцелярскому списку.).
27 марта «заслышали» японцев. С вечера миноносцы ходили в море, но ничего не видели.
В тихую и ясную, хотя безлунную, ночь с 8 на 9 марта крепостные прожекторы не раз что-то «нащупывали» во тьме. В первом часу ночи и около 4 ч. утра батареи открывали огонь, но не слишком оживленный. С моря им не отвечали.
В 5 ч. 45 мин. утра был общий сигнал — «Развести пары во всех котлах».
Около 7 ч. утра, как только позволила прибыль воды, эскадра начала выходить из бассейнов. Легкие, т. е. относительно мелкосидящие крейсера, — впереди. Первым, конечно, «Новик» и с ним миноносцы (эти — вне всякой очереди, «по способности»), затем остальные, начиная с ближайших к выходу. В 8 ч. 25 мин., когда вышли мы («Диана»), на внешнем рейде уже крейсировали «Аскольд» и «Баян».
Прямо на юг, очень далеко, милях в 10–12, чуть обрисовывались над горизонтом трубы и мачты японцев. Можно было, однако же, разобрать, что это броненосцы и броненосные крейсера, двумя отрядами приближавшиеся к Порт-Артуру. На юго-восток, много ближе, виднелись «собачки». Впереди и около них суетились отряды миноносцев.
В 8 ч. 45 мин. броненосцы, приблизившись миль на 8, повернули на запад.
— Пошли за Ляо-ти-шан «бросать издалека тяжелые предметы» (После бомбардировки 26 февраля по эскадре распространился и пользовался большим успехом экспромт, сказанный одним из офицеров: Не скучно ль это? — Сидеть и ждать, Когда в тебя начнут бросать, Издалека, тяжёлые предметы…), — смеялись на «Диане». — Не нарваться бы! Кое-что уж им приготовлено!..
Погода стояла великолепная. Ясное небо; температура +2 1/2 градуса R; ни волны, ни зыби; чуть тянул слабый ветерок от SW.
К 9 ч. утра вся неприятельская эскадра скрылась за горой Ляо-ти-шана. Против входа остался только один броненосный крейсер, очевидно, для наблюдения за падением снарядов.
В 9 ч. 35 мин. броненосцы, как и прошлый раз, начали свои рейсы к югу от Ляо-ти-шана, в определенном пункте разряжая 12-дюймовки по Артуру. Надо думать, они немало удивились, убедившись, что этому занятию уже нельзя предаваться безнаказанно. Им отвечали. Стреляли из бассейнов «Ретвизан», «Пересвет» и «Победа». Наши имели даже некоторое преимущество, потому что японцы стреляли на ходу, по площади, а у нас броненосцы стояли на строго определенном месте и вели перекидную стрельбу, как сухопутная батарея, руководствуясь беспрерывными указаниями с наблюдательных пунктов.
Около того же времени броненосные крейсера неприятеля демонстративно прошлись в виду нас, словно вызывая на бой, но мы, конечно, этого вызова не приняли.
В 10 ч. вышел на рейд «Петропавловск» под флагом командующего флотом. Заметив, что эскадра покидает бомбардируемые бассейны, японцы сосредоточили огонь на проходе. Снаряды ложились очень хорошо. В 10 ч. 20 мин. лихо, полным ходом, вышла «Полтава». Два раза, у самого ее борта, вздымались столбы брызг, дыма и осколков, но, по счастью, не задело.
В 10 ч. 40 мин. с Золотой горы донеслись раскаты «ура!» — Семафором сообщали, что, кажется, кому-то из японцев попало (как выяснилось впоследствии, броненосец «Фудзи» получил 12-дюймовый снаряд в носовую башню.). Это им, по-видимому, не понравилось, и они, прекратив бомбардировку, вышли из-за Ляо-ти-шана, благоразумно маневрируя вне обстрела крепостных орудий.
Около 11 ч. броненосные крейсера неприятеля, явно задирая, подошли к нам на дистанцию 57 кабельтовых (Кабельтов — 100 морских, шестифутовых, сажен.). Их было пять, а с нашей стороны — 2 броненосца, 1 броненосный крейсер и 2 легких, не считая «Новика» и миноносцев. Адмирал повернул на них, собираясь (или делая вид, что собирается) отрезать их от главных сил.
В 11 ч. 3 мин. заговорили башни «Петропавловска».
Флагманский корабль начальника Эскадры Тихого океана эскадренный броненосец «Петропавловск»
Крейсера, даже не пробуя отстреливаться, полным ходом пошли на юг, к своим броненосцам, но те вовсе не спешили к ним на помощь, явно не желая входить в сферу огня береговых батарей.
Кстати, на подмогу вышли «Севастополь», «Пересвет» и «Победа». (Два последние были самые глубоко сидящие и могли выходить только близ момента полной воды.)
Бомбардировка прекратилась; неприятель решительно не желал подходить к крепости, а потому в 11 ч. 20 мин. с «Петропавловска» был сделан сигнал: «Стоп машина. Команда имеет время обедать».
— Наскочили с ковшом на брагу! — С «Бородой» не очень-то разгуляешься! — Не то что раньше! — слышались бодрые, веселые восклицания среди матросов, подходивших к чарке…
Вечерняя полная вода приходилась уже в темноте, а потому, ввиду явного отступления неприятеля, адмирал торопился теперь же ввести эскадру в гавань. Около 12 ч. 30 мин. приказано было войти «Пересвету» и «Победе». В то же время, чтобы прикрыть этот маневр, в котором, за дальностью, японцы не могли быть уверены, остальные суда смело пошли прямо на них; они же, вероятно, полагая, что мы решились принять неравный поединок, стали уходить на юг, как бы заманивая нас в открытое море. С полчаса продолжалось это преследование, а затем мы повернули обратно. Первыми, пока еще не спала вода, вошли «Севастополь», «Петропавловск» и «Полтава», а затем — крейсера. В 3 ч. дня мы уже стояли на своем месте, в Западном бассейне.
Это был своего рода tour de force: за время одной полной воды эскадра не только почти вся вышла в море, но, сделав кое-что, успела и войти снова в гавань. Давно ли на один выход ее требовалось две полных воды, т. е. почти сутки!..
Среди личного состава господствовало такое настроение, словно одержали победу. Да и в самом деле: не была ли это победа смелого духа, если не над японцами, то над собственной растерянностью и нерешительностью?..
В ночь на 11 марта временами «слышали» телеграф японцев. Предполагалось с рассветом послать крейсера на разведку. У нас уже радовались и мечтали, не посчастливится ли сцепиться с какой-нибудь «собачкой», но в 4 ч. утра нашел туман, как молоко. На кабельтов расстояния ничего не было видно. Приходилось отложить всякую надежду на какие бы то ни было активные действия. К полудню несколько разъяснело, а потом опять все заволокло. Зато 12 марта выдался настоящий весенний день. В тени +11°R.
В порту и на эскадре шла кипучая деятельность. «Цесаревичу», наконец, приладили кессон и собирались переводить его в Восточный бассейн, ближе к мастерским. На «Ретвизане» благодаря энергичной работе опытных водолазов удалось временно, пластырями, заделать и самую пробоину, и ее ответвления. Вода была откачана, и он всплыл.
13 марта с утренней полной водой, почти с рассветом, адмирал вывел всю эскадру в море с целью… (печальная необходимость!) учить ее маневрированию… Пошли на юг, несколько склоняясь к западу и проделывая (довольно плохо) различные эволюции. Порой досадно было смотреть.
— Аргонавты!.. — ворчал старший штурман.
В половине девятого увидели какие-то суда, шедшие нам на пересечку курсом на северо-запад, и вскоре опознали в них 3 коммерческих парохода; несколько отставши, шел четвертый. По сигналу командующего, «Аскольд» их остановил и осмотрел. Оказалось — почти порожние англичане, шедшие за грузом в Ньючванг. Ничего подозрительного. Отпустили с миром.
В 10 ч. 20 мин. утра — посчастливилось. Эскадра в это время проходила мимо ближайших к Артуру и самых крупных островов группы Мяо-тао — северный и южный Гванчин-тау. «Новика» послали заглянуть в пролив — все ли там благополучно.
И тут-то, притаившись за углом, оказался небольшой пароход без флага, с джонкой на буксире, который, завидев наших, бросился наутек. Но от «Новика» и сопровождавших его миноносцев удрать было не так-то просто. Загремели выстрелы. Сначала предупредительные — под корму и под нос, — а потом и в настоящую. Подбитый беглец вынужден был остановиться. Часть пассажиров (или экипажа) пыталась, пересев на джонку, спастись на берег. Все были захвачены — 12 японцев и 9 китайцев. Пароход «Хайен-мару», менее 1000 тонн водоизмещения, оказался японским, зафрахтованным для нужд корреспондента газеты «Асахи», а теперь якобы развозившим по островам купцов и промышленников по лесному и рыбному делу. Очевидно, дела эти были только предлогом. Убогие рощицы Квантуна все давно уже были секвестрованы для нужд обороны, а в море чаще ловили мины, чем рыбу. Пароход был подбит, сам двигаться не мог. Пробовали его буксировать, но неудачно, и в результате — затопили.
Все эти подробности мы узнали, конечно, по возвращении в Артур. В тот момент мы видели только, как «Новик» и миноносцы, чинно, умеренным ходом вошедшие в пролив между островами, вдруг бросились куда-то сломя голову, и раньше, чем мы, за дальностью расстояния, могли разобрать толком, кого они преследуют, над преследуемым поднялись уже облака дыма и пара… Он остановился, а вокруг него суетилась наша компания.
— «Новик»-то! Ловко! Учуял! Вынюхал! Ищейка! Настоящий лягаш! — сыпались кругом одобрительные восклицания…
Вскоре после этого инцидента мы повернули обратно и около 2 час. пополудни вошли в гавань.
За время нашего «практического» плавания «Амур» ходил ставить мины, куда-то по направлению к Талиенвану, кажется, в бухту Меланхэ.
Минный транспорт «Амур»
В ночь с 13 на 14 марта японцы повторили свою попытку — запереть вход в Порт-Артур. Началось в 2 ч. 20 мин. пополуночи. Та же картина, что и прошлый раз, с той лишь разницей, что теперь никто не сомневался в истинных намерениях приближающихся пароходов, и сразу же огонь открылся по всей линии.
Правда, «Ретвизана» уже не было на старом месте, но зато в проходе стояли «Бобр» и «Гиляк», а из-под Золотой горы стреляла батарея 120-мм пушек, снятых с «Ангары».
Два заградителя выбросились на берег под этой самой батареей. По пути на эту пару произвел лихую атаку сторожевой миноносец «Сильный», который, не обращая внимания на сыпавшиеся градом наши же снаряды, почти в упор выпустил свои мины. Хорошо, но несчастливо, т. е. не причинив пароходам таких повреждений, чтобы они немедленно затонули. У одного из них, например, был снесен взрывом почти весь форштевень, а носовая переборка как-то уцелела, и он продолжал идти вперед.
Другая пара заградителей шла несколько левее. Один затонул, не доходя маяка, а второй выскочил на берег как раз на том месте, где так недавно стоял на мели «Ретвизан».
Рассказывали, что было еще несколько, что часть погибла на минах, часть была утоплена артиллерийским огнем, а остальные не выдержали и ушли в море. Но к таким известиям надо было относиться с осторожностью.
В ночных делах удивительно как много топят неприятельских судов! И эта слабость — общая. Вовсе не хвастают, а глубоко убеждены, готовы идти хоть под присягу.
С рассветом появилась на горизонте японская эскадра, а в 6 ч. 30 мин. утра «собачки» набрались такой самоуверенности, что подошли довольно близко. Стоило, однако, береговым батареям хорошенько огрызнуться, чтобы они немедленно удалились на приличную дистанцию.
В это время эскадра выходила на рейд. Японцы могли на деле убедиться, что вторая их попытка оказалась такой же неудачной, как первая.
Около 8 час. утра в боевом порядке («Петропавловск» — головным) мы уже крейсировали по дуге от горы Белого Волка к Крестовой горе, как бы приглашая неприятеля подойти поближе, но это, видимо, не входило в его расчеты. Броненосцы и броненосные крейсера, сопровождаемые «собачками» и миноносцами, помаячив на горизонте до 9? утра, скрылись на юго-восток. Не пробовали ни вступить в бой, ни начать бомбардировку. В ожидании их возвращения стали на якорь, а после 2 час. дня мирно вошли в бассейны.
В предупреждение новых попыток заградить вход, на внешнем рейде было устроено два ряда бонов. Такие боны или, по крайней мере, материалы для них, конечно, должны были бы заготовляться еще в мирное время. Теперь, ввиду невозможности быстро подвезти все необходимое, пришлось пользоваться тем, что оказалось под руками, сделать хоть что-нибудь, утешаясь слабой надеждой, что в будущем, с улучшением обстановки на театре военных действий, удастся придать сооружению должную солидность. Испытания, производившиеся под непосредственным руководством самого адмирала, дали не слишком блестящие результаты. Небольшие пароходы (1000–1500 тонн) с прямым, т. е. перпендикулярным к поверхности воды, форштевнем — задерживались бонами; со скошенным, наклонным вперед, форштевнем — перелезали через них, хотя и с трудом; когда же пустили «Ангару» (11 000 тонн и форштевень скошенный), то она, словно не заметив бонов, которые подмяла под себя, с застопоренными машинами, силой одной инерции дошла до самого входа… Выяснилось, что, не пожалей японцы 2–3 пароходов вроде нее, и они могут запереть эскадру. Приходилось изыскивать другие, более радикальные средства.
Наибольшую опасность представляли заградители, удачно — случайно или намеренно — шедшие курсом, который прямо, без всяких поворотов, вел их в гавань. Даже подбитые, лишенные возможности управляться и работать машиной, они все же могли достигнуть цели, как это показал пример «Ангары». Опасность была серьезная, а потому, по указанию адмирала, поперек этого критического курса, к западу от центральной линии (входной створ), под берегом Тигрового полуострова были затоплены пароходы Восточно-Китайской железной дороги «Хайлар» и «Харбин», а к востоку от нее, уступом, ближе ко входу — «Шилка». Таким образом, на подходе по створу надо было сначала держать правее, потом свернуть влево, опять взять вправо и только после этого ложиться на обычный входной курс. Маневр — ночью, в лучах прожекторов, под огнем батарей и охранных судов — по меньшей мере весьма затруднительный. Кроме того, из-под Золотой горы выступал вновь образовавшийся риф — затонувшие брандеры.
Оборона входа при посредстве крейсеров и канонерок была усилена до наивозможного предела. Брандер, затонувший на отмели Маячной горы, почти на том месте, куда 26 января выбросился «Ретвизан», был утилизирован, как подводный (а частью и надводный) бруствер, за которым, вплотную к нему отшвартовавшись, расположился «Гиляк». Вместе с новыми прибрежными батареями (из пушек «Ангары»), находившимися от него вправо и влево, получалась первая линия обороны; дальше, на бочках, по правую и по левую сторону пролива стояли канонерки — это вторая линия; наконец, в глубине, имея под своим огнем весь проход, «Аскольд» и «Баян» — третья линия.
Для безопасности этих охранных судов спешно сооружался «сетевой бон», т. е. бон с подвязанными к нему железными сетями, который, будучи заведен поперек узкого и мелководного входа, представлял собой как бы занавес (от поверхности воды и почти до дна), непроницаемый для мин, выпущенных с внешнего рейда.
Получались известия, что, потерпев неудачу с брандерами старого образца, японцы собираются зажечь самое море, а именно: в разгар приливного течения подвести ко входу, зажечь и взорвать пароходы, налитые керосином, бензином и т. п. снадобьями, горящими на поверхности воды. Опять-таки были произведены опыты, и оказалось, что в случае такой затеи эскадре грозит немалая опасность, особенно если во время прилива будет дуть хотя слабый южный ветер. Немедленно же явились изобретатели, предложившие проекты несгораемых бонов, преграждающих течение такой огненной реки (надо было задержать только поверхностный слой). Проекты рассматривались без замедления, и к осуществлению тех, которые признавались наилучшими, приступали тотчас же. Адмирал твердо держался своего правила: «Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Лучше десять раз начать сызнова, признав свою ошибку, чем за все это время ничего не делать и сидеть сложа руки в раздумье: как бы сделать превосходнее? Le mienx c'est l'ennemie du bien!»
Между прочим, была принята и такая мера: суда, стоявшие в проходе для его охраны, все были повернуты кормой в море, Держась с кормы надежными цепными швартовами за бочки на мертвых якорях. В случае появления огненной реки они должны были давать машинам самый полный ход вперед, вследствие чего, несомненно, получилось бы могучее поверхностное течение в обратном направлении. Было ли бы оно в состоянии побороть силу приливного течения по поверхности или нет? — It was the question… Это можно было бы решить только на деле, но, по мнению адмирала, нельзя было пренебрегать никакой мелочью, никаким самым слабым шансом, раз являлась надежда, что он может послужить нам на пользу.
Приступили к исправлению броненосцев. Инженеры обещали к половине мая «Цесаревича», а к июню «Ретвизана» отделать заново. Даже пробитый негодный кессон «Ретвизана» утилизировали, починили, подрезали, подправили и приспособили к «Севастополю», чтобы исправить повреждения, полученные им 27 февраля при столкновении…
Почти ежедневно миноносцы на ночь высылались в море не столько для розысков неприятеля, который словно в воду канул, как для практики, для обучения их тому, чему давно следовало бы их выучить, готовясь к войне…
Важно было то, что никто не сидел сложа руки.
Хорошее было время!..
Новый командующий обо всем успевал вспомнить, обо всем подумать. Так, между прочим, были отменены все церемонии. Не только при проезде начальства мимо корабля, но даже и при посещениях работы не прекращались.
— Я не для парада приехал, а посмотреть на дело в полном ходу. Вот, Бог даст, кончится война, тогда начнется настоящая служба, согласно артикулу, а теперь не до того!.. — полушутя, полусерьезно говорил адмирал.
Форма одежды была также упрощена до крайних пределов. Универсальным костюмом признавалась тужурка. Правда, приказано было всегда быть, на всякий случай, при оружии, но выбор его вне строя предоставлялся собственному усмотрению в зависимости от обстоятельств — сабля, кортик, даже винтовка, а лучше всего — хороший револьвер, и не в кобуре на поясе, а просто в кармане.
21 марта разыгрался трагикомический эпизод. Среди бела дня, при великолепной погоде, появился на горизонте коммерческий пароход (без флага), смело шедший прямо в Артур.
Все только радовались. Казалось очевидным, что он везет нам какие-то припасы. Пароход, подойдя к границе района действия крепостных орудий, остановился, поглядел, но затем, вместо того чтобы, как полагалось, подать условные сигналы, вступить в переговоры с Золотой горой, круто повернул и пошел в море… подняв японский флаг!
Раньше, чем дежурный крейсер успел выйти из гавани и броситься за ним в погоню, — от него на горизонте остался только легкий дымок…
Эскадра была так настроена, что этот случай «великолепного нахальства», оставшегося безнаказанным, возбудил только общее веселье и дал повод к целому граду добродушных острот по адресу «Бороды». Должно быть, так же почтительно-фамильярно пересмеивались между собой солдаты старой гвардии Наполеона, когда ему случалось не попасть ногой в стремя.
— Говорят, «Дедушка» прямо озверел! — Действительно — промазал! — Это ли не обида? — Все предвидел, везде задал ходу, всех расшевелил, и вдруг — под самым носом!.. — И на старуху бывает проруха!.. — зубоскалила толпа, всегда счастливая, если ей удастся подметить промах ее идола…
Приказано было впредь дежурному крейсеру с рассвета и до наступления темноты оставаться на внешнем рейде в полной готовности дать ход. Однако даже и для крейсеров выход из бассейнов был связан с высотой воды (все тот же пролив, который «не успели» углубить до войны).
Броненосцы могли выходить только в полную воду, зато в малую воду не могли выходить даже и крейсера… Если эта малая вода приходилась как раз на рассвете или при наступлении темноты, то… приказание оказывалось невыполнимым. Конечно, самое простое решение вопроса было — держать дежурный крейсер на внешнем рейде и день, и ночь, производя смену в зависимости от высоты воды, но, с другой стороны, это значило бы еженощно подставлять один из своих крейсеров под атаки неприятельских миноносцев. А крейсеров было не так много… Адмирал разрешил эту дилемму весьма удачно. В промежутке между «Шилкой» и затонувшими японскими брандерами, которые, как я уже говорил, образовали собой Риф, выступающий из-под Золотой горы, он затопил еще пароход «Эдуард Барри». Получилось нечто вроде мола, за которым на мертвых якорях были поставлены бочки.
К этим бочкам, с носу и с кормы, швартовился дежурный крейсер. Здесь, в значительной степени огражденный от мин подводным бруствером, он стоял, не ворочаясь, вне зависимости от ветра и переменного приливо-отливного течения, бортом в море и носом к единственному выходу из-за нового мола, всегда готовый, смотря по обстоятельствам, либо встретить наступающего врага всей силой огня своей артиллерии, либо, отдав швартовы, преследовать его при отступлении. Это было отлично придумано… Казалось бы, так просто, так естественно, а ведь вот никому до сих пор не пришло в голову!..
24 марта с Золотой горы донесли о появлении на горизонте «собачек». В дежурстве на внешнем рейде держался «Баян». Всем остальным крейсерам приказано было развести пары, но выход не состоялся. «Собачки» только показались и сейчас же ушли. Погода портилась. 25 марта почти круглые сутки шел дождь, а 26-го надвинулся густой туман. Неприятеля не было ни видно, ни «слышно».
29 марта в дежурстве была «Диана». Весь день пробродили близ Артура, высматривали, слушали… — ничего! (Дежурство все еще было только дневное и бродячее, так как серьезная работа по укладке мертвых якорей и постановке бочек, к которым должен был швартовиться дежурный крейсер, еще не была закончена.)
29 марта погода окончательно исправилась, и на 29-е был назначен выход в море всей эскадры для крейсерства и… обучения маневрированию.
Выход начался в 6 ч. 30 мин. утра, а к 8 1/2 ч. все уже были на рейде — 5 броненосцев, 4 крейсера и миноносцы. В походном порядке, производя эволюции, пошли в сторону Талиенвана. Чуть тянул восточный ветерок. Небо — ясно. Горизонт — чист; и, благодаря прозрачности воздуха, видимость огромная. Крейсера шли дозором. Напрасно, однако, с наблюдательных постов, устроенных под самым клотиком мачт (тоже по недавнему распоряжению адмирала), наблюдали окрестность самые опытные, отличающиеся «морским глазом», сигнальщики; напрасно минеры, не отрывая уха от телефонной трубки, слушали, не начнет ли потрескивать беспроволочный телеграф, — море было совершенно пустынно. Очевидно, заслышав про выходы эскадры, никто не находил особого интереса прокладывать свой курс поблизости от Порт-Артура.
Дойдя до Талиенвана, описав затем круг к югу, в 4-м часу возвратились домой.
30 марта снова было наше дежурство. День прошел без всяких приключений, а к ночи — обновили место — установились на бочках за молом из затопленных судов.
Около 10 ч. вечера прибыл на крейсер адмирал Макаров со своим штабом.
Если не считать мимолетного, даже малодостоверного, появления «собачек» 24 марта, — прошло уже две недели, как неприятель не проявлял никаких признаков деятельности.
Это не могло не казаться подозрительным, и в ночь с 30 на 31 марта все исправные миноносцы были высланы отрядом в дальнюю экспедицию — осмотреть группу островов Эллиот, находившуюся от Артура в расстоянии 60–70 миль, которую японцы, всего вероятнее, могли избрать своей временной базой. Согласно теоретическому расчету, для выполнения задачи ночного, темного времени было вполне достаточно, но на всякий случай, если бы пришлось запоздать и возвращаться уже при свете дня, миноносцам было обещано, что для прикрытия их с рассветом выйдет в море им навстречу «Аскольд». Последний был избран адмиралом во избежание каких-либо недоразумений: пять труб (единственные на всем Востоке) лучше всякого сигнала давали возможность опознать его хотя бы в сумерках и даже ночью. Погода разненастилась. Не то — мелкий дождь, не то — изморось.
Только что адмирал успел обойти батареи, бросив тут и там несколько ласковых, пустых, но в боевой обстановке так много значащих, фраз команде, застывшей на своих постах, — как «что-то увидели»… Трудно сказать, что именно, но, несомненно, в лучах прожектора Крестовой горы обрисовывались силуэты каких-то судов… Направление было от нас на SO 60°, а приближенное расстояние (принимая во внимание, что наши прожекторы до них «не хватали», и соображаясь с расстоянием до Крестовой горы и направлением ее луча) около двух миль…
Особенно мешала разобрать, в чем дело, сетка мелкого дождя, ярко освещенная прожекторами… Казалось, что подозрительные силуэты не то стоят неподвижно, не то бродят взад и вперед по тому же месту… Было 10 ч. 20 мин. вечера.
Прикажете открыть огонь? — спросил командир…
Эх!., кабы знать! — досадливо махнул рукой адмирал… — Вернее всего — наши же!.. Не умеют ходить по ночам!.. Отбились, растерялись… и теперь толкутся около Артура! И своих найти не могут, и вернуться не решаются, чтобы за японцев не приняли!.. Чистое горе!.. — Но тотчас же, поборов свою досаду, он добавил спокойным, уверенным тоном: — Прикажите точно записать румб и расстояние. На всякий случай, если не наши, надо будет завтра же, с утра, протралить это место. Не набросали бы какой дряни…
Видение только мелькнуло и быстро скрылось за сеткой дождя.
В 10 ч. 50 мин. вечера к югу от нас, приблизительно у горы Белого Волка, раздалось несколько пушечных выстрелов не то с берега, не то с пары миноносцев, охранявших южный бон.
Остальная часть ночи прошла спокойно. Ничего не видели, да вряд ли и могли бы что-нибудь видеть из-за ненастья.
Корабли Эскадры Тихого океана на внутреннем рейде Порт-Артура. В центре слева направо эскадренный броненосец типа «Полтава», эскадренные броненосцы «Пересвет» и «Победа», броненосный крейсер 1-го ранга «Баян»
В 4 час. 15 мин. утра, чуть забрезжил свет, адмирал со штабом уехал на «Петропавловск». В то же время с востока показался целый ряд дымков — это возвращались наши миноносцы после удачно выполненной, но безуспешной экспедиции, никого не найдя на рейдах островов Эллиот. Возвращались, но, к сожалению, не в полном составе. Опасения адмирала оказались вполне справедливыми — часть «отбилась и растерялась»… Неожиданно в направлении на юго-восток в дымке ненастного утра (было уже 5 ч. 25 мин. утра) замелькали огоньки; донеслись оттуда раскаты выстрелов… Опознать сражающихся за дальностью не было возможности… Однако ясно было, что дерутся какие-то мелкие суда, вероятно, миноносцы… Конечно, мы («Диана») скорее всех могли бы поспеть на выручку, но, оказывается, адмирал, обещавший выслать крейсер, не похожий ни на один из японских, не хотел посылать «Дианы», так как ее могли бы легко принять за «Ивате»… «Аскольд» почему-то не мог выйти немедленно, а потому выслали «Баяна» (четырехтрубный), подобного которому у японцев тоже не было. На все эти перемены и распоряжения ушло немало драгоценного времени. Когда «Баян» прошел в море, мы, думая, что про нас просто забыли, не ожидая сигнала, начали отдавать швартовы, чтобы идти за ним, но, конечно, сильно опоздали. Он был уже далеко впереди, когда мы только еще выходили на свободную воду.
Как выяснилось впоследствии, наш миноносец «Страшный» ночью, отбившись от своих, в розысках за ними встретил отряд японских миноносцев и примкнул к ним. Японцы тоже не заподозрили в нем неприятеля, и они совместно бродили в окрестностях Артура вплоть до рассвета. Тут недоразумение обнаружилось, и завязался отчаянный бой одного против шести. Бой грудь с грудью, почти врукопашную…
Как ни спешил «Баян» на выручку «одного из малых сих», — он мог только разогнать врагов, кружившихся около места, где уже затонул «Страшный». Японские миноносцы бежали на юг. Поддерживаемые спасательными поясами, цепляясь за всплывшие деревянные обломки, остатки геройского экипажа радостно приветствовали «свой» крейсер… Но на смену бежавшим миноносцам с юга полным ходом приближались «собачки»…
Правда (скажут скептики), броненосный крейсер — против четырех легких… Однако (скажу я) четыре — против одного…
«Баян», или его командир (корабль и капитан — одно), ни мгновения не колебался. Прикрыв, как стеной, своим высоким бортом плавающие обломки, за которые хватались утопающие, он спустил шлюпки для их спасения, а сам, стоя на месте, принял бой… Мы в то время, глядя из-под Золотой горы, не понимали, в чем дело… Видим — остановился… Захолонуло на сердце… — Должно быть, подбита машина!.. — Поспеем ли?.. — Боже мой!.. Как доставалось в эти минуты петербургскому порту, строившему «Диану»!.. Ведь вместо 20 узлов, по штату положенных, мы давали едва 17!.. Подвернись в этот момент самому молодому мичману самый большой технический генерал — каких бы горьких истин он не наслушался!.. Мимо нас, обгоняя, как стоячего, промчался «Новик», выскочивший из гавани… Следом за ним шел «Аскольд»…
— Ишь, черти! Видно, что за границей строились! Не то что наша… богиня!..
Но «Баян» уже возвращался. «Собачки» его не преследовали. Они, видимо, вовсе не желали приближаться к береговым батареям на дистанцию их выстрела. Было 7 ч. 10 мин. утра. Миноносцы (шедшие с Эллиота) благополучно вошли в гавань. В 7 ч. 15 мин. оттуда вышел «Петропавловск». За ним — «Полтава». «Баян» семафором, сигналами и беспроволочным телеграфом докладывал командующему о том, чему был свидетелем. Он не был уверен, что в горячке неравного боя успел подобрать всех; может быть, и еще кто-нибудь держится на обломках… Немедленно же последовало приказание: «Быть в строе кильватера. «Баяну» быть головным и вести эскадру к месту. Всем — смотреть за плавающими обломками».
Во время перестроения, пока мы, застопорив машины, ждали очереди, чтобы занять свое место в строе, мимо нас, по правому борту, совсем близко прошел «Петропавловск».
— Смирна-а! — пронеслось по крейсеру.
Адмирал вышел на левое, обращенное к нам, крыло верхнего мостика. Он был в пальто с барашковым воротником; русая борода развевалась по ветру.
Здорово, молодцы! — резко отчеканивая каждый слог, раздался его мощный голос.
Здравия желаем, ваше превосходительство! — как-то особенно дружно, громко и радостно ответили с «Дианы».
Дай Бог! В добрый час!
Покорнейше благодарим, ваше… — но вдруг уставом определенный стройный ответ спутался, оборвался и перешел в могучее «ура»!..
Адмирал, уже ушедший было с крыла мостика и скрывшийся за рубкой, опять вернулся к поручню, снял фуражку и, широко улыбаясь, махал ею.
— Ура! — гремело среди команды, громоздившейся на плечи друг друга, чтобы увидеть «Деда»… — Ура! — кричали офицеры, забыв всякую корректность, толкаясь среди матросов и тоже размахивая фуражками.
Это было последний раз, что мы видели нашего адмирала…
В моей книжке записано: 8 ч. утра. Идем курсом SO. Кильватер — «Баян», «Петропавловск», «Полтава», «Аскольд», «Диана», «Новик».
Навстречу из мглы опять появились «собачки», но уже предводимые двумя броненосными крейсерами. Шли смело, хотя и видели, что наш отряд сильнее. Завязалась перестрелка с дальней дистанции. В 8 ч. 10 мин. японцы круто повернули и стали уходить на юг. Наименьшее расстояние 50 кабельтовых. У нас потерь не было. Некоторое время кружились близ места гибели «Страшного», высматривая, не увидим ли чего-нибудь, но бесплодно. Мы были от Артура приблизительно в 15 милях. Привычный глаз мог различить, что остальная эскадра выходит на внешний рейд. В 8 ч. 40 мин. обрисовались во мгле силуэты японских броненосцев. Соединившись с броненосными крейсерами и сопровождаемые «собачками», они держали курс прямо на нас. Теперь превосходство было уже на их стороне и притом почти вдвое.
Следуя за адмиралом, повернули к Артуру и начали уходить. Японцы за нами. Видимо, нагоняют. «Новик» и миноносцы, пользуясь своим ходом, вышли несколько вперед и влево. «Диана» осталась концевым кораблем строя. Признаюсь откровенно — положение было довольно жуткое. Идем полным ходом, а дистанция все уменьшается… В 9 ч. утра расстояние до головного японца (кажется, «Миказа») всего 38 кабельтовых. Наши кормовые шестидюймовки были наведены. Ждали с «Петропавловска» приказания: открыть огонь… — Но сигнала не было. Японцы тоже, словно по уговору, не стреляли… В 9 ч. 15 мин. вошли в район действия крепостных орудий (6–7 миль), а в 9 ч. 20 мин. неприятель, так и не сделав ни одного выстрела, прекратил погоню и склонил курс к западу… Расстояние начало увеличиваться…
— Почему они не стреляли? — недоумевали у нас. — «Диана», «Аскольд» — концевые — на 38 кабельтовых, — прямо соблазн швырнуть несколько «чемоданов».
Около 9 ч. 30 мин. мы присоединились к нашей эскадре, вышедшей тем временем из гавани в полном составе (конечно, кроме поврежденных кораблей). Японцы медленно скрывались за горой Ляо-ти-шана, как будто намереваясь начать из-за него обычную бомбардировку. Адмирал Макаров с своей стороны, видимо, предполагал предпринять обычное крейсерство по дуге от Белого Волка к Крестовой горе и обратно.
Гибель «Страшного», вызванный ею спешный выход отдельных судов, появление главных сил неприятеля, сбор эскадры — все это заслонило события минувшей ночи, казавшиеся такими мелкими. Ни сам адмирал, ни кто-либо из окружающих его не вспомнили о подозрительных силуэтах, смутно виденных сквозь сетку дождя, озаренную лучами прожекторов… А ведь эти силуэты появились именно в вершинах восьмерки, которую мы описывали при нашем крейсерстве, — восточнее Крестовой горы и южнее горы Белого Волка… Потралить, поискать, «не набросали ли какой дряни», — об этом словно забыли…
Комендорам остаться при орудиях! Остальным — вольно! Из своих плутонгов не уходить! — скомандовал я (Во флоте «командует» старший офицер, получая на то приказание от командира, командир же поставлен всем укладом службы так, что ему подобает распоряжаться лично только в самых критических случаях.).
Пошла старая история! Сейчас начнут «бросать издалека тяжелые предметы»… Пойти покурить? — полувопросительно промолвил старший артиллерист, обращаясь ко мне.
Конечно! — ответил я. — Ясно, что ничего путного не выйдет. На сегодня — инцидент исчерпан. Пора приниматься за утреннюю приборку. С этим авралом и палубы еще не скатили…
Мы оба спустились с верхнего мостика. Артиллерист — на полубак, к фитилю, где разрешается курить, а я — на палубу. Здесь, стоя у правой шестидюймовки носового плутонга, я отдавал обычные распоряжения старшему боцману, когда глухой, раскатистый удар заставил вздрогнуть не только меня, но и весь крейсер. Словно где-то близко хватили из двенадцатидюймовки. Я с недоумением оглянулся… Удар повторился еще грознее… Что такое?.. — «Петропавловск!» «Петропавловск!..» — жалобно и беспомощно раздались кругом разрозненные, испуганные восклицания, заставившие меня сразу броситься к борту в предчувствии чего-то ужасного… — Я увидел гигантское облако бурого дыма (пироксилин, минный погреб — мелькнуло в мозгу) и в нем как-то нелепо, наклонно, повисшую в воздухе, не то летящую, не то падающую фок-мачту… Влево от этого облака видна была задняя часть броненосца, совсем такая же, как и всегда, словно там, на носу, ничего не случилось… Третий удар… Клубы белого пара, заслонившие бурый дым… — Котлы!.. — Корма броненосца вдруг стала подниматься так резко и круто, точно он тонул не носом, а переломившись посредине… На мгновение в воздухе мелькнули еще работавшие винты… Были ли новые взрывы? — не знаю… но мне казалось, что эта, единственно видимая за тучей дыма и пара, кормовая часть «Петропавловска» вдруг словно раскрылась, и ураган пламени хлынул из нее, как из кратера вулкана… Мне казалось, что даже несколько мгновений спустя после того, как скрылись под водой остатки броненосца, море еще выбрасывало это пламя…
Никогда после сигнала — «Слушайте все!» — не наступало на крейсере такого глубокого безмолвия, как перед этим зрелищем…
Однако привычка — вторая натура. Как старый штурман, привыкший точно записывать моменты, я, только что увидев взрыв, совершенно машинально вынул часы и отметил в книжке: «9 ч. 43 мин. Взрыв «Петропавловска» — а затем — «9 ч. 44 1/2 мин. — все кончено»…
Не является ли такого рода, почти бессознательная, деятельность спасением для наших нервов, для нашего рассудка в моменты жестоких ударов, жестоких потрясений?.. В данную минуту, набрасывая эти строки, вновь переживая все пережитое, я думаю, что, «записав» часы и минуты катастрофы, я как бы подвел их под общий уровень событий войны, отмеченных в той же книжке, и, работая карандашом, успел освоиться с самим фактом, воспринять его… Не будь этого, как бы я к нему отнесся?.. Я говорю, конечно, о скрытых душевных движениях… Наружно как я, так и все прочие офицеры «Дианы» сохраняли полное спокойствие… Мне кажется, судя по той выдержке, которая была проявлена, каждый инстинктивно чувствовал, что одно неосторожное слово, один неверный жест — могли вызвать панику… Это был один из тех критических моментов, когда от ничтожного внешнего толчка команда может быть с одинаковой вероятностью и охвачена жаждой подвига, и предаться позорной трусости… По-видимому, младший флагман, контр-адмирал кн. Ухтомский, верно оценил положение. В то время, как миноносцы и минные крейсера бросились к месту гибели «Петропавловска» в надежде спасти, кого можно, — он, словно ничего особенного не случилось, сделал сигнал: «Быть в строе кильватера. Следовать за мной», — и, выйдя головным на своем «Пересвете», повел эскадру также, как, бывало, её водил Макаров.
Командующий флотом погиб, в командование вступил следующий по старшинству! Le roi est mort, vive le roi! Это было хорошо сделано и сразу почувствовалось…
Как известно, из всего экипажа «Петропавловска» спаслись только 7 офицеров (в том числе великий князь Кирилл Владимирович) и 73 матроса.
В полном порядке, следуя за своим адмиралом, эскадра совершила обычный рейс под гору Белого Волка и начала последовательный поворот на обратный курс под Крестовую гору.
Суровая тишина царила на крейсере, и в этой тишине чуялись не подавленность, не растерянность, а вскипающий, могучий гнев, всепоглощающая злоба к врагу за его удачу, холодная решимость бороться до последнего. Без команды, без сигнала все были на своих местах, готовые к бою.
В 10 ч. 15 мин. утра «Пересвет» уже повернул на обратный курс, когда снова раздался глухой удар минного взрыва, и шедшая за ним «Победа» начала медленно крениться… «Пересвет» застопорил машины и бросился влево… Строй спутался… Эскадра сбилась в кучу… Внезапно, со всех сторон, загремели выстрелы… Среди беспорядочно столпившихся судов то тут, то там вздымались столбы брызг от падающих снарядов… Снаряды свистели над головой… Осколки шуршали в воздухе и звякали о борт… Наш крейсер тоже открыл какой-то бешеный огонь…
Я стоял на верхнем мостике со старшим артиллеристом.
Ошеломленные неожиданностью, мы переглянулись, словно не веря себе, словно пытаясь взаимно проверить свои впечатления…
Что такое? — спросил он.
Что? Паника!.. — ответил я.
Больше разговоров не было. Мы оба бросились вниз. На нижнем мостике, при входе в броневую рубку я увидел командира…
Почему стреляют?
Кто приказал?
Остановите! Они с ума сошли!..
Кругом творилось что-то невообразимое… Крики: «Конец пришел! — Подводные лодки! — Всем пропадать! — Стреляй! — Спасайся!..» покрывали гул канонады… Обезумевшие люди вытаскивали койки из помещений, отнимали друг у друга спасательные пояса… Готовились бросаться за борт…
— Дробь! Играй дробь! — не своим голосом ревел артиллерист, выволакивая за шиворот на крыло мостика штаб-горниста, забившегося куда-то в угол…
Неверный, дрожащий звук горна пронесся над крейсером…
— Как играешь? Глотку перехватило? — кричал я. — Еще! Труби без конца! Пока не услышат!..
Звуки горна становились увереннее, но на них не обращали внимания…
Что-то громыхнуло между трубами… Впоследствии оказалось — свои же угостили нас снарядом, по счастью, разбившим только подъемные тали баркаса и не причинившим серьезного повреждения…
Я побежал по батареям.
— Господа офицеры! Не позволяйте стрелять! Гоните от пушек!..
Но слова не действовали на комендоров, вцепившихся в свои орудия и досылавших снаряд за снарядом, без прицела, куда-то, какому-то невидимому врагу… Пришлось употреблять силу… И право странно, как грубым, физическим воздействием можно образумить людей, потерявших голову перед страхом смерти…
Порядок был скоро восстановлен. Пальба прекратилась.
Опомнившаяся команда с виноватым, смущенным видом торопливо укладывала по местам разбросанные койки и спасательные пояса, прибиралась у орудий… Некоторые робко и неуверенно пробовали заговаривать с офицерами, пытались оправдаться, объясняли, что «затмение» нашло… что кто-то «как крикнул, а за ним и все»…
В кого ты стрелял? В кого? Кто тебе приказывал? — яростно наседал артиллерийский кондуктор на комендора, которого он только что силой оторвал от орудия.
Я — что ж?.. Видит Бог!., кабы знать… обеспамятел — одно слово…
Ведь ты без малого по «Аскольду» жарил! Хорошо, коли пронесло… а то — не дай Бог!..
Не корите, Иван Трофимыч, — сам знаю… что уж!..
Без ложной скромности, считаю себя вправе отметить тот факт, что «Диана» была одним из первых кораблей, на которых прекратилась эта беспорядочная, паническая стрельба по воде и по воздуху. На многих других она продолжалась еще несколько минут…
Из числа судов эскадры одни стояли на месте, другие беспорядочно двигались в разных направлениях, куда-то ворочали, в тесноте ежеминутно угрожая друг другу столкновением…
Почему японцы не воспользовались этим моментом? Почему не атаковали нас?.. Лишь немногие могли бы отвечать им, тогда как они, сосредоточив свой огонь на центре нестройной кучи, которую представляла собою эскадра, били бы почти наверняка… Хорошо, что не догадались, или не решились, — это был бы полный разгром!..
«Пересвет» поднял сигнал: «Войти в гавань, начиная с броненосцев».
Было 10 ч. 25 мин. утра.
Первой, конечно, вошла поврежденная «Победа», под своими машинами, только накренившись на 5–6 градусов. Ей посчастливилось. Взрыв мины пришелся под большой угольной ямой, к тому же полной угля, на толще которого и разразилась вся его сила.
Если бы так же посчастливилось «Петропавловску»!..
Вскоре после полудня мы уже стояли на своем месте, в Западном бассейне.
Несчастный день… Из семи броненосцев, которыми мы располагали перед началом воины, у нас оставалось только три — «Пересвет», «Севастополь» и «Полтава»… Но не в этом ослаблении наших сил было горе… Пока эскадра входила в гавань, пока еще не получалось официального подтверждения, — все, все от старшего до младшего, так жадно вглядывались в каждый поднимавшийся сигнал… У каждого в душе еще теплилась слабая надежда, мечта, которую он не решался даже высказать громко…
— А вдруг спасен?..
И каждый трепетно ждал, — не разовьется ли на мачте одного из броненосцев тот флаг, который так недавно, так горячо мы приветствовали на мачте «Новика», — флаг командующего флотом!.. Нет…
Ужасный день!..
Художник Василий Васильевич Верещагин (1842–1904), погибший на эскадренном броненосце «Петропавловск»
Никогда, ни до того, ни после, в самых тяжелых условиях войны, не приходилось переживать такого чувства подавленности, такого гнета неотразимого сознания непоправимости разразившегося удара…
Это было общее настроение…
Что вы ходите как в воду опущенный! — обратился я к старшему боцману. — Ваше дело — подбодрить команду, поддержать дух! А на вас — лица нет! Стыдно! На войне нельзя без потерь! Погиб броненосец, ослаблена эскадра, — пришлют подкрепление! Новую эскадру пришлют! Нельзя нос вешать! Нельзя рук опускать!..
Так точно, ваше высокоблагородие… Без потерь нельзя… Оно, конечно… броненосец — что ж? — как-то смущенно и неуверенно, пряча глаза, заговорил боцман и вдруг, словно решившись махнуть рукой на всякий этикет, резко переменил тон: — Не то, ваше высокоблагородие! Что броненосец? — Хоть бы два! да еще пару крейсеров на придачу! Не то! — Голова пропала!.. Вот что!., почему оно, я как все прочие… — Голос его задрожал и оборвался…
Да. Этой мыслью были проникнуты массы. Она овладела ими. Она одинаково крепко засела и под офицерской и под матросской фуражкой. Только здесь, на баке, эти простые люди не умели и не находили нужным прятать ее под маской спокойствия и самоуверенности, о чем так заботилось население кают-компании…
VI После гибели С. О. Макарова. — Флаг наместника на «Севастополе». -Третья попытка японцев запереть эскадру. — Бегство адмирала Алексеева из Порт-Артура. — «Великая хартия отречения»
Существует предание, что в Александрии «ревностный проповедник Евангелия бросился с топором на статую Сераписа и начал рубить ее, и гром не грянул, и земля не расступилась, чтобы поглотить нечестивца, и великое уныние распространилось среди язычников»… Именно уныние… Впоследствии многие из них крестились, но не потому, чтобы вдруг перестали верить в старых богов (это не делается сразу), а в силу горького сознания, что старые боги их покинули, от них отвратились…
Я вспомнил об этом сказании потому, что им ярче всего характеризуется то состояние подавленности, которое овладело личным составом эскадры после гибели С. О. Макарова.
«Если Бог попустил такую беду, значит — отступился…»
Вице-адмирал Степан Осипович Макаров (1848–1904)
Необходимо было принять энергичные меры, чтобы хоть отчасти стряхнуть это угнетение. Первобытные, цельные натуры, какими в огромном большинстве являлись наши матросы, так же легко воспринимают слова ободрения, как и поддаются отчаянию. Это облегчало задачу. Не знаю, как поступали на других судах, но у нас, на «Диане», никогда еще не было такого широкого общения между офицерами и командой. В батарейной и в жилой палубах на видных местах были развешаны наскоро составленные и (на машинке) отпечатанные списки боевых судов Балтийского и Черноморского флотов с указанием их водоизмещения, брони и артиллерии. Около «прокламаций» (как их шутя называли) толпился народ. Толковали, спорили и (право, неглупо) прикидывали в уме и на пальцах, намечали состав эскадры, какую можно бы послать в Тихий океан. Офицеры, появляясь то тут, то там, давали необходимые объяснения.
Однако же наиболее живой интерес возбуждали не споры о составе тех подкреплений, которые могут быть нам высланы, а разрешение вопроса: кто прибудет на замену погибшего Макарова. Переходя от одной группы к другой, прислушиваясь к разговорам, часто вмешиваясь в них, подавая реплики, я был поражен той осведомленностью, которую проявляла эта серая масса по отношению к своим вождям, — ее знакомству с личными качествами высшего командного состава… Кандидаты на пост командующего флотом, намечавшиеся на баке, — это были те же, о которых мечтали в кают-компании, за которых и я без колебания подал бы свой голос. Чаще всего слышались имена Дубасова, Чухнина и Рожественского. Отдельные замечания по поводу возможности назначения того или другого только подчеркивали правильность оценки положения.
— Зиновея (Зиновий Петрович Рожественский) не пустят. Чином молод. Старики обидятся… — Дубасова — хорошо бы! — Кабы не стар… — Чего стар! не человек — кремень! — Аврал, поди, идет в Питере — и хочется, и колется! — Ежели бы Григорья (Григорий Павлович Чухнин) — в самый раз! — Это, что говорить!.. — Дубасов-то, не гляди, что стар! — Да я нешто перечу? а все лучше бы помоложе… — Конечно, Дубасова! — Зиновея! — Григория!..
Временами страсти разгорались, и сторонники того или иного адмирала уже готовы были вступить в рукопашную, но энергичный окрик боцмана или боцманмата:
— Чего хайло разинул! Думаешь, в Петербурге услышат?! — предотвращал беспорядок.
С величайшим интересом прислушивался я ко всем этим толкам. Всего два месяца войны, из которых первый жалкое прозябание, и лишь второй — настоящий, боевой, — под командой популярного адмирала, — а как развилось, как выросло сознание этих людей! Они ли это, которые еще так недавно жили по пословице — «День да ночь — сутки прочь» — и всякую попытку расшевелить их принимали как досадливую причуду начальства, которое «мудрит от скуки»…
Послушать их, — подошел ко мне однажды старший минер, — так после гибели Макарова весь флот на трех китах стоит — Дубасов, Чухнин и Рожественский…
А вы как думаете?
Пожалуй, что и правы…
Утром 2 апреля прибыл в Порт-Артур наместник и поднял свой флаг на «Севастополе», стоявшем в Восточном бассейне, у северной стенки, против дома командира порта. Обстоятельство это прошло почти незамеченным.
— Это только для видимости! Этот в бой не пойдет! — уверенно заявляла молодежь, несдержанная на язык.
С того момента, как несколько улеглось первое ошеломляющее впечатление катастрофы, погубившей «нашего» адмирала со всем почти его штабом, эскадра жила фантастическими слухами о назначении нового командующего. Откуда они брались, эти слухи? Вернее всего, создавались нетерпеливым воображением… И опять-таки упорно назывались все те же три имени — Дубасов, Чухнин, Рожественский…
Того же 2 апреля с рассветом появились на горизонте японцы. Мы… не вышли в море. Около 9 ч. утра началась бомбардировка. Как сообщили с Ляо-ти-шана, ее вели только — «Кассуга» и «Ниссин» — два вновь приобретенные крейсера, только что вступившие в состав японского флота и впервые появившиеся под Артуром, очевидно, с целью испытать свою артиллерию (10-дюймовки). Южнее их, не принимая в бомбардировке активного участия, держались броненосцы, а несколько ближе, к востоку, почти против Артура, бродили «собачки» и два броненосных крейсера. От нас отвечали «Пересвет» и «Полтава». Японцы на этот раз стреляли неважно — по большей части недолеты, ложившиеся в южной части Западного бассейна. Наши потери ограничились двумя раненными на Тигровом Хвосту.
В 12 ч. 30 мин. дня японцы поспешно удалились. С Ляо-ти-шана доносили, будто они ушли потому, что один из новых крейсеров («Кассуга» или «Ниссин») наткнулся на мину, после чего со всех судов началась беспорядочная стрельба «по воде». Вероятно, как и у нас 31 марта, заподозрили присутствие подводной лодки. Дня через два китайцы-лазутчики донесли, что в бухте Кэр (к востоку от Талиенвана) погиб на наших минах крейсер III класса «Мияко».
Книжный магазин, издательство и типография порт-артурской газеты «Новый Край»
Правда, ни то, ни другое известие не получили подтверждения в официальных донесениях с театра военных действий, публиковавшихся японцами, но дело в том, что наш неприятель, в противоположность нам, простодушно объявлявший всему свету о ходе работ по исправлению поврежденных судов, заботливо скрывал и умел скрывать свои потери (Броненосец «Ясима» наткнулся на мину 2 мая, а 4 мая погиб по пути в Японию, но не только в Европе, даже в самой Японии смутные слухи о его гибели появились только в октябре, достоверно же стало о ней известно лишь после Цусимы), а потому я склонен верить этим рассказам, тем более что впоследствии японцы признали гибель «Мияко», только отнеся ее на месяц позже, а также и повреждение «Кассуги», которое объяснялось столкновением в тумане с «Иосино», который якобы при этом был потоплен; у нас же честь его потопления приписывал себе миноносец «Сильный», бывший в паре со «Страшным» в роковой день 31 марта.
Конечно, эти спорные факты сами по себе не представляют большого значения: не все ли равно, отчего затонул «Иосино»? при каких обстоятельствах была повреждена «Кассуга»? какого числа и какого месяца погиб «Мияко»? Если я и упоминаю о них, то единственно с целью отметить резкую разницу в успешном хранении военной тайны с нашей стороны и со стороны японцев. У нас эта тайна являлась чисто формальным, канцелярским делом, у японцев же — делом совести, священным долгом перед Родиной. Нельзя не признать, что культ канцелярской тайны всегда имел у нас самое широкое распространение. Всякое приказание начальства, хотя бы на йоту выходящее за пределы шаблона, принятого для текущего момента, уже составляло секрет. Надписи «секретно», «весьма секретно», «конфиденциально» и т. п. — так и пестрели на заголовках рапортов, отношений и в особенности предписаний. В результате все эти страшные слова совершенно утратили свое первоначальное значение и могли бы с успехом быть заменимы словами — «важно» или «интересно»… К тому же при множестве секретных бумаг оказывалось физически невозможным писать их лично или при посредстве самых близких, доверенных лиц. Являлись посредники в виде мелких канцелярских чиновников, даже писарей, всегда склонных сообщить приятелю новость (конечно, тоже по секрету). Между тем среди ворохов чисто канцелярских тайн попадались и настоящие! Да где же тут разобраться! «Секреты» всегда были известны всем, кроме тех, кто, казалось бы, имел наибольшее право быть в них осведомленным, на чью скромность и сдержанность можно было бы положиться.
Бывало, командир или старший офицер (не кто-нибудь) спросит знакомого, даже приятеля, из штаба:
Неизвестно, когда выходить собираемся?
— Не знаю! Право, не знаю!
А на судне вестовой в тот же день докладывает, что ему надо ехать к прачке.
Зачем?
Так что белье забрать, потому — уходим!
Куда уходим? Что ты врешь?
Никак нет! Адмиральский вестовой сказывал, приказано завтра к вечеру, чтобы все было дома…
Помню, однажды, еще за несколько лет до войны, начальник эскадры был серьезно озабочен, как бы разослать командирам предписание, которое он желал действительно сохранить в секрете.
У нас это дело отвратительно поставлено! — сердился он. — Все знают, и ведь именно те, которым не следовало бы знать!
А вы, ваше превосходительство, прикажите вовсе не ставить наверху «секретно» — никто и читать не станет… — посоветовал кто-то из присутствующих.
И удалось. Никто не поинтересовался.
Прошу извинить за это невольное отступление и возвращаюсь к моему рассказу.
В первых же числах апреля получено было официальное известие, что командующим флотом Тихого океана назначен вице-адмирал Скрыдлов. Это назначение эскадра встретила, правда, без энтузиазма, но, в общем, отнеслась к нему довольно сочувственно. Подводя итоги различным замечаниям и суждениям, можно было сказать, что настроение держалось выжидательное. Правда, он не был в числе намечавшихся кандидатов, но… «посмотрим»!..
— Макаров, если бы не задержался в Мукдене для переговоров с наместником, был бы здесь на 15-й день после назначения… — исчисляли некоторые, — значит, и этого можно ждать между 17-м и 20-м…
Однако по мере получения телеграмм о торжественных встречах и проводах, о молебствиях и напутствиях, о поднесенных образах и хоругвях, расчеты спутывались; лица все больше и больше хмурились…
К тому же, так как японцы словно сквозь землю провалились и не показывались в течение почти трех недель, эскадра замерла в бассейнах. Даже дежурство крейсеров на внешнем рейде, установленное Макаровым, было отменено.
Вообще, все макаровское пошло насмарку, и восстановились порядки, властно господствовавшие до… войны. Казалось, что флаг, развевавшийся на грот-мачте «Севастополя», обладал каким-то особенным свойством парализовать всякую инициативу, задерживать на губах всякую фразу, кроме достолюбезных — «слушаю» и «как прикажете».
«Всепреданнейшие» подняли головы и заговорили.
— Да-с! вот оно! — заявляли они (те самые, что еще так недавно, вместе с другими, восторженно приветствовали флаг командующего флотом, поднятый на «Новике»). — Вот они, результаты безумной смелости! Надо различать храбрость и браваду! Часто-с истинное мужество заключается в том, чтобы мудро уклониться от опасности, а не лезть на нее зря, в поисках за дешевой популярностью! — Бросить надо эти авантюры! — В делах государственной важности нужен и государственный ум, широкий взгляд!.. Наместник еще ответит перед Россией за то, что малодушно уступил первенство какому-то «Деду»!.. Он не смел этого! — Видите, что вышло? — Теперь ему же придется чинить прорехи!.. На него — вся надежда! Дай Бог, удалось бы! — Недаром сам Куропаткин провозглашал тост: «За здешних мест гения — Алексеева Евгения!»
Говорили громко, видимо, стараясь, чтобы все их слышали и, при случае… доложили.
Какая гадость!..
Правило «беречь и не рисковать» воцарилось снова. К нему, под гипнозом флага, поднятого на «Севастополе», естественно присоединялось и другое: «ничего без указания или без испрошенного одобрения…»
Эскадренный броненосец «Севастополь». На заднем плане бронепалубный крейсер 1-го ранга «Аскольд»
Такой простой, всем понятный и пользовавшийся таким широким успехом, принцип, провозглашенный Макаровым — «Верю, что каждый приложит все силы к приведению своей части в боевую готовность!» — принцип, дававший такую широкую свободу «действий не только командирам и офицерам, но даже и младшим начальникам из нижних чинов, принцип, на первый план выдвигавший личную инициативу, одухотворивший службу, сведенную к отбыванию «номеров учений», — этот принцип был осужден бесповоротно.
Первый же раз как мы (т. е. «Диана») собрались произвести учение по боевой тревоге с вспомогательной стрельбой, ставшей обычным делом, новое течение проявилось достаточно ясно.
На производство всякого крупного учения или работы корабль (согласно уставу) обязан испрашивать разрешения адмирала. Так, конечно, и поступали, но при Макарове эта просьба о разрешении de facto превратилась в простое уведомление. Едва только на корабле взвивался всем примелькавшийся сигнал — «Прошу позволения произвести учение номер…», как на «Петропавловске» уже поднимали всегда готовый флаг Д, означающий — «Согласен».
Теперь обстоятельства переменились. На сигнал «Дианы» «Севастополь» довольно долго держал «ответ до половины» (Ответный флаг, поднятый до места, обозначает: «Ясно вижу. Понял ваш сигнал». Поднятый до половины высоты мачты, он говорит: «Плохо вижу. Не могу разобрать значения. Может быть, вы ошиблись») и наконец поднял — «Нельзя. Не согласен». — Затем оттуда по семафору справились: «Не ошиблись ли вы при наборе предыдущего сигнала? Действительно ли вы собирались стрелять?..» На утвердительный ответ с нашей стороны последовало приглашение командира в штаб по делам службы.
По возвращении он был не особенно разговорчив. Сказал только, что пока требуется точно выполнять расписание занятий, объявленное циркуляром штаба, а что касается вспомогательной стрельбы, то вопрос этот признан заслуживающим внимания, будет разработан так, чтобы все суда могли принимать в ней участие, по возможности равномерно, и проч., и проч.
Командир бронепалубного крейсера «Диана» (однотипного с бронепалубным крейсером «Аврора») капитан 1-го ранга светлейший князь Александр Александрович Ливен (1860–1914)
В ожидании, когда японцы соизволят прийти на вид Порт-Артура, при посредстве паровых катеров и баркасов тралили внешний рейд, разыскивая мины, ими набросанные, и, действуя тем же оружием, ставили свои в тех местах, куда сами ходить не собирались; но все это как-то вяло, неуверенно, нерешительно…
Что же? — могут спросить читатели, — неужели в Артуре не было энергичных людей, которые взяли бы дело в свои руки, повели его должным образом?.. — Конечно, были и впоследствии достаточно показали себя, но только все они в то время находились под гипнозом, о котором я уже говорил. Ведь предложить делать что-нибудь совсем по-новому значило осудить старое, а это старое было освящено самим наместником, сурово каравшим за всякую тень сомнения в его непогрешимости. Это не Макаров, который прямо требовал, чтобы всякий открыто высказывал свое мнение, который считал, что лучше самое горячее объяснение, чем затаенное несогласие, неизменно ведущее к пассивному повиновению или пассивному сопротивлению, между которыми провести границу почти невозможно. Макаров мог спорить, даже сердиться, но за всякую идею, кому бы она ни принадлежала, хватался обеими руками, если была хоть надежда на успешное ее применение. Другое дело, когда основой всему служил миф о Минерве, выходящей во всеоружии из головы Юпитера. Что может голос простого смертного перед громами Капитолия?.. Прометей был не чета нам, а как с ним поступили?.. Так думали многие, и можно ли строго судить их за эти мысли — плод горького опыта?.. Смешно было бы ждать, что в Дальневосточной сатрапии раздастся голос свободного воина и гражданина, правдивый, честный голос!.. Там было совершенно естественно услышать приказание: «Высечь Желтое море за то, что при отливе берега его дурно пахнут и «самого» наместника заставляют удаляться с балкона его дворца». Там, в этой атмосфере, не мог появиться Фемистокл, который сказал бы: «Бей, но выслушай!» Там господствовали люди, credo которых было: обо всем промолчу, со всем соглашусь — только бы не били, а приласкали!..
8 апреля ознаменовалось печальным происшествием. При постановке с портовых баркасов минного заграждения близ Ляо-ти-шана, вследствие преждевременного взрыва мины, погиб лейтенант Пелль и 19 нижних чинов. Я знал его еще по китайской кампании, когда он, участвуя в походе адмирала Сеймура, был ранен в обе ноги, много дней оставался почти без медицинской помощи, перетаскиваемый на носилках, не раз рисковал попасть в руки боксеров, не дававших пощады, — все-таки поправился, снова пошел на войну и погиб так нелепо, от несовершенства оружия, которого был специалистом (он имел звание минера I разряда).
Около того же времени я совершенно неожиданно был назначен членом в комиссию для допроса японцев, захваченных 13 марта на пароходе «Хайен-мару», и для разбора оказавшихся при них документов. Назначение в такую комиссию старшего офицера боевого корабля являлось несколько странным. Для сведения моих сухопутных читателей, считаю долгом пояснить, что на корабле командир — это как бы верховная власть, выступающая лично только в наиболее критические моменты жизни, а старший офицер — это как бы действующий именем командира, с его ведома и одобрения, премьер-министр, на котором и лежит непосредственно вся тяжесть внутреннего управления. Можно сказать, что, вне исключительных случаев, командир — маятник, регулирующий ход часов, а старший офицер — пружина, силой которой работает механизм. Отсутствие старшего офицера, хотя бы на несколько часов, уже вносит некоторую заминку во внутреннюю жизнь корабля. Вот почему (и нет средств избежать этого) старший офицер почти безвыходно сидит на корабле и в кают-компании его редкие отлучки составляют событие, своего рода эру. Часто приходится слышать замечания, вроде:
— Скажете тоже! Это было еще до последнего съезда старшего на берег!..
Я лично не только ничего не имел против участия в комиссии, но, по совести говоря, был даже доволен. На законном основании несколько раз съездить куда-то, повидать свежих людей — казалось прямо заманчивым. Зато командир принял дело к сердцу.
— Уж лучше бы меня назначили! — заявил он и поспешил в штаб.
В штабе ему объяснили, что назначение вызвано имевшимися в штабе сведениями о моем знакомстве с японским языком и японско-китайской грамотой. Пришлось покориться. Поначалу я отнесся к этим мотивам несколько скептически. Правда, на эскадре знали, что некогда, на пари, я в годичный срок выучился японскому языку и японско-китайской грамоте настолько, что свободно читал и переводил a livre ouvert японские газеты, но это было 6 лет тому назад. С тех пор многое было, за отсутствием практики, перезабыто, и я отнюдь не считал себя вправе выступать в роли переводчика, да еще в таком ответственном деле. Однако на первом же заседании пришлось, волей-неволей, отбросить всякую скромность и пытаться, по мере сил, применить свои познания.
Оказывается, что во всем огромном штабе наместника не было ни одного человека, основательно знакомого с японским языком и японской письменностью. Переводчиком служил «подвернувшийся» прапорщик запаса, студент Института восточных языков во Владивостоке. Право, трудно было сказать, кто из нас являлся более сведущим. По счастью, оказалось, что мой случайный коллега отличался редким качеством — отсутствием профессиональной заносчивости. Мы работали дружно, в полном согласии, оба от души смеялись, когда попадали впросак, и выкарабкивались из него соединенными усилиями.
Воображаю, однако же, как такое следствие было бы обставлено у японцев, у которых на каждом корабле, в каждом полку, батальоне, даже роте, были люди прекрасно говорившие и писавшие по-русски. Если бы мы, наша комиссия, оказались в положении тех, кого мы допрашивали, какой град перекрестных вопросов пришлось бы нам вынести, конечно, на нашем родном языке!..
Комиссия собиралась на берегу, в парадных (обычно запертых) залах Морского собрания. Однажды, по окончании заседания, в ожидании катера, который должен был отвезти меня на крейсер и почему-то запоздал, я зашел на «Севастополь» повидать его старшего офицера, моего старого соплавателя и приятеля, ныне покойного Б.
Как водится после долгой разлуки, облобызались и засыпали друг друга вопросами. Беседа ежеминутно прерывалась сигналом горна — «караул наверх!», — по которому Б. срывался с места и бежал встречать или провожать прибывающего или отъезжающего адмирала или генерала.
Однако! Сколько их у вас ездит! — не удержался я.
И не говори! — с отчаянием отмахнулся Б. — Веришь ли: какой я старший офицер? Все мои обязанности исполняет первый лейтенант, а я только мотаюсь — встречаю, провожаю — провожаю, встречаю.
А это у вас что же? — указал я на плотников, которые по бортам обширной кают-компании броненосца из досок и брусьев строили какие-то меблированные комнаты, навешивали двери, вставляли окна; маляры оклеивали стены обоями; обойщики прибивали занавески, расставляли мебель…
Это все для штаба наместника! Ведь я до сих пор, как ни бьюсь, не могу узнать: сколько их всего? Когда кончится это великое переселение?..
Ну, а если придется выходить в море, в бой?.. Ведь вот у нас, по приказу, всякое дерево, кроме насущно-необходимого, всякая мебель, украшения — все свезено в порт… чтобы пожар не мог разгуляться. Переборки кают железные, а двери деревянные, — так даже двери сняли, заменили парусиновыми занавесками… А у вас тут квартиры строят, и все из самых горючих материалов… Как же вы пойдете?..
Да ты остришь, что ли? — вдруг заволновался, словно даже обиделся Б. — Куда нам идти с этими порядками? Куда?.. Разве — к черту!..
Я не мог с ним не согласиться. Действительно, вся окружающая обстановка, все распоряжения наместника, а главное настроение, воцарившееся среди начальствующих лиц, немедленно после подъема на «Севастополе» флага адмирала Алексеева, и речи его «всепреданнейших» — все явно показывало, что лозунг «беречь и не рисковать» вновь получил прежнюю силу, что «макаровские авантюры» бесповоротно осуждены и больше не повторятся…
В ночь на 17 апреля приходили на внешний рейд японские миноносцы. Вероятно, с целью набросать мин. Обнаруженные прожекторами и встреченные огнем батарей, поспешно скрылись, но, конечно, дело свое сделали.
В 1 ч. ночи 20 апреля меня разбудили глухие удары отдаленных пушечных выстрелов.
— Где и по какому случаю? — думал я, стараясь привычным уже ухом разобрать, кто начал — правый или левый фланг?.. Досадно было бы из-за пустого любопытства в сырую, холодную, темную ночь покидать теплую койку и лезть на мостик. — Все равно мы с нашего места в Западном бассейне не можем принять участия ни в каком деле…
Внезапно раскаты одиночных выстрелов перешли в беспрерывный гул. Даже сквозь плотно задернутую занавеску иллюминатора пробивались отблески то ярко-багровых, то зеленовато-золотистых не гаснущих молний… Видимо, стреляли все, кто мог!.. Сна — как не бывало…
С мостика «Дианы» мы немного увидели. В просветы между Золотой, Маячной и Тигровой горами, словно сквозь промежутки между кулисами, мы, как статисты, ожидающие своего выхода, могли только догадываться о содержании драмы, разыгрывавшейся на главной сцене…
Это была третья, наиболее отчаянная, попытка японцев запереть Порт-Артур.
Несомненно, что через своих шпионов они знали не только о неудаче предыдущей попытки, но и о всех мерах, принятых нами к предотвращению новой. Они знали, что теперь уже нельзя попросту взять прямой курс ко входу, но надо идти по искусственно созданному фарватеру. И вот — под бешеным огнем батарей и сторожевых судов — их миноносцы подошли к поворотным пунктам и стали маячными судами, указывая дорогу заградителям…
Очевидцы говорили, что это было похоже на сказку!.. Один миноносец взорвался на наших минах, один был утоплен артиллерией, вероятно, многие пострадали — но свое дело сделали!..
Когда события минувшей войны уже не будут иметь значения ближайшего по времени, драгоценного опыта, добытого кровью, когда раскроются архивы, мы, конечно, узнаем все, во всех подробностях, но в данный момент в своем рассказе я вынужден руководствоваться лишь моим дневником да сообщениями других очевидцев, не более его достоверными…
Всех брандеров-заградителей было 12. Четверо, подбитые или просто не выдержавшие огня, повернули обратно в море, 8 — дошли.
Все затонули, вдали от входа, но все же два успели, извилистым фарватером, проникнуть за «Хайлар».
По счастью, они не легли поперек дороги, но это была не их вина, равно как и не наша заслуга, а просто судьба.
Во всяком случае, нельзя не признать, что уже второй раз блестяще оправдала себя система отражения атаки брандеров, детально разработанная при Макарове и объявленная его приказами. Береговые батареи, сторожевые и охранные суда и шлюпки — действовали, как по нотам.
Наместнику, прибывшему на «Отважный», оставалось только наблюдать за тем, как разыгрывается пьеса по партитуре гениального композитора — нашего дорогого «Деда».
Поклонники талантов адмирала Алексеева, историки, пытающиеся еще более расцветить его, и без того цветистые, реляции, — любят говорить о том, как он руководил отражением этой атаки брандеров-заградителей, «с которых сыпался град из поставленных на них пулеметов» («Русская Старина». Апрель 1907 г. Стр. 71). В интересах восстановления истины не могу не указать, что, несмотря на «град», потерь с нашей стороны не было, а кроме того, несомненно, что если и был «град», то он сыпался на ближайших противников — сторожевые и охранные суда и шлюпки, а также на батареи скорострельных морских орудий, недавно воздвигнутые и вынесенные возможно вперед и ближе к уровню моря.
«Отважный» стоял в самом проходе, во второй линии обороны, между Золотой горой и воротами в Восточный бассейн. На него этот «град» никоим образом не мог быть направлен, и Драгоценная жизнь наместника не подвергалась никакой опасности. Впереди «Отважного» были: два внешних бона, преграда из затопленных судов, первая линия обороны — «Гиляк» и прибрежные батареи — и, наконец, солидный бон, снабженный стальными сетями, опускающимися почти до дна, запирающий сам проход.
Вряд ли даже с «Отважного», стоявшего в трубе, а не в горле прохода, возможно было наблюдать за ходом дела и давать какие-либо указания. Это было бы возможно лишь с «Гиляка», находившегося на авансцене, но туда… наместник не счел необходимым проследовать.
Так или иначе благодаря Богу выход в море остался свободным, и вновь затонувшие японские брандеры только усилили подводный бруствер, созданный Макаровым из затопленных пароходов, делая новую попытку заграждения почти безнадежной.
11 февраля и 14 марта, при штилевой погоде, уцелевший экипаж брандеров-заградителей, пользуясь смятением (стоило ли заботиться о поимке 30–40 человек?), уходил на мелких шлюпках в открытое море, где с рассветом его подбирали разведчики и миноносцы неприятельской эскадры. Нашими трофеями были только трупы, которые предавались земле с воинскими почестями, согласно уставу. (Между прочим, это обстоятельство вызвало в Японии течение нам сочувственное — многие увидели из этого факта, что мы уж не такие варвары, как про нас рассказывают.)
20 апреля дело обстояло иначе. Дул SO, балла 3–4; по внешнему рейду гуляла невысокая, но крутая волна, а с моря шла зыбь. Сама посадка на мелкие, в большинстве подбитые, шлюпки представляла уже немало затруднений, а выгребать на них против волн и ветра оказывалось совершенно невозможным.
Те, у кого шлюпки уцелели и где их успели спустить на воду, вынуждены были выброситься на берег и сдаться в плен, прочие же плавали, держась за обломки, цепляясь за мачты и трубы, торчавшие над поверхностью моря, и отчаянно взывали о помощи… Надо ли говорить, что, как только кончился бой, наши паровые катера, только что бросавшие в неприятеля свои метательные мины, бросились спасать погибающих, ежеминутно рискуя самим разбиться в бурунах, ходивших над затонувшими пароходами…
При этом нельзя пройти молчанием одной весьма любопытной подробности. Холодная ванна, по-видимому, отрезвляюще подействовала на тех, кого подбирали катера, но те, что высаживались на берег, полуодетые, безоружные, с криками «банзай!» бросались на наших, спешивших к ним на помощь. Конечно, в такой обстановке ни солдаты, ни матросы и не думали пускать в дело оружие, а, отбросив винтовки, со смехом и шутками принимали «очумелых» на кулачки… Некоторых пришлось даже связать, так как они были совсем невменяемы… Недаром мы, осматривая из любопытства ранее затонувшие брандеры, удивлялись многочисленным откупоренным и полу опорожненным бутылкам коньяка, которые на них находили. Тем более странно, что вообще Япония — страна трезвости: национальный напиток — «саке» — крепостью не превосходит обыкновенного пива, а употребляют его крошечными чашечками… Ясно, что даже японские нервы не могли выдержать той поистине адской обстановки, в которой находились брандеры, приближаясь к цели, и опьянение патриотизмом, жаждой подвига — надо было поддерживать более реальным опьянением… — алкоголем.
Каким-то путем это открытие с невероятной быстротой разнеслось повсюду и резко способствовало подъему духа в нашей команде, среди которой огромное большинство считает, что перед боем, как перед причастием, грех пить водку, и часто отказывается от казенной чарки, если обедать приходится в виду неприятеля.
— Это не штука! С пьяных-то глаз на рожон лезть! — ораторствовал на баке боцман Ткачев. — Нет! Ты мне вот, как свеча перед Истинным, докажи, как ты себя понимаешь! Какова есть твоя присяга!..
И слушая эти речи, откровенно скажу, мы — офицеры — ободрялись. В нас опять зарождалась надежда… — А что, в самом деле, если все «как свеча перед Истинным»?.. Неужели же ничего не удастся?..
С рассветом 20 апреля появилась на горизонте японская эскадра. Ждали бомбардировки. Был сигнал — «приготовиться принять бой на якоре» — т. е. на перекидной огонь отвечать тем же. Однако ничего не состоялось.
Пришли первые, смутные, но недобрые вести о сражении при Ялу. Говорили, что потери около 2000 и до 22 орудий. Не хотелось верить… Значит, японцы там высадились? Как же мы прозевали? Наши орудия в их руках? Когда ж это было? А памятник «Славы», сооруженный из турецких пушек? Свалить его, что ли?..
22 апреля японская эскадра опять весь день держалась в виду Артура.
В 11 ч. 30 мин. утра на «Севастополе» флаг командующего флотом был заменен контр-адмиральским флагом. В командование эскадрой вступил В. К. Витгефт. Наместник уехал в Мукден. Правда, уже несколько дней на станции Нового Города стоял в полной готовности особый поезд, но к этому привыкли, считали, что это только «на всякий случай». Отъезд произошел так внезапно, что из начальствующих лиц многие узнали о нем как уже о совершившемся факте. О каких-либо проводах и помину не было. Рассказывали даже, что кое-кто из состоящих при наместнике, случайно бывших в это утро в отлучке из дому, не попали на специальный поезд и были отправлены после…
Не скажу, чтобы это явное бегство произвело на эскадру сильное впечатление. Некоторые были даже довольны. Все, однако, видели в нем тревожный симптом. От громких суждений по этому вопросу воздерживались, так как всякие разговоры в кают-компании, через вестовых, немедленно передавались в команду, а мы переживали такой момент, когда следовало с особой заботой относиться к ее настроению.
Дополнительные известия с севера о Тюренчее — геройские атаки 11-го стрелкового полка, огромные процентные потери — несколько смягчили горечь первого впечатления. Было поражение, но не было сраму.
Историки, о которых я имел уже случай упомянуть, говорят, что «22 апреля наместник, по Высочайшему повелению, выехал из Порт-Артура со своим штабом в Мукден, передав командование эскадрой старшему — контр-адмиралу Витгефту…» но затем — «Военные события шли быстро. 23 апреля уже определилось место высадки японцев к с.-з. от о-вов Эллиот, в Бицзыво, там, где в 1894 г., во время войны с Китаем, японцы высадили мортирный парк…», а потому, еще с дороги, добежав только до Вафаньгоу, 23 апреля, наместник уже телеграфировал Витгефту «о своевременности и особо важном значении, в интересах обороны крепости, минных атак неприятельских транспортов, сосредоточенных в сфере действия наших миноносцев»(«Русская Старина», апрель — май 1907 г.).
Подумать страшно, сколько несчастья принесло России то обстоятельство, что блестящая мысль — воспрепятствовать высадке японцев — осенила наместника лишь в Вафаньгоу, вне пределов досягаемости японских орудий, вне обязательства лично руководить рискованным предприятием!.. Мы, находившиеся в Порт-Артуре, хорошо знали, что, конечно, «военные события шли быстро», но все же не настолько, чтобы намерение японцев высадиться в Бицзыво определилось лишь после отъезда наместника из Порт-Артура «по Высочайшему повелению». Мы хорошо знали (телеграфная тайна хотя и обеспечена присягой, но не всегда непроницаема), что Высочайшее повеление было испрошено, что уже с 15 апреля японцы явно готовились к высадке в Бицзыво, базируясь на группы о-вов Эллиот и Блонд; что они строили боны в узких проливах, а широкие заграждали минами — и всё со стороны Порт-Артура; что к 21 апреля эти охранительные работы подошли к Бицзыво на дистанцию 7 миль, явно указывая пункт предполагаемой высадки; что именно ввиду такого положения вещей наместник всеподаннейше запрашивал, что ему делать: оставаться ли в Порт-Артуре, который ежечасно мог быть отрезан, или уехать в Мукден; что именно это время и было наиболее благоприятно для воспрепятствования широкому развитию операций японцев, но время это не было использовано; что бегство наместника, который раньше, чем быть наместником, был адмиралом и место которого было во главе его флота, — последовало не по Высочайшему «повелению», но с Высочайшего «соизволения», им же испрошенного… А это — разница!..
23 апреля японцы высадились. Железная дорога была испорчена. С нашей стороны им не было оказано никакого сопротивления.
В ближайшие за тем дни выяснилось, что это был только летучий отряд. Железнодорожное сообщение восстановилось, и даже благополучно пришли с севера два больших поезда с боевыми припасами. Можно сказать — удачно проскочили!
Японская эскадра ежедневно появлялась в виду Артура. По сведениям китайцев, перед Бицзыво держалось до 70 судов. Японцы, по-видимому, колебались приступить к решительной высадке. Они не были уверены, заперт ли Порт-Артур последними брандерами, а ведь если нет, то наше бездействие могло быть объясняемо выжиданием, выбором удобного момента, чтобы броситься на них в самый разгар десантной операции.
Эскадра глухо волновалась. Возбуждение росло. В самом деле: у нас было три исправных броненосца (Повреждения «Севастополя» не мешали ему (при Макарове) выходить в море 5 и 28 марта.), один броненосный и три легких крейсера 1-го ранга, один крейсер 2-го ранга, четыре канонерки и более 20 миноносцев. Казалось бы, с такими силами можно предпринять что-нибудь против высадки, происходящей от нас в расстоянии 60 миль! В кают-компаниях горячо обсуждался такой план. Пользуясь весенней погодой (часто набегали легкие туманы), выйти из Артура, по возможности незаметно, разгромить транспортный флот и возвратиться обратно, конечно, с боем, так как японцы, несомненно, постараются не пустить нас назад. Это был бы даже не бой, а прорыв в свой собственный, хотя и блокируемый порт. Разумеется, мы сильно бы потерпели, но повреждения в артиллерийском бою всегда легче минных пробоин: при починке их обыкновенно можно обойтись и без дока, и без кессона, а значит — к тому времени, как будут исправлены «Цесаревич», «Ретвизан» и «Победа», — мы опять окажемся в полном составе. Наконец, если бы даже бой вышел решительным и несчастным для нас, если бы наши главные силы были почти уничтожены, — попало бы и японцам! Им пришлось бы уйти надолго и основательно чиниться, а тогда в каком положении оказалась бы высаженная армия, которую мы (по числу транспортов) определяли примерно в 30 тысяч?.. Без запасов, без обоза, она вынуждена была бы отступить к Ялу на соединение с действовавшими там войсками…
Для успокоения горячих умов из высших кругов был пущен слух, что наше бездействие входит в планы генерала Куропаткина. Будто бы он сам просил наместника не мешать японцам высаживаться к востоку от Порт-Артура, опасаясь высадки в Ньючванге. В победе на суше, конечно, не было сомнения. Приводилось даже изречение какого-то великого полководца, сказавшего, что он знает 12 способов высадки десантной армии и ни одного способа обратной посадки ее на суда в случае неудачи, а потому рекомендовалось не рисковать судами и всячески беречь эскадру именно для этого момента, когда придется «не пускать японцев домой»… Знакомый лозунг «беречь и не рисковать» внушал некоторые сомнения в достоверности этого слуха, но других объяснений не было.
Все знали, что накануне своего отъезда наместник имел совещание с главными из начальствующих лиц. Какие решения были приняты на этом совете — хранилось в тайне. Кое-что, однако же, обнаружилось само собою довольно быстро. Заговорили, что вновь строящиеся батареи сухопутного фронта будут вооружены морскими орудиями, а вскоре вышел и соответствующий приказ. Огорченных утешали тем, что орудия будут сняты только с поврежденных броненосцев и притом временно, пока они чинятся и вынуждены бездействовать. Что-то плохо верилось!..
24 или 25 апреля (в точности не могу сказать — не записано) под председательством Стесселя состоялось (на «Севастополе») совещание всех начальников отдельных частей, морских и сухопутных.
Командир, вернувшись на крейсер, ничего не рассказывал (оттого и в моем дневнике не отмечены в точности день и час этого злополучного совещания). Однако уже утром 26 апреля всем и все стало известно, так как протокол заседания на подпись участвовавшим возил обыкновенный рассыльный. Роковая бумага не была даже вложена в конверт, и ознакомиться с ее содержанием мог всякий, до судовых писарей и вестовых включительно. На «Диану» ее привезли рано утром 26 апреля. Командир еще спал; папку подали мне, и, развернув ее, я имел несчастие прочесть то, что на артурской эскадре называли «Великой хартией отречения флота»… Вот подлинные строки, которые я занес в мой дневник по поводу этого события.
«26 апреля. Случайно прочел знаменитый протокол совещания — акт само упразднения флота. Стыдно! Слава Богу, все же нашлись двое, которые не подписали этой гадости!»
Протокол начинался заявлением, что в настоящем положении эскадра не в состоянии иметь какого-либо успеха в активных действиях, а потому, до лучших времен, все ее средства должны быть предоставлены на усиление обороны крепости…
Настроение на судах было самое подавленное, не многим лучше, чем в день гибели Макарова… Рушились последние надежды…
Несмотря на всю неловкость вопроса, я не вытерпел и обратился к командиру за разъяснениями: «Как могли? Как согласились?..» По-видимому, он не был в особенно разговорчивом настроении, но охотно и даже торопливо пояснил, что предыдущее заседание было простой формальностью, что все было решено самим наместником в совете, накануне его отъезда, что им, собственно, пришлось только составить протокол, оформить… что инструкции, оставленные наместником, достаточно ясно предначертывают программу дальнейших действий, что авантюры a la Makaroff надо забыть, что истинно государственный ум, и т. д. и т. д…
— Но почему же тогда не написано прямо, что это приказание наместника? К чему эта комедия совета? Ведь этот протокол, под которым нет самой главной подписи — его подписи, в котором даже не упоминается его имени, — это ваш обвинительный акт!
Капитан возражал крайне смутно, ссылаясь на то, что нечего разговаривать, когда приказывают, что все равно из протеста ничего бы не вышло…
Иные не допускают мысли, чтобы решение совета могло быть предрешено наместником, а я утверждаю, что в той атмосфере, которая была им создана, члены различных совещаний только и думали о том, как бы угадать мысли его превосходительства. Кто умел их угадывать — преуспевал; кто плохо угадывал, но старался — к тому отношение было снисходительное; но кто смел «свое суждение иметь» — над тем можно было поставить крест. В первые дни войны, после того, как крепость и эскадра были захвачены врасплох, все начальствующие лица Порт-Артура жили под гнетом неизвестности и страха, но не за судьбу крепости или эскадры, а за свою собственную, всецело зависевшую от того, как «он» взглянет на происшествие, как повернет дело… Главным секретом того энтузиазма, с которым был встречен Макаров, являлась уверенность, что с момента его прибытия ближайшему начальству уже не придется ломать голову над вопросом: а каков по этому поводу взгляд наместника?
Да! Подготовка поражения эскадры Тихого океана началась с декабря 1899 года, т. е. с момента прибытия в Порт-Артур адмирала Алексеева, успешно превратившего ее корабли в плавучие казармы, а из личного состава ее, не менее успешно, вытравившего всякий живой дух, всякий намек на личную инициативу. Широко пользуясь всей полнотой бесконтрольной власти, бывшей в его руках, он сумел людям и храбрым и разумным, какими они показали себя в боях с неприятелем, внушить сознание полной бесполезности всякой попытки повлиять на принятое им решение, мало того — внушить, что малейшее несогласие с его взглядами есть уже преступление.
Этот гипноз, создававшийся в течение нескольких лет, этот гнет, под которым жила эскадра во времена наместничества, был так силен, так вошел в плоть и в кровь, что даже после… бегства адмирала Алексеева, даже в осажденном, отрезанном от мира Порт-Артуре — он долго еще чувствовался…
VII Сила решений «великой хартии». — Неиспользованная удача 2 мая. — Разоружение судов. — Бой при Кинь-Чжоу. — Дословно из дневника. — Водобоязнь! — В. К. Витгефт. — Междоусобная брань. — Оживление надежд на выход в море. — Загадочный случай 2 июня
Надо ли пояснять, что японцы, которые, благодаря своей идеально организованной системе шпионства, получали наисекретнейшие наши приказы едва ли не раньше, чем наши корабли и отдельные части, конечно, в тот же день были осведомлены о содержании «великой хартии», так откровенно развозившейся по городу и порту, и с этого момента, не опасаясь помехи, словно на маневрах, деятельно занялись высадкой своей армии, выгрузкой артиллерии, обоза, запасов и т. п. Они стали положительно беспечны и даже задорны. С 20-го по 27-е, пока их транспортный флот прятался за наскоро сооружёнными бонами и за линиями охранных судов, не решаясь приступить к широкому развитию операций из опасения атаки с нашей стороны, — боевая эскадра все светлое время дня блокировала Порт-Артур, держась на горизонте, готовая отразить всякую нашу попытку, но отнюдь не приближаясь к орудиям батарей и броненосцев на дистанцию их выстрела.
С 27 апреля они подходили совсем близко, точно зная о приказании «не стрелять, чтобы не вызвать бомбардировки» — верх осторожности и бережливости…
Старший офицер на корабле — это есть… старший из офицеров корабля. Между его положением и положением командира целая пропасть, хотя он и состоит ближайшим помощником последнего. Вот почему, перечитывая страницы моего дневника, я вижу в них не только заметки о моих личных взглядах и впечатлениях, но и отголосок того настроения, которое охватывало весь не командующий состав эскадры… Если я записывал (позволю себе цитировать дословно, без всякой литературной обработки) — «Нельзя не признаться — флот для России — роскошь. Зачем флот, когда нет моряков. Возможно, многие рады гибели Макарова. Не будет безумных авантюр. Беречь и беречь суда. Убережете ли? и зачем? Корабль, спрятавшийся в гавани, хуже, чем погибший в бою. Тот погиб, наверно, недаром. Что-нибудь сделал»… — то, смею думать, эти отрывочные мысли были не только мои, но многих и многих…
Среди общей апатии и бездействия (если не считать постройки сухопутных батарей) уже несколько дней командир «Амура», должно быть, задетый за живое развязностью японцев, выбирал удобный момент, чтобы выйти в море и набросать мин на месте обычных, безнаказанных прогулок неприятеля.
1 мая случай представился — нашел легкий туман, и японцы скрылись из вида. «Амур» выбежал на рейд, исчез во мгле… Прошло немного более двух часов, и он благополучно вернулся. Возвращаясь, принимал весьма явственно японские телеграммы, но никого не видел. Была надежда, что, значит, и его не видели. Особенно важным являлось то обстоятельство, что от нас, с берега, совершенно нельзя было определить, куда он ходил.
Я уже говорил о той изумительной осведомленности, которую проявляли японцы, с уверенностью ходившие между поставленными нами заграждениями, никогда на них не натыкаясь. Очевидно, среди китайского населения Квантуна у них имелись не только простые шпионы, но и опытные штурманы, наносившие на карту каждое движение наших судов. Впрочем… мог быть и другой путь — добыть копию секретного предписания. Пожалуй, это было проще…
2 мая мы сидели за завтраком в кают-компании, когда с вахты доложили, что появилась японская эскадра. Никто не шевельнулся — так и полагалось, согласно последним принятым решениям… Вдруг наверху послышались беготня, восклицания и затем какой-то стихийный рев, проникший до самых трюмов, откуда, как слышно было по топоту ног о железные трапы, все мчалось на палубу…
— Японец! На мине! — выкрикнул вместо доклада унтер-офицер, присланный с вахты…
Что творилось наверху!.. Люди лезли на ванты, на мачты, стараясь подняться как можно выше, надеясь в просветы между Золотой, Маячной и Тигровой горой увидеть что-нибудь своими глазами… Старший артиллерист, забыв ревматизм, бежал на марс, мичмана громоздились под самые клотики…
Внезапно на Золотой горе, на окрестных возвышенных батареях с новой силой вспыхнуло «ура»!..
— Второй! Второй!.. Потонул! — ревели засевшие под клотиками мачт…
Им даже не сразу поверили… Но вот повсюду замелькали семафорные флажки, на мачте Золотой горы взвился сигнал: «Японский броненосец затонул»… Сомнения не было…
— На рейд! На рейд! Раскатать остальных! — кричали и бесновались кругом…
Как я верил тогда, так верю и теперь: их бы «раскатали»!.. Но как было выйти на рейд, не имея паров?.. Блестящий, единственный за всю кампанию, момент был упущен…
По поводу этой, фотографически точно записанной, сценки казенные историки заявляли, что легко было неразумной толпе на «Диане» кричать — «Раскатать остальных!» — но на деле выполнить это было невозможно.
Посмотрим.
Японский броненосец Hatsuse
По японским сведениям, в тот день в виду Порт-Артура, в расстоянии 10 миль, проходили в строе кильватера броненосцы «Хацусе», «Ясима» и «Сикисима» и легкие крейсера «Кассуги» и «Тацута». «Хацусе» пошел ко дну через 50 сек. после того, как наткнулся на мину; «Ясима», также наткнувшийся на мину, с трудом держался на воде (не дошел до Японии, затонул по дороге); оставались один броненосец и два легких крейсера, хлопотавших около подбитого, почти погибающего «Ясима».
Мы имели в то время вполне исправные «Пересвет» и «Полтаву», а также «Севастополь», хотя и поврежденный во время учебных эволюции — 27 февраля (трещина корпуса, погнута одна из лопастей правого винта), но правоспособный к выходу в море, что было им доказано 5 и 28 марта; затем крейсера — броненосный «Баян», легкие «Аскольд», «Паллада», «Диана» и «Новик», четыре канонерки и два отряда миноносцев.
Решительно утверждаю, что если бы эти силы были в полной готовности ив 11 ч. утра 2 мая вышли бы на внешний рейд, то остальных «раскатали бы»!..
Видимо, однако, высшее начальство в Порт-Артуре так изверилось в возможность какой-либо удачи или… до такой степени проникнуто было свыше внушенной идеей, что мы отныне из гавани ни ногой, вплоть до проблематического прибытия подкреплений из России, что не только вся эскадра не была готова к выходу, но даже и в самый момент катастрофы не было отдано приказания разводить пары, а между тем — из броненосцев «Пересвет», а крейсера в полном составе, — имели водотрубные котлы и могли быть готовы к бою через 1/2 часа.
Только в конце первого часа пополудни высланы были в море миноносцы с целью беспокоить, а если возможно, то и атаковать неприятеля, и крейсером был сделан сигнал «разводить пары»… Было уже поздно. На прикрытие поврежденного броненосца подошли броненосные крейсера; наши миноносцы были ими легко отогнаны, а к тому моменту, когда мы могли бы выйти в море, от японцев на горизонте даже и дымков не осталось…
Этот промах подействовал на эскадру хуже всех потерь.
Ничего и никогда не сумеем! Куда нам! — желчно твердили горячие головы…
Не судьба! — говорили более уравновешенные…
Японский броненосец Yashima в окраске мирного времени
И все как-то сразу решили, что больше ждать нечего, что остается только признать справедливость написанного в «великой хартии отречения»… Такого упадка духа я никогда еще не наблюдал. Правда, потом настроение опять окрепло, но это уже было на почве решимости драться во всяком случае и во всякой обстановке, как придется, словно «назло» кому-то…
Как раз в этот день десантная армия японцев окончательно отрезала Порт-Артур… Что было бы с ней, если бы мы, не говорю — уничтожили, но хотя бы разбили и прогнали спутавшуюся, растерявшуюся эскадру, истребили транспортный флот, сожгли и разрушили, под прикрытием наших орудий, запасы, выгруженные в Бицзыво?..
Вспомнить обидно…
3 мая — слухи о незначительных столкновениях к северу от Кинь-Чжоу. Наши только задерживали и отступали на свою «неприступную» позицию на перешейке.
3 мая — по сигналу два раза разводили пары и два раза их прекращали. В результате — выходил в море только «Новик» с миноносцами. Скоро вернулись. Что делали — осталось мне неизвестным.
По-видимому, успех 2 мая вызвал особенный интерес к минам заграждения. Талиенванский залив был сплошь минирован еще в начале войны, а 5 мая посылали «Амур» ставить мины также и на дороге из Талиенвана в Артур против бухточки так называемого «курорта» города Дальнего. В прикрытие ходили «Новик» с миноносцами, а когда появились «собачки», то вышел в подкрепление «Аскольд». Была незначительная перестрелка. Предприятие, очевидно, в будущем успеха иметь не могло, так как японцы видели, в чем дело.
В начале мая мы принялись особенно усердно тралить рейд, очищая его от мин, набросанных японцами, а японцы, со своей стороны, прилагали все усилия, чтобы набросать вдвое больше против того, что мы выловим.
Так, в ночь на 7 мая пришли три небольших парохода и занялись своим делом. Крепостные прожекторы их осветили; батареи и лодки, стоящие в проходе, обстреливали их около получаса; хвалились, что один взорвался, а в результате — утром катера, вышедшие для траления, подобрали около 40 деревянных стеллажей1, плававших на поверхности. Очевидно, по числу сброшенных мин. Но этих последних выловили всего пять. Неутешительно!..
Нечто вроде салазок, на которых японцы сбрасывали мины с борта.
Ввиду такой развязности неприятеля решено было одну из лодок в проходе заменить крейсером. (Ставить дежурный крейсер на рейд, как было при Макарове, все еще не решались — ведь это было отменено самим наместником!) Первая очередь досталась нам, и вечером 8 мая мы уже стояли в проходе, на бочках, под берегом Тигрового Хвоста.
Очевидно, японцы из нашего бездействия при катастрофе 2 мая и в последующие дни вынесли убеждение о полной нашей благонадежности и безвредности и почти неделю вовсе не показывались на горизонте.
Тем временем сила решений, изложенных в «великой хартии», понемногу распространялась и на суда, вовсе не поврежденные, вполне готовые к бою. С «Дианы» сняли и увезли на позицию при Кинь-Чжоу один прожектор, а с ним вместе — 1 мичмана, 2 минеров, 2 минных машинистов и 2 кочегаров.
11 мая кают-компания «Дианы» была близка к открытому возмущению. «Господа офицеры» бранились самыми нехорошими словами…
— Не позволим! Не допустим! Силой помешаем! — кричала расходившаяся молодежь…
Дело заключалось в том, что, как и следовало ожидать, заверение о «временном» лишь снятии орудий с чинившихся броненосцев оказалось не более как позолотой пилюли. Орудия были сняты «окончательно», так как проект обороны крепости существовал только на бумаге… Инженеры обещали закончить исправление «Ретвизана» к 20 мая — и вот прошел слух, что для пополнения его средней и мелкой артиллерии, снятой на форта, собираются разоружить «Диану» или «Палладу»…
С 8 мая у нас был новый командир. Старый получил повышение — был назначен командовать «Цесаревичем», который заканчивал исправления немного позже «Ретвизана». Я счел своей обязанностью доложить «новому» о настроении личного состава, причем не скрыл, что в душе ему сочувствую, хотя, конечно, готов исполнить всякое приказание начальства. Велико было мое удовольствие, когда капитан ничем не выразил своего удивления по поводу моего доклада и, равнодушно пощипывая свою бородку, остриженную a la pointe, заявил почти добродушно: «Чего они там шумят? Хотел бы я посмотреть, кто это разоружит «Диану»? Кажется, еще нет такого человека…» — И это было сказано с таким убеждением, что, вернувшись в кают-компанию, я категорически заявил: «Господа! все это — вздор! Никакого разоружения не будет!»
Все поверили. Спокойствие восстановилось.
12 мая японцы начали наступление на позицию у Кинь-Чжоу — ключ Квантунского полуострова. С утра от нас требовали все больше и больше людей для перевозки на станцию железной дороги орудий и боевых припасов. Из общего (сокращенного) числа команды (456 человек) у меня было в расходе — 283. Они вернулись только после полуночи. К вечеру 12 мая, в 9-м часу, разыгралась гроза. Сначала далеко. Её приняли за отголоски канонады. К полночи она надвинулась на нас, сопровождаемая неистовым, чисто тропическим, ливнем…
Утром 13 мая узнали, что гроза наделала немало бед на сухопутном фронте: большинство заложенных фугасов либо взорвались, либо были приведены в негодность. Впоследствии их начали снабжать громоотводами-предохранителями, но тогда это обстоятельство явилось полной неожиданностью. К рассвету приказано было сигналом «Полтаве», «Пересвету», всем крейсерам, «Амуру» и миноносцам развести пары. Вероятно, нас хотели послать на поддержку полевых войск, защищавших перешеек. Так мы поняли это распоряжение… Еще с вечера (12 мая) собирались отправить в Талиенван все канонерки, но… пошел только один «Бобр». Остальные, очевидно, опираясь на принципы «великой хартии», благодушно производили какие-то работы в котлах и машинах и вовсе не были готовы к походу. Командиров сменили, но эта запоздалая и, по существу, несправедливая строгость все же не помогла делу…
Утром 13 мая «Бобр», счастливо миновав минные заграждения, появился в северо-восточной части Талиенванского залива и начал оттуда грозить японцам, наседавшим на наш правый фланг. Те отступили с огромными потерями. У нас, в Артуре, на мачте Золотой горы в 11 часов утра был поднят сигнал: «Флот извещается, что атака неприятеля отбита. «Бобр» действовал блистательно».
Многим, однако же, казалось странным, что «Бобр» в тот же день, засветло, вернулся в Артур, покинув (несомненно, по распоряжению свыше) позицию, на которой принес такую пользу… Его встретили криками «ура» — но в сердце закрадывалось невольное сомнение… Почему его вернули? Почему, наоборот, не послали в помощь ему «Гремящий», «Отважный», «Гиляк», уже собравшие свои машины и готовые к походу? Почему отставили экспедицию крейсеров и миноносцев, стоявших под парами?.. По сведениям, проникавшим на эскадру, знали, что бой был жаркий, что наши полевые войска дрались блестяще… С другой стороны, очевидно, отдавали японцам должное — не умаляли доблести врага…
— Знаете ли… один раз мне стало так жутко!., прямо — страшно! — рассказывал впоследствии офицер, украшенный Георгиевским крестом за подвиги храбрости, совершенные на глазах у сотен свидетелей. — Не людская толпа, а сама стихия!.. Стоял я с нашей батареей позади левого фланга, в предупреждение обхода по мелководью. Идет бой. Мы не можем принять участия, а по нас откуда-то так и жарят. Потери… И даже изрядные. Положение — самое гнусное. Однако ничего, терпим и только накаливаемся, свирепость в себе разводим — «погоди, мол, дай срок! В свой черед и мы тебе насыпем!..» — Настроение прекрасное!.. Ну-с, наконец, дорвались! Пришел наш черед! Обходят по мелководью… Сколько их было с самого начала? — не могу сказать, потому что, наверно, и с фронта много уже счистили. Под наши пушки вышло, на взгляд, около батальона. Однако со знаменем — должно быть, что раньше полк был… Повернули к берегу, прямо на нас. Тяжело идут; по грудь в воде; дно вязкое, илистое… Открыли огонь… Почти наверняка. Кто с ног свалился — утонул. Уж не встанет!.. Меньше и меньше их становится… а все идут!.. И знамя это так и мотается — видно, из рук в руки переходит… А все идут!.. «Шрапнель! — кричу. — Чаще, чаще!» — сам не знаю, что командую… Сам у орудий работаю (убыль до того большая была). Раненые наши, тяжелые, через силу ползут, снаряды тащат… Кони подбитые и те, кажется, с земли приподнимаются… Что было!.. И только когда вместе с последним человеком рухнуло в воду знамя… — Ну!.. — тут я понял, как всем нам страшно было при мысли: «вдруг дойдут?..» Все кончилось… Впереди чистая вода… Сразу же вызвались охотники (и много!) пойти добыть это знамя… — думали — всплыть должно… Да нет! — видно, последний знаменщик не выпустил его из рук, так и лег с ним вместе на донный ил!.. — Не нашли!.. А тут вскоре же подошли их канонерки и начали наш левый фланг разделывать… Чистая работа! Можно сказать, прямо срыли все наши «усиленные профили»…
В результате, как известно, генерал Фок приказал за ночь очистить позицию… Отступление было совершенно не подготовлено, так как на перешейке собирались держаться недели две, месяц, даже более!.. Следствием явилась полная неурядица. Войска, только что геройски отражавшие атаки превосходящих сил противника, отходили назад в беспорядке, словно после поражения.
«Отступаем — значит, гонят! Гонят — значит, неприятель за плечами!» — такая естественная психология!.. И вот — стрельба по собственному обозу и… даже хуже — два полка, высылающие цепи друг против друга, едва не вступившие в бой.
В ту же ночь, словно спохватившись, послали первый отряд миноносцев в Society bay (к западу от перешейка Кинь-Чжоу), чтобы атаковать японские канонерки, помогавшие своим огнем во фланг нашей позиции наступлению правого крыла японской армии.
Экспедиция закончилась крайне неудачно. Канонерок, конечно, не нашли (ясно, что на ночь они ушли в море), а разыскивая их среди островов, миноносец «Внушительный» вылетел на камни, и его пришлось взорвать, чтобы он не достался в руки неприятеля…
Это были дни лихорадки, томительной неизвестности, самых разноречивых слухов — то о победе, то о поражении…
Я обещал моим читателям, что буду стараться с фотографической точностью передавать те впечатления, те настроения, которые мы переживали за эти роковые дни, но это так трудно!.. Дела было по горло… И какого тяжелого, обидного дела: снимать пушки с судов и ставить их на батареи сухопутного фронта… Именно за эти дни в моем дневнике записаны (часто в несколько приемов за сутки) только отдельные, отрывочные фразы, между строк которых читается столько горьких воспоминаний, ропота, почти… проклятий!.. Нет! — я не берусь их комментировать!.. Вот они: «16 мая. — Досадно. Писать противно. Отреклись. — Спасти, уберечь эскадру, усиливая безнадежную крепость ценою разоружения судов… Вздор! Не то! В кусты тянет. С кораблем гибнет 100 проц., а на берегу этого не бывает. Вот где собака зарыта! — Куропаткин «сметет» в море! — Славны бубны за горами! — Тюренчен, Кинь-Чжоу… — Идти драться, а не отсиживаться! — Бой невозможен. — Силы не равны… Так ли?.. А если и так — прорыв с боем во Владивосток! — Говорят: бегство, бросить своих! Ловко сказано! Прямо — герои! — Да, не надуешь! — Кутузов, тот решил: отдадим Москву — спасем армию, спасем Россию! А тут — пожертвуем эскадрой, съедем на берег, попробуем спасти Артур!.. С виду — самоотвержение, а на деле — все-таки есть шанс уцелеть! На земле не тонут!.. — У нас снимают две 6-дюймовых и четыре 75-миллиметровых… Дрянь! Еще не то будет!..»
«11 ч. 35 мин. вечера (лунная ночь). Отряд японских миноносцев идет по внешнему рейду с востока на запад. Верно, пришли бросать мины. 11 ч. 52 мин. «Гиляк» и другие суда в проходе открыли огонь. Далеко: 40–50 кабельтовых. Стреляли и батареи. 12 ч. 8 мин. ночи. Японцы благополучно ушли. Конечно, свое дело сделали. «В тихую, лунную ночь…» Как на смех!.. Даже не попробовали послать прогнать… Водобоязнь!..»
«20 мая. — Готовилась экспедиция крейсеров и миноносцев. Туман помешал. Пошли в Печилийский залив только миноносцы… Не разберешь!.. Туман — нельзя идти — ничего не увидишь; ясно — нельзя идти — тебя увидят раньше времени… Да что тут!.. — Так нервы раздёргались, что во всем видишь приметы… Около 11 ч. вечера разразилась настоящая тропическая гроза. Странное явление: в общем тучи довольно высоко, а какое-то одинокое, низкое облако, совсем белое, словно самосветящееся, нашло на вершину Золотой горы, окутало ее (как срезало половину) и стоит на общем темном фоне бледным пятном, а при вспышках молний делается багровым… К добру ли?.. — Как глупо!..»
«21 мая. — Миноносцы благополучно возвратились в 8 ч. утра. Ничего не сделали, ничего не видели. Хоть все целы, — и на том спасибо! К тому же — добрая примета — все же на что-то рискнули…»
Миноносцы в сухом доке Порт-Артура
Тяжелое было время и в смысле чисто физического труда. Особенно доставалось крейсерам. Стоя в проходе, каждую ночь караулили и перестреливались с японцами, приходившими забрасывать внешний рейд минами, причем команда спала, не раздеваясь, — половинное число прислуги у своих орудий, прочие где-нибудь поблизости. Кроме того, день и ночь работали над постройкой батарей, так что из четырех отделений (Весь личный состав корабля делится на две вахты, а каждая вахта — на два отделения.) — одно было на работах, одно стояло вахту, одно, только что сменившись с вахты, собиралось идти на работу, и одно, придя с работ, отдыхало, чтобы вступить на вахту. Прибавьте сюда же погрузку угля, наряд шлюпок для траления рейда. Выдавались дни, когда люди почти валились с ног от усталости, засыпали на ходу.
Главная наша беда, по меткому матросскому выражению, заключалась в том, что «голова пропала»!..
В. К. Витгефт, принявший командование эскадрой, оказался на этом посту совершенно случайно, единственно вследствие… поспешного отъезда адмирала Алексеева и неприбытия адмирала Скрыдлова. Личная его храбрость, многократно на деле им проявленная, стояла вне всяких сомнений. В прошлом его сопровождала репутация безукоризненно честного человека и ученого работника… Но вся почти его служба прошла на берегу. Моряком он не был и открыто в этом признавался. Вступив в командование эскадрой, на первом же собрании флагманов и капитанов он так и заявил: «…Жду от вас, господа, не только содействия, но и совета. Я — не флотоводец…»
Это было сказано честно и прямо, но, по-моему, лучше было бы не делать такого заявления…
На войне единоначалие — первое условие успеха. Без полководца может погибнуть армия. Без флотоводца не может существовать флот. Военные законы, основанные на уроках истории, недаром так подчеркивают значение этой единой власти, единой воли. Даже мнение военного совета, собираемого в критические моменты, имеет лишь совещательное значение для единого, высшего начальника. Этот последний может (по закону) присоединиться к мнению не только меньшинства, но даже к мнению единичного лица, признав его наилучшим, — и такое решение уже не подлежит спору, признается окончательным. Дальше идет уже исполнение приказания.
На знаменитом совете в Филях большинство ужасалось при мысли отдать Первопрестольную без боя, но Кутузов, который не отрекался перед собранием от своего звания полководца (что делалось в его душе? был ли он так уверен в непреложной истинности своего решения? — кто знает…), сказал:
— Отдадим Москву! Спасем армию, спасем Россию!.. — И все повиновались…
В. К. Витгефт своим заявлением сам, добровольно сложил с себя полномочия диктатора и передал их большинству… Но большинство?.. — Мне кажется, в каждом совете есть только один самый мужественный и энергичный, затем (так как эти качества, по справедливости, считаются особым даром, выделяют людей из толпы) — найдутся еще несколько человек, близких к нему; все остальные уже ниже, а среди них — конечно, и представители другой крайности, т. е. малодушия. Потому-то и говорится (в статье о военном совете), что начальник присоединяется к наиболее мужественному решению, вне зависимости от числа голосов, за него поданных.
У нас — было иначе…
Однако же, вспоминая и оценивая минувшие события, Уже отошедшие в область истории, я не могу не признать, что и в данный момент не занес бы в свой дневник тех резких, горьких слов, которые цитировал выше. Было смягчающее обстоятельство. Был фактор, оказывавший роковое давление на собрание флагманов и капитанов… Генералы двенадцатого года не решались покинуть Москву на произвол неприятеля, страшась упрека всей России. Правда, Артур не был Москвой, но наши флагманы также не решались покинуть его в критическую минуту, страшась упрека со стороны своих сухопутных товарищей… А этот упрек уже висел в воздухе!.. По судам эскадры рассылались анонимные произведения… Приведу одно из них — пародия на известную тему «Дедушка Мазай и зайцы». В этой пародии весьма прозрачно и образно пояснялось взаимоотношение армии и флота. К сожалению, под рукой у меня нет полного текста — он погиб в бою, и я могу только на память пересказать его содержание.
Какой-то барский двор стерегли серые собаки, а во дворе жили белые зайчики. Пришла беда — появились волки. Собаки стали готовиться к обороне, а зайцы говорили: «Да вы не беспокойтесь! У нас такой способ есть, что мы их близко не подпустим!» — Однако когда от собак уже начала клочьями шерсть лететь, то зайцы обеспокоились и в один прекрасный день под предводительством «самого старого и самого трусливого» зайца пустились наутек в страны северные (понимай — Владивосток), а позади них только смрад (понимай — дым) остался, от которого собаки прочихаться не могли. Долго ли, коротко ли грызлись собаки насмерть, но подошел к ним на выручку дедушка Мазай (понимай — Куропаткин), разогнал вражью свору, а потом начал и зайцам допрос чинить. «Как же, — говорит, — вы, такие-сякие, верных друзей бросили и наутек пошли?» — А они ему: «Прости, дедушка! Мы шкурки свои берегли! Ведь шкурки-то у нас ценные, не то что собачья шерсть…»
На это им дедушка Мазай так ответил: «На что теперь ваши шкурки, коли вы их опоганили!» — и начал их учить палкою…
Пасквиль этот, отпечатанный на пишущей машинке, был разослан по почте всем адмиралам, командирам и старшим офицерам судов и в судовые кают-компании, т. е. появился сразу в весьма значительном количестве экземпляров.
Очевидно, кто-то был крайне заинтересован наивозможно широким его распространением.
Отношения между моряками и сухопутными никогда не были (в Порт-Артуре) особенно дружественными, а с началом войны и вовсе испортились.
Беспристрастно (и теперь уже относительно спокойно) оглядываясь на прошлое, нельзя не отметить, что, несомненно, чья-то воля, в личных выгодах, упорно внушала сухопутным мысль, что в провалах флота виноваты не высшие начальники, а негодный материал (команда и офицеры), бывший в их распоряжении! С другой стороны, — то же внушалось морякам по отношению к сухопутным.
Сухопутные с пеной у рта кричали, что эскадра проспала появление неприятеля. — Моряки утверждали, что крепость проспала войну, что 27 января поддержать эскадру в бою могли только две наскоро изготовленные батареи, что остальные были без гарнизона и с пушками «по-зимнему»!
Чем дальше в лес — тем больше дров… Несомненно, кому-то выгодно было поддерживать эту смуту.
Иначе как объяснить такую явную несообразность.
В кают-компаниях судов, с которых снимали орудия для усиления сухопутной обороны, разыгрывались сцены почти бунта, включительно до угроз — развести пары и уйти в море, отстреливаясь от крепости, если она попробует задержать, — а в то же время, на фортах той же крепости — взрыв негодования против моряков, которые не хотят драться сами, отдают свои пушки на берег, и даже… предложения — огнем крепостной артиллерии заставить эскадру выйти в море и вступить в бой…
Что это было, как не чудовищное недоразумение, кем-то и как-то весьма умело посеянное между двумя главными элементами защитников русского дела, русской чести на Дальнем Востоке?
Позже недоразумение рассеялось. Инстинктом массы поняли, что они не враги друг другу…
Но к лучшему ли было это пробудившееся смутное сознание? В японцах ли они увидели своего общего врага? — Нет! — в «начальстве»…
Однако ж не буду забегать вперед, придержусь хронологического порядка в изложении не только событий, но и настроений, отмеченных в моем дневнике.
Винить ли покойного В. К. в том, что он не родился Кутузовым? что он тогда же не присоединился к тем двум голосам, которые на совете, не страшась упрека в измене сухопутным товарищам, требовали выхода в море и смертного боя?.. История рассудит…
Однако же надо отдать полную справедливость, В. К. Витгефт был строго последователен в своем решении и, присоединяясь на совете высших начальников к мнению большинства, всегда готов был прислушаться и к голосу другого большинства — всего личного состава эскадры. Это большинство (молодое, может быть, неопытное, неразумное, но задорное) возмущалось навязанной ему ролью и почти открыто роптало…
Не берусь утверждать — в силу вновь полученных приказаний или же под давлением эскадренного общественного мнения, — но, во всяком случае, вскоре же по судам распространилась весть о том, что прежнее решение отменено, что собираемся выйти в море, как только закончатся исправления броненосцев. Весть эта была встречена с энтузиазмом.
От нас (с «Дианы»), кроме одного прожектора и тех пушек, о которых я уже упоминал, были сняты еще все 37-миллиметровые и пулеметы. На других судах было то же, и даже больше, так как вообще снята была вся мелкая артиллерия, а к ней причислялись и 47-миллиметровые, которых у нас не имелось вовсе. На радостях об этом не думали.
— Бог с ними! Пусть владеют на счастье! Авось управимся и с тем, что есть! — говорили в кают-компании.
Энергично взялись за траление внешнего рейда, прокладывая чистую дорогу в море среди мин, набросанных неприятелем. Нашлись предприимчивые люди, изобретатели. Для траления приспособили не только портовые паровые баркасы, но и паровые шаланды землечерпательного каравана, служившие ранее для вывоза в море грунта, поднятого землечерпалками. Эти неуклюжие, тихоходные, но зато сильные и мелкосидящие посудины великолепно выполняли свое назначение, даже при волне и зыби верно держась на курсе и таща за собою стосаженные тралы. Этому же делу обучались и миноносцы, которые должны были составить тралящий караван и обезопасить путь эскадры вне района действия береговых батарей, когда шаланды придется отпустить в Артур.
Со своей стороны, японцы, видимо, обратили внимание на нашу усиленную деятельность и чуть ли не каждую ночь приходили, взамен выловленных нами, набрасывать новые мины. Только зайдет луна или набегут тучи — они уж тут как тут, и — пошла пальба с батарей и сторожевых судов! Жаль, что не держали на рейде дежурного крейсера, — это была хорошая острастка. Видно, несмотря на изолированность Порт-Артура, все еще не хватало духу восстановить меру, принятую Макаровым и отмененную Алексеевым. Хотя этот последний и находился в то время довольно далеко, поступить противно его решению казалось «крайне опасным». Война — войной, а как бы «он» потом не припомнил такого вольнодумства!
Однако начали высылать в дежурство пару миноносцев. Все-таки что-нибудь!
В ночь с 24 на 25 мая прожекторы обнаружили на рейде три небольших парохода, несомненно, минные заградители.
Один утопили. Честь потопления оспаривали между собою батарея Крестовой горы и сторожевые миноносцы.
С 27 мая, после долгого перерыва, опять начали появляться в виду Артура японские боевые суда.
29 мая, пользуясь туманом, с утра выслали в море миноносцы: 6 — в район Голубиной бухты и 3 — в сторону бухты Тахэ (к востоку); 2 — дежурили на рейде. Все благополучно возвратились утром следующего дня, но ничего не видели и ничего не сделали.
Исправление поврежденных броненосцев быстро подвигалось к концу, но, с другой стороны, партия, противившаяся нашему выходу в море, проявляла усиленную деятельность. Так, 31 мая разнесся упорный слух, что с берега отказываются возвратить «Победе» хотя бы половину снятых с нее 6-дюймо-вок, что предположено для ее вооружения пожертвовать одним из крейсеров, вероятнее всего «Дианой» или «Палладой»… Надо ли говорить о впечатлении, которое это известие произвело у нас? Разоружаться чуть ли не накануне боя! — По счастью, дело как-то уладилось.
Бронепалубный крейсер 1-го ранга «Паллада» (однотипный с бронепалубным крейсером 1-го ранга «Аврора»)
К этому времени наши полевые войска отступили уже до Зеленых гор. Дальний был в руках неприятеля, который (по сведениям, получавшимся через китайцев) деятельно занялся очисткой Талиенванского залива от поставленных нами минных заграждений, исправлением дока, мастерских, набережных и проч. Я забыл упомянуть, что, вследствие общей уверенности в неприступности позиции на перешейке, в Дальнем до самого момента взятия этой позиции не было принято никаких мер к перевозу в Порт-Артур богатого имущества коммерческого порта и железнодорожного депо. Могучие динамо-машины, станки мастерских, запасы материалов — все это являлось прямо драгоценностью для осажденной крепости и запертой в ней эскадры. Даже после 14 мая с неделю чего-то ждали. Кажется, предполагалось укрепиться на высотах Нангалина и здесь надолго задержать неприятеля. Только когда эта идея была окончательно оставлена и войска начали отходить к Зеленым горам — в Дальнем получилось распоряжение спасать, что можно, а что нельзя — уничтожить… Кое-что удалось вывезти, остальное жгли, взрывали, топили, портили, да и то ввиду спешки не могли испортить основательно, так что японцы без большого труда вскоре же восстановили правильную деятельность порта (Сообщали, что крейсер «Чийода», наткнувшийся на мину в июле месяце, исправлял свои повреждения в доке Дальнего при посредстве его же мастерских.).
1 июня неприятель, ведя энергичную атаку на Зеленые горы с фронта, выслал берегом под прикрытием огня 13 своих миноносцев, обходную колонну (близ бухты Сикау). Из Артура вышел «Новик» с отрядом наших миноносцев — роли переменились, и японцы отступили.
2 июня японцы появились на горизонте уже не одиночными судами, а отрядом: 2 броненосных крейсера, 2 легких и 12 миноносцев. Ждали прихода всей эскадры.
— Неудивительно! — ворчали некоторые. — Японцы — не дети! Принимают меры… Еще бы! Когда мы на весь свет публикуем о ходе работ на броненосцах, о том, что мы вовсе не заперты, что мы вот-вот их раскатаем… А сами сидим и нос высунуть не решаемся… Дождемся всей компании!..
Вечером 2 июня произошел загадочный случай, так и оставшийся неразъясненным. (Японцы умеют молчать о своих промахах.)
После жаркого дня (в тени +20°R) я вместе со старшим артиллеристом стоял на верхнем переднем мостике «Дианы», наслаждаясь прохладой и в то же время зорко вглядываясь во тьму ночи, прорезанную медленно двигающимися вправо и влево лучами крепостных прожекторов («Диана» была сторожевым судном в проходе). На мостиках, на палубе, на трапах, у самой поверхности воды (ночью понизу, ближе к воде, часто виднее, чем сверху) расположились сигнальщики и особо выбранные из среды команды «глазастые», как их называли матросы. При облачном небе — ни звезд, ни луны — тишина полная. Даже зыби нет, не слышно ее шороха среди камней и на прибрежных отмелях.
Вдруг (померещилось или нет?) — далеко к югу как будто что-то блеснуло… — (Нет! не померещилось!) — вот донесся глухой раскат отдаленного взрыва… вот, в том же направлении, зажглись прожекторы, и их беловатые лучи, протянувшись во тьму, словно щупальца сказочного зверя, беспокойно зашевелились, ища чего-то… вот под ними замелькали характерные зеленовато-золотистые огоньки, и до нас долетел прерывистый рокот частой орудийной стрельбы.
Так продолжалось минут 10–15, затем снова наступили мрак и тишина.
Я взглянул на часы — было 10 ч. 50 мин. вечера.
Разумеется, с первого же момента все население «Дианы» было на своих местах, как по тревоге, и, затаив дыхание, следило за картиной неожиданно разыгравшегося ночного боя.
Это не могут быть наши? — спросил артиллерист.
Нет! — категорически ответил я.
Мы стояли сторожевым крейсером, и без нашего ведома никто не мог выйти в море. Несомненно, что наших там не было.
— Ну, значит — свои своих…
Расстояние было на глаз миль 10, т. е. как раз любимое место прогулки японцев. — Но что случилось? — На этот вопрос могло быть два одинаково вероятных ответа: или кто-нибудь из японцев наткнулся на нашу мину, после чего произошла беспорядочная стрельба по воде, или японский миноносец по ошибке атаковал свой же корабль. И то, и другое было бы нам только приятно.
На следующий день, 3 июня, японцев вовсе не было видно. Пользуясь этим обстоятельством, «Амур» ходил ставить мины по западную сторону Квантуна. Возвращаясь, задел за что-то и пропорол себе бок. Повреждение не серьезное, даже приятное, как утверждали некоторые, потому что «Амур» якобы получил пробоину, идя чистым местом на ровной десятисаженной глубине! Не вырос же там подводный камень? А если нет — значит, кто-нибудь лежит, затонувши, и, конечно, не кто другой, как японец… (Впоследствии оказалось, что слухи эти распространялись для успокоения умов. На самом деле «Амур» пропорол себе бок о нами же затопленную «Шилку», при входе на рейд, по своей вине.)
4 июня вернулся в Артур миноносец «Лейтенант Бураков», которого посылали в Инкоу. Едва не попал в лапы японским крейсерам. Уцелел благодаря ненастной погоде, а главное — благодаря своему ходу.
Какая горькая ирония! Лучшим, т. е. самым исправным и быстроходным, нашим миноносцем оказывался «Лейтенант Бураков», забранный нами у китайцев при взятии Таку и построенный по их заказу в Германии более десяти лет тому назад!.. Из всей нашей минной флотилии он был единственный, годный для такого поручения, как прорыв блокады…
Тем временем наши полевые войска, задерживаясь на промежуточных позициях, медленно отступали к Артуру.
5 июня «Отважный», «Гремящий», «Новик» и 4 миноносца ходили в море к бухте Меланхэ, чтобы своим огнем воспрепятствовать наступлению левого фланга неприятеля.
VIII "Друзья! к чему весь этот шум?» и «Хвалилась синица море зажечь»… — Выход эскадры 10 июня. — «Бог пронес!» — Неожиданное отступление. — Начало конца. — Восстановление дежурства крейсеров на внешнем рейде. — Поддержка сухопутных войск с моря
6 июня после полудня порт и бассейны закипели лихорадочной деятельностью. Боевые суда разворачивались носом к выходу; буксиры расчищали дорогу, разводя по углам транспорты; тут грузили уголь, там какие-то материалы или запасы; плавучие краны снимали временно поставленные бочки; портовые суда убирали боны второй и третьей линии… Официально предстоящий выход эскадры хранился в секрете, но смысл всей этой суеты был до очевидности ясен всякому, даже не моряку… Я не мог не досадовать, скажу более, — не мог не злиться! Мне так и хотелось крикнуть: «Друзья! к чему весь этот шум?» — Ведь 7 июня полная вода наступала во 2-м часу дня, и весь аврал можно было бы с успехом закончить, начав его с рассветом… Неужели «они» не знали того, что было известно каждому на эскадре, в порту, в городе, в крепости?.. Не знали, что о каждом нашем движении, о каждом нашем шаге японцы получают самые точные сведения и притом без промедления?.. Неужели они не знали, что при нашем, чисто канцелярском, отношении к военной тайне — японцы всегда были ознакомлены с планами и намерениями нашего высшего начальства лучше, чем наши же офицеры, которые могли о них только догадываться?..
Между тем со времени «ночного боя по недоразумению», т. е. со 2 июня, японцы совершенно исчезли с горизонта.
Наш тралящий караван без всякой помехи прокладывал нам чистую дорогу на 88° и даже обставлял ее буйками. Прожекторы, как ни старались, не могли по ночам обнаружить ничего подозрительного. На очищенных пространствах, при проверочном тралении, новых мин не находили. Набеги заградителей на внешний рейд словно бы временно прекратились. Казалось, можно было надеяться, что, выйдя внезапно, мы захватим неприятеля врасплох, — может быть, главные силы его были под Владивостоком или, уверясь в нашем бездействии, пополняли запасы, чинились, даже просто отдыхали в портах Японии, а суда, оставленные для блокады, ушли в какую-нибудь бухту (временную базу) для погрузки угля?.. Кто знает?..
Во всяком случае, эти демонстративные сборы за сутки до выхода представлялись мне совершенно неуместными… Но дальше дело разыгралось еще хуже.
7 июня, с 5 ч. утра, по сигналу начали разводить пары «Севастополь» и «Полтава», имевшие цилиндрические котлы (старой системы). В 7 1/ч. утра, тоже сигналом, приказано было начать разводку паров всем остальным. Затем опять сигнал: «Приготовиться к походу к 12 ч. дня».
Вскоре после 8 ч. утра получен был гектографированный приказ, в котором адмирал, сообщая радостную весть об окончательном исправлении поврежденных броненосцев и приведении всей эскадры в боевую готовность, призывая на помощь Господа Бога и силы небесные, объявлял о предстоящем выходе в море и начале активных действий. Около того же времени вышел в свет номер местной газеты «Новый Край», в котором этот приказ уже был отпечатан в качестве сенсационной новинки. (Очевидно, по дружбе редактору сообщили его копию еще с вечера.)
В 10 ч. утра совершенно неожиданно флагмана и капитаны были приглашены на «Цесаревич», а в 10 ч. 20 мин. оттуда же был сделан сигнал: «Прекратить пары»…
Что такое? Что случилось? — недоумевающе, почти растерянно спрашивали меня офицеры…
Я-то почем знаю! Подождите командира: вернется — расскажет…
Между судами сновали паровые катера, отбирая только что выпущенный приказ, который велено было «не числить». Одновременно целая армия рассыльных металась по городу и порту, конфискуя злополучный номер «Нового Края»…
Напрасно стараются, — иронизировал минер, злобно поджимая губы. — Японцы, наверное, раньше нас прочли! еще в корректуре!..
Хвалилась синица море зажечь… — грустно молвил ревизор, всегда отличавшийся своими безотрадными взглядами на наше положение.
Не правда ли, как это было похоже на торжественный приказ генерала Куропаткина о переходе в наступление?
Настроение было самое отвратительное.
Вернулся командир. Оказывается, в последний момент передумали, спохватились, что день выбран неудачно, так как полная вода после полдня, и эскадра пока что выйдет в море, на ночь глядя, прямо под минные атаки. Решили обождать дня два-три, когда ночная полная вода придется на рассвете, тогда, благословясь, и тронуться спозаранку…
— Даже и так! Но раньше-то что же думали? Зачем было в колокола звонить? — не удержался я. — Внезапность выхода, какой это был бы огромный шанс в нашу пользу!..
— Знаете: задним умом!.. — пробовал пошутить командир. Но шутка не вышла.
«Мы точно ждем от японцев уведомления, что наше намерение им известно. Точно дразним», — писал я в своем дневнике. — «В 9 ч. вечера (8 июня) привезли циркуляр: быть готовыми к 2 1/2 ч. утра 9 июня, а в полночь сигнал: «Поход отлагается»…
«9 июня в 2 ч. ночи на рейде были японские миноносцы. Можно поздравить — дождались!.. Стреляли все, кому не лень, да что толку?.. Теперь опять будут искать минные банки…»
«Около 2 ч. дня с Ляо-ти-шана донесли, что в море виден отряд крейсеров и миноносцев. Совсем плохо. — Прошли тралами намеченную дорогу в море — чисто… Странно…»
«Для охраны рейда от новых покушений выслали на ночь «Всадник», «Гайдамак» и 8 миноносцев. Но почему не поставить дежурного крейсера? Почему?.. — Около 10 ч. вечера слышали пальбу на рейде. Оказывается, опять приходили японцы, но наши миноносцы вступили с ними в бой и прогнали. Потери и повреждения незначительны: только у «Боевого» изрядная пробоина. Выход окончательно назначен на завтра, с рассветом. Дай Бог, в добрый час! — как говорил Макаров»…
10 июня, в 4 ч. утра, чуть посветлело, начали выходить. Приказано было, в ожидании, пока вся эскадра не соберется на внешнем рейде и не выстроится тралящий караван, долженствовавший идти впереди нее, — становиться на якорь по диспозиции, а именно: пройдя линию затопленных судов, бонов и гальванических мин, круто сворачивать влево (к востоку) и располагаться в двух колоннах, по порядку номеров строя, вплотную к району крепостного минного заграждения. На это место, так близко, под самые пушки береговых батарей, японские заградители никогда еще не забирались; по крайней мере, здесь до сих пор не находили набросанных ими мин. Первой вышла «Диана», как стоявшая в самом горле пролива. Одновременно с ней «Новик». Затем следовали крейсера и броненосцы, начиная с ближайших к выходу.
Придя на свое место (крайнее к востоку), отдали якорь и, так как сбор всей эскадры должен был занять не менее 2–3 часов, дали команде завтракать, пить чай, вообще отдохнуть и проводить время по своему усмотрению, набираясь сил на предстоящий трудовой день. Далеко на горизонте, в направлении SSO, то появлялись, то исчезали неприятельские миноносцы.
Мы, т. е. офицеры, тоже собирались спуститься в кают-компанию, когда с мостика раздался тревожный оклик: «Мина за кормой!»
Действительно, менее чем в 100 саженях позади «Дианы» чернела так хорошо знакомая опоясанная цепочками крышка японской мины заграждения… Вызвали стрелков для ее расстрела (Ружейная пуля или снаряд мелкой пушки вследствие незначительности своей массы не дают мине такого толчка, чтобы она взорвалась, а просто делают пробоину в ее корпусе. Через пробоину вливается вода, и мина тонет, т. е. ложится на дно, где она безвредна.).
Хорошо, что мы не взяли несколько левее, когда подходили к месту! — говорил командир, привычным жестом пощипывая бородку. — Были бы с праздником!..
Спасибо, что всплыла, — в тон ему ответил я, — а то и при съемке, разворачиваясь, можно бы напороться!..
«Цесаревич», выходивший в это время из гавани, вдруг круто бросился в сторону и застопорил машины…
— У «Цесаревича» всплывшая мина под носом! — крикнул сигнальщик…
С «Пересвета», уже ставшего на якорь, донесся сухой прерывистый треск ружейной стрельбы. Очевидно, и он занимался тем же, чем мы…
Суда продолжали выходить на рейд, но с величайшей осторожностью, строго следуя по пути, уже пройденному другими, и, по возможности, тотчас же становились на якорь. Взять несколько сажен вправо или влево — и можно было наткнуться на мину, еще не всплывшую, а верно стоящую на заданной глубине… О соблюдении диспозиции, конечно, не могло быть и речи!..
К 9 ч. утра «всплывших» насчитывали до 5…
— Наше счастье, что они их плохо ставили! — посмеивалсякомандир. — Все всплывают!
— Пять всплыло, а сколько еще стоит?.. — заметил минер. С «Цесаревича» сделали сигнал: «Спустить паровые катера, обследовать промежутки между судами».
Из гавани вышел тралящий караван и начал совершать рейсы мористее эскадры. Там не нашлось ничего. Зато между судами улов оказался богатым: к полдню взорвалось на тралах, всплыло и было утоплено расстрелом 10–11 мин…
Одна была взорвана у нас под кормой так близко (сажен 10–15), что при падении поднятого взрывом водяного столба все находившиеся на юте приняли холодный душ…
А в сторону моря — было чисто…
Эскадра словно нарочно расположилась на минной банке…
— Как это мы прошли по всей линии, ни одной не задевши?.. — недоумевали офицеры…
— Бог пронес!.. — говорили в команде. Многие снимали фуражки и крестились…
В кают-компании за завтраком не слышалось шуток по поводу неудачи японской затеи: не было ни говора, ни оживления… Все как-то хмурились, словно не решались откровенно высказаться… Я думаю, всеми владела одна и та же мысль. Очевидно, мины набросаны либо вчера, либо сегодня ночью, так как раньше здесь было чисто; вполне возможно, что наши прозевали, но почему именно здесь? на том месте, где должна была стать эскадра? Неужели наша наисекретнейшая диспозиция была известна японцам?.. Не хотелось верить… Однако — факт налицо…
— Дрянь дело!.. — неожиданно заявил мой сосед по столу, старший артиллерист, но вдруг замолчал…
И никто не спросил: «почему дрянь?» — все тоже молчали… Полдень. Тралящий караван все бродит и бродит, обследывая дорогу к морю. Далеко на горизонте маячат японские миноносцы. Время идет…
— Очевидно, ждем полной воды, чтобы войти в гавань! Не идти же в море «на ночь глядя»! — слышатся саркастические замечания…
На крейсере и офицеры, и команда ночью почти не спали, а с 3 ч. утра — все на ногах; однако никого не тянет воспользоваться отдыхом, заснуть… Все бродят, озлобленные, недовольные… «Конечно — назад! — Опять на месяц запремся!» — раздается глухой ропот в случайно собирающихся кучках…
Вдруг в 1 ч. дня сигнал: «Записать порядок судов, идущих в море»…
Словно солнце проглянуло. Все ожили; все подбодрились. Молодежь пришла в такой азарт, что даже потребовала шампанского, и один из самых юных представителей кают-компании, с бокалом в руке, декламировал: «Что ж мы? — На зимние квартиры? — Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры о русские штыки?..»
В 1 ч. 40 мин. дня начали служить молебен, но дослушать его не пришлось, так как в 1 ч. 50 мин. по сигналу начали сниматься с якоря, и — «Диана» раньше всех. До выхода в открытое море, вне пределов набросанных японцами минных банок, был указан такой порядок строя: тралящий караван, пара за парой; затем три пары миноносцев второго отряда, тоже с тралами; «Диана», за ней «Аскольд», потом броненосцы и в замке — «Баян» и «Паллада»; «Новику» и первому отряду миноносцев, идущему в составе эскадры, предоставлялось «держаться по способности». Двигались медленно, узлов 6, из-за тралов, которые при большей скорости всплывали.
Настроение личного состава было великолепное.
Наконец-то решились! — Хоть пропадем, так недаром! — Только бы дорваться! — Держись теперь! — слышалось то тут, то там.
Мы во всяком случае лопнем! — торжественно заявлял минер и, в ответ на недоумение окружающих, пояснял, видимо довольный своим mot: — «Диана» идет головным кораблем: она — ведет флот к бою, и ей же — первая мина, которую пропустит тралящий караван. Egro! от мины, или от важности, но мы лопнем!
Кругом смеялись…
В 2 ч. 35 мин. японские миноносцы, набравшись смелости, начали обстреливать наш тралящий караван. На защиту его бросились «Новик» и первый отряд миноносцев, а также открыла огонь «Диана», из 6-дюймовок, через головы своих. Перестрелка продолжалась около 15 минут, а затем японцы, видя безнадежность предприятия, поспешно бежали на SO.
В самый разгар схватки наш судовой священник, иеромонах Гавриил, несмотря на боевую тревогу закончивший служение молебна и обходивший крейсер с крестом и святой водой, вышел на верхнюю палубу…
Какое глубокое, неизгладимое впечатление производила эта мерно и неторопливо движущаяся фигура в зеленой с золотом ризе, стройное пение — «Спаси, Господи, люди Твоя…» — под аккомпанемент выстрелов… взмахи кропила над судорожно вздрагивающими, откатывающимися и накатывающимися пушками, извергающими огонь и смерть… сотни обнаженных голов, склоняющихся, чтобы принять благословение, может быть, последнее… комендоры, на мгновение отрывающиеся от прицела, чтобы приложиться к кресту…
— Молодец, батя! — невольно вырвалось у командира…
Меняя курсы то вправо, то влево, сообразно изгибам пути, проложенного среди мин тралящим караваном (и обозначенного буями), мы шли в общем на SO.
В 3 ч. дня на смену бежавшим миноносцам появились далеко впереди три «собачки», затем один из старых крейсеров (кажется, «Мацусима») и наконец два броненосных крейсера. Никаких попыток воспрепятствовать нашему торжественному шествию они не предпринимали, только поглядывали издали, чем вызвали немало насмешек со стороны наших остряков, утверждавших, что они непростительно зевают, что тут бы им и наброситься, пока мы «кота хороним»…
В 4 ч. 30 мин. дня, считая себя на чистой воде, эскадра остановилась. Тралящий караван начал убирать свои тралы (длинная история), а затем пошел обратно в Порт-Артур, конвоируемый вторым отрядов миноносцев. Эскадра, держась на месте, прикрывала их отступление, а в 5 ч. начала перестраиваться в боевой порядок: одна кильватерная колонна, впереди которой — броненосцы (головной «Цесаревич»), а сзади — крейсера (головной «Аскольд»).
Взяли курс SO 20°, иначе говоря — к Шантунгу.
Строй японской эскадры в сражении с русской 1-й эскадрой Флота Тихого океана в Желтом море. 28 июля (10 августа) 1904 года
В 6 ч. 40 мин. вечера впереди и влево от курса, примерно на SO, увидели главные силы японского флота, шедшие нам на пересечку. Они были почти в полном составе: 4 броненосца, в одном отряде с которыми шли «Кассуга» и «Ниссин», 2 броненосных крейсера, «Чин-Иен», предводительствующий тремя старыми крейсерами, «собачки», другой отряд легких крейсеров и миноносцы. Этих последних в ближайших отрядах мы могли насчитать 18, но за ними виднелись еще довольно многочисленные дымки…
— Все тут! — Даже «Чин-Иен» вытащили! — Еще бы! — С нашими секретными сборами! — За четыре дня хоть из-под Владивостока могли вызвать! — Будет игра! — перекидывались офицеры отрывочными замечаниями.
Но, повторю опять, настроение было прекрасное: бодро и весело ждали решительного боя.
Ночью, братец мой, дыхнуть не дадут! Живи при своей орудии, как знаешь! Запасай провиант с вечера! — шутили матросы, укладывая за пазуху сухари и разнося по орудиям чайники с чаем…
Чтобы содовая и сельтерская были во всех плутонгах!
Хлеб и закуски — тоже! — хлопотал содержатель кают-компа нии…
В 7 ч. вечера пробили боевую тревогу.
Эскадры сближались…
Неожиданно «Цесаревич» круто повернул влево, почти на обратный курс… За ним — вся колонна… Главные силы японцев не погнались за нами, но продолжали идти прежним курсом. (Может быть, они не верили? Подозревали какую-нибудь ловушку?)
В 7 ч. 50 мин. вечера в наступающих сумерках мы потеряли их из виду. Они ушли куда-то на запад.
Мы сначала тоже не верили, но чем дальше, тем очевиднее становилась истина: эскадра возвращалась в Порт-Артур, бежала, едва завидев неприятеля…
— Что такое? — Что случилось? — Да как же так?.. — слышались растерянные, недоумевающие голоса…
Однако гадать было некогда. Приходилось действовать. Главные силы неприятеля скрылись на западе, но зато его миноносцы (теперь мы насчитывали их до 30) рассыпались по горизонту, вне дальности наших выстрелов, и спешили справа и слева обойти нас, выйти на курс, конечно, для атаки…
В момент поворота эскадра находилась в 23 милях от Порт-Артура. Быстро темнело. Большая часть миноносцев обходила нас с востока, т. е. справа, а меньшая — слева. Не помню как (у меня не записано) — сигналом, телеграфом или как-нибудь иначе отдано было приказание, но только крейсера («Аскольд», «Баян», «Паллада» и «Диана»), увеличив скорость, вышли вправо от броненосцев, а «Новик» и миноносцы — влево от них. Наше назначение было очевидно: принять на себя минную атаку и уберечь от нее главные силы. Погода благоприятствовала — ясная, тихая ночь и луна в первой четверти. Не очень светло, но все же кое-что видно.
Вскоре же, как погасла заря, начались атаки. Трудно анализировать и записывать свои впечатления в такой обстановке, особенно когда переживаешь ее впервые (потом привыкаешь). В моем дневнике кратко отмечено: «Полчаса бешеной канонады. Молодцы японцы. Лезли, очертя голову. Верно — попало. Ушли. У нас все целы. 9 ч. 35 мин. вечера — стали на якорь».
Главная опасность этого плавания была не со стороны неприятельских миноносцев — от них все же можно было отбиваться, — но ведь мы возвращались не только без тралов впереди, но даже не той дорогой, которой шли днем, и каждое мгновение могли наткнуться на минную банку!..
«Бог пронес» и на этот раз… Только «Севастополь» «ткнулся», да и то счастливо справился с пробоиной и мог продолжать плавание совместно с другими.
Стали на якорь на внешнем рейде Порт-Артура без сигнала, без диспозиции, как-то по вдохновению, но очень удачно.
Суда эскадры оказались расположившимися в две линии, полумесяцем, один конец которого приходился между Золотой и Крестовой горами, другой — под горой Белого Волка.
Тотчас поставили сети и приготовились к отражению минных атак на якоре. Они не замедлили.
Странно, что японцы ни разу не попробовали произвести массовой атаки, но нападали отрядами в 4–5 миноносцев. Та же ошибка, что и 26 января.
Между тем мощные крепостные прожекторы, расположенные на флангах нашей линии, образовывали своими лучами такую световую преграду, сквозь которую никто не мог прорваться незамеченным, и каждый отряд, пытавшийся это выполнить, еще с дальней дистанции (5–6 миль) попадал под сосредоточенный огонь всей эскадры. Конечно, теория, по которой отражение минной атаки всецело возлагалось на среднюю и мелкую артиллерию, была забыта, и башенные орудия броненосцев расточали свои драгоценные сегментные снаряды наравне с 6-дюймовками… Какова была сила этого огня? Что творилось в той зоне, по которой двигались японские миноносцы? — вряд ли могут рассказать даже те, которые на них были… Люди, находившиеся на берегу, в полной личной безопасности наблюдавшие это зрелище, не могли найти достаточно сильных слов, достаточно ярких образов, чтобы передать свое впечатление…
— Ну, как я вам объясню? — почти сердился почтенный капитан крепостной артиллерии, с которым я встретился через 2–3 дня. — Просто видно всю эскадру, так она освещается вспышками собственных выстрелов, а там, где миноносцы, там от разрывов снарядов светлее, чем от прожекторов…
Очевидно, такой обстановки не выдерживали даже и японские нервы. В этом аду секунды казались минутами, утрачивалось всякое представление о времени и пространстве…
По определению дальномеров береговых батарей, ни один миноносец не подошел к эскадре ближе 3 миль (с такой дистанции мины оказывались недействительными), а ведь, несомненно, они были уверены, что стреляют почти вплотную на верный минный выстрел, на расстояние нескольких кабельтовых… (На следующий день 5–6 мин Шварцкопфа было подобрано на рейде. А сколько их затонуло или было унесено в море течением?)
Особенно энергично повелись атаки после того, как в 2 ч. 10 мин. ночи зашла луна. В моем дневнике отмечено: «2 ч. 30 мин. — какая-то вакханалия огня! — 3 ч. 10 мин. — отбиты, ушли».
Последняя попытка имела место в 3 ч. 30 мин. утра, а затем рассвет положил конец тревожной ночи.
Какие потери понесли японцы? — кто знает?.. Они умели хранить свои секреты…
Любопытное наблюдение (тоже подлинная выписка из дневника): «Во время минных атак, когда действовали одним бортом, у орудий другого борта прислуга спала и храпела». Что это было? — усталость или привычка?..
В горячке боевой обстановки некогда было много раздумывать над совершавшимися событиями: приходилось действовать с полным напряжением всех духовных и физических сил… рассвет, исчезновение неприятеля дали досуг, дали возможность оценить положение…
Если не у всех, то у многих сохранилась еще в сердце смутная надежда, что «это» не окончательно, что это только на ночь укрылись под защиту крепостных прожекторов…
Не без ума было сделано! — толковали оптимисты. — Благодаря световой преграде все атаки отбили благополучно. Не говоря о потерях в минной флотилии, которые, конечно, есть, — их миноносцы уголь сожгли, мины расстреляли. Теперь должны все это пополнить. Значит, одну или даже две ночи в море нам обеспечено относительное спокойствие.
Эскадренный броненосец «Цесаревич»
— Хорошо, коли такой расчет был, — возражали скептики, — а если просто… удрали?
Но их не слушали, на них даже набрасывались с упреками… Так страстно хотелось всем верить, что разорвана наконец «великая хартия отречения», что мы «ищем» решительного боя…
В 5 ч. утра 11 июня сигнал «Цесаревича» — «Войти в гавань» — разрушил последние иллюзии…
Словно тень смерти легла на крейсер… Офицеры, которые еще так недавно, несколько минут тому назад, несмотря на 30 часов, проведенных без сна и отдыха, выглядели оживленными, почти веселыми, шутками и дружеским словом подбадривали команду, — вдруг устали… Лица как-то сразу осунулись и потемнели…
На сторожевом месте, в проходе, на смену «Диане» приказано было стать «Палладе», мы же вошли в Западный бассейн и ошвартовались на бочках. Маневр был выполнен хорошо, но как-то автоматически, по привычке, без огонька, без стремления блеснуть перед соседями «морским шиком»…
Пришли и — стали… Не все ли равно как?..
Аврал кончился в 11-м часу утра. За завтраком ели мало, говорили еще меньше и затем поспешно разошлись по каютам.
— Хоть бы заснуть! — думал я, бросаясь на койку…
Но сна не было… От переутомления или от чего другого?..
Несвязные мысли… Нет! не мысли, а какие-то обрывки мыслей теснились в голове… Отдельные слова, фразы, смутные образы… — Удрали!.. Отступили без боя!.. Утром — Бог пронес; вечером — Бог пронес; ночью — Бог уберег… А сами-то что же?..
Мне казалось, что в этот день бесповоротно решилась судьба Артурской эскадры…
На берегу японцы продолжали свое наступление.
13 июня они продвинулись уже до Лунвантана. Атаку поддерживал отряд миноносцев, обстреливавший наши позиции с моря фланговым огнем. Чтобы прогнать его и самим взять во фланг сухопутные войска неприятеля, от нас выслали «Новик», «Отважный», «Бобр» и миноносцы. Японские миноносцы первоначально ретировались, но вскоре же на поддержку им появились три легких крейсера. В ответ с нашей стороны выпустили «Палладу» и «Диану». Неприятель не пожелал вступить в бой и поспешно удалился.
К вечеру возвратились в гавань.
Мореходная канонерская лодка «Отважный»
Ночью была оживленная стрельба по японским миноносцам, прибегавшим на рейд с очевидной целью набросать мин, чтобы помешать выходу судов эскадры для поддержки сухопутных войск.
14 июня повторилось то же, что накануне. С рассветом «Гиляк», «Отважный», «Гремящий» и миноносцы вышли в море обстреливать позиции неприятеля, укрепившегося на высотах к востоку от Лунвантана. В качестве прикрытия, на случай появления японских крейсеров, дослали «Диану» с приказанием держаться на внешнем рейде в полной готовности подать помощь канонеркам. На рейде нашли 15 плавающих деревянных салазок, на которых японские миноносцы сбрасывают мины заграждения.
Это были результаты их ночного посещения. Тралящий караван не выходил. Тралили своими средствами — паровыми катерами с «Дианы», но удалось выловить только две мины. С утра на горизонте появлялись какие-то силуэты, а в 9 ч. можно было различить «Акаси», «Сума», «Акицусю» и флотилию миноносцев — штук 10. После И час. пошел проливной дождь. Горизонт сузился до 1–2 миль. Поставили сети и приготовились к отражению минной атаки, как ночью или в тумане. В 3 ч. дня получено было приказание: в гавань не входить, ночевать на рейде, как при Макарове, на месте, устроенном для дежурного крейсера под прикрытием затопленных судов. Наконец-то решились! 2 '/2 месяца пустовала эта позиция, обеспечивавшая от слишком дерзких покушений хотя бы часть рейда, непосредственно прилегающую ко входу!..
К вечеру дождь перестал, но небо было покрыто густыми тучами, и с заходом солнца наступила непроглядная тьма. Японцы, конечно, видели, что крейсер не вошел в гавань, и не замедлили попытать счастья.
В 9 ч. вечера два японских миноносца, поставив на мачтах характерные четырехугольные паруса китайских джонок и тем обманув бдительность крепостных прожекторов, успешно подобрались к нам, идя вдоль берега, со стороны Ляо-ти-ша-на. Как только мы осветили их собственными прожекторами (В луче собственного прожектора, с корабля, можно обнаружить миноносец, в зависимости от погоды, только с расстояния от 1? до 2 миль.), обман обнаружился. Встреченные огнем «Дианы», миноносцы сбросили свои фальшивые паруса и ринулись в атаку. Какой это был поразительно красивый момент, когда они, ярко освещенные лучами прожекторов, разворачивались бортом, чтобы выпустить мины! Особенно один, приблизившийся на дистанцию меньше 15 кабельтовых… Я совершенно отчетливо видел, как два наших шестидюймовых снаряда попали в него: один — позади труб, другой — у ватерлинии под мостиком. Последний, видимо, нанес серьезные повреждения — миноносец, на глаз заметно, получил дифферент на нос и замедлил ход…
— Ловко! Ишь, как запахал носом! — не удержался от радостного восклицания стоявший рядом со мной сигнальщик.
Некоторые утверждали, что на другом миноносце во время его отступления удачный снаряд произвел взрыв собственных мин, и он затонул. То же говорили и наблюдатели с Золотой горы.
В самый разгар схватки из двух наших шестидюймовок, которые могли действовать по неприятелю, — одна внезапно прекратила огонь. — Что такое? — Оказывается (писать обидно) — при вкладывании заряда рассыпалась плохо связанная пачка пластинок бездымного пороха; пластинки вывалились в беспорядке из гильзы в зарядную камору и нагромоздились перед дном снаряда, вследствие чего гильза не доходила до места и замок не запирался. Очистить камору с казенной части рукой, палкой или крючком — не удавалось. Пришлось разряжать пушку с дула, выталкивая разрядником сам снаряд, плотно севший в нарезы!..
— Ну и скорострельные пушки! — не утерпел я, чтобы не уязвить ни в чем не повинного старшего артиллериста.
Он только пожал плечами:
— Система снаряжения патронов, герметическая крышка гильзы, которая снимается только перед самим заряжанием, — все это не я выдумал. Разработано и утверждено техническим комитетом. Может быть, в бою каждый патрон, раньше чем посылать в пушку, вскрывать, осматривать и ощупывать? — Конечно, так и придется наперед делать, но только это не в пользу скорострельности!..
Для сторожевой службы крейсеров установлен был такой порядок: трое суток — на рейде, трое суток — в проходе и трое суток — в бассейне на отдыхе. Конечно, слово «отдых» надо было понимать условно, только как преимущественное перед сотоварищами право на отдых. Если предпринималось какое-нибудь действие всем крейсерским отрядом совместно — отдыхавший шел наравне с другими.
Погода испортилась. Частые дожди и туманы. Ветра от SO, не особенно свежие, но всегда с крупной зыбью, сильно мешавшей работе тралящего каравана.
В течение нескольких дней японцы не показывались и только 20 июня в последнюю ночь дежурства «Паллады» (сменившей нас 17 июня) произвели на нее минную атаку, а в ночь на 21 июня атаковали одинаково безуспешно «Баян», занявший ее место.
20 июня утром благополучно вернулся миноносец «Лейтенант Бураков», которого посылали в Инкоу с донесениями. Несомненно, что обратным рейсом он привел какие-то приказания от главнокомандующего, так как находился в отсутствии четверо суток, а при его скорости пробег в один конец мог быть выполнен в течение одной ночи.
Не могу не остановиться на одной подробности, связанной с этим эпизодом, подробности, может быть, и маловажной, но весьма характерной.
Миноносец «Лейтенант Бураков» уже второй раз удачно прорывал блокаду, второй раз давал осажденной крепости возможность непосредственных сношений с главными силами армии.
В статуте ордена Св. Георгия весьма определенно сказано, что им награждается тот, кто, прорвавшись сквозь линии неприятеля, доставит главнокомандующему важные сведения. Вряд ли сведения, которые доставлял «Лейтенант Бураков», были неважными; вряд ли он занимался перевозкой дружеской корреспонденции, не имеющей большого значения… Таким образом, дважды был выполнен им подвиг, указанный статутом. И однако командир его получил из рук адмирала Витгефта только Владимира 4-й ст. с мечами, да и то с пояснением значительности этой награды, которую надо еще оправдать дальнейшей службой… А между тем по приказам все мы хорошо знали о том дожде боевых отличий, который сыпался на лиц, непосредственное участие которых в делах против неприятеля было более чем сомнительно…
20, 21 и 22 июня, ежедневно, с утра «Новик», канонерки и миноносцы, с тралами впереди, ходили обстреливать берег между бухтами Лунвантан и Сикау. На случай, если бы им вздумали помешать японские крейсера, весь наш крейсерский отряд держался под парами в полной готовности немедленно идти на выручку. Однако же услуги наши ни разу не потребовались. Почему-то неприятельский флот даже не пробовал отогнать наш слабый отряд, причинявший серьезные затруднения его сухопутным войскам и много способствовавший их, хотя и кратковременному, отступлению.
Вечером 22 июня при возвращении «Новика», канонерок и миноносцев с береговых батарей им кричали «ура!», играли встречу.
Три дня ненастья, исключавшего всякую возможность каких-либо активных действий, а затем мы опять зашевелились. 25 июня — новый поход канонерок и миноносцев против левого фланга японцев. Дежурным стоял «Аскольд», но, кроме того, на всякий случай выслали на рейд еще и «Диану».
На горизонте в расстоянии около 10 миль смутно вырисовывались силуэты трех судов — кажется, «Мацусима», «Ицукусима» и «Хасидате», — ничего не предпринимавших для того, чтобы помешать «работе» наших. Только отряд миноносцев около 3 ч. дня сблизился с ними и завязал артиллерийскую перестрелку, да и тот, встреченный огнем канонерок, поспешил удалиться. Тем временем пароход «Богатырь», приспособленный под минный транспорт («Амур», стоя в доке, еще чинил свою пробоину), ставил заграждения в бухте Тахэ.
С крейсера на его работу посматривали косо…
— Если забрасывают минами Тахэ, значит, подготовляют отступление с Лунвантанских высот, а значит — и с Зеленых гор, и с Волчьих гор… Дрянь дело — осада вплотную! — сумрачно переговаривались между собой офицеры.
26 июня — большой выход: «Новик», миноносцы, все крейсера 1-го ранга и даже «Полтава». В 9 ч. 20 мин. утра, выстроившись торжественной процессией, с тралящим караваном впереди, тронулись в путь к Лунвантану. На горизонте, так далеко, что опознать трудно, виднелись какие-то большие суда, а ближе — отряды миноносцев. Последние пытались было напасть на тралящий караван, но под огнем крейсеров быстро, врассыпную, бросились наутек. Подойдя к назначенному месту, «Полтава» стала на якорь в восточной части бухты Тахэ; крейсера продвинулись за Лунвантан, но не пошли дальше, так как здесь по ночам с одинаковым усердием ставили мины и наши, и японцы, а миноносцы выскочили вперед, почти до Сикау. Около 2 ч. дня начали обстреливать фланговым огнем японские сухопутные позиции. Стрельба корректировалась с берега, откуда нам семафором сообщали, как ложатся наши снаряды.
Неприятель забеспокоился. Его суда, раньше чуть видные на горизонте, приблизились на дистанцию 55 кабельтовых и завязали с нами перестрелку. Это оказались — «Мацусима», «Ицукусима», «Хасидате» и отряд канонерок и миноносцев. Подойти ближе, видимо, не решались. Казалось, что которому-то из крейсеров «Баян» удачно закатил в корму своим 8-дюймовым снарядом; были и другие попадания… По крайней мере, очень скоро они ретировались на дистанцию 7–8 миль. «Богатырь» опять орудовал в бухте Тахэ, забрасывая ее минами…
Невольно являлось подозрение, что весь «большой выход» предпринят с единственной целью — прикрыть эту операцию…
Плохой признак! Но были и другие, еще хуже… Из арсеналов крепости приняли винтовки на всю команду (по штату, на кораблях вооружены винтовками только матросы и строевые квартирмейстеры; специалисты — комендоры, гальванеры, минеры, рулевые, сигнальщики — снабжены револьверами, а машинисты и кочегары вовсе не имеют оружия.) и всех, до писарей и кочегаров включительно, обучали ружейным приемам, стрельбе и штыковому бою. Согласно существовавшим положениям, размер судового десанта определялся условием, чтобы при свозе его на берег корабль мог идти полным ходом и действовать всей артиллерией одного борта, т. е. — машинная команда и специалисты всех родов на своих местах, а из числа простых матросов налицо половина. Для Артурской эскадры, явно готовившейся совместно с гарнизоном крепости к долговременной тесной осаде, были объявлены новые правила. По сигналу — «свезти десант» — свозилась на берег вся строевая команда и половинное число офицеров, а по сигналу — «свезти резерв» — съезжали и все прочие. На корабле оставались только старшие специалисты — офицеры и нижние чины — числом около 40, задачей которых было по мере возможности действовать судовой артиллерией, а в критический момент уничтожить корабль, чтобы он не достался в руки победоносного неприятеля… Печальные перспективы!..
IX Служба в охране. — Зловещие признаки деморализации. — Июльские бои за Лунвантан и Зеленые горы. — Тяжкая утрата для нашего крейсера. — Начало тесной осады. — Сюрприз со снарядами. — Флот на сухопутном фронте…
26 июня как раз наступала наша очередь дежурства, а потому после «большого выхода» мы («Диана») остались на рейде.
Господствовала типичная погода жаркого и дождливого сезона субтропического пояса: облачное небо; не так знойно, как душно; воздух насыщен парами; прожекторы дают мутный, молочно-белый луч, который не столько освещает отдаленные предметы, сколько слепит глаза и мешает видеть; наши — 60 s/m — с трудом брали на 12 кабельтовых, и даже крепостные — 90 s/m — не хватали дальше 2 1/2 миль.
Дежурство выдалось крайне беспокойное. Видимо, рассерженные нашими выходами, японцы, пользуясь благоприятной погодой, каждую ночь появлялись на рейде, забрасывая его минами и производя атаки на крейсер.
27 июня они только приглядывались и ближе 30 кабельтовых не подходили. Соединенным огнем крейсера, «Гиляка» и береговых батарей их без труда отгоняли. Зато следующей ночью два миноносца произвели лихую атаку и, несмотря на то что были открыты с расстояния около трех миль, выпустили свои мины с дистанции 15 кабельтовых.
Утром близ крейсера выловили две не затонувшие мины Уайтхеда, очевидно, из числа предназначавшихся для нас (самодвижущаяся мина Уайтхеда имеет автоматическое приспособление, при посредстве которого, не попав в цель, тонет, чтобы не достаться в руки неприятеля). С нашей стороны видны были хорошие попадания снарядов. Уйти миноносцам удалось, но, несомненно, не без потерь и повреждений.
В ночь на 29-е атака была повторена, но также безрезультатно, а нам, кажется, посчастливилось: видно было, как один из миноносцев, находясь от нас в расстоянии 22 кабельтовых, вдруг остановился и начал медленно (ясно, что машинами) разворачиваться на обратный курс; море около него так и кипело от падающих и рвущихся снарядов… Затем мы увидели огромное облако густого, черного дыма, как при взрыве меленитовых мин, после чего — как ни искали прожекторы — найти миноносца не могли. Возможно, что погиб. Остальные ушли.
Говорю — «возможно» — не решаюсь высказаться категорически потому, что, как выяснил опыт войны, в ночных боях очень часто «мерещится» то, что хотелось бы видеть, и притом «мерещится» не единичному человеку, а сразу многим. Что это? — массовый самогипноз, массовая галлюцинация? — пусть решают специалисты, но сам факт не подлежит сомнению. Примеры подобного рода засвидетельствованы не только с нашей стороны, но и со стороны нашего противника. Так, в «Chefoo Press», номера которой часто доставлялись в Порт-Артур китайцами, прорывавшими блокаду на своих шампунках, мы в течение июня и июля читали о троекратной гибели «Дианы» вследствие удачных минных атак. В одном из этих случаев картина нашего потопления была описана весьма подробно. Не могу допустить, чтобы командиры японских миноносцев посылали своему начальству заведомо ложные донесения, тем более что через своих шпионов это начальство могло легко их проверить, если не на другой же день, то, во всяком случае, дня через три. Несомненно, не только командиры, но и многие из числа экипажа миноносцев искренне верили, что трижды были свидетелями гибели «Дианы».
Однако же я отвлекся от изложения хода событий.
29 июня наше место на внешнем рейде заняла «Паллада», а мы перешли на сторожевой пост в проходе.
День 30 июня ознаменовался первой попыткой японцев помешать работам нашего тралящего каравана. Около 1 ч. пополудни, когда караван был милях в четырех от берега, его атаковали артиллерийским огнем пять неприятельских миноносцев. Беззащитные пароходы, конечно, вынуждены были, бросив тралы, отступить под прикрытие орудий береговых батарей и сторожевых судов. Нескольких выстрелов с «Паллады» и «Бобра» было достаточно, чтобы охладить пыл миноносцев и заставить их удалиться на приличную дистанцию.
В ночь на 1 июля японцы произвели минную атаку на «Палладу», но опять безуспешно. По-видимому, это была последняя их попытка утопить дежурный крейсер, и с этого времени, убедившись в бесплодности и убыточности таких предприятий, они появлялись по ночам на внешнем рейде с единственной целью — забрасывать его минами.
Со своей стороны, кой-чему научившись на горьком опыте, мы переняли их приемы, устроили на своих миноносцах необходимые приспособления и по ночам посылали их ставить минные банки на тех местах, где днем обычно появлялись суда, державшие блокаду Порт-Артура. Такой выпад, конечно, не остался не замеченным нашим энергичным и наблюдательным противником, и он тотчас же занялся систематическим тралением того пространства, где мы набрасывали свои мины и которое находилось вне сферы огня береговых батарей и сторожевых судов.
В предотвращение возможности таких случаев, какой имел место 29 июня, для зашиты тралящего каравана от безнаказанных нападений мы, со своей стороны, начали высылать его под охраной 2–3 канонерок и отряда миноносцев. Японцы сделали то же по отношению к своим. В результате в течение всего июля можно было ежедневно наблюдать с берега довольно странное, даже забавное, зрелище: наш тралящий караван, разыскивающий мины, набросанные японцами; в кильватер ему, на пространстве, уже пройденном тралами, — наши канонерки; несколько мористее этой процессии — наши миноносцы; дальше, на расстоянии 15–20 кабельтовых от них и на пределах дальности огня батарей и сторожевых судов — японские миноносцы; еще дальше — японский тралящий караван, разыскивающий мины, набросанные нами, и при нем — японские канонерки и легкие крейсера, его охраняющие. Иногда миноносцы, видимо, соскучившись, сближались, дразнили друг друга, завязывали на дальней (для их условий боя) дистанции перестрелку, которая, однако же, никогда не переходила в серьезную схватку; потом — опять расходились… Иногда японцы «нарывались». Думая, что на рейде стоит «Аскольд», «Паллада» или «Диана», беспечно разгуливали на дистанции от 55 до 60 кабельтовых, и вдруг оказавшийся в дежурстве «Баян» начинал подбрасывать им сегментные снаряды из своих 8-дюймовок. Переполох и поспешное отступление. На сторожевых судах — смех, шутки… Все-таки маленькое разнообразие!
Очередь дежурства сразу же нарушилась. 2 июля нас, на нашем месте в проходе, должна была бы сменить «Паллада», но у нее оказались какие-то неотложные работы, и она вошла в Западный бассейн, а мы остались по-прежнему на сторожевом посту. 5 июля — опять почему-то смена не состоялась, а 9-го — вышли в дежурство на внешний рейд, на котором находились не трое, а четверо суток.
За эти дни (особенно с 6 по 12 июля) — почти беспрерывно дожди, туманы, грозы; только изредка и ненадолго сносная погода.
16 июля наши миноносцы, в числе 14, ходили в ночную экспедицию. Куда и зачем — осталось нам неизвестным.
16 июля, в 10 ч. 45 мин. вечера, показалась в лучах прожекторов китайская джонка, шедшая с моря, прямо и смело, ко входу на внутренний рейд. Открыли огонь. Джонка некоторое время упорно держала старый курс, а затем кинулась в сторону и выбросилась на каменистый риф, идущий от Золотой горы (Lutin rock). Около 2 ч. ночи появлялись ненадолго какие-то миноносцы, быстро удалившиеся, как только по ним начали стрелять с батарей.
10 июля прибыл на «Диану» начальник крейсерского отряда. Накричал, нашумел, разнес нас в пух. Оказывается, мы расстреляли джонку, везшую почту из Чифу!.. Совершенно ясно, что раз такая джонка ожидалась, начальство обязано было снабдить ее условным опознавательным сигналом и предупредить о том дежурный крейсер, без чего этот последний не только не имел права позволить ей беспрепятственно войти в гавань, но даже и подойти на дистанцию минного выстрела. А если бы это оказалась японская штука? Если бы на джонке были минные аппараты? Если бы, наконец, сама она представляла собою мину-брандер с сотней пудов меленита или шимозы?.. Конечно, каждый из офицеров имел полное право, слушая начальство, думать про себя: «Юпитер, ты сердишься, — значит, ты не прав», — и громовой разнос, конечно, не следовало принимать близко к сердцу. Я мог бы даже вовсе опустить этот эпизод, как не представляющий для читателей интереса. Но тут было другое: меня поразило не спокойствие, а пренебрежительное равнодушие, которым был встречен незаслуженный выговор… словно скользнуло, не задев никого…
За завтраком один из мичманов сделал было замечание о несправедливости, о «сваливании с больной головы на здоровую…», но тотчас же был остановлен резким замечанием соседа: «Брось! не стоит говорить! чего еще ждать!» — и замолчал. Кругом все тоже молчали, и я вдруг понял, что в хлопотах и заботах распорядка внутренней судовой жизни, вся тяжесть которого лежит на старшем офицере, проглядел что-то страшно важное. Внезапно всплыли в памяти разные случаи, которым до того, в служебной суете, я не придавал особого значения. Вспомнилось, как однажды в кают-компании, с целью поднять настроение, я стал говорить о слухах, ходивших на эскадре, относительно нашего нового выхода в море, для решительного боя. По этим слухам, источником которых называли штаб командующего эскадрой, выходило, что 11 июня мы вернулись в гавань единственно вследствие пробоины, полученной «Севастополем», что как только его починят — будет бой, а починка идет успешно и т. д. Мне не возражали, и только под конец один из ближайших соседей произнес тихо, словно про себя: «Что и говорить!.. Сами-то вы этому верите?..» — Вспомнился нечаянно подслушанный, при неожиданном входе в кают-компанию, отрывок разговора — «…что его спрашивать! Конечно, по «долгу службы и присяги» начнет выгораживать начальство! Сам…» С моим появлением разговор резко оборвался, но теперь я понял, что речь шла обо мне. Вспомнилось и многое другое — все мелочи, но характерные…
Да! Несомненно!.. Со мной избегали говорить о совершающихся событиях, заранее не доверяя искренности моих отзывов. И это у нас! на «Диане»! в нашей тесно сплотившейся кают-компании! Дружба, зародившаяся и окрепшая в боевой обстановке, не устояла перед ярлыком с надписью «начальство», под которым, до известной степени, числился и я…
Попытаться заговорить с ними вполне откровенно? Забыв обязанность — всеми мерами способствовать поддержанию престижа высших властей, — высказать все, что у самого камнем лежало на сердце? В поисках за популярностью пуститься в бесполезную, только раздражающую критику распоряжений, изменить которые все равно невозможно?.. Думаю, что таким приемом я не достиг бы цели (ярлык сидел слишком крепко), — но утратил бы то, чем больше всего дорожил, — их уважение… А «это» еще могло пригодиться в бою.
Передо мной была картина полной деморализации. От дисциплины осталась только внешность — чинопочитание, но внутренний смысл её — доверие, из которого проистекают и преданность, и самоотвержение, и самопожертвование, в котором залог единства и силы духа, т. е. залог успеха, — окончательно утратился. И если таково было настроение в среде офицеров, то, несомненно, хотя бы отчасти, оно проникало и в массы… Что ж это сулило в будущем?
История дала свой ответ.
В последние дни осады на позициях числилось около 9000 человек, годных к бою, а по сдаче крепости японцы зарегистрировали, в качестве пленных, кроме больных и раненых, 23 000 воинских чинов всех наименований, вполне здоровых.
Я не был пророком и, конечно, в то время не мог предвидеть того, что случится, но под гнетом тяжелых дум вдруг так ярко вспомнился один разговор за первые дни войны.
Говорили о внезапном нападении японцев.
Измена! Измена! — упорно твердил мой собеседник.
Полноте! — пытался я его урезонить. — Что ж вы думаете? Подкупили, что ли?
Ах, не все ли равно! — горячо возражал он. — Подкуп, личный расчет, злоба, самомнение, даже просто глупость…
Может быть, я ошибался, но мне казалось, что эта мысль, хотя бы и не в такой резкой форме, распространялась все шире и шире… Она чудилась мне в этой странной замкнутости, в этой молчаливости и сдержанности на глазах у «начальства»…
11 июля около 3 ч. ночи (стоя в дежурстве) услышали оживленную пальбу по направлению к востоку, как будто в Тахэ, где ночевали сторожевыми судами миноносцы «Боевой», «Грозовой» и «Лейтенант Бураков». Сами ничего не видели из-за погоды — не то туман, не то изморось. С рассветом обстоятельства дела выяснились. Обстоятельства довольно печальные. Японские миноноски, вернее даже, минные катера, пользуясь благоприятными условиями погоды, не замеченные патрулями сухопутных войск, удачно пробрались в Тахэ по самому мелководью и атаковали наши миноносцы из-под берега, откуда, казалось бы, никак нельзя ждать нападения… «Грозовой» — уцелел; «Боевой» — получил огромную пробоину — разворочена вся передняя кочегарка, но главное, «Бураков», наш единственный скороход, был почти разорван на две части и затонул… С его гибелью мы лишились единственного сколько-нибудь верного средства сношений с главнокомандующим через Ньючванг.
Утром, 11 июля, под охраной «Новика», канонерок и миноносцев отправились в Тахэ все портовые спасательные средства. Около 8 ч. провели мимо нас на буксире кормой вперед «Боевого», обмотанного пластырями. На спасение «Буракова» надежды не было. Только что вся процессия зашла в гавань, надвинулся туман, как молоко.
12 июля нас, наконец, сменили с дежурства. Войдя в Западный бассейн, обрадовались, словно в рай попали. Флотские, стоявшие в дежурстве на две вахты, мечтали отоспаться и отдохнуть; механики, усиленно отсыпавшиеся на рейде в ожидании приказа дать ход, собирались «навалиться» и поработать, прибраться у котлов, кое-что пересмотреть и перебрать в наших многострадальных машинах… Не тут-то было! Утром 13 июля сигнал: «Ретвизану», крейсерам, миноносцам, развести пары»…
Миноносец «Беспощадный» в Порт-Артуре. 1904 год. Обратите внимание на обгоревшие края кормовой трубы корабля — свидетельство того, что котлы миноносца часто работали на полную нагрузку
Механики, уже приступившие было к «разложению машин на составные элементы», заметались (как говорят на флоте, «запороли горячку»), но, надо им отдать справедливость, оказались на высоте положения: мы опоздали выходом, против нормы, не более получаса. В 1 ч. 30 мин. пополудни, придя на внешний рейд, застали здесь «Аскольд», «Баян» и «Палладу», стоявшие на якоре с откинутыми сетями. Погода — перемежающийся дождь, временами суживавший горизонт до 1–2 миль, — давала мало надежды на то, что экспедиция состоится. Вероятно, руководствуясь этим соображением, начальник отряда раньше, чем мы успели занять свое место по диспозиции, сделал нам сигнал «возвратиться в гавань». Вернулись. Уходя, видели, как остальные убирали сети. Только что ошвартовились к бочкам, на своем старом месте, в Западном бассейне, — как вдруг разъяснило, и крейсера, уже снявшиеся с якоря для того, чтобы входить в гавань по сигналу с Золотой горы, пошли к Лунвантану обстреливать неприятельские позиции.
Нам это показалось обидно. Точно нами пренебрегли, не захотели взять с собою!.. — Командир поехал к адмиралу объясняться. Вернулся успокоенный, заявил, что сам наш выход был недоразумением, что нам дается трое суток полного отдыха для приведения в порядок котлов и механизмов. В самом деле — по роковому стечению обстоятельств «Диана» за весь минувший месяц не имела ни одного спокойного дня: то на рейде, то в проходе, а чуть в гавань — общая для всего крейсерского отряда экспедиция. Все мы были так уставши, что это распоряжение приняли как милость, нисколько не завидуя тем лаврам, которые могли пожать наши сотоварищи.
А время было серьезное.
13 июля японцы повели энергичное наступление по всей линии сухопутного фронта, причем на обоих флангах их поддерживали с моря канонерки и легкие крейсера. Под первым натиском наши отступили. Говорили, что некоторые позиции очистили по недоразумению, почти без боя. Когда появились «Аскольд», «Баян» и «Паллада», разогнавшие мелочь, наседавшую на наш правый фланг, обстоятельства круто изменились, да и счастье как будто повернулось к нам: в перестрелке на дальней дистанции «Баяну» удалось закатить 8-дюймовый снаряд в «Ицукусиму»; одна из лодок, видимо, подбитая, поспешно ретировалась; крейсер «Чийода» наткнулся на мину, и хотя не затонул, но в самом плачевном положении был отведен на буксире в Талиенван (чиниться в доке г. Дальнего).
Крейсера возвратились в Порт-Артур около 7 1/2 ч. вечера. Полуофициально сообщалось, что все первоначально очищенные нами позиции вновь перешли в наши руки.
В течение всей ночи со стороны сухопутного фронта доносился смутный гул канонады. К рассвету он усилился. Дождь прекратился; туман рассеялся, и около 6 ч. утра, 14 июля, в помощь сухопутным войскам вышли в море канонерки, крейсера и «Ретвизан». Японцы возобновили наступление с новыми силами. Наши, ободренные вчерашней удачей, не сдавали. Около 11 ч. утра, своим мощным ревом покрывая все звуки боя, заговорили 12-дюймовки «Ретвизана». С какой любовью их слушали! Какими добрыми, сердечными пожеланиями сопровождался каждый их выстрел!..
На нашем правом фланге, поддерживаемом с моря, дела шли недурно. Зато с левого — вести получались неважные. Против Инченцзы, где у нас было 24 полевых орудия, японцы выставили 80, да еще с моря помогали канонерки. Со всей эскадры были свезены санитарные отряды с носилками и прочей принадлежностью. После полудня пальба начала стихать. Около 3 ч. наши суда вернулись на внешний рейд, а к вечеру вошли в гавань. В 7 ч. вошел наш сосед по стоянке в Западном бассейне — «Баян». Опытный глаз сразу же мог заметить, что на нем, судя по дифференту на нос, что-то неладно. Действительно, как выяснилось позже, почти при самом входе на внутренний рейд он наткнулся на какую-то шальную мину. Переборки выдержали. Оказалось затопленным только отделение носовой кочегарки. Однако же наш единственный броненосный крейсер был выведен из строя…
— Вот и еще причина, почему нельзя выйти в море: подождать, пока починят «Баян».
Я обернулся, с трудом себя сдерживая:
— Вы точно злорадствуете! Точно смеетесь нашим неудачам!..
Но серые глаза, улыбавшиеся полупочтительно, полунасмешливо, не опустились и даже не дрогнули:
— Отнюдь нет. Я только пытаюсь заранее выяснить мотивы ожидаемых распоряжений начальства…
14 июля «Диана» понесла тяжкую утрату в лице своего трюмного механика Коростелева.
Неутомимый работник, выдающийся механик, обладавший не только серьезной научной подготовкой, но и богатыми практическими сведениями, бывший на заводе во время постройки крейсера и (как говорили, смеясь, в кают-компании) знавший на нем «в лицо» каждую заклепку — он был больше чем правой рукой и командира, и старшего офицера. Рослый, на взгляд крепкий, он, по выражению докторов, обладал от природы каким-то «легким дефектом» сердца и чрезмерно нервной организацией, для которой почти полгода войны не могли пройти даром.
Последнее время чаще и чаще с ним случались припадки удушья.
Что такое? В чем дело? — спрашивал я нашего молодого симпатичного эскулапа.
Вроде сердечной жабы… — неохотно отвечал он.
Так помогите ему! Ведь вы его только отхаживаете после припадка, а вы — лечите! Разве нет средств? Нет определенного лечения?
Уехать ему отсюда, отдохнуть и опять приняться за свое мирное дело — сто лет проживет… Какой он воин?! — Гадину ядовитую, случайно, как-нибудь, завезут на крейсер с провизией или, там, с углем, — так и ту, если поймает, не убьет, а посадит в коробку и свезет на берег… Когда «Петропавловск» погиб, сколько я с ним намучился! Не понимает он этого, не переносит!..
Так прикажите ему! Отправьте его в Россию!
Легко сказать! Заикнитесь только! Уж я пробовал… Хуже будет — по мнительности своей решит, что навек опозорен, и застрелится… Ну да, погодите! Когда-нибудь проберет и вас… толстокожие!.. — с неожиданным озлоблением закончил доктор.
В редкие дни пребывания «на отдыхе» в Западном бассейне все только и думали о том, как бы взять ванну да хорошенько отоспаться, и жизнь в офицерских помещениях замирала необычно рано.
13 июля, часов около 10 вечера, я уж собирался укладываться в койку, когда из моей каюты услышал какие-то стоны и чей-то тревожный сдавленный голос. Наскоро оделся и вышел. В полутемной кают-компании, беспомощно уронив голову на вытянутые по столу руки и тяжело раскачиваясь вправо и влево, сидел Коростелев. Около него суетился совсем растерянный, побледневший вестовой, несвязно твердивший — «Вашбродь! вашбродь! зачем так-то?., чего вам?..»
Зови доктора! не обалдевай! — зашипел я на него, бросаясь на помощь к любимому соплавателю.
Чего доктора, — попа бы!.. Гляньте — они уж прибираются…
— Не рассуждай, черт! Беги, куда приказывают!..
Вестовой исчез. Действительно, теперь Коростелев переменил позу и, откинувшись на спинку кресла, весь вытянувшись в полулежачем, полусидячем положении, судорожно оправлял на себе китель… Расстегнуть ему ворот, опрокинуть на голову графин воды, поднести к самому лицу работающий полным ходом вентилятор — все это были приемы известные, не требовавшие времени на соображения и догадки. — Он перестал стонать. В расширенных, почти округлившихся глазах как будто блеснуло сознание…
Ну, ну! дорогой мой! подбодритесь! сейчас придет доктор, даст вам какой-нибудь дряни и сразу поставит на ноги!..
Ах!., нет, нет!., не то!.. — бросал он отрывистые слова, скрюченными пальцами то цепляясь за горло, то хватая меня за руки. — Вы… скажите им, чтоб они… не навинчивали!., это не та гайка!., резьба не та!., не подходит!., они… задушат меня!., не надо!..
Прибежал доктор, следом за ним фельдшер, санитары, вестовые… Больного увели, вернее, унесли в каюту.
Наутро доктор заявил, что судовая обстановка так угнетающе действует на пациента (а в этом вся суть), что если его не свезти на берег немедленно, то здесь он даже за час времени не ручается.
— Паровой катер к правому трапу! — приказал я унтер-офицеру, прибежавшему с вахты на мой звонок, а сам пошел к командиру с докладом о нашей беде.
В кают-компании пили утренний чай, но, когда, проходя мимо, я бросил им: «Господа, помогите Коростелеву собраться в госпиталь», — все, сразу сообразив, в чем дело, повскакали с мест и заторопились.
— Неужели так плохо? — ахнул командир. — Скорей отправляйте! Бумажонки напишем после… Какой человек! Какой работник! Золотые руки, золотая голова… Если бы уберечь!..
Я доложил, что, не сомневаясь в разрешении с его стороны, уже отдал его именем все необходимые распоряжения.
— Ну, конечно, конечно! И хорошо сделали! Тут, может быть, минута дорога!..
Немало пришлось мне видеть тяжелораненых, умирающих, но эта затяжная агония особенно врезалась в память…
Наш молодой доктор (единственный, хотя по штату на крейсере полагалось двое) всю ночь провозился с больным. Теперь он был в сознании, но это сознание часто прерывалось каким-то странным бредом наяву. Он разговаривал с окружающими, называл их по именам и в то же время в свой разговор вставлял фразы, вовсе несообразные, — выражаясь кают-компанейским жаргоном, «нес какую-то дрянь».
— Так, так… вы все такие милые!.. Говорите — необходимо?., на травку?., в зелень?.. — Хорошо, хорошо… Отдохнуть надо! Хорошо на травке!.. Привык к каюте, привык, что и гробом будет… (Глухие удары орудийной пальбы донеслись со стороны Лунвантана…) — Слышите? — Заколачивают! Крышку заколачивают!. Не хочу! Не хочу! Помогите!.. — Это вы? — Ну, как я рад… мне Бог весть что померещилось…
Ужасно было, что этот приговоренный казался порою совсем бодрым. Он сам (хотя не без помощи окружающих) оделся, вышел на верхнюю палубу, спустился по трапу в катер. Мы все его провожали. Высыпали наверх трюмные, машинисты и кочегары — непосредственные подчиненные Коростелева.
Прощайте! прощайте! — говорил он, отчаянным усилием воли сдерживая муку удушья.
До свиданья, голубчик! — До свиданья, ваше благородие! — поправляли его со всех сторон с особенной настойчивостью. — Скорее ворочайтесь! — Бог даст, на травке-то! — Отойдете! — Поработаем вместях! — Без вас как без рук!
Он перемогался, кланялся на все стороны и улыбался так ласково и так… безнадежно, словно просто не хотел спорить с друзьями, расставаясь с ними навеки… Вдруг заволновался, запротестовал. Его хотели, вполне естественно, устроить, обложив подушками, на широком, кормовом, самом удобном сиденье катера. — Тянется на переднее, даже сердится…
Ведь там лучше!
Нет, нет… Пойдем — спиной к «Диане»… сам строил… каждый болт — свой… последний раз… хочу видеть… до конца… проститься…
И все как-то вдруг почувствовали, что ни к чему их делано бодрый тон, что не мы его, а он нас подбодряет… Все смолкло. Обнажились все головы… Катер дал ход и побежал к северному берегу Западного бассейна. Вот раз-другой мелькнул над ним белый платок… Замахали фуражками; кто-то крикнул «ура», но его поддержали слабо — слишком далеко, все равно не услышит…
— Ну? что? — набросились все на доктора, когда он, сдав больного в госпиталь, вернулся на крейсер.
— Неважно, совсем плохо… вряд ли…Кругом возмутились.
— Тогда зачем же настаивали на отправке? Пусть бы умерздесь, у себя, среди своих! — Мертвого тела боитесь? — Эскулапы казенные! — Номер исходящий!..
Доктор тоже встравился.
— Поймите вы, живоглоты, что это по-вашему подбитый корабль самим добить нужно, пустить ко дну со всеми потрохами, чтобы не достался неприятелю, а по нашей присяге, если хоть на волосок надежды есть, надо спасать! — Сам «на травку» просился! Каюта — гроб! Стреляют — гвозди вколачивают!.. Убрался из этой геройской обстановки — может быть, и выживет! Бывали случаи…
Коростелев скончался в госпитале в 1 ч. 30 мин. пополуночи 15 июля, так тихо и мирно, что даже дежурившая при нем сестра милосердия не сразу это заметила.
На следующий день состоялись торжественные похороны.
«Вот, — думалось мне, — одна из бескровных жертв войны… А сколько их, нам неведомых?..»
В ночь на 15 июля наши полевые войска отступили по всей линии.
Утром, вероятно, опасаясь немедленного штурма, со всех судов эскадры потребовали на берег десант, но после полудня его вернули обратно.
Несмотря на меры, принимавшиеся начальством для недопущения в среду гарнизона вестей из действующей армии, они все же проникали и в город, и в крепость, и на эскадру — через китайцев. Мы знали довольно подробно о неудаче при Вафаньгоу, а 2 июля говорили уже об арьергардном деле близ Гай-Чжоу. Дальше — очередь была за Дашичао, т. е. очищение Ньючванга.
Надежды на выручку с суши отходили в область мечтаний.
Моряки десантных отрядов кораблей 1-й эскадры Флота Тихого океана отправляются на береговые укрепления Порт-Артура
Усиленно распространялись слухи о том, что в Кронштадте готовится вторая эскадра, которая со дня на день может выйти в море, но этому плохо верили. Скептики утверждали, что готовой «эскадры» у нас нет, что собрать, наскоро достроить или отремонтировать некоторое число кораблей, пожалуй, возможно довольно быстро, но для создания из этого сборища «эскадры» потребуется долгое время. Если же вместо хорошо обученной, тесно сплоченной и организованной силы, по каким-либо соображениям, вышлют наспех нестройную «армаду», то вряд ли она дойдет до Порт-Артура.
За два-три месяца, пока собираются, кой-чему получатся дома, а затем — в дороге! — пытались возражать немногочисленные оптимисты.
Так, так! — отвечали им. — На охоту ехать — собак кормить. Старое правило! Нет! — Вот японцы 8 лет кряду натаскивали свою эскадру, не жалея кредитов на плавание! — Результаты сказались!.. Помните изречение Макарова, из его книги? — «Никогда нельзя надеяться хорошо сделать на войне то, чего не учились делать в мирное время».
В общем, мне казалось (может быть, я ошибаюсь), что на почве того недоверия к начальству, о котором я уже говорил, большинство держалось мнения, что слухи о скором приходе второй эскадры имели главной целью оправдать наше собственное бездействие, внушить, что мы «бережем» корабли только до радостной встречи с ожидаемыми подкреплениями. Этого не высказывали вполне открыто, но это чувствовалось между слов.
— Как только начнется бомбардировка с суши — конец нашей эскадре! А вторая — никак не успеет подойти раньше этого момента. Нечего закрывать глаза перед опасностью! Артур обречен. — Надо либо спасти эскадру, перейдя во Владивосток, либо погубить ее в бою, нанеся возможный вред неприятелю. Но оставлять ее здесь, под расстрелом — преступно…
Так думали многие.
16 июля или в ночь на 17-е (не могу сказать точно — мы жили тогда отрывочными слухами) наши войска очистили и Зеленые горы, и Дагушан, и Волчьи горы. Последние — почти без боя, но, как рассказывали, с потерями из-за какой-то путаницы, происшедшей при отступлении, когда наши попали под фланговый огонь японцев.
16 июля можно было считать началом тесной осады крепости. С утра и до 2 ч. дня «Ретвизан», «Пересвет» и «Победа» обстреливали перекидным огнем долину реки Лунхэ, где неприятель проявлял особую деятельность.
Эскадренный броненосец «Победа» в окраске мирного времени
Ночь на 18 июля прошла тревожно. Еще с вечера были сделаны сигналы: — Приготовиться к ночной стрельбе. — Иметь десант наготове. — Броненосцам с рассветом начать стрельбу. — «Новику», канонеркам и миноносцам в 6 ч. утра идти на рейд и т. д.
Однако японцы на штурм не пошли. Возможно, что такая передышка была вызвана условиями погоды: как раз надвинулись почти беспрерывные дожди и туманы.
19 июля мы опять стали дежурными на внешнем рейде.
В особенно ненастные дни странные речи приходилось слышать в кают-компании. Не обращаясь прямо ко мне, а как бы зондируя почву, то тут, то там высказывались не то мечты, не то предложения — «отрясти прах от ног своих», воспользоваться моментом, когда ни с моря, ни с берега нас не видно, отдать швартовы и сделать попытку прорваться во Владивосток: пропадем — так пропадем, но в случае удачи там, вместо снятых, нам поставят новые пушки, и там мы на что-нибудь еще пригодимся, а здесь — что мы такое? — лишний приз, обеспеченный неприятелю…
Иногда я делал вид, что не слышу, иногда же вынужден был останавливать мечтателей. Я пояснял им, что такой поступок был бы равносилен оставлению часовым его поста, что командующий эскадрой, конечно, лучше нас осведомлен о положении дел, что если он не выходит в море, то на основании каких-нибудь веских соображений, а когда наступит благоприятный момент — ему для решительного боя потребуются все наличные силы, дорога будет каждая пушка…
Мне не возражали, но я видел, я чувствовал то глубокое недоверие, с которым встречались слова «решительный бой», а заявление о ценности «каждой пушки» вызвало однажды ироническую реплику — «кроме тех, которые сняты на берег»…
Да! Это была полная деморализация…
За эти же дни выяснилось новое, весьма печальное и тревожное обстоятельство.
Во время обычной ночной стрельбы по японским миноносцам вдруг замолчала одна из 6-дюймовок.
— Что такое? Опять не осмотрели? Опять заряд рассыпался? — сердито кричал командир, видя, что пушку разряжают с дула.
— Нет, не заряд! — раздраженно отозвался с палубы плутонговый командир. — Гораздо хуже! Снаряд не лезет на место!..
Оказывается, при спешной отправке боевых припасов в Порт-Артур, которому угрожала опасность быть отрезанным от севера, некоторые партии снарядов посылались либо вовсе не калиброванные, либо калиброванные только частью (некоторый процент от общего их числа).
Конечно, отправители могли ссылаться на 527-ю ст. Морского устава, по которой артиллерийский офицер, «в случае несогласия предметов с утвержденными образцами, приостанавливает прием и докладывает командиру»; конечно, артиллерийский офицер мог указать на физическую невозможность, на отсутствие всяких средств, а главное — времени, для тщательной поверки боевых запасов, принимаемых из портовых складов на пополнение израсходованных; конечно, заведывавший артурскими складами совершенно справедливо мог указать, что ведь он снаряды принимал не с завода, а от центральных управлений, что у него тоже не было ни времени, ни средств для их калибровки… Словом, как всегда, виновными оказывались все, т. е. никто, а факт оставался фактом.
Наш артиллерийский офицер был крайне озабочен этим открытием. Снаряды принимались нами по мере их расхода и помещались в погребах на свободные места. Разобрать теперь, какие именно остались от приёмок до войны, какие приняты вновь, — оказывалось невозможным. Проверить все содержимое погребов, в условиях военного времени, нельзя было сразу, а лишь постепенно, выгружая снаряды малыми партиями… Требовалось время, а разве мы знали, сколько времени в нашем распоряжении? — Это зависело от намерений неприятеля…
Не знаю, вследствие ли небрежной калибровки или просто вследствие дурного качества металла оказалось еще, что наши чугунные снаряды (самые дешевые, а потому весьма многочисленные в боевом комплекте) часто раскалываются при самом вылете из дула орудия… Когда при стрельбе по японским миноносцам огонь с «Гиляка» приходилось направлять близко мимо нашего места (дежурного крейсера), то по утрам мы не раз находили на палубе осколки его чугунных снарядов.
Помимо опасности для соседей, такой снаряд, расколовшись в самом дуле, мог вывести орудие из строя, а потому последовало распоряжение: «При стрельбе чугунными снарядами употреблять практические (т. е. половинные) заряды».
Печальное решение в смысле использования всей силы своей артиллерии, но — увы! — неизбежное…
20 июля объявлено было, что всем добровольцам и вольнонаемным служащим разрешается нарушить контракты и, по способности, уезжать из крепости морем, в Чифу, на китайских джонках…
Плохая примета!..
Японцы не проявляли активных действий, видимо, усиленно занятые постройкой осадных батарей. Суда эскадры, стоя в бассейнах, вели редкую перекидную стрельбу, пытаясь помешать их работам, способствуя сухопутной обороне крепости…
Какая ирония! — Флот на сухопутном фронте…
22 июля мы сменились с дежурства на рейде и стали на сторожевой пост в проходе.
X Крутой поворот в настроении личного состава. — Начало конца крепости. — Еще загадочный случай. — Наши последние дни в Порт-Артуре. — Выход эскадры 28 июля. — Бой при Шантунге
Странное дело, как в последующие дни резко изменилось настроение личного состава эскадры. Я часто наблюдал такого рода явления за время минувшей войны и прямо отказываюсь найти им какое-либо объяснение. Почему в известный момент массы относятся с недоверием к открыто высказанным намерениям тех, кому они обязаны верить и кто, de facto, еще ни разу не заслужил и тени упрека в каком-либо обмане? Почему в другой момент те же массы вдруг преисполняются глубокой верой в искренность намерений своих руководителей, притом намерений, даже не высказанных, а только подозреваемых?.. — Психологическая загадка, которую предстоит разрешить в будущем ученым исследователям. Или… спиритам? — Кто знает?..
Не было героических приказов о наступлении, с призывом на помощь сил небесных; по городу не распространялось сенсационных слухов; писаря, посланные в штаб, не рассказывали по возвращении новостей, добытых от «верного человека»… — А в воздухе что-то было!
В кают-компании я опять чувствовал себя старшим товарищем, от которого не только не сторонятся, но от которого рады выслушать добрый совет или указание, а «наверху», то есть в служебной обстановке, всякое распоряжение готовы исполнить не только по внешности, но и по существу, с полной охотой, с полным доверием…
Каким образом совершился такой крутой поворот в наших взаимных отношениях? Почему присвоенное мне звание «начальства», только что стеной отгораживавшее меня от сослуживцев, вдруг перестало быть помехой самому тесному общению? Как, отчего рухнула эта глухая стена?..
Правда… на некоторые броненосцы ставилась обратно часть 6-дюймовок, снятых с них на линию сухопутной обороны… Но ведь нам всегда твердили, что пушки снимаются только на время исправления повреждений, что поставить их на место — пустое дело… Нет! повторяю — что-то было в воздухе!
Последующие события показали, что догадки мои были вполне справедливы.
Именно около этого времени адмирал Витгефт получил приказание — «идти с эскадрою во Владивосток». Приказание категорическое, отданное именем Государя Императора, не допускавшее никаких позднейших толкований из-за неясности выражений. Приказание столь непохожее на обычные распоряжения, исходившие от наместника, в которых всегда имелась спасительная лазейка для их авторов на случай неудачи задуманного предприятия.
Поклонники талантов адмирала Алексеева, защитники его деятельности перед войной и во время нее, упорно твердят, что и до того он многократно «категорически» требовал от адмирала Витгефта «решительных» действий.
Представляю дело на суд читателей.
Самое «решительное» и «категорическое» предписание наместника (с этим согласны и его апологеты) было доставлено в Порт-Артур 20 июня миноносцем «Лейтенант Бураков». Оно заканчивается такими словами:
«Иметь в виду, что эскадре можно оставаться в Порт-Артуре лишь до того времени, пока она в нем в безопасности. В противном случае — заблаговременно выйти в море и, не вступая в бой, если окажется это возможным, проложить себе путь во Владивосток» («Русская Старина» за апрель и май 1907 г. «Порт-Артурская эскадра накануне гибели». — Беломора.).
Разве такую «директиву» можно назвать категорическим требованием решительных действий? Да тут, на случай поражения, что ни слово, то путь отступления для приказывающего и ловушка для исполнителя! Особенно талантливо помещена фраза — «если окажется это возможным». — К чему отнести ее? — к возможности избежать боя или к возможности пройти во Владивосток?
25 июля, можно сказать, отметило собою начало конца Порт-Артура. Это был день первой бомбардировки с суши. Стрелять начали в 11 ч. 35 мин. утра. Как тотчас же выяснилось — по осмотру неразорвавшихся снарядов, — работала батарея из 120-мм пушек. Очевидно, японцы воспользовались опытом Англо-бурской войны и, в ожидании прибытия настоящей осадной артиллерии, пустили в дело морские орудия этого калибра, поставив их на полевые лафеты. (Любопытный вопрос: были ли сделаны эти лафеты наскоро или они были заготовлены еще до войны?) Стреляли не равномерно, а с перерывами, группами в 7–8 выстрелов. Первая серия легла вся на главной улице Старого города, близ портового лазарета; вторая — несколько западнее, на каботажной набережной, поражая находившиеся здесь склады угля; третья на портовой площадке у адмиральской пристани, чуть восточнее которой стоял «Цесаревич». К нему-то, видимо, и подбирались! По счастью, удачным оказалось только одно попадание: снаряд разрушил на «Цесаревиче» рубку беспроволочного телеграфа, в которой был убит минер-телеграфист, а осколками легко ранило в ногу командующего эскадрой, контр-адмирала Витгефта. Около часу дня огонь был перенесен в проход и велся, как и раньше, сериями в 7–8 выстрелов, и как бы уступами от S k N.
Не скрою, что, наблюдая с мостика за снарядами, разрывы которых образовывали ломаную линию, в общем направлявшуюся к месту стоянки крейсера, — на сердце было жутко… Но именно жутко, а не страшно. Для людей обстрелявшихся, твердо знавших, что «не всякая мина — в бок, не всякий осколок — в лоб», это была своего рода азартная игра, где ставкой являлась жизнь.
Быть убитым при бомбардировке — шанс еще меньший, чем взять на номер в рулетке, но как в игре у новичка дух захватывает при мысли, что он может одним ударом выиграть чуть ли не состояние, так на войне, в первом бою всякий готов считать себя заранее намеченной жертвой первого выстрела. Потом это проходит. Игра делается игрой.
В этой игре с одинаковым азартом принимали участие и офицеры, и нижние чины, упорно, несмотря на запрещение, выползавшие наверх «посмотреть».
Хорошо стреляют! и главное — в системе! — докторальным тоном заявлял старший артиллерист, протирая стекла бинокля.
Ого! эта серия, кажется, через нас! Смотрите! Смотрите! Перелет и порядочно вправо. То же, но ближе. Третий — почти у правой крамболы…
Черт возьми! Ну-ка!.. Следующий?..
Несколько секунд глубокого молчания (словно когда кружится и постукивает шарик по ребрам колеса рулетки)… Снаряд падает и рвется о воду, близ левой раковины, осыпая борт и палубу осколками.
— Недохватило! — Чуть-чуть не считается! — На этот раз пронесло! — раздаются кругом восклицания, в которых звучит беспечность, почти самодовольство, даже дерзкая насмешка над неудачей врага, над самой судьбой, которая промахнулась, и… чувствуется такое облегчение… словно человек, неожиданно окунувшийся в воду с головой, вдруг вынырнул и вздохнул всей грудью.
Следующие снаряды той же серии дают систематически увеличивающиеся недолеты, отходящие влево.
Ко мне подходит командир и недовольным тоном замечает, что с «Цесаревича» дважды сигналили — «лишним не быть наверху», а у нас на палубе «целый базар»… Он и сам хорошо сознает силу того побуждения, которое гонит людей наверх: им, уже изрядно обстрелянным, легче вести игру в открытую — видеть и слышать, — чем сидеть без всякого дела внизу и ждать, когда «она» свалится на голову.
— Вы бы для них что-нибудь придумали… — говорит он примирительно, — занятие какое-нибудь, что ли?..
Мне в голову приходит счастливая идея, и вот — в шпилевом отделении, по условиям данного момента наиболее прикрытом, — устраивается литературное утро. Мичман Щ., талантливый чтец, своим искусством доставивший команде в тоскливые дни осады немало светлых минут, садится читать «Сорочинскую ярмарку».
Известие распространяется по крейсеру; верхняя палуба быстро пустеет, и скоро через фор-люк начинают доноситься взрывы дружного смеха, так странно звучащие среди резкого, металлического лязга рвущихся снарядов неприятеля и глухого гула ответных выстрелов с нашей стороны…
Я спускался туда раза два-три, и по чести скажу — у них было превесело!..
Наблюдая за бомбардировкой, нельзя было не отметить явления для нас весьма благоприятного: стреляли хорошо, но трубки снарядов были неважные. Я тщательно проследил, записывая в книжке, десять серий, снаряды которых ложились на берегу, т. е. при падении ударялись о грунт, и, несмотря на это, из общего числа 76 — не разорвалось 32 (Впоследствии, во время самой войны, японцы устранили этот недостаток, и их снаряды рвались великолепно. (См. «Бой при Цусиме».)).
Стрельба продолжалась весь день. На нее отвечали и с сухопутного фронта и с броненосцев, но проклятая батарейка была так хорошо замаскирована, что сбить ее никак не удавалось.
В 7 ч. вечера пошел дождь, скоро превратившийся в ливень, который с небольшими перерывами продолжался до 11 ч. вечера.
Перед закатом солнца японцы сосредоточили свой огонь на нашем правом центре, а затем, вероятно думая воспользоваться ненастьем, повели на него энергичную атаку. Звуки орудийных выстрелов слились в беспрерывный гул. С фортов светили прожекторами, пускали светящиеся ракеты.
В тот же вечер (мы стояли в проходе на сторожевом посту) пришлось наблюдать любопытное зрелище, так и оставшееся неразъясненным.
Около 11 ч. 25 мин. в море, на SO, милях в 8—10, показался огонек, чрезвычайно быстро превратившийся в огромное пламя, окутанное облаками дыма. Очевидно, горело какое-то судно. В то время как мы, тщательно осматривая горизонт, пытались разгадать, что случилось, — значительно правее пожара, почти на S, блеснул яркий свет, а через несколько секунд донесся глухой удар, точно при взрыве… Это было мгновенное видение, однако же наблюдавшееся десятками людей. После того, как ни вглядывались в этом направлении, как ни прислушивались, — мрак и тишина… Зато на SO пожар все усиливался. Неизвестный корабль горел так ярко, что даже тучи над ним окрасились в багровый цвет. Сам ли он продолжал двигаться, или его постепенно подносило приливным течением — но расстояние явственно уменьшалось.
В исходе 12-го часа видели новый взрыв, на этот раз близ него.
Около 12 ч. 30 мин. ночи, пользуясь его ярко освещенной фок-мачтой, дальномером Барра и Струда, определили расстояние — 50 кабельтовых. В трубу можно было хорошо видеть докрасна раскаленный борт с рядом ослепительно ярких точек — очевидно, иллюминаторы, через которые вырывалось пламя, бушевавшее внутри. Горящий корабль не шел прямо, а дергался вправо и влево, поворачиваясь к нам то лагом, то носом, то кормой. Моряку было понятно, что это незримые во тьме спутники и товарищи пытаются взять его на буксир… В начале 2-го часа ночи эти попытки, по-видимому, увенчались успехом: он медленно пошел влево, т. е. к северу, и в 1 ч. 45 мин. скрылся в направлении к Талиенвану. Батареи и сторожевые суда безмолвствовали…
На мостике «Дианы» шел оживленный обмен догадок и предположений: какой драмы мы были невольными свидетелями?.. За последние дни китайцы упорно доносили о новой, подготовляемой японцами, отчаянной попытке запереть эскадру в Порт-Артуре. Говорили, что теперь брандеры-заградители придут не поодиночке, а группами по четыре, снайтовившись борт о борт цепными канатами. Не они ли это наткнулись на минные банки, которые в предыдущие ночи усердно набрасывались нашими миноносцами?.. Но пожар? Несчастье, неосторожность… Во всяком случае, ясно было, что в эту ночь японцам «не повезло».
Ночью батареи сухопутного фронта изредка постреливали, а 26 июля с 7 час. 45 мин. утра возобновилась бомбардировка города и порта с суши. Канонерки и миноносцы были высланы на внешний рейд, где усиленно работал тралящий караван.
В 9 ч. утра удачный снаряд неприятеля зажег сарай, в котором находились так называемые «расходные» цистерны с машинным маслом (в юго-западном углу Восточного бассейна). Хорошо, что не угодило в самый склад смазочных материалов, бывший рядом. Яркое пламя, увенчанное гигантским облаком густого черного дыма, служило японцам прекрасной точкой прицеливания, и на него они направили всю силу своего огня. Только в этот день им не было удачи. Точно зная направление, они немного ошиблись расстоянием и в течение нескольких часов упорно сыпали снаряды на северный, совершенно пустой и безлюдный склон Золотой горы.
Портовые и судовые команды, работавшие на пожаре, не понесли никакого урона.
Главный склад удалось отстоять, а огненную реку горящего масла из расходных цистерн отвести тут же прокопанной канавой в ложбину, где оно частью сгорело, частью было потушено, т. е. засыпано землей.
К полдню прекратился пожар, а к 1 ч. дня внезапно прекратилась и бомбардировка.
«Пересвету» сигналом было объявлено «особенное удовольствие адмирала». Как сообщали, именно ему посчастливилось наконец «нащупать» и заставить замолчать «проклятую батарейку».
После полдня и особенно к вечеру жаркий бой разыгрался в правом центре. Слабый ветерок, чуть тянувший от N, доносил временами сквозь гул канонады рокот пулеметов и треск ружейной стрельбы. С 10 до 10 ч. 30 мин. вечера наступил как бы период затишья, а затем борьба возобновилась и продолжалась до полуночи с особенной силой. По отрывочным известиям с берега — это дрались за обладание Дагушаном, который несколько раз переходил из рук в руки. В результате на время он оказался ничьим. Мы его очистили, а японцы не могли на нем утвердиться, так как всю ночь мортирная батарея Золотой горы — регулярно каждые полчаса — бросала на его вершину свою 11-дюймовую бомбу. При таких условиях не только что-нибудь строить, но и существовать там было совершенно невозможно.
27 июля с 8 ч. утра «проклятая батарейка», видимо, оправившись и переменив место, опять начала бомбардировку. Огонь ее был по преимуществу направлен на броненосцы, стоявшие в Западном бассейне. Некоторым попало, хотя несерьезно. Опять не повезло «Ретвизану». У его борта стояла баржа с двумя 6-дюймовками, возвращенными с батарей сухопутного фронта. Снаряд угодил прямо в баржу и утопил ее вместе с орудиями. Сам броненосец получил подводную пробоину, по счастью, не опасную, но все же доставившую ему лишний груз в 400 тонн воды, груз, ввиду предстоящего выхода в море и решительного боя, весьма неприятный. Были попадания в башни и казематы. Трое убитых и несколько раненых, в том числе командир (легко). Бомбардировка и ответная стрельба продолжались весь день.
Поздно вечером завязалось горячее дело на правом фланге, но ненадолго. Суда эскадры спешно грузились углем и пополняли запасы. Уже двое суток, как японцы не появлялись со стороны моря и не приходили забрасывать внешний рейд минами.
Ночь на 28 июля была тихая, жаркая (21°R), но не душная благодаря слабому ветерку, тянувшему с севера. Закончив необходимые приготовления к выходу в море, все крепко спали, набираясь сил на завтрашний день.
С какими чувствами встретили на эскадре зарю 28 июля, — не знаю и не берусь догадываться, так как за последние дни суда почти не имели сообщения между собою. Что касается настроения, господствовавшего собственно на «Диане», — затрудняюсь точно его формулировать. Не было ни задора, который характеризовал собою кратковременный «макаровский» период, ни жажды мести, охватившей всех в первый момент после гибели «Петропавловска», ни азарта, вызванного опьянением негаданной удачей 2 мая, ни радостной решимости, с которой 10 июня был встречен сигнал о выходе в море, — все это уж было однажды пережито и, хотя оставило в душе каждого глубокий след, — повториться не могло… Эти хорошо обстрелянные люди, десятки раз видевшие смерть лицом к лицу, готовились к бою, как к тяжелой, ответственной работе.
«Итак, решено: завтра утром идем в море. Смертный бой. Благослови, Господи! — О себе, кажется, мало думают. Надо послужить».
Эти строки я занес в свой дневник, уже ложась спать, накануне выхода.
Был еще оттенок в настроении личного состава, о котором умолчать не могу, это — чувство удовлетворения, сознания конца глухого разлада, существовавшего между «начальством», с его намерениями, и массами, с их желаниями и надеждами.
За последние три дня бомбардировки с суши не раз приходилось слышать почти злорадные замечания:
Небось теперь поймут, что артурские бассейны — могила эскадры!
Могила еще ничего! — подавали реплику наиболее озлобленные. — А вот если кратковременная смерть и затем радостное воскресение под японским флагом! — Вот это уж хуже!..
Известие о предстоящем выходе в море вызвало не энтузиазм, а… вздох облегчения. Необходимость этого выхода была до такой степени очевидна, массы были так проникнуты этим сознанием, что упорство «начальства» порождало среди наиболее горячих голов самые ужасные подозрения… Иногда казалось, подобно тому, как рассказывали про первые моменты после внезапной атаки 26 января, что вот-вот по эскадре пронесется зловещий крик — «Измена! Начальство нас продало!..» А что было бы дальше?..
Чуть забрезжил свет, начался выход эскадры. «Диана», стоявшая на сторожевом посту, пропустив всех мимо себя, тронулась последней в 8 ч. 30 мин. утра.
«Совсем тихо — и погода, и на позициях», — записано в моем дневнике.
На востоке, в утренней дымке, смутно виднелись «Сикисима», «Кассуга», «Ниссин» и отряд старых крейсеров («Мацусима», «Ицукусима» и «Хасидате»), который начал поспешно отходить к NO.
В 8 ч. 50 мин. утра с «Цесаревича» сигнал — «Приготовиться к бою», — а в 9 ч. новый — «ФЛОТ ИЗВЕЩАЕТСЯ, ЧТО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР ПРИКАЗАЛ ИДТИ ВО ВЛАДИВОСТОК».
Этот сигнал был встречен у нас с нескрываемым одобрением.
— Давно бы так! — Молодчина Витгефт! — Нет отступления!..
Чтобы, по мере возможности, ввести неприятеля в заблуждение, тралящий караван, очищавший нам дорогу в течение предшествовавших дней, проложил ее по новому направлению, не имевшему ничего общего с нашим курсом 10 июня. Теперь, прямо с рейда, мы пошли почти вдоль восточного берега Ляо-ти-шана и вышли на чистую воду через собственные минные заграждения, окружавшие мыс с маяком.
В 10 ч. 30 мин. отпустили тралящий караван, который пошел в Артур под охраной канонерок и второго отряда миноносцев. Командовавший ими младший флагман поднял сигнал, к сожалению, у меня не записанный. Сколько помнится — «Бог в помощь! Прощайте!»
Когда «Отважный» с этим сигналом проходил мимо нас, все высыпали наверх, махали фуражками… У каждого на сердце была та же мысль — «прощайте!..» Разве не было бы дерзостью сказать — «до свиданья»…
Шли в боевом порядке: впереди «Новик» с первым отрядом миноносцев, затем броненосцы с «Цесаревичем» в голове, наконец крейсера, среди которых (увы!) не хватало «Баяна».
Только что отпустили тралящий караван, как, по-видимому, что-то приключилось с машинами «Цесаревича» (там, в этом отношении, всегда было неладно. Завод «Forges et Chantiers de la Mideterranee» сам признал свою ошибку в проектировании машин, сделал и выслал в Артур новые эксцентрики для броненосца, но, на несчастье, началась война, и посылка успела добраться только до Шанхая, где и застряла.), так как оттуда был сигнал: «Иметь 8 узлов хода».
Это — при прорыве блокады!.. В виду неприятеля!..
Погода благоприятствовала. С востока и с северо-востока находил легкий, низовой туман. Артур вовсе скрылся из виду; ближний берег чуть обрисовывался во мгле.
В 11 ч. 5 мин. «Диана», поворотом которой (в качестве концевого корабля) заканчивался поворот всей эскадры, легла на курс SO 50°, в кильватер головному.
Туман стлался вдоль берега, а в сторону открытого моря видимость была довольно сносная.
В 11 ч. 30 мин. утра несколько правее нашего курса, очень далеко, обрисовались силуэты 1 броненосного и 3 легких крейсеров, а левее — какие-то большие корабли, предшествуемые отрядами миноносцев.
В 11 ч. 35 мин. правые уходят на SW, а те, что были влево, как будто идут на соединение с ними.
Наши, по-видимому, увеличили ход, так как мы, чтобы не отставать, должны были держать 10 узлов.
В 11 ч. 50 мин. на «Цесаревиче» подняли флаг К, что означает — «Не могу управляться» — явно опять какое-то повреждение. Все застопорили машины. Ждали, когда исправят… Тем временем японские отряды спешили выполнить свой маневр соединения…
В 12 ч. дня (наконец-то!) сигнал — «Иметь 13 узлов»… Пошли, но ненадолго: в 12 ч. 20 мин. «Победа», подняв флаг К, вышла из строя… Опять задержка… А неприятель уже соединился, построился, и в 12 ч. 22 мин. раздались первые выстрелы с наших головных броненосцев, двигавшихся черепашьим ходом…
— Боевая эскадра! Цвет русского флота!.. — сжимая кулаки, задыхаясь от бешенства, не говорил, а рычал мой сосед на мостике «Дианы»…
И смел ли я остановить его? сказать ему: «Молчите! Ваше дело — исполнить свой долг!..» А если бы он ответил мне: «Те, кто создали эту эскадру, исполнили свой долг?..»
Да нет!.. Что говорить!.. — У меня и в мыслях не было его останавливать… У меня у самого к горлу подступали слезы бессильной ярости…
В 12 ч. 30 мин. «Цесаревич», последнее время все более и более склонявшийся к востоку, вдруг круто, на 4° R, повернул вправо. Оказывается, неприятельские миноносцы, сновавшие туда и сюда далеко впереди, на курсе эскадры, возбудили его подозрение, и, как выяснилось, не напрасно. Не брезгая никаким, хотя бы самым малым, шансом, они набрасывали нам по дороге плавающие мины заграждения (без якорей).
Поворот «Цесаревича» избавил эскадру от опасности непосредственного прохождения через эту плавучую минную банку, но мы все же прошли от нее довольно близко, почти вплотную. С «Новика» (очевидно, по приказанию адмирала), державшегося на месте и пропускавшего мимо себя всю колонну, беспрерывно семафорили: «Остерегайтесь плавающих мин!» — Две такие прошли у нас по левому борту невдалеке. (Вернее — мы прошли мимо них.)
Обогнув минную банку, снова легли на старый курс.
В 12 ч. 50 мин. главные силы неприятеля («Миказа», «Сикисима», «Фудзи», «Асахи», «Кассуга» и «Ниссин»), которые около 20 минут держали курс почти параллельно нашим, ведя редкую перестрелку на дальней дистанции (40–50 каб.), повернули все вдруг на 16° R и, сблизившись до 30 каб., разошлись с нами на контр-галсах.
Это был горячий момент! Особенно когда японская колонна круто повернула «под хвост» нашей и, недостижимая для пушек наших броненосцев, всею силою своего огня обрушилась продольно на три концевые крейсера…
Морской устав не указывает старшему офицеру определенного места в бою, по смыслу же выходит, что он должен быть везде, где его присутствие потребуется. На «Диане», применительно к местным условиям, решено было, что я буду находиться на верхнем переднем мостике, где меня можно увидеть с любого пункта верхней палубы, а значит, и позвать меня, в случае надобности, и откуда сам я буду видеть почти весь крейсер, каждое попадание в него неприятельского снаряда, а значит, даже и без зова могу поспешить к месту, потерпевшему поражение. Нельзя не признать, что обсервационный пункт был выбран удачно. Я видел все… Вокруг концевых крейсеров море словно кипело. Мы, конечно, бешено отстреливались. Беспрерывный гул выстрелов собственных орудий, лязг рвущихся снарядов неприятеля, столбы дыма, гигантские взметы водяных брызг… Какой беспорядок! Какой хаос!.. И вместе с тем — какая… дух захватывающая красота стихийной мощи!.. Даже крик — «носилки», даже кровь, струившаяся по палубе, — не в силах были нарушить этих чар, казались маленькой, неизбежной подробностью… Как поразительно ясно работает мысль в такие минуты! Как все и все понимают с полуслова, по одному намеку, по жесту…
На «Аскольде» только мелькнули флаги Б и Л (Б — больше ход. Л — держать левее), а крейсера тотчас же дали самый полный ход и веером рассыпались влево, сразу уйдя со своей невыгодной позиции под расстрелом и получив возможность действовать почти всем бортом.
Хотел бы я видеть, сколько сложных сигналов потребовалось, бы сделать в мирное время, на маневрах, для выполнения такого перестроения, сколько бы времени оно заняло и какая каша получилась бы в результате…
Счастье благоприятствовало, или японцы плохо стреляли, но, в общем, нам повезло: «Диана», шедшая концевой, вовсе не получила ни одного снаряда полностью, и даже, хотя борт, шлюпки, разные надстройки, вентиляторы, трубы, мачты были испещрены мелкими пробоинами от осколков, — раненых у нас было только двое; правда, я видел, как на «Аскольде» добрый снаряд угодил в переднюю дымовую трубу, а на «Палладе» — в гребной катер правого борта, но и там (как сейчас же выяснилось дружескими справками по семафору) серьезных потерь и повреждений не было.
По-видимому, эта первая схватка закончилась в нашу пользу. Японцы, пройдя у нас «под хвостом», опять повернули к югу и шли правее и сзади нас, поддерживая редкий огонь с дальней дистанции, на который могли отвечать только броненосцы.
В 1 ч. 30 мин. у нас пробили «дробь» и команде разрешено было пить послеполуденный чай, не отходя от орудий.
На палубе стоял оживленный говор, смех, шутки, «крылатые слова»… Но не без некоторого, особого оттенка.
Заснуть, что ли, пока не застукали? — острил молодой матрос, примащиваясь поудобнее и прикрываясь брезентом от палящих лучей солнца.
А ты не болтай зря! «Она» все слышит! — сурово оборвал его старший товарищ…
Маленькая, но характерная подробность: обходя батареи, я поздравил с Георгием комендора XV орудия, Малахова, который, будучи ранен, после перевязки немедленно вернулся к своей пушке и продолжал исполнять свои обязанности.
Странно было видеть, как этот человек, только что смело глядевший в лицо смерти, вдруг потупил вспыхнувшие радостью глаза и не то смущенно, не то недоверчиво промолвил: «Это… уж как начальство…»
Я даже рассердился.
— Какое начальство? Пойми ты, рыбья голова, что по статуту заслужил! Тут ни командир, ни я — ничего не смеем! Начальство не даст — до самого Царя дойти можешь! По закону требовать!..
Кругом все примолкли, поглядывая не то с любопытством, не то с недоверием… Кажется, они впервые услышали, что закон выше воли начальства… Я поспешно прошел дальше, сам недоумевая, что сделал неожиданно вырвавшейся фразой: поддержал или подорвал дисциплину?..
Около 3 ч. дня легли курсом SO 62°. Крейсера держались левее броненосцев, в расстоянии от них 15–20 кабельтовых, вне сферы действия случайных перелетов неприятельских снарядов. Шли средним ходом, а иногда, чтобы не обгонять главные силы, вынуждены были давать даже малый.
В начале 4-го часа пополудни стрельба прекратилась вовсе. Главные силы японцев, держась позади нашего правого траверза, удалились на такую дистанцию, что над горизонтом были видны только их трубы, мостики и возвышенные надстройки. Что это значило? Может быть, они исправляли полученные повреждения?.. Во всяком случае, мы, при 12–13 узлах, заметно уходили вперед. Дорога была свободна… Если бы только наши броненосцы могли развить на деле ту скорость, которая значилась за ними по данным справочной книжки!..
По сигналу с «Цесаревича» команде дали ужинать.
Наша колонна сблизилась с колонной броненосцев. Начались переговоры флажками (ручной семафор). Спрашивали соседей и приятелей: что и как? Ответы получались утешительные.
— Кажется, посчастливилось!.. — не удержался было один из самых молодых…
Но его сейчас же резко остановили: моряки еще суевернее охотников и пуще всего боятся «сглазу».
Между тем японцы, оправившись и сделав свои дела (какие? — кто их знает…), опять начали нагонять нас.
В 4 ч. 15 мин. расстояние было 51 кабельтов.
В 4 ч. 40 мин. — 47 кабельтовых.
В 4 ч. 45 мин. вновь завязался бой.
Так как крейсера оказались в области перелетов, им было приказано отойти от броненосцев на прежнюю дистанцию — 20 кабельтовых. Мы повернули «все вдруг» на 4° R влево, а затем, удалившись на указанное расстояние, опять легли на эскадренный курс и в течение 1 '/2 часа были только свидетелями боя, не принимая в нем непосредственного участия.
Японские крейсера, не только старые, но и три «собачки» («Иосино» к этому времени уже не существовал.), и два броненосных (как казалось — «Асама» и «Якумо») тоже держались в стороне, словно выжидая исхода поединка главных сил. Старые с «Чин-Иеном» во главе смутно виднелись на N, а остальные — на SW.
По-моему, за весь день это был промежуток времени самый тяжелый: сложа руки смотреть, как другие дерутся!..
Надо заметить, что японские снаряды при разрыве давали целые облака дыму — зеленовато-бурого или черного. Каждое их попадание не только было отчетливо видно, но в первый момент производило впечатление катастрофы. Наоборот — только в бинокль, да и то с большим трудом, можно было различить легкое прозрачное облачко, которым сопровождался разрыв нашего, удачно попавшего, снаряда, снаряженного пироксилином или бездымным порохом.
Это обстоятельство особенно удручающе действовало на массу команды, мало знакомой с техникой артиллерийского дела.
— Наших-то как жарят!.. А им хоть бы што!.. Словно заговоренные!.. Отступилась Царица Небесная!.. — то тут, то там слышались скорбные замечания.
Все бинокли, все зрительные трубы были пущены в оборот; всем наблюдателям было приказано о всяком замеченном попадании наших снарядов в японские корабли сообщать громко, во всеуслышание…
— Нечего на своих-то глаза таращить! Без потерь нельзя! На то и война! Ты на «него» смотри! «Ему» тоже круто приходится! Чья возьмет — воля Божия! — говорил я, обходя батареи.
Однако настроение становилось все более и более мрачным… Не скажу, чтобы оно грозило паникой. Нет. До этого было далеко. Люди были хорошо обстреляны, полны решимости драться до последнего. Чувствовалось только, что все они поглощены тревожной думой: «Выдержат ли наши?..» — Сомнение… А в бою сомнение — это уж нехорошо…
Между тем, непрерывно наблюдая за боем в бинокль Цейсса, оценивая достоинство стрельбы по перелетам и недолетам, я не мог не признать, что наши комендоры действовали, во всяком случае, не хуже японских. Мне казалось даже, что наша стрельба выдержаннее и строже корректируется, а при таких условиях, особенно принимая во внимание возможность возобновления боя назавтра, — на нашей стороне было преимущество в сохранении боевых припасов. Мне казалось, что иногда японцы слишком горячатся, что они «зря бросают снаряды»…
По мере развития боя, сопровождавшегося уменьшением дистанции, конечно, не могло не сказаться одно весьма важное преимущество неприятеля — полное наличие его средней и мелкой артиллерии, тогда как у нас добрая треть 6-дюймовок, 75-миллиметровых и вся мелочь остались на сухопутном фронте Порт-Артура…
Еще, чего нельзя отрицать, счастье, удача — были на их стороне…
Наибольшую силу своего огня они, разумеется, сосредоточили на флагманских броненосцах.
Немало снарядов угодило в трубы «Цесаревича» (эти попадания были особенно хорошо видны).
В 5 ч. 5 мин. у «Пересвета» была сбита грот-стеньга почти на половине высоты, а в 5 ч. 8 мин. у него же сбита верхушка. фор-стеньги…(Читатели увидят впоследствии, какую роковую роль сыграли эти сбитые стеньги, лишившие «Пересвет» возможности делать сигналы.) Повреждение ничтожное, но всем видимое. Снаряд, сбивший верхушку стеньги, это был, конечно, чудовищный перелет, совсем плохой выстрел… Плохой, но счастливый…
Около того же времени на «Полтаве» перебило найтовы стоймя поставленной между трубами стрелы для подъема шлюпок, и она с грохотом рухнула на левый борт… Тоже пустяки. Даже повреждением назвать нельзя, так как при подъеме шлюпок стрела нарочно ставится в такое положение. А со стороны — впечатление громадное…
В 5 ч. 50 мин. вечера «Цесаревич» неожиданно круто бросился влево и так накренился, что по крейсеру пронесся крик, напомнивший мне момент гибели «Петропавловска»… Казалось, он переворачивается…(Крен получился оттого, что японский снаряд, удачно попавший в самую боевую рубку, все в ней разрушил, всех перебил, причем никем не управляемый и к тому же поврежденный рулевой привод положил руль «на борт», а от внезапного положения руля «на борт» броненосец получал крен до 12°.)
По счастью, это только казалось… На несколько мгновений я, да, кажется, и все окружающие, забыли и о себе, и о «Диане»… Вся жизнь, все силы души перешли в зрение, были прикованы к наблюдению за тем, что происходило в среде броненосного отряда…
«Ретвизан», первоначально последовавший за «Цесаревичем», тотчас же увидел, что это выход из строя из-за повреждения, и повернул обратно не только на старый курс, но даже на сближение с японцами. Казалось, он хочет таранить неприятеля.
«Победа» — осталась на прежнем курсе. «Цесаревич», описывая крутую циркуляцию влево, прорезал строй между «Пересветом» и «Севастополем», словно разделяя последнее намерение «Ретвизана» и собираясь таранить. «Севастополь», избегая столкновения с ним, также повернул к югу. К югу же повернул и «Пересвет», видимо, еще не решивший, как действует флагманский корабль — сознательно или лишившись способности управляться?.. «Полтава» — шла старым курсом.
Одно время казалось, что готовится решительный удар. В моей книжке записано: «6 ч. 5 мин. наши броненосцы строем фронта идут на неприятеля»… но зачеркнуто, и дальше: «Нет. — Кажется, ложатся старым курсом и строем. Порядок — «Ретвизан», «Победа», «Пересвет», «Севастополь», «Цесаревич», «Полтава»… тоже зачеркнуто и поперек написано — «Ошибка. Никакого строя. В беспорядке».
Первая запись соответствовала обстоятельствам, сопровождавшим внезапный выход «Цесаревича» из строя; вторая — тому моменту, когда он, управляясь машинами, пытался занять место в строе между «Севастополем» и «Полтавой», которая шла концевой и сильно оттянула, а третья — моменту полного расстройства, когда никто не знал, кто командует эскадрой и куда ведет ее…
Затем броненосцы начали разновременно и беспорядочно ворочать на обратный курс.
У меня записано: «6 ч. 10 мин. наши броненосцы идут на NW… 6 ч. 20 мин. идем нестройно куда-то на W… Разобрали сигнал «Цесаревича» — «Адмирал передает начальство…»
Никаких других сигналов мы не видели1, совершенно терялись в догадках о том, что предполагается предпринять, а главное — кто принял начальство?..
Несомненным являлось только, что адмирал В. К. Витгефт и его непосредственный заместитель в бою — начальник штаба контр-адмирал Матусевич — оба выведены из строя, но жив ли следующий по старшинству контр-адмирал князь Ухтомский?.. Правда, на «Пересвете» стеньги были сбиты, но разве нельзя было поднять адмиральский флаг на их обломках, на марсах, на трубе, вообще на каком-нибудь приметном месте?.. Если нет флага — вероятно, нет и флагмана!.. А тогда командующим эскадрой оказывался начальник отряда крейсеров, контр-адмирал Рейценштейн… тогда броненосцы идут либо без всякого начальства, либо их ведет временно, до соединения с крейсерами, старший из командиров…
Прошу читателей извинить несвязность моего изложения. Я хочу держаться возможно ближе к тексту тех отрывочных заметок, которые я заносил в мою записную книжку в самый момент совершавшихся событий. Эти заметки кажутся мне особенно ценными тем, что они — не воспоминания, а как бы моментальные снимки действительности…
Из-за сбитых стенег контр-адмирал князь Ухтомский вынужден был поднять сигнал — «Следовать за мной» — на поручне мостика. Даже ближайшие соседи не сразу его заметили, что и было главной причиной замешательства.
Когда «Цесаревич» неожиданно бросился влево, «Аскольд» (флагманский крейсер) тоже круто повернул к северу, но, как только выяснилось, что это не маневр, а выход из строя, как только стало очевидным, что броненосный отряд пришел в расстройство, которым может воспользоваться неприятель, контр-адмирал Рейценштейн решительно повел свои крейсера на соединение с броненосцами. Мы все сразу поняли его мысль: принять непосредственное участие в бою, хотя и слабыми, но свежими силами поддержать броненосцы, дать им время оправиться…
Они шли куда-то на NW нестройной кучей, обгоняя друг друга, отстреливаясь так беспорядочно, что иные снаряды ложились близ нас, спешивших к ним на выручку…
А под кормой у них проходили, склоняясь к NO, главные силы неприятеля — кильватерная колонна из шести броненосных кораблей, на тесных, ровных интервалах, словно не в бою, а на маневрах…
«Так ли? Не обманывает ли расстояние? Может быть, они потерпели не меньше наших? Может быть, двух-трех удачных выстрелов с нашей стороны было бы достаточно, чтобы их привести в расстройство, их заставить покинуть поле сражения? Почему они уходят? Почему не пробуют добить, разгромить отступающего врага? Не могут? Не смеют?..»
Эти отрывочные мысли назойливо лезли в голову, но я гнал их… упорно гнал. Какой-то туман стоял перед глазами, и сердце было полно одним желанием — скорее подойти, скорее открыть огонь, чтобы грохотом собственных орудий заглушить это ужасное сознание, в горячке боя забыть это страшное слово — РАЗБИТЫ, ОТСТУПАЕМ…
Тяжело вспоминать… Но надо говорить по порядку. Ведь тогда я же записывал все с указанием часов и минут…
Около 7 ч. вечера мы примкнули справа к броненосному отряду, который как будто пытался выстроиться в линию кильватера. Головным шел «Ретвизан». Опять тот же вопрос: кто ведет? кто командует эскадрой?..
На «Аскольде» был поднят сигнал — «Быть в строе кильватера» — без позывных.
К кому относился этот сигнал? К нам ли только (крейсерам), или же, нигде не видя флага, наш флагман вступал в командование всей эскадрой и делал сигнал общий?
Судя по тому, что «Аскольд», не ожидая, пока примкнут к нему другие два крейсера, дал полный ход и обгонял эскадру, как бы желая выйти под нос «Ретвизану» и стать головным, — скорее можно было предположить последнее. Вероятно, так же думал и командир «Паллады», которая не только не увеличила хода, чтобы следовать за «Аскольдом», но даже уменьшила его с явным намерением пропустить эскадру мимо себя и вступить на свое место по диспозиции — в кильватер концевому броненосцу. Наше место в строе было — в кильватер «Палладе». С нетерпением ждали дальнейших распоряжений…
Выйдя под нос «Ретвизану», «Аскольд», опять без позывных, сделал сигнал — «Следовать за мной» — и начал круто ворочать влево. Мы поняли этот сигнал и этот маневр как намерение повернуть эскадру в море, снова повести ее на неприятеля, видимо, уже не искавшего боя…
На мостике «Дианы» послышались радостные восклицания, приветствовавшие смелое решение, но радость была непродолжительна и тотчас же сменилась недоумением и тревогой… «Ретвизан» продолжал идти прежним курсом; броненосцы не последовали за «Аскольдом», а сам он, работая полным ходом, с тем же сигналом на мачте, словно летучий голландец, пронесся мимо, расходясь с эскадрой на контргалсах и направляясь к югу…
— Значит, не он командует эскадрой! — воскликнул командир. — Но мы-то должны идти за ним!
Обогнать броненосцы и повернуть у них под носом, как это сделал «Аскольд», нам, с нашей скоростью, было бы слишком долго, а потому командир, ни минуты не колеблясь, решил прорезать их нестройную толпу.
Несмотря на тяжесть переживаемого момента, я не мог не любоваться спокойствием и уверенностью, с которыми он выполнил этот рискованный маневр.
Однако первый момент недоумения, когда броненосцы не пошли за «Аскольдом», затем прорезывание строя — все это заняло время — добрых 10–15 минут, — и, выйдя на чистую воду, мы увидели нашего флагмана далеко на юге, скрывающегося за горизонтом в перестрелке с неприятельскими крейсерами…
Командир сохранял по внешности полную невозмутимость и только нервно пощипывал бородку.
— Ну, как я буду «следовать за ним» с нашими 17 узлами! — проговорил он сквозь зубы и вдруг, махнув рукой, резко скомандовал: — Право руля!
«Диана» круто повернула влево и вступила в кильватер «Палладе», которая даже и не попыталась следовать за «Аскольдом» (Придя в Шанхай, контр-адмирал Рейценштейн доносил по телеграфу, что, сделав сигнал «следовать за мной», развил скорость 20, а затем 22 узла, и с тех пор «Паллады» и «Дианы» не видал… Немудрено!).
В 7 час. 20 мин. мы были атакованы с севера отрядом «Чин-Иен», «Мацусима», «Ицукусима» и «Хасидате»; с востока подошли отделившиеся от главных сил «Кассуга» и «Ниссин», а с юга насели «собачки».
Ну, для этой компании мы были еще достаточно сильны. Добить нас им не удалось, и после короткого жаркого боя на дистанции не свыше 20 кабельтовых неприятель поспешно ретировался.
В этой схватке «Диане» не посчастливилось.
Я стоял на моем обсервационном пункте, на верхнем мостике, когда увидел поднявшийся на правом шкафуте гигантский столб черного дыма, и тотчас же поспешил к месту происшествия.
Оказалось, что снаряд угодил в стрелу Темперлея, лежавшую на дымовом кожухе, разбил ее, изрешетил осколками ближайшие вентиляторы, дымовую трубу, сам кожух, палубу, перебил отросток трубы пожарной помпы (это было на пользу) и вывел из строя 17 человек — 5 убитых на месте (в том числе мичман Кондратьев) и 12 раненых (На другой день среди обломков мы нашли донышко этого снаряда с маркой 18 s/m. — Очевидно, был получен с «Кассуги» или «Ниссин», которые одни имели такую артиллерию.).
Не могу, при этом случае, не похвастать постановкой службы на крейсере. Несмотря на всю поспешность, с которой я спускался с верхнего мостика и бежал по палубе, к моменту моего прибытия все уже было сделано. Я увидел только последние, скрывающиеся в офицерский люк носилки; убылые номера орудийной прислуги уже были заменены людьми с левого (не стрелявшего) борта; пушки, счастливо не получившие никаких повреждений, поддерживали энергичный огонь, а мичман Щ., за смертью Кондратьева вступивший в командование средней батареей, сердито размахивал грязной щеткой для подметания палубы и этим грозным оружием гнал на левый борт под прикрытие от осколков излишних добровольцев, стремившихся заменить убитых и раненых, чтобы принять личное участие в бою…
— Лишние, прочь! — скомандовал я, бросаясь к нему на подмогу.
И перед окриком «старшего» наши молодцы, только что добивавшиеся права стать со смертью лицом к лицу, поспешно и послушно разошлись по своим местам…
Мне ничего не пришлось ни указывать, ни приказывать, а только одобрить то, что уже было сделано, после чего я пошел в боевую рубку доложить командиру о результатах попадания, но едва ступил на нижний мостик, где помещалась броневая рубка, как из нее до меня долетели слова доклада (кажется, говорил мичман С.) — «…подводная… под лазаретом»… — и резкий голос командира:
Доложите старшему офицеру!.. Скорей!..
Есть! Слышу! — крикнул я, что было мочи, в просвет между броней и крышей рубки и, почти скатившись с трапа, побежал на ют.
Палубный дивизион! (по старой терминологии «палубным дивизионом» называлось небольшое число людей с боцманом во главе, находившихся в распоряжении старшего офицера и во время боя занимавшихся тушением мелких пожаров, исправлением незначительных повреждений. В Порт-Артуре при Макарове эти «дивизионы» были значительно усилены, снабжены всеми необходимыми средствами для заделки пробоин и специально обучались этому делу. В состав их входили наиболее опытные и расторопные люди, как то: боцмана, лучшие унтер-офицеры и марсовые, а также специалисты и мастеровые — водолазы, плотники, парусники, слесаря, кузнецы и т. п. Название осталось старое) за мной!
Здесь! Здесь! Все — тут! — отозвался старший боцман.
Чтобы не утруждать читателей передачей различных догадок и предположений, которые во время боя и тотчас после него высказывались по поводу характера и размеров подводной пробоины, полученной «Дианой», — позволю себе забежать вперед и вкратце изложить то, что выяснилось по вводе крейсера в док для исправления.
10-дюймовый снаряд попал в подводную часть крейсера с правой стороны под очень острым углом в направлении от носа к корме и сверху вниз, как раз в пространстве между скатом броневой палубы и обыкновенной железной палубой, служившей полом аптеки, лазарета и судовой канцелярии. Снаряд как бы разорвал борт продольной щелью, длина которой была около 18 футов, а наибольшая высота достигала 6 футов. Благодаря тому, что удар пришелся продольно, вся сила его израсходовалась на разрушение борта. Броневая палуба дала только небольшую течь, а главное — не была разрушена легкая железная палуба, находившаяся выше броневой. Эта палуба спасла крейсер, воспрепятствовав воде немедленно хлынуть во внутренние его помещения. Правда, она не могла бы долгое время сопротивляться напору извне; ее тотчас же начало выпучивать, рвать по швам… Но это был выигрыш драгоценных минут, в течение которых мы успели ее подкрепить, зажать подпорами, словом — локализировать вторжение в недра корабля самого грозного его врага — забортной воды!..
Первое, что я увидел, сбежав вниз, это — раненых и больных, которых доктор, фельдшера и санитары выносили и выводили из угрожаемых помещений. Опасность была слишком очевидна. Метлахские плитки, которыми была выстлана палуба в лазарете и в аптеке, с треском отскакивали со своих мест, а из-под них с шипом и свистом вырывались струйки воды. Каждое мгновение швы могли окончательно разойтись и палуба — вскрыться… Трюмный старшина, заведовавший кормовым отсеком, и его подручные тотчас вслед за ударом снаряда уже начали ставить подпоры. Им помогали некоторые из числа легко раненных. С прибытием дивизиона работа закипела…
Надо ли говорить о том, как работали? с каким искусством, с какой силой сыпались удары тяжелых молотов на клинья, которыми крепились подпоры? Ведь эти клинья, зажимавшие расходившиеся швы палубы, удерживали само море, мощному напору которого не могли противостоять надорванные железные заклепки… Борьба шла на жизнь и на смерть. Двери в непроницаемых переборках были задраены; выхода наверх не было; победи море — мы были бы первыми его жертвами… Сильно мешала правая кормовая 6-дюймовка, находившаяся прямо над нами. От ее выстрелов палубы так сильно вибрировали, что клинья сдвигались со своих мест, часто сами подпоры грозили рухнуть, и их приходилось поддерживать с боков раскосинами… А чуть где ослабевало крепление — тотчас же появлялась вода. — «Хоть бы подбили эту проклятую пушку!» — мелькнуло в голове преступное пожелание… и вдруг — она замолкла… Дело пошло быстрее. Мы одолели.
Теперь уж не пустим! — торжествующе воскликнул трюмный старшина, топая ногой по палубе.
Наша взяла! — подтвердил боцман.
Ну, вы не сглазьте! — остановил я их ликования. — Еще накликаете, чего доброго!..
Сколько времени мы работали? Под первым впечатлением мне показалось, что несколько секунд, но, оглянувшись на выполненную работу, припомнив различные ее эпизоды, я впал в другую крайность и решил, что прошло не менее получаса, а то и больше… посмотрел на часы — они подмокли и остановились…
Лазарет, ванна, аптека, судовая канцелярия представляли собою какую-то фантастическую колоннаду. Под ногами была железная палуба — плитки, ее покрывавшие, частью сами отскочившие, частью сорванные при работе обнажения швов, лежали беспорядочными кучами. Вода стояла по щиколотку, но прибыль ее успешно откачивали такими примитивными средствами, как ведра и брандспойты. Она только просачивалась через швы покоробленных листов да через заклепки, частью надорванные, частью вовсе вылетевшие из гнезд. Такие дыры, если они были одиночные, просто заколачивали деревянными пробками, там же, где их был целый ряд, — клали подушку или матрас, сверху — доску, а затем ставили подпору и зажимали, подгоняя клинья… Это были уж мелочи: не борьба с пробоиной, а прекращение течи. Поручив эту работу трюмному механику, приказав ему же затопить соответственные кофердамы левого борта для уничтожения крена, оглядев соседние отделения и опросив — все ли благополучно? — я пошел наверх с докладом к командиру.
Выйдя на палубу, я случайно оказался как раз у правой кормовой 6-дюймовки и сразу понял, почему она так своевременно перестала стрелять: её разряжали с дула, пытаясь вытолкнуть обратно снаряд, в горячке боя особенно энергично посланный на место и крепко севший в нарезы.
Что такое?
Не калиброванный попался, ваше высокоблагородие! — почти со слезами выкрикнул комендор…
«Нет худа без добра! — думал я, отходя прочь. — Не случись этой дряни — вряд ли бы мы внизу справились…»
Мой доклад командиру, которого я нашел в боевой рубке, весь полный технических терминов и определений, был бы не только не интересен, но и непонятен большинству читателей, а потому я его опускаю.
Здесь я справился о времени. Было 7 ч. 40 мин. вечера. Справился о курсе — NW 30°. Вышел на крыло мостика и огляделся. Шли нестройно. Не то — кильватер, не то — две колонны. Головным «Ретвизан», мы — концевыми, а впереди нас — «Паллада», «Ретвизан» и еще кто-то, шедший за ним (не «Победа» ли?), провожали редким огнем неприятельские крейсера, поспешно уходившие на северо-восток.
Я вынул памятную книжку и при свете зари начал записывать…
— Окончательно! теперь уж — окончательно! — раздалсянеподалеку голос, звеневший негодованием.
Я обернулся. На мостике стояла группа офицеров.
Что такое? Что — «окончательно?» — спросил я.
Окончательно возвращаемся в Порт-Артур! Торжественно шествуем на погребение эскадры!..
Тише! Команда слушает! — проговорил я вполголоса и затем громко: — Почему? Что за вздор? Пополним запасы, исправим повреждения и снова пойдем в море! Разве не видите, как нерешительно действует неприятель? Им попало, наверно, не меньше нашего! Нам до Артура — 100 миль, а им до Сасебо — 500 с лишним!
(Надо ли сознаваться, что я сам не верил тому, что говорил? что это возвращение самому мне представлялось похоронной процессией?)
— Полноте! Полноте! — заговорили все вдруг, перебивая один другого. — Если повреждения незначительны — нечего возвращаться, а если значительны, то где ж их исправить в Артуре, да еще при бомбардировках с суши, когда что ни день, то новые повреждения? — Да и дойдут ли еще?! — миноносцы так и лезут! — Что, миноносцы! — ведь идут напрямик и через наши, и через японские минные банки. — Не каждый раз Бог пронесет, как 10 июня! — Все — на Николу-Угодника! — Запасы? — Да нам их не только не дадут, а еще и наши остатки отберут для крепости! — Нас-то уж ни в каком случае чинить не станут! — Просто перепишут всех в морскую пехоту! — Пушки снимут на батареи, а сам крейсер… — Крейсер — в виде бесплатной премии японцам при сдаче крепости! — Ещё поплавает под японским флагом! — With compliments! — Ха-ха-ха!..
Смеялись нервно, говорили громко и резко, с явным намерением, чтобы слышал командир…
Он вышел из боевой рубки на крыло мостика. Вид, как всегда, невозмутимый, почти беспечный. Все стихло. Кругом воцарилось напряженное безмолвие.
— Покойный адмирал, — заговорил он, словно читая по книге, — показал сигналом, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР ПРИКАЗАЛ идти во Владивосток, а наш флагман ушел на юг с сигналом «следовать за мной». Как только стемнеет, мы отделимся от эскадры и пойдем во Владивосток, если можем это сделать. Надо — маршрут, и надо спросить механиков, хватит ли угля…
Никто не посмел громко высказать своего одобрения, но оно чувствовалось…
Маршрут был тотчас же намечен: обогнуть Кельпарт с юга; располагать скоростью так, чтобы к восточной его оконечности подойти к закату солнца; тут дать самый полный ход и за ночь кратчайшим путем проскочить Корейский пролив; если удастся — к рассвету будем в Японском море, вне вида берегов как Кореи, так и Цусимы; дальше — идти во Владивосток, как Бог даст… Старший механик удостоверил, что на 12 часов самого полного хода и на остальной путь экономическим (10 узлов) ходом у него угля хватит, даже с запасом на всякий случай…
XI Прорыв «Дианы». — Сюрприз с углем. — «Мои приказания должны быть в точности исполнены. Надеюсь?..» — Поход на юг. — Конец боевой службы «Дианы»
Около 8 час. вечера мы еще различали, хотя смутно, легкие крейсера японцев, державшиеся в SW четверти, на S — два броненосных крейсера, на Ost — медленно удаляющиеся главные силы неприятеля, а на N0 — «Чин-Иен» и К°.
От SO, именно в том направлении, куда нам следовало взять курс, — надвигались многочисленные отряды миноносцев.
На мостике составилось нечто вроде военного совета. Решили прорываться… на SO. На первый взгляд странное решение. На деле, однако же, оно себя оправдало. Мотивы были такие: японские миноносцы, наверно, не ожидают такого «трюка» и к нему не подготовлены; в темноте они легко могут принять «Диану» за «Якумо» и предположить, что крейсер послан с донесением в Японию; если же мы изберем другую дорогу и встретимся с крейсерами или броненосцами, то наше инкогнито будет немедленно раскрыто; завяжется ночной бой, и тут уж на нас бросится вся свора. Следующий вопрос был: как поступать со встречными миноносцами, по отношению к которым явится подозрение, что они нас опознали и собираются атаковать?.. Тут я сделал предложение, которое в первый момент вызвало общее недоумение и едва ли не заставило некоторых усомниться в моей правоспособности… — Я предложил — ничего не предпринимать, так как, открыв прожектора, начав стрелять по какому-нибудь миноносцу, мы тем самым навлечем на себя атаку целой минной флотилии; между тем против массовой атаки — мы беспомощны; кормовые 6-дюймовки действовать не могут, так как грозят разрушением всей постройки, ограждающей пробоину, а тогда… словом, про оборону с кормы и говорить нечего, а с борта — мы имеем по две 6-дюймовки и по десяти 75-мм — этого мало…
Так что, если даже он мину выпустит, все-таки не светить и не стрелять?!
Конечно! Ведь он может опознать крейсер только на самой близкой дистанции и тут, в течение нескольких секунд, должен на глаз определить все данные для установки прицела — наш курс, ход… Легко ли это! Какова вероятность попадания? Самая ничтожная… А после промаха когда еще он успеет развернуться, обогнать нас и снова пойти в атаку? Да и не найдет в темноте!.. А начнете светить и стрелять — не только он найдет снова, а и еще десятки сбегутся со всех сторон!.. Вот если ему посчастливится — мы, конечно, с нашей пробоиной не выдержим минного взрыва, потонем, — тогда жарьте вовсю! Хоть чем-нибудь досадить на прощание!..
Командир решительно стал на сторону моего мнения и отдал соответственные приказания.
Хотя, знаете ли, это совсем новый способ отражать минные атаки, — говорил он, посмеиваясь, — кажется, мы первые его испробуем…
И я убежден, что удастся!
Поживем — увидим… или нет: доживем — увидим!
В начале 9-го часа «Диана» положила лево руля и, отделившись от эскадры, пошла намеченным курсом.
За нами увязался какой-то миноносец. Спросили — «Кто?» — Ответил — «Грозовой».
Это только способствовало осуществлению нашего плана. Всякий японец мог подумать: идет крейсер, похожий на «Якумо», и при нем миноносец, — ясно, что свой…
Около 9 ч. вечера мы вступили в область, густо усеянную отрядами минного флота неприятеля, и шли ею до 10 ч. 15 мин. (последняя встреча). Ночь была безлунная, но не очень темная. По небу стлались не тучи, а легкие, полупрозрачные облака, сквозь ровную пелену которых звезды давали достаточно мягкого, рассеянного света, чтобы привычным глазом заметить большой корабль на расстоянии 1–1 1/2 мили, а миноносец — на 5–6 кабельтовых. Конечно, не «опознать», а только «заметить что-то».
За эти час с четвертью мы «заметили» на своем пути 19 силуэтов, в которых имели основание подозревать неприятельские миноносцы. Всякий раз, обнаружив такое видение, мы круто меняли курс, стараясь не сближаться на дистанцию, достаточную для «опознания». Из 19 случаев это удалось 13. Только 6 миноносцев нас атаковали, выпустив 8 мин. Ни одна не попала. (Последнее заявление может быть излишне, так как, если бы попала хотя одна, я был бы лишен возможности делиться с читателями моими воспоминаниями.)
Мы не светили и не стреляли.
Думаю, что осуществление такого приема было возможно только с нашей, хорошо обстрелянной, выдержанной в боях командой. Стоило вспомнить 31 марта и паническую «стрельбу по воде»… Теперь было не то!
Не утаю, что два выстрела все-таки было сделано, но при обстоятельствах, в значительной степени смягчающих вину комендора. Случилось это так.
Около 9 1/2 ч. вечера на передний мостик прибежал командир кормового плутонга, мичман Щ.
Разрешите открыть огонь!
Ни в каком случае!
Но эти два подлеца, которые уже атаковали нас на контр-галсе, гонятся за нами!.. И, кажется, догоняют!..
Если только «кажется», что догоняют, — авторитетно вмешался старший минер, — то опасаться нечего. Значит, скорость мала. Стрелять минами вдогонку — пустое занятие. Вот если выйдут на траверз — другое дело…
Зеленовато-золотистая молния вспыхнула на корме крейсера, и резкий, отрывистый удар выстрела 75-миллиметровой нарушил тишину ночи… Еще…
— У вас стреляют! Без вас стреляют! Зачем вы здесь! — крикнул я, бросаясь к плутонговому командиру…
Но бравый мичман, чуть ли не спрыгнув с мостика, уже умчался к своим пушкам с такой быстротой, словно сквозь палубу провалился…
Опять на крейсере воцарилось глубокое безмолвие, изредка прерываемое восклицаниями сигнальщиков и «глазастых»: «Справа, на крамболе!» — «Слева, по траверзу» и соответственными командами капитана: «Право на борт!» — «Лево руля!..»
От S пошла зыбь, на которой крейсер давал размахи 5–7° на сторону. Для миноносцев она должна была быть еще более чувствительной и, конечно, не способствовала меткости их стрельбы минами.
Около 10 часов один (по-видимому, из «истребителей»), идя контр-галсом, выпустил мину в нашу правую скулу с дистанции не более 1 1/2 кабельтовых. Мы не только видели вспышку выстрела из минного аппарата, но даже слышали характерный звук, сопровождающий минный выстрел, словно чихнул какой-то большой зверь…
— Хорошо идет… — проговорил старший минер, склонившийся над поручнем мостика и привычным глазом наблюдавший за пенистым следом, сопровождавшим путь мины…
Несколько мгновений напряженного ожидания…
— И этот промазал!.. — почти с состраданием к неудаче товарища по оружию восклицает минер.
Общий вздох облегчения…
— Плохо мы себя показали перед артиллеристами!.. — смеется командир (сам минер I разряда).
В 10 час. 15 мин. вечера — последняя встреча. Чуть не столкнулись с миноносцем, мчавшимся полным ходом прямо с носа. Едва разошлись, почти вплотную. Очевидно, он принял нас за своего, потому что сделал какой-то опознавательный сигнал и исчез во мраке…
В 11 ч. вечера открыли северный Шантуагский маяк. Через полчаса по нему определили свое место на карте и взяли курс SW 23° — в южную, наиболее пустынную часть Желтого моря, согласно нашему плану. Навстречу попадались только китайские джонки, да и то изредка. Явно было, что мы уже вышли из сферы действий враждующих сторон. Можно было и отдохнуть. На всякий случай, однако же, отдыхали на две смены, да и то не отходя от своих мест.
Многие авторы боевых очерков и воспоминаний описывают то состояние высокого нервного возбуждения, которое еще долго по окончании сражения владеет людьми, принимавшими в нем участие. Существует немало рассказов о том, как тревожно они спят, как галлюцинируют, как легко поддаются всякому внешнему импульсу. Мне не приходилось наблюдать таких явлений. Факты, которые мною записаны (тогда же), скорее свидетельствуют о притуплении, о понижении нервной чувствительности после боя.
В ночь на 29 июля я видел, как люди, только что исправно исполнявшие обязанности службы, даже не казавшиеся чрезмерно утомленными, — обстоятельно сдав вахту, спешно приискивали себе укромный уголок поблизости к своему месту «по тревоге» и тотчас же засыпали крепким глубоким сном (По отношению ко мне могу заверить, что за все время пребывания на театре военных действий, т. е. и на первой, и на второй эскадрах, — никогда, ни при каких обстоятельствах не видел боевых снов. Единственный раз, да и то в совершенно мирной обстановке — по пути из Сайгона в Либаву, при ночевке на станции Вержболово мне приснились лазарет «Дианы», выпучивающаяся палуба, на которой мы работаем… и я с криком «Подпоры! Давайте подпоры!» сорвался с постели, немало переполошив своего спутника).
План маневрирования русской и японской эскадр в бою 28 июля 1904 г.
Что касается офицеров, то один из них имел случай проявить такую «бесчувственность», что французы, посещавшие крейсер в Сайгоне, смотрели на него как на достопримечательность.
Согласно моему приказанию, отданному еще до боя, задний мостик «Дианы» был назначен местом, куда сносили всех убитых. Здесь их, в ожидании погребения, складывали рядышком на брезенте, прикрывали другим брезентом, а сверху — флагом.
Командир кормового плутонга, получив разрешение — «отдыхать, не уходя от своей части», — нашел это место самым для себя подходящим. К тому же на огромном брезенте лежало в то время всего 7 человек, и, сложив в несколько рядов конец брезента, оставшийся свободным, можно было устроить даже нечто вроде матраца. Такое удобство! — Прямо находка!..
Около 3 ч. ночи скончался один из тяжело раненных. Привычные к своему делу санитары принесли труп на задний мостик и хотели положить рядом с другими, когда частью увидели, частью нащупали во мраке офицерскую тужурку. Решили, что неловко класть офицеров вперемешку с нижними чинами, — надо начальство отодвинуть к флангу. Однако едва лишь они ухватили его за плечи и за ноги, как мнимый покойник, энергично отмахнувшись, быстро приподнялся и сел на своем месте.
Что такое? Тревога?
Никак нет…
Так что ж вы, анафемы, ко мне лезете? Спать не даете, черти полосатые!..
Те сначала было шарахнулись (думали — наваждение), но, услыхав, как начальство бранится, поняли, что «оно» совсем живое.
Так что место надо очистить, ваше высокоблагородие… нового принесли — сейчас кончился…
А… ну, это другое дело… так бы и сказали… — проговорил мичман, отодвинулся, раскинул брезент пошире, присмотрел, чтобы «нового» положили как следует — на спину, со скрещенными на груди руками, — а затем… примостился поудобнее и опять заснул под боком у своего молчаливого соседа…
Мне в эту ночь насчет отдыха не посчастливилось. Зыбь шла едва приметная, а между тем крейсер разматывался 5–7° на сторону. Должно быть, оказывал влияние добавочный груз (вода), который мы несли поверх броневой палубы. Впрочем, не эта чувствительность крейсера к качке вызывала тревогу, державшую меня на ногах, но нечто более серьезное. При каждом размахе вправо давление в затопленных помещениях, имевших непосредственное сообщение с пробоиной, возрастало так резко, словно в тонкую, слабую, нами наскоро подкрепленную палубу наносился снизу могучий удар… Скрипели подпоры; ползли зажимающие их клинья; с зловещим свистом вырывались струи воды из-под подушек, наложенных на швы листов; со щелканьем, похожим на звук пистолетного выстрела, вылетали деревянные пробки, которыми были забиты дыры одиночных сорванных заклепок… Работали не покладая рук — то тут подкрепить, то там подправить…
— Накликал-таки!.. Теперь не пустим!.. На-ко, выкуси!.. Баба старая… Язык распустил!.. — ворчал я на трюмного старшину и, право, сам в данную минуту не решусь сказать: бранил его от души, искренне веря в примету, или, наоборот, старался подбодрить и себя, и других объяснением, что всё это от «сглазу»… Во всяком случае, он чувствовал себя виноватым и, ползая на четвереньках в воде, переливавшейся по палубе (ещё одна маленькая подробность. В броневой палубе не было ни одного клапана для спуска этой воды вниз, к приемникам наших могучих водоотливных средств. Её приходилось откачивать ведрами и брандспойтами…), сокрушенно вздыхал и твердил: «Был грех! Был грех!.. Господьмилостив, — авось не засвежеет»…
Господь был милостив — не только не засвежело, но к рассвету зыбь улеглась.
Я дремал в кресле на верхнем мостике, когда меня разбудили. Было совсем светло, и штиль — мертвый.
Неприятель?..
Нет, нет! — ответил старший штурман, крайне непочтительно тормошивший меня за плечи. — Старший механик сейчас был у командира. Угля не хватит. Идем — Кьяо-Чау, а Кьяо-Чау значит — разоружение…
Дорогой мой, ничего не понимаю… Дайте минутку сообразить… Расскажите толком…
Он рассказал. Произошло (Бог весть, по чьей вине) недоразумение. Механик считал, что экономический ход — это значит — пары в 10 котлах (из 24), а командир полагал, что пары будут держаться во всех котлах, чтобы в любой момент можно было дать полный ход, но только при экономической скорости расход пара (т. е. и расход угля) будет меньше. При таком условии угля не хватало.
Я поспешил к боевой рубке.
Штурман, артиллерист, минер — все ближайшие помощники командира — были здесь налицо. Не хватало только старшего механика, который, сделав свой зловещий доклад, ушел вниз.
Командир высказался весьма категорически и, на этот раз изменив обычную систему кратких и определенных приказаний, довольно подробно изложил свои соображения.
По его мнению, при невозможности действовать кормовой артиллерией единственный шанс на спасение крейсера составляла скорость, способность при первой надобности дать самый полный ход. Правда, имея водотрубные котлы, мы, идя экономическим ходом под десятью котлами, могли в 40 мин. времени развести пары во всех остальных котлах и дать полный ход, но неприятелю (даже при условии одинаковой скорости — 17 узлов) было довольно получаса для того, чтобы сблизиться с нами на дистанцию верного выстрела — 30 кабельтовых — и тогда в течение 10 мин. он, благодаря подавляющему преимуществу в скорости, командуя дистанцией, имея в своих руках инициативу боя, — делал бы с нами все, что ему вздумается…
А у нас — только три носовые шестидюймовки… Какая-нибудь «Ниитака» уже сильнее нас, и к тому же действовать будет против нас, как против стоячего… Командир полагал, что поставить крейсер в такие условия — преступление. Это значило бы отдать его на расстрел без всякой надежды хотя бы в отместку нанести какой-либо вред неприятелю…
Итак, нужен был уголь. Где его взять? В Кьяо-Чау? Но, согласно германской декларации о нейтралитете, мы могли простоять там не более 24 часов. Довольно времени, чтобы принять уголь; но успеем ли мы надежно заделать пробоину? Притом своими средствами, так как по той же декларации чиниться нельзя, не разоружаясь!.. А сможем ли мы управиться собственными средствами?..(Впоследствии оказалось, что не могли бы даже и в более долгий срок, а не то что в 24 часа.) Какова пробоина? Мы знали только, что непроницаемая переборка при 103-м шпангоуте разрушена, что вода распространилась от 98 до 108 шпангоутов… Ничего больше.
Зайти только принять уголь? Благодаря телеграфу наш заход немедленно станет известен японцам, а тогда при выходе — встреча и то, что командир называл преступной отдачей крейсера на расстрел неприятелю…
Чиниться? — значит разоружаться…
Положение казалось безвыходным…
Неожиданно ревизор, стоявший на вахте, предложил план, первоначально поразивший всех своей нелепостью.
Остается идти в ближайший французский порт, — заговорил он. — По французской декларации о нейтралитете воюющие могут стоять в их портах неограниченный срок, а также при содействии местных заводов производить всякие починки, кроме исправления и усиления вооружения…
Да ведь это — у черта на рогах! Это — Сайгон! — недоумевали окружающие… — С углем-то как же?
Что ж уголь? А коммерческие пароходы на что? Любой остановим и перегрузим уголь к себе. Оставим ему только до ближайшего порта. Правительство заплатит и за задержку, и за всякие протори и убытки. Еще спасибо скажут, что дали случай содрать… А нам теперь главное — след замести. Японцам и в голову не придет, куда мы хватили!.. Починимся — разговор другой. Притом — все же союзники… Может быть, в какой-нибудь необитаемой бухте и пушки недостающие можно будет заполучить…
Ну, это уж вы размечтались! — прервал его командир, вдруг утративший свой наружно невозмутимый вид и даже как будто развеселившийся. — Но это идея! Идем в Сайгон! Насчет угля — сейчас прикинем!..
Прикинули…
Командир решил, что если не накроют ни сегодня, ни завтра, то южнее параллели Шанхая встреча с неприятелем явится почти невероятной, а потому вопрос о необходимости держать пары во всех котлах отпадает сам собою. Разве в Формозском проливе?.. — да и то сомнительно, а потому при дальнейшем плавании можно будет прекратить пары не только в 14, а даже в 16 котлах и идти под восемью.
Однако даже и при таком скаредном расчете угля не хватало до Сайгона миль на 500, а если принять во внимание возможность свежего ветра в лоб — то еще хуже… Вся надежда была на встречи с коммерческими судами. Что касается свежей погоды, о ней, словно по уговору, умалчивали. Август нов. ст. в Китайском море — пренеприятный месяц в смысле тайфунов. Хуже его только один сентябрь. Ну, а в случае тайфуна, с нашей дырой в боку…
Пока судили и рядили, в 9 ч. утра увидели на горизонте, к северу, корабль, явно нас нагонявший. Поначалу дали полный ход и пустились наутек. Нагоняет. Шибко нагоняет. Кто такой — с носу не разберешь… Вдруг (верно нас увидел) круто бросился в сторону, к востоку. Как повернулся лагом — сразу же признали — «Новик». Другой такой посудины в Тихом океане не было. Начали делать ему отдаленные сигналы — и смотреть не хочет. Несомненно, принял за японца. Послали к нему «Грозовой», неотступно следовавший за нами, разъяснить недоразумение, спросить: что и как?
Пока «Грозовой» гонялся за «Новиком», мы, в ожидании его возвращения, держались почти на месте, работая малым ходом.
За это же время отдали последний долг погибшим в бою. Все восемь были уложены в ряд между кормовыми 6-дюймовками. Зашитые в белую парусину, с подвязанным в ногах грузом, все выглядели одинаково. Только мичман Кондратьев отличался от других положенной ему на грудь саблей и треуголкой. Короткая заупокойная служба при полном сборе всего экипажа; затем командир, офицеры и старшие из нижних чинов подняли их на руки; десантная полурота взяла «на караул»; зарокотали барабаны; печальная процессия тронулась на ют, и отсюда один за другим, медленно скользя за борт по наклонной доске, исчезли в прозрачной зеленоватой глубине бывшие наши боевые товарищи…
Не могу не помянуть добрым словом нашего судового священника. Он так хорошо, так задушевно, совсем не мрачно, а тепло и умиленно совершал службу, словно не похороны, не смерть — а радость воскресения… с такой верой, с такой любовью, склонившись над бортом и давая последнее благословение, произносил «Приими, Господи, раба Твоего, во брани убиенного…»
Не знаю, положены ли такие слова по чину погребения, но они были так к месту…
Я внимательно наблюдал за командой, стараясь подметить её настроение, так как (откровенно признаюсь) побаивался, не произведет ли церемония угнетающего впечатления. «Они» не любят похорон в море. Сколько раз за время долгих плаваний приходилось слышать просьбы тяжелых больных, чтобы доктора «помогли до России», а уж если нельзя, так хоть до ближнего порта, чтобы «хоть на чужой стороне, а все — могилка»…
Многие были растроганы, но не расстроены, не угнетены… Конечно, немалую роль тут играла привычка, приобретенная в Порт-Артуре, но все же, я думаю, главная заслуга была нашего иеромонаха.
Пользуясь штилем и полным отсутствием каких-либо подозрительных дымков по горизонту, остановили машины и послали опытных водолазов обследовать нашу пробоину, в смутной надежде — не удастся ли заделать ее снаружи, так как подкрепление изнутри, по-видимому, было недостаточным. По выяснении истинных размеров повреждения эту надежду пришлось оставить. Оказалось, что не только нельзя прикрыть пробоину деревянным, обшитым подушками, щитом, притянутым к борту болтами на задрайках (для этого она была слишком велика), но даже и пластыря подвести невозможно, так как пробоина задней своей частью приходилась над кронштейном правого гребного винта. На ходу, лопни какой-нибудь конец (веревка), удерживающий пластырь на месте, сдвинься он хоть немного (а за это никогда нельзя поручиться), — и наши винты были бы запутаны…
«Грозовой» вернулся около 1 часу дня. Сообщил, что «Новик» в бою не поврежден, идет к Кьяо-Чау пополнить запасы угля и затем — во Владивосток, кругом Японии.
К сожалению, непосредственных сношений с «Новиком» мы не имели. Может быть, командиры столковались бы.
«Наш» не одобрил.
— Я бы с его скоростью пробовал проскочить Корейским проливом. «Там» — наверно накроют…(Это предсказание, к сожалению, оправдалось.)1 — ворчал он.
«Грозовому» было приказано идти к «Новику» и поступить в его распоряжение.
«Диана» пошла на юг.
Известие о решении, принятом «Новиком», меня взволновало. Рассудок говорил одно, а сердце — другое. Я не мог не признавать всей очевидной справедливости доводов, высказанных командиром; я понимал также, что нельзя сравнивать подбитую «Диану», с ее 17 узлами, и «Новик», совершенно исправный, по скорости не имевший себе равного в японском флоте… И все-таки глубоко, на дне души, шевелилась досадная, дразнящая мысль — «он пойдет, а мы не пойдем…»
Видимо, этот разлад переживал не я один… Около 3 ч. дня, когда, усталый и чем-то недовольный, я сидел в кают-компании, машинально прихлебывая из стакана горячий, но совершенно безвкусный чай (секрет изготовления этого напитка принадлежит вестовым), ко мне подсел первый лейтенант и заговорил на тему, которая самого меня так глубоко затрагивала…
Вы сами — скажите прямо, по-товарищески, — что вы думаете?.. Прекращение паров в 14 котлах — в этом вся суть… Еще не поздно приступить к выполнению нашего первоначального плана… Если рискнуть?.. Скажите по правде!..
Вы знаете, какой я враг этого нашего лозунга «беречь и не рисковать»… Будь, что будет — я бы рискнул!..
Ну вот! ну вот! — весь просиял мой собеседник…
Командир решил иначе. Что же мы с вами можем сделать?., двое…
Нет, нет! И мы тоже! — заговорили вдруг несколько человек, видимо, издали выжидавшие результата переговоров и теперь подошедшие к нам.
Я оглянулся и подсчитал. Пять человек (я — шестой). Ровно половина кают-компании… Не говоря ни слова, взял фуражку и пошел к командиру уже не в качестве старшего офицера, а в качестве уполномоченного.
Начал с разговора «по душе». «Новик» — пошел; «Диана» — не пошла. Вопрос самолюбия, доброго имени крейсера. Конечно — риск. Даже — отчаянный риск. Но если удастся?.. Когда еще разберут: как и почему? а в первый момент скажут: «Удрали»… Обидно… Лучше — пусть раскатают…
Командир, досадливо подергивая плечами и пощипывая бородку, отвечал тоже в тоне дружественной беседы. Повторил то, что уже было им сказано, указал на разницу в положении «Новика» и «Дианы» и так закончил:
— Послушайте! Когда вчера вы мне советовали избрать путь прорыва именно через тучу миноносцев и при этом не светить и не стрелять даже в случае явной атаки, — я согласился. Это было смело, почти дико, но целесообразно. Рискуя так, надеялись спасти крейсер… А теперь вы предлагаете явно губить крейсер без пользы для России, без надежды нанести вред неприятелю… Ведь починившись, сделавшись правоспособным кораблем, стоя в порту союзной державы, мы можем заказать себе угольщика (и не одного, а сколько пожелаем) на какие угодно рандеву… можем пойти во Владивосток — это мое намерение — или, если прикажут из Петербурга, заняться самостоятельными крейсерскими операциями… И что ж? — отмахнуться от всех этих предположений? вести крейсер под расстрел? — Ради чего? ради личного расчета? из боязни «что скажут»?.. Нет и нет! Я принял мое решение, и оно — неизменно.
Странное дело. По существу я не мог возразить ему ни одного слова, но чем больше он говорил, тем упрямее твердил я: «А все-таки «он» пошел… Почему не рискнуть… Все-таки есть шанс…» — Наконец я выдвинул свою «тяжелую артиллерию»:
Я высказываю вам не свое, единоличное, мнение, а решение большинства офицеров, которые…
Я не созывал военного совета и не поручал вам собирать голоса. Мои приказания должны быть в точности исполняемы. Надеюсь?.. — резко прервал меня командир и, круто повернувшись, ушел в рубку…
Наш поход в Сайгон в военном отношении не представляет интереса, а потому не буду говорить о нем подробно.
К вечеру того же дня (29 июля) похоронили еще одного скончавшегося от ран. Среди прочих раненых (всего 19) только один возбуждал опасения доктора. Остальные, как выражаются официальным языком, были «к выздоровлению надежны». За полным разрушением лазарета, все, более серьезные, помещались в офицерских каютах.
Миновав параллель Шанхая, прекратили пары в 16 котлах и начали экономить на угле. Погода благоприятствовала. Только в Формозском проливе прихватило свежим ветром, да и то счастливо — попутняк. Волна приходилась с кормы и слева. Пришлось поработать, но теперь времени было довольно, не наспех. В угрожаемых помещениях поставили целый лес подпор и раскосин.
Настоящий Акрополь! — говорили местные остряки.
Только уже в периоде разрушения — все вкривь и вкось, — дополняли другие.
Совсем не Акрополь, а «Последний день Помпеи», картина Брюллова…
Что бы ни было, но сооружение выдержало свежую погоду.
Опасность надвигалась с другой стороны, и при том опасность, ничем не отвратимая, кроме счастья, кроме удачи, — а этим мы не могли похвастать, — уголь был на исходе…
Надежда на встречу с коммерческими пароходами не оправдывалась. До сих пор мы не встретили ни одного.
— Довольно глупо!.. — заявил командир утром 2 августа, когда старший механик доложил ему, что угля остается меньше чем на двое суток. — Конечно, со стороны судьбы, — поспешил он добавить.
Положение становилось пренеприятным… Зайти в Гонконг? К союзникам нашего врага?.. Крайне несимпатично!..
Неожиданно выручили воспоминания о прежних плаваниях. Командир вспомнил, что года за два до войны заходил на крейсере (кажется, на «Забияке») в местечко Кван-чауван, на полуострове, выдавшемся от материка к о-ву Гайнан. В этом пункте французы арендовали у китайцев клочок территории и собирались устроить морскую станцию.
— Не толкнуться ли туда? Если морская станция уже оборудована — наверно, есть и уголь, а если проект остался проектом — хоть дров заберем! Все же союзники!..
Вечером 3 августа, перед заходом солнца, вошли в устье реки Кван-Чау, а на следующий день (проведя ночь на якоре) поднялись вверх по реке к самому месту французской колонии — миль 25.
Французы приняли нас с истинным радушием и полной готовностью сделать все, что могут. К сожалению (сооружение морской станции осталось проектом), угля у них было всего 200 тонн, да и те не для приходящих судов, а для нужд самой колонии. Из этого запаса они уступили нам 80 тонн — наш суточный расход. Спасибо и на том. Поделились по-братски. С этой подгрузкой и нашими остатками мы могли добраться до Гайфонга, а там — угля сколько угодно.
6 августа вышли из Кван-Чау, а 7 августа стали на якорь на рейде Bay d'Along. Здесь нас уже ждали баржи, груженные брикетами. Приняли полный запас.
12 августа «Диана» пришла в Сайгон.
Донесение командира было передано в Петербург по телеграфу еще 7 августа, а потому мы, вполне естественно, ждали, что первый же человек, который взойдет на палубу крейсера, вручит командиру шифрованную депешу за подписью кого-нибудь из высшего начальства.
Ничего подобного… не только в этот день, но даже и в последующие…
Местные власти были предупреждены своими коллегами из Кван-Чау и Гайфонга, но также недоумевали: почему из Парижа нет ни звука?
— Разве вы не уведомили свое правительство? Почему наши как будто ничего не знают? — спрашивал адмирал Жонкьер.
Что можно было ему ответить?.. Мы сами ничего не понимали…
Вместо ожидаемых инструкций из Петербурга в сайгонских газетах появилась телеграмма агентства Гаваса, сообщавшая, что русское правительство решило разоружить находящиеся в нейтральных портах — «Цесаревич», «Аскольд» и «Диану».
Бронепалубный крейсер 1-го ранга «Диана» (однотипный с бронепалубным крейсером 1-го ранга «Аврора») после интернирования в Сайгоне после боя в Желтом море 28 июля (10 августа) 1904 года. Над носовой частью крейсера натянут тент
По отношению к себе мы не поверили. С какой стати по доброй воле, по собственной инициативе разоружать корабль, который пришел чиниться в порт дружественной и союзной державы? державы, которая кораблям обеих воюющих сторон предоставляет право неограниченной стоянки в своих портах и пользование всеми их средствами для исправления повреждений по корпусу и машине?..
Как резкая противоположность холодной сдержанности Парижа и величавому молчанию Петербурга, сказывалось горячее участие к нашей судьбе местной, колониальной администрации.
На другой же день по приходе к нам явились портовые инженеры, потребовали чертежи крейсера для подготовки дока к его приему, обследовали, как могли, пробоину и обещали починить в срок 10–14 дней.
— Какой вздор? — сердился французский адмирал, когда ему высказывали опасения по поводу упорного молчания столиц. — Неужели там не понимают, что ваша первая очередь, а наша — вторая! Мы должны держаться за свою декларацию о нейтралитете обеими руками, в обхват! В случае войны мы окажемся в том же положении, как вы теперь, — без пристанища, с одним Сайгоном!
А время шло…
Главный портовый инженер чуть не каждый день забегал на крейсер узнать, нет ли ответа из Европы…
— Постойте! — говорил он. — У меня есть подозрение! Может быть, они боятся позволить вам войти в док потому, что тогда придется пускать в него и японцев, а наш док как раз в центре депо нашего подводного флота!.. Но тогда пусть ответят! что-нибудь ответят! Мы вас починим без дока! Конечно, не здесь, на этом ужасном течении, тут невозможно, но вы можете уйти куда-нибудь в тихую бухту, в Камранх, в Порт Дайотт… Кессон, как в Артуре… вас нечего учить… Материалы, мастеровые — всё будет! Да, чёрт меня побери, я сам приеду в качестве развлекающегося иностранца! Сделаем крепче старого!.. Ответ! Ответ! Добудьте ответ!..
Как и откуда мог я добыть ему этот ответ?.. Не я один, все мы бродили, как потерянные, в ожидании этого ответа, решавшего нашу участь…
Через сношения с нашими агентами и консулами в разных портах были уже зафрахтованы пароходы, готовые по условной телеграмме выйти в море и доставить нам уголь на указанное рандеву… Надо было только получить из Петербурга хоть какой-нибудь ответ, какое-нибудь определенное приказание… хотя бы сообщение, что в док не пустят, — делайте, что можете. — Мы бы управились!.. (Конечно, при содействии добрых друзей, но ведь они в этом не отказывали!)
Наконец ответ пришел… Такой ответ, какого не ждали не только мы, но даже и местные французы…
За этот проклятый день в моем дневнике записано только:
«22 августа. — Все кончено. — Сегодня в 11 ч. утра получена телеграмма — разоружаться».
Текст телеграммы не внесен в мою записную книжку, но я не только его помню, я, как сейчас, вижу перед собой этот лоскуток бумаги… «Она» была даже не шифрованная… «Она» гласила:
«Генерал-адмирал приказал крейсеру кончить кампанию, спустить флаг и разоружиться по указанию французских властей. Авелан».
Что тут было! — почти бунт…
— Не позволим спускать флага! — Не допустим разоружения! В море! В море! — кричали в кают-компании…
Остановить этот порыв не было возможности. Дав накричаться и отвести душу, я попросил слова.
— Господа! Судьба крейсера решена. Никакие наши протесты не могут отменить приказания, отданного именем генерал-адмирала…
Глухой ропот прервал мою речь…
— Позвольте кончить! Крейсеру приказано разоружиться, но это будет выполнено официально еще через несколько дней, а между тем командиру довольно и получаса, чтобы всех нас списать с крейсера за нарушение дисциплины и критику распоряжений высшего начальства в военное время. Он имеет на это полное право, пока корабль под флагом, и не обязан в своих действиях давать отчета французскому правительству…А раз списан — на все четыре стороны!.. Например — на вторую эскадру…
Командир вполне сочувственно отнесся к моей идее, но, конечно, не согласился отпустить всех желающих, так как нельзя же было оставить крейсер вовсе без офицеров. Я получил разрешение не в счет, а прочие — метали жребий. Судьба решила, что из состава кают-компании уезжали: старший офицер, один лейтенант, три мичмана и два механика; оставались — два лейтенанта (один — за старшего офицера), два мичмана и два механика; доктор и священник не шли в счет — они все равно не могли уехать.
В то же время я телеграфировал адмиралу Рожественскому:
«Крейсер разоружается. В память старой службы прошу разрешения нам прибыть на вторую эскадру. Невыносимо сидеть сложа руки, когда другие дерутся».
Ответ получился благоприятный.
Вскоре же в отелях Сайгона появилась партия etrangers de disrtaction, ожидавших ближайшей оказии, чтобы отбыть в Европу.
«Диана» официально разоружилась, и командир ее вручил генерал-губернатору список офицеров и команды, находящихся на крейсере, удостоверяя, что они не примут более участия в военных действиях. Такое удостоверение (все равно, что сдача на «честное слово») освобождало французские власти от обязанности наблюдать за «интернированными», дабы воспрепятствовать их побегу.
Конечно, нас в этом списке не было.
31 августа отбыла первая партия (трое) знатных иностранцев на товаропассажирском пароходе (Этим не посчастливилось — они опоздали на вторую эскадру.), а 2 сентября на пароходе «Polynesien» общества Messageries Maritimes выехали из Сайгона господа Bernard Christian, ecrivian (начальные буквы были подогнаны на всякий случай к меткам на белье. — В. С), инженер Friedrich Shoeshling и два техника, служившие в Дальнем, — Мейер и Шульц. Эти последние путешествовали даже во втором классе, чтобы не возбудить подозрения основательным знанием одного только русского языка.
ПОХОД ВТОРОЙ ЭСКАДРЫ
I От Сайгона до Либавы. — Выход эскадры из аван-порта. — Первые впечатления. — Беседа со старым соплавателем. — В звании пассажира при штабе адмирала Рожественского. — «К непосредственному боевому опыту надо относиться с тщательной критикой…»
Итак, господа Christian (офранцузившийся швед), Shoeshling (природный немец) и обрусевшие немцы Мейер и Шульц благополучно отбыли из Сайгона 2 сентября 1904 г. на пароходе Messageries Maritimes.
К сожалению, никто из них за время плавания не вел дневника, а потому описывать его подробно я не берусь, так как обещал читателям строго держаться документов, каковыми я, из числа заметок очевидцев, считаю только те записи, которые сделаны в самый момент совершающегося факта. Воспоминания всегда имеют окраску, приданную им последующими событиями, участником или свидетелем которых был автор. Это является неизбежно, помимо его воли.
В данном случае, имея возможность руководствоваться только воспоминаниями, буду краток.
Опасность, грозившая путешественникам, заключалась в том, что любой вспомогательный крейсер японского флота, получивший надлежащие сведения, мог остановить пароход и потребовать выдачи военной контрабанды. Конечно, для этого нужно было прежде всего удостоверить личность, но, на несчастье, это оказывалось нетрудным, так как невольные «путешественники», не подозревая ожидающей их участи, за время пребывания в Сайгоне широко пользовались услугами многочисленных фотографов. Между тем сами французы признавали, что японских шпионов в городе достаточное количество, а из Сингапура доносили, что в Малаккском проливе держатся японские крейсера.
Огромное большинство пассажиров составляли, вполне естественно, французы, но были и представители других национальностей. В I классе — несколько англичан, а во II — кроме европейцев, еще и местные жители: анамиты, малайцы, китайцы и даже два японца.
Главным образом ради этого элемента и разыгрывалась комедия, в которой принимали участие не только «путешественники», но и капитан парохода, и многие французские офицеры, ехавшие в отпуск, и возвращавшийся в Париж депутат от Кохинхины Deloncle.
Все они, неоднократно бывавшие на «Диане», по-видимому, совершенно не обладали памятью на лица. Знакомство завязалось только впоследствии, да и то, по внешности, довольно туго. Наши милые спутники, в своем пристрастии к «lа mysere», даже чересчур старались, но выполняли это с большим искусством, так быстро меняя тему и тон разговора при появлении вблизи «нежелательных субъектов», делая такие неожиданные выпады, что порой хотелось от души смеяться и даже аплодировать. Так, однажды, горячо, но вполголоса обсуждая действия Куропаткина под Ляояном, французский капитан в том же тоне, но с еще большей таинственностью, указывая на гулявшего по палубе Мейера (небольшого роста, сильного брюнета), заявил: «Мне этот русский немец очень подозрителен… не японский ли шпион? Сколько их развелось! Всюду, всюду!..» — Оказывается, к нам подошел и сел неподалеку один из англичан. Лейтенант из legion etrangere, хорошо говоривший по-шведски, при таких обстоятельствах никогда не упускал случая практиковаться в употреблении этого языка, рассказывая г. Christian о том, как он провел несколько лет в Швеции, причем его собеседник чувствовал себя довольно затруднительно, но храбро подавал реплики (безбожно путая датские, шведские и немецкие слова) и делал вид, что из любезности торопится перевести разговор на французский язык.
Разумеется, все разговоры в своей компании, вне опасности быть услышанными, вертелись около войны. К сожалению, как это ни странно, наши приятели были осведомлены о ближайших по времени событиях не больше нашего. Обе сайгонские газеты (очевидно, в силу экономических соображений) не только не получали и не печатали полностью телеграмм агентства Рейтера, но даже и с агентством Гаваса имели особое условие. Телеграммы занимали на их столбцах лишь несколько строк, да и то не каждый день. Сведения черпались главным образом из газет метрополии, приходивших еженедельно и находившихся в пути от 22 до 25 дней. Что касается второй эскадры, ее состава и времени отплытия, то французы не только не могли просветить нас, но у нас же спрашивали, как мы на этот счет думаем. Правда, на основании частного письма из Парижа один из спутников сообщил слух, что Россия ведет переговоры о покупке броненосных крейсеров — четырех аргентинских (типа «Кассуга») и двух чилийских, но есть ли надежда на удачное завершение сделки — оставалось неизвестным. Зато много говорили о вспомогательных крейсерах.
Об этих крейсерах мы слышали еще в Порт-Артуре. Там рассказывали (Бог весть, из каких источников), что приобретены лучшие пароходы Hamburg — America — Linie, что они со дня на день могут появиться в Китайском море и в Тихом океане на путях, ведущих в Японию. Один слух о возможности их появления оказал огромное влияние на повышение фрахтов. Вскоре, однако же, все эти разговоры сошли на нет…
Любопытно отметить тот факт, что французы ожидали от наших вспомогательных крейсеров именно той деятельности, которую в своих мечтах приписывали им артурцы.
— Tenez, mon commandant! — горячился в разговоре со мной старший помощник. — Вот я — моряк коммерческого флота. Охотно возьмусь везти что угодно и во Владивосток, и в Порт-Артур. Но ведь не буду же я таким идиотом, чтобы, выходя из Марселя, иметь мои документы на блокируемые порта! Неужели поблизости к ним не найдется порта, а в этом порте торговой фирмы, которой можно было бы адресовать мой груз? Да на самом моём пароходе никто, кроме меня, не знал бы об истинном нашем назначении! Мои помощники, мой экипаж могли бы с чистой совестью, под присягой, показывать, что мы непричастны к военной контрабанде! Не говоря уже про документы! — ни одной компрометирующей бумажки!.. Вы скажете: — А военные припасы? пушки? — Какой вздор!.. Почему я не могу везти все это в Кьяо-Чау по заказу германского правительства?.. (Конечно, если германское правительство обещает содействие.) Несомненно, что так и поступают те, которые везут военную контрабанду в Японию… Контрабандистов надо ловить на последнем марше к порту назначения. Тогда — нет отговорок. Дело ясно. Но задерживать их за тысячи, даже за десятки тысяч миль от цели их плавания… Это — безумие! Это — полное отсутствие самого элементарного представления о крейсерских операциях!.. Ничего не выйдет, кроме недоразумений, и, простите, обидных для России недоразумений!..(Так и случилось в эпизоде с пароходом «Малакка».) Кто ведает у вас этим делом? Surtout, qui tient les cordons de la bourse?.. По-моему, тут не может быть двух мнений — или sancta simplicitas, которой все прощается (но тогда — это плохой выбор), или — c'est de la trahison… Я вам скажу больше: ваши «Терек», «Кубань», «Урал», которые при перечислении вспомогательными крейсерами в германский флот были бы вооружены каждый четырнадцатью 6-дюймовками, получили у вас какую-то игрушечную артиллерию, и любой авизо в 2–3 тысячи тонн, не уступающий им в скорости, может их уничтожить!.. Что это такое? В чем секрет? C'est de l'ignorance, ou de la bourse?..
Я не мог не любоваться этим, всегда спокойным и холодным, морским волком с лицом, сожженным солнцем (sunburnt, как говорят англичане), так волновавшимся, так близко к сердцу принимавшим ошибки людей, руководивших деятельностью морских сил de la nation amie et allise… Чрезвычайно характерно, что он даже не пробовал разбирать действия линейного флота, об этом он только расспрашивал; но что касается операций вспомогательных крейсеров, того поприща, на котором он сам должен был выступить в случае войны, тут, в этой сфере, он чувствовал себя вполне компетентным и, не стесняясь, высказывал свои мнения… Он не понимал… Нет! не понимал!.. — «Неужели не нашелся ни один самый простой, le plus ordinaire des vrais marins, который взял бы на себя смелость сказать самому императору: Sir, c'est pas ca!..»
Наивность почти трогательная…
— Et puis ces bruits qui courrent a propos de toute cette affaire! Que ce qu'il arrive? Que ce qu'on fait? Est-ce-vrai? Mon cher commandant! Dites! Dites!..
Но что сказать?.. Я сам ничего не знал достоверно, хотя, читая иностранные газеты, знакомясь со слухами, не мог не проникаться смутной тревогой за будущее…(Я не хочу забегать вперед, выписывать из моего дневника сведений, добытых мною позже.)
В Суэце Bernard Christian получил телеграмму (на французском языке): «Прямо Либаву, кратчайшим путем».
Посоветовались с приятелями, покопались в путеводителях, — длиннейший по расстоянию, но кратчайший по времени, оказался путь через Марсель.
Так и решили.
В Порт-Саиде, где пароход остановился для приемки угля, видели «Петербург» и «Смоленск». Только издали. Даже близко не подпускали. Они стояли, как зачумленные, оцепленные кордонами и с суши, и с воды… Впервые пришлось быть свидетелем такого унижения русского флага… Спасибо французам: они (это я узнал позже) организовали настоящую охрану с целью не допускать в наши руки местных английских газет, в которых «Петербург» и «Смоленск» en routes letters назывались пиратами, причем, во имя удовлетворения законного негодования цивилизованных наций и в пример прочим варварам, чтоб им впредь неповадно было, рекомендовалось выпустить эти крейсера в море и там расстрелять, утопить со всем экипажем, никому не давая пощады.
Мы простояли в Порт-Саиде только несколько часов (сколько помнится — с 9 ч. вечера до 2 ч. ночи) и пошли дальше.
В Средиземном море — не повезло. На следующий же день — поломка в машине. Починились своими средствами, но уже не могли давать больше 12 узлов, да и то несколько раз приходилось останавливаться и что-то подправлять… В результате — опоздали приходом в Марсель на целые сутки. Тут новая незадача… Мистраль так и рев`т. В гавань войти нельзя, а из-за стачки портовых рабочих для перевозки с парохода на берег пассажиров и их багажа компания могла добыть только два небольших буксирных пароходика, укомплектованных штрейкбрехерами. Нас с нашим ручным багажом свезли в тот же день, что же касалось вещей, сданных в багажный трюм, то получения их нельзя было ожидать раньше суток…
А между тем… — «Прямо Либаву, кратчайшим путем».
Известные читателям путешественники, теперь уже не слишком заботившиеся о сохранении своего инкогнито, метались по пароходу и чуть не устроили скандала…
— C'est pas un paquetbot! C'estun guet-a-pens! — наскакивал на капитана В. Christian. — Pourrais-je prendre le rapide de ce soir? Dites, mon commandant!
Ah-la-la! — кричал капитан парохода. — Suis-je le Bon Dieu? Dites, mon autre commandant!..
Du calme! du calme! — взывал Deloncle, бросаясь между ними… — Voyez bien — c'est la force majeure! — твердил он в одну сторону. — Pour ces braves, des heures, des minutes perdues — c'est la question d'etre en retard pour la seconde esquadre!.. — увещевал он капитана, готового требовать сатисфакции…
Съехав на берег, первым делом отправились в консульство. Благодаря мистралю температура резко понизилась; было + 15 °C. Местные дамы ходили по улицам, закутавшись в меховые боа. Наши тропические костюмы привлекали на себя общее внимание. Мальчишки что-то кричали; собаки, кажется, лаяли… В консульстве в первый момент от нас шарахнулись (будь это теперь — наверно, приняли бы за экспроприаторов), но когда я заявил, кто мы такие и откуда, — обращение резко изменилось.
Где вторая эскадра?
Ничего не знаю. По-видимому, еще в России…
Когда выйдет? Успеем ли захватить ее в Либаве, выехав завтра вечером через Париж в Берлин?
Генеральный консул (очень симпатичный и любезный пожилой господин) только развел руками…
— Хорошо! Тогда — так: будьте добры отправить срочно вГлавный морской штаб телеграмму, которую я сейчас составлю. Завтра вечером (раньше невозможно) мы выедем, а послезавтра утром в Париже, в посольстве, получим указания, каким экспрессом и куда направиться…
— Великолепно! Пишите — все будет сделано. Телеграмма написана. Распоряжения отданы.
А теперь, m-r le consul, не поможете ли нам дружеским советом: где бы приобрести готовые костюмы, более соответствующие октябрю, чем наши?..
Да, признаюсь, не зная, я… очень удивился, — засмеялся консул. — Вам положительно следует одеться!..
При благосклонном (можно прямо сказать — дружеском) содействии секретаря консульства, марсельского старожила, нас, во-первых, пустили в хороший hotel, а во-вторых, так быстро «одели», что уже к обеду (часа через два) мы перестали возбуждать подозрения добрых граждан своей внешностью.
Мейер и Шульц почему-то вдруг проявили необыкновенную самостоятельность, решили, что я им больше не начальство, и уехали утром следующего дня экспрессом через Вену (Они опоздали. Впрочем, Мейер попал в отряд Небогатова.). Мы двое, сохраняя намеченный маршрут, выехали вечером. В 9-м часу утра следующего дня — в Париже, и немедленно в посольство. Встреча со стороны услужающих довольно холодная (вероятно, заподозрили в нас соотечественников, проигравшихся в Монте-Карло), говорят: «Так рано посол не принимает и т. п…» Однако же, когда на оборотной стороне карточки В. Christian я написал карандашом: «кап. 2 ранга и мичман с «Дианы» — то едва лишь успели ее унести, как все двери перед нами широко открылись.
Посол — Нелидов — принял нас крайне радушно, но о второй эскадре не мог сообщить ничего достоверного, хотя собственный его сын был на «Ослябе». Звонили по телефонам, посылали в главный почтамт и наконец получили телеграмму на имя В. Christian — «Торопитесь Либаву».
В час дня Nord-Express'oM выехали на Берлин.
Около 10 ч. вечера 29 сентября на станции Вержболово, через 27 дней по отбытии из Сайгона, etranges de distraction, В. Christian и F. Shoeshling скромно стояли у своих чемоданов в ожидании очереди, когда в зал таможенного досмотра, гремя шпорами, поспешно вошел бравый полковник.
— Господа офицеры с «Дианы»?.. — Позвольте познакомиться… Прошу закусить. Время есть. Что? — Багаж? — Отдайте ключи — все сделают! Лишнего не возьмут! Да с вас, кажется, и брать нечего.
Мы не заставили себя долго упрашивать и, после кухни экспресса, так налегли на закуску и на цыплят по-польски, что полковник, рассчитывавший поговорить, узнать много нового, был, видимо, разочарован…
Вы прямо в Питер?
Да нет — в Либаву…
В Либаву?.. Так вам и торопиться нечего! Если поедете с этим поездом — все равно придется 9 часов ждать пересадки на Либаво-Роменскую!.. Да еще на отвратительном полустанке, где даже прилечь не на что! Оставайтесь ночевать, выезжайте с утренним согласованным поездом.
— Где ж тут ночевать?..
— Не беспокойтесь! Велю открыть апартаменты — так заснете, как давно, поди, не спали!
Да нам к спеху!.. Нельзя ли заказать экстренный поезд?.. Заплатим…
Фью! — свистнул полковник. — Во-первых, за разрешением надо телеграфировать министру путей сообщения, а во-вторых, это обойдется больше трех тысяч!.. Или у вас денег куры не клюют?.. Говорю — ночуйте. Уж я знаю… И чего вам приспичило в Либаву? Добро бы в Петербург!
Да ведь вторая эскадра не сегодня, завтра уйдет в море! — У меня телеграмма есть!..
Так вы на вторую эскадру?
Конечно!
После шести месяцев Порт-Артура…
— Не сидеть же сложа руки, когда другие дерутся! Полковник хотел было что-то сказать, но словно поперхнулся и скомандовал — «шампанского!..»
Около 2 ч. ночи 30 сентября прибыли в Либаву. Здесь нас обоих ожидал приятный сюрприз. Помощник начальника главного морского штаба (контр-адмирал Н.) нашел возможность и время предупредить наших родственников о вероятном часе нашего прибытия. Нас встретили. За ночь, конечно, глаз не сомкнули, а к подъему флага (к 8 ч. утра) уже были в порту. Тут — сутолока невозможная. С трудом добыли катер и отправились в аванпорт, на броненосец «Князь Суворов», на котором держал флаг командующий второй эскадрой.
Встреченные довольно холодно в штабе, мы были зато чрезвычайно сердечно приняты адмиралом. Моему спутнику, мичману, сейчас же нашлось место на миноносце, что касается меня, то по моему чину дело обстояло сложнее… Адмирал обнадежил, что «как-нибудь устроим», а пока что приказал перебираться на «Суворов» просто пассажиром.
Флагманский корабль командующего 2-й эскадрой Флота Тихого океана вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского (1848–1909)
На эскадре, готовившейся к выходу в дальнее плавание, спешно грузили запасы и материалы, принимали уголь, шла, как говорят на флоте, такая «горячка», что с кем-либо обстоятельно потолковать, о чем-нибудь расспросить — и думать не приходилось. Да и сам я спешил воспользоваться несколькими часами свободного времени, чтобы закупить на берегу вещи, необходимые в походе. Кое-что привез из дому (из Петербурга) брат, выехавший мне навстречу, кое-что удалось привезти с «Дианы» (Это «кое-что», т. е. форменное платье, шло на пароходе в виде груза, адресованного торговым домом «Матэ», в Сайгоне, некоторому торговому дому в Марселе, было упаковано в ящики с соответственными клеймами и не имело ничего общего с «путешественниками»), но все же многого не хватало.
Несмотря на уверения старшего офицера «Суворова», что завтра ровно в 9 ч. утра будет с берега последняя шлюпка, я, прибыв на пристань 1 октября за 1/4 часа до назначенного срока и прождав более получаса, так её и не видел. Ничуть не огорчился: знакомое дело — «горячка». Кто-нибудь подвезет! Взялся подвезти катер с «Александра III». В 10 ч. утра был на месте. Ранний выход не состоялся. Из-за малой воды некоторые корабли днищами касались грунта, ползали по илу и никак не могли развернуться…
— Недурен порт! Полюбуйтесь! — желчно бросил адмирал, проходя мимо меня…
По счастью, еще с утра потянул слабый SW, и вода пошла на прибыль. «Суворов» тронулся только в 4 часа пополудни.
Хорошо помню этот день. Низкие серые тучи; не то туман, не то изморось; сумрачные лица; руки, засунутые в карманы; головы, прячущиеся плотнее в воротник пальто, за который то и дело пробираются струйки холодной воды; общая нервность и раздражительность — не то от погоды, не то от досады на все эти мелкие неудачи, не то… от тревоги по поводу недобрых примет…
— Не отпускает Либава!.. — Совсем не Либава, а строители порта! — погода как на похоронах… — Дождь — это к благополучию при отъезде! — Да еще пятница!.. — Зато — Покров! — слышались то тут, то там отрывистые замечания…
Не знаю, те, что находили приметы благоприятными, были ли искренни? Вид у всех одинаково был далеко не веселый.
Я им удивлялся. Я ведь еще не знал того, что им было хорошо известно; я даже о составе эскадры еще не успел расспросить толком, а о степени ее боевой готовности не имел ни малейшего представления. Я был счастлив одной мыслью, что попал на эскадру до её ухода из России! Какие могли быть сомнения? Раз посылают эскадру, значит, она в силах помериться с врагом! Иначе и посылать бы не стоило! Будущее — в наших руках!.. И несмотря на серенький день, на хмурые лица окружающих — на душе у меня пели райские птицы.
Ярко запомнился один эпизод этих проводов.
«Суворов» уже выходил из ворот аван-порта, когда ко мне подбежал мичман князь Ц.
— Это ваши! это ваши! скорей! скорей! — говорил он, тащаменя за руку к левому борту.
Я вышел на площадку левого трапа.
Неподалеку от броненосца, мотаясь на зыби и зарываясь носом, держался небольшой, серого цвета, паровой баркас под инженерным флагом. На палубе, уцепившись за рубку, стояли мой брат и его жена. Он что-то кричал (чего нельзя было разобрать за шумом ветра) и махал фуражкой, а она высоко над головой поднимала свою собачонку Темика, как бы показывая, что и этот малый зверь участвует в моих проводах, хочет со мною проститься…
Какие пустяки, но как они врезываются в память!..
Броненосец прибавил ходу. Серенький баркас спешно юркнул в гавань. Впереди было открытое море…
В этот день тронуться в путь-дорогу так и не удалось. Что-то приключилось с «Сисоем», который застрял в гавани. Кажется, он потерял якорь и его разыскивал. Остались ждать. С выходом из аван-порта суета на броненосце несколько улеглась. Явилась возможность несколько разобраться в вещах, наскоро брошенных в каюту, оглядеться, устроиться и кой о чем расспросить. Среди штабных у меня не оказалось ни одного старого соплавателя, с которым можно было бы поговорить по душе. Правда, старший флаг-офицер лейтенант С. был почти моим товарищем (он отстал от нашего выпуска в 1 — й роте), но после того в течение 20 лет мы встречались очень редко и могли считаться только знакомыми, отнюдь не приятелями… К тому же все они (штабные) имели такой озабоченный вид, что подступиться к ним с частной беседой я не решался. Зато в кают-компании нашлись двое — старший артиллерист и старший механик, с которыми немало пришлось соли съесть на «Донском» и на «России». К ним-то я и обратился за разрешением моих недоумений.
— Почему это взяли с собою «Сисой»? — спрашивал я. — Ваш отряд 18-узловый, а ведь он, дай Бог, на 14!
Старший механик поглядел на меня как-то странно, словно стараясь угадать: шучу я или говорю серьезно?.. Наконец сообразил:
Да!.. Ведь вы прямо из Артура!.. Ну так вот: скорость тут не играет роли; «Сисой» свои 14 даст, а из наших — на «Бородине» при ходе 12 узлов уже греются эксцентрики; что же касается «Орла», то он вовсе не успел сделать положенных испытаний, и на какую его скорость можно рассчитывать (на долгий срок и без поломок в машине) — совершенно неизвестно… «Суворов», «Александр» и «Ослябя» — ну, эти, пожалуй, 15—16-узловые…
Ну, а «Наварин» и «Нахимов» с их пушками в 35 калибров на устарелых установках? «Донской» — эта старая коробка? Я очень его люблю, долго на нем плавал… но куда же ему в бой?..
Да кого же брать-то? Если бы можно было снарядить, прихватили бы с собой и «Мономаха», и «Корнилова», и всякую другую рухлядь! Ведь это все корабли, числящиеся боевыми судами флота! В бумажной войне, которую разыгрывали в тиши кабинетов наши стратеги, все они были на учете, согласно всем данным справочной книжки! Нельзя же теперь, когда началась настоящая война, объявить их хламом!.. Он горько засмеялся…
Эскадренный броненосец «Император Александр Третий». В форштевне откинута крышка носового торпедного аппарата
— Но «Слава»? «Олег»? «Изумруд»? Где они?..Опять взгляд, полный недоумения…
Про «Славу» и говорить нечего — она и через год еще вряд ли будет готова… «Олег», «Изумруд» — не только не начинали испытаний, но даже и постройкой не вполне закончены. Прислали их в Ревель, да в таком виде, что адмирал решительно отказался навязывать себе на шею эту обузу… Говорят — догонят нас в дороге…
А чилийцы и аргентинцы?..
— Ничего не выйдет! — безнадежно отмахнулся он. — Только зря разбрасывают сотни тысяч, если не миллионы, разным авантюристам, которые обещают оборудовать покупку!..
Наступило молчание. Райские птицы перестали петь свои песни. На душе было смутно и тревожно… Не хотелось верить, но беспощадная действительность так ярко била в глаза… Я хорошо знал моего собеседника и в правдивости его слов не имел повода усомниться…
— Конечно… — промолвил я, — если так… приходится брать с собой все, что можно… Будет ли толк? Если бы эти старые корабли были там, на месте, к началу войны, — они могли бы, опираясь на укрепленный порт, принести немалую пользу, выступая против соответственного противника и уклоняясь от встречи с неподходящим… Но отмахнуть конец в 12 000 миль с тем, чтобы в заключение этого похода силой прорываться к своей базе, вступить в бой, инициатива которого будет в руках неприятеля, драться, может быть, с лучшими его кораблями, совершенно свежими, только что покинувшими свои арсеналы… — мало шансов на успех такого предприятия…
И я то же думаю…
Жаль, что в 1901 году этот отряд вернули в Кронштадт…
Вот, вот! — встрепенулся мой собеседник. — Меня прямо злость берет, когда я об этом вспомню! На кой черт вернули? Под предлогом сокращения кредитов на плавание? — Так ведь не все ли равно, где кончить кампанию? Где стоять — в порту под крышей — в Кронштадте или во Владивостоке?.. Говорили — требуется капитальный ремонт, с которым Владивосток не справится… А знаете ли, я прикидывал, что стоили только уголь и смазочные материалы, потраченные на переход отряда из Тихого в Балтийское, не считая других расходов… — больше полумиллиона!.. Если бы эти полмиллиона затратить на расширение мастерских Владивостока, так они бы с успехом этот ремонт выполнили! И «старички», подмолодившись, при первых выстрелах начали бы кампанию! и поработали бы! Можно было бы иметь две эскадры: первую — в Артуре, вторую — во Владивостоке! Ну-ка?.. А теперь?.. Это еще не весь счет к уплате! Этот поход тех же, наскоро отремонтированных кораблей на Восток, поход в военное время, когда мы за все платим втрое, вчетверо, — во что он обойдется? для них же? — миллиона полтора, а то и два!.. Сэкономили!.. Просто привычка! Рутина проклятая: «суда эскадры Тихого океана, требующие капитального ремонта, возвращаются в Кронштадт»… Конечно, могло играть роль и другое соображение: от заказов, работ и заготовок Владивостокского порта под шпиц ничего не перепадет… пропавший процент… А теперь — не пропало! Корабли, может быть, и пропадут, но процент — в кармане!.. Эх!.. — И, как всегда (это была его привычка), рассердившись, он порывисто схватил фуражку и убежал в машину.
— Не преувеличивает ли «генерал» («Генерал» — приятельское прозвище старшего механика, приобретенное им еще за время плавания на «России», много лет назад.)? Неужто так плохо? — думал я, оставшись один в его каюте… и — пошел в кают-компанию.
Здесь, за исключением самой зеленой молодежи, почти все оказались хорошими знакомыми по эскадре Тихого океана.
— Надежный состав! — невольно подумалось мне.
Разговор не смолкал, но я не мог не заметить, что в то время, как меня осаждали вопросами об Артуре, о приемах, практикуемых японцами, о бое 28 июля и т. п., мои попытки — услышать откровенные отзывы о второй эскадре — не приводили к цели. Словно мои собеседники о чем-то умалчивали, не хотели распространяться на эту тему. Не секретничали же они передо мною! — Конечно, нет. И в этот, и в последующие дни, — они просто воздерживались громко высказывать то, что каждый из них думал про себя.
Напомню, что Главный морской штаб был завален просьбами о назначении на вторую эскадру и был вынужден отказывать многим весьма достойным офицерам; комплектация была усилена, и все-таки, даже сверх этого усиленного комплекта, на судах были офицеры, сумевшие убедить начальство, что лишний человек на корабле не Бог весть какой груз, а в бою пригодится на случай убыли. В общем, можно сказать — эскадра была укомплектована охотниками. Откуда же это загадочное настроение?.. Я вскоре понял его, а впоследствии и сам ему поддался… Но не буду забегать вперед. Придержусь в точности записей моего дневника.
За ночь «Сисой» справился со своей задержкой, и 2 октября эскадра четырьмя эшелонами тронулась в путь. Погода была тихая, пасмурная. Временами шел мелкий дождь.
Я так и остался пассажиром. Свободных мест не было, а убрать кого-нибудь и откуда-нибудь ради меня — было бы ему тяжким оскорблением. Я не только не просил ни о чем подобном, но даже, если бы и предложили, отказался бы. Я считал себя вполне удовлетворенным сознанием, что получил возможность «выдержать марку» до конца, не сидеть в Сайгоне в то время, как другие будут драться, чтобы этим последним и в голову не могла прийти мысль: «повоевал, а теперь отдыхает…» Нет и нет!
Корабли 2-й эскадры Флота Тихого океана. Слева — два эскадренных броненосца типа «Бородино», в центре — эскадренный броненосец «Сисой Великий», справа — бронепалубный крейсер 1-го ранга «Светлана»
Я бы всю жизнь мучился этим подозрением. Мне казалось, что безразлично, в каком звании — историографа, корреспондента, пассажира, хотя бы вольнонаемного буфетчика, — но я должен еще раз подставить мою голову, должен наглядно доказать, что для меня нет горшей участи, чем та, которая постигла «Диану»…
Прошу моих сухопутных читателей не думать, что слово «пассажир» я употребляю в ироническом смысле: такое состояние флотского офицера предусмотрено морскими законами. Если офицер оказывается зачем-нибудь или по какому-нибудь случаю на корабле, не имея на нем определенного назначения, то он называется пассажиром, жалованье получает по чину, а вместо морского довольствия — пассажирские деньги (приблизительно ту сумму, которую платят офицеры за свой стол в кают-компании), причем в случае надобности местное начальство может поручить ему ту или иную работу, дать временное назначение, но вообще он без дела — пассажир.
— Ничего, что у вас нет определенного занятия, — вы нам много поможете своими рассказами о том, что и как было, как и что вышло… — говорил мне адмирал. — Наши на вас так насядут, так вам придется работать языком, что ни о какой другой работе и не подумаете! — шутливо закончил он.
В этом отношении он глубоко ошибался. Я говорил уже, что в штабе меня встретили холодно, чтобы не сказать более. Отчасти это было понятно. Они, избранные из всего наличного состава офицеров флота, трудились, работали, готовили эскадру, сочиняли приказы и циркуляры, составляли инструкции, напрягали все свои способности, прилагали все знания, всю опытность, чтобы все предвидеть, все предусмотреть… наконец — с ними вместе работали и главный штаб, и технический комитет — учреждения непогрешимые… и вдруг — по какому-то капризу адмирала какой-то старший офицер с какого-то крейсера, только потому, что шесть месяцев просидел в Порт-Артуре, где ничего не сумели сделать, как следует, — будет давать им советы и указания!., «его» надо спрашивать!..
Конечно, никто и ни о чем меня не спрашивал… Мало того, когда я сам начинал с кем-нибудь из специалистов разговор о том, какие приемы практиковались в Порт-Артуре, как многое пришлось изменить и приспособить сообразно условиям военного времени, — меня слушали в лучшем случае снисходительно, а иногда и с раздражением… «На основании опытов в Транзунде… испытания в Биоркэ… практика Ревеля… пристрелочная станция в Кронштадте… исследования на полигоне… технический комитет… Главный морской штаб»… — Какое-то полинезийское «табу», наложенное на всякое живое слово, живое дело!
Напомню читателям (уже не первый раз), что в настоящем изложении я строго придерживаюсь записей моего дневника, веденного изо дня в день, а часто — из часа в час. Может быть, в исторической перспективе многие резкости сгладятся, многое непонятное станет понятным, но я теперь, перечитывая листки моего дневника, переживая вновь все, уже однажды пережитое, я задаюсь одной целью — передать, воссоздать на бумаге те впечатления, те настроения, которые владели мной в то время.
Не в осуждение погибшим, не в укор случайно уцелевшим в гекатомбе Цусимы будут последующие строки…
В огромном большинстве своем, люди — не более, как продукт современных им общественных настроений. Штаб- и обер-офицерам, служившим во времена процветания во флоте адмирала Алексеева, можно ли поставить в вину, что они личными своими качествами не походили на тех, кто были сподвижниками Нахимова?..
Я не говорю про отдельных лиц штаба адмирала Рожественского, я говорю про общее впечатление, вынесенное мною за первое время моего пребывания на эскадре. Насколько адмирал, не пропускавший мимо ушей ни одного замечания, все помнивший, обо всем думавший, всецело отдававшийся мысли и заботе об успешном ходе военных действий, возбуждал симпатию, желание работать вместе с ним, помочь ему в его работе, — настолько же его штаб производил впечатление типичного штаба мирного времени, точной миниатюры того штаба, что процветал и процветает под шпицем Адмиралтейства, со всей его важностью и замкнутостью, мелкими интригами и той особой, ревнивой охраной своей части делопроизводства от всякого постороннего вторжения, которая служит главной основой канцелярской тайны. Не только сделать самостоятельный доклад, но даже просто в присутствии адмирала высказать свое мнение, подать совет по поводу какого-либо мероприятия — значило возбудить против себя глубокое негодование соответственного специалиста. В этом случае можно было с уверенностью ждать, что будут приложены все усилия к доказательству, на основании научных данных, неприемлемости сделанного предложения. Даже действуя самым дипломатическим путем, беседуя с флагманским специалистом с глазу на глаз, приходилось натыкаться на затруднения, почти неодолимые.
Начальник Главного морского штаба, командующий 2-й эскадрой Флота Тихого океана контр-адмирал свиты императора Николая Второго Зиновий Петрович Рожественский (1848–1909)
— Право, не знаю, как быть… — обыкновенно отговаривался собеседник. — У нас по этому поводу уж был приказ (или инструкция). Утверждено и подписано адмиралом…
— Так ведь утверждено по вашему же докладу! Вот теперь вы же и передоложите, что, на основании вновь полученных сведений, необходимы такие-то и такие-то поправки…
— Это, знаете ли, трудно… Адмирал так не любит отменять раз отданного распоряжения…
— А вы все-таки попробуйте! Время ли теперь руководствоваться соображениями, кто и что любит? Ведь это не Чили с Аргентиной, а мы с Японией воюем!.. — настаивал я, чувствуя совершенно ясно, что преувеличенное благоговение перед подписью адмирала не более как заслон личного, мелкого самолюбия против возможного укола…
Иногда — удавалось, иногда — нет…
Тяжело вспоминать все эти подробности, перетряхивать весь этот хлам и мусор, — но что ж делать?.. Из этих мелочей слагается история.
Все сказанное мною о штабе второй эскадры отнюдь не составляло какого-нибудь специфического свойства этого именно штаба. Это было свойство всех наших штабов, начиная с главного. Была здесь только одна особенность, с которой до того мне не приходилось сталкиваться: двустепенность и анонимность докладов. Всякий (конечно, из числа штабных или начальствующих лиц, отнюдь не простой смертный), желающий что-либо предложить, высказать свои соображения, должен был подробно изъяснить все флаг-капитану; затем, если этот последний не возражал ничего по существу, а лишь высказывал пожелания некоторых поправок в деталях, — представить краткую записку; эта записка перепечатывалась на машинке (без подписи) и приобщалась к докладу флаг-капитана. Дальнейшая судьба такой записки бывала различна: либо она получала желаемое направление, либо передавалась на заключение соответственного специалиста, либо на ней появлялась резолюция, вовсе не соответствующая мысли автора, либо она просто оставалась без последствий… В последних двух случаях от настойчивости автора зависело добиться личного доклада, хотя и тут на удачу надежды было мало, так как, несомненно, первый неуспех являлся результатом враждебного отношения к делу соответственного специалиста или кого-нибудь из высших чинов штаба; приходилось бороться против уже созданного предубеждения, не зная даже, на чем оно основано, какие доводы выставлены противной стороной… Не думаю, чтобы эта система служила на пользу дела. Кто ее изобрел — не знаю. Во всяком случае, она окружала адмирала как бы глухой стеной, пробиться через которую было нелегко!.. Единственной брешью в этой стене были общие завтраки, обеды и чаепития (Весь штаб столуется у адмирала.), когда можно было завести разговор на желаемую тему, разговор, всегда живо поддержанный самим адмиралом, который никогда не допускал замять его, наоборот, подавал такие реплики, которые понуждали спорящих высказаться до конца. Однако не все чины штаба жили на «Суворове», и находившиеся на других кораблях лишены были возможности пользоваться вышеописанным приемом. Меня тоже хотели, под предлогом тесноты, сплавить подальше, и я остался на броненосце только по личному приказанию адмирала.
Офицеры флагманского корабля 2-й эскадры Флота Тихого океана эскадренного броненосца «Князь Суворов». В центре сидят: капитан 1-го ранга Василий Васильевич Игнациус (1854–1905, с седой бородкой и усами) и начальник Военно-морского (оперативного) отдела Штаба командующего Флотом Тихого океана капитан 2-го ранга Николай Лаврентьевич Кладо (1862–1919, в очках, с черной бородкой и усами). Справа от Н. Л. Кладо сидит старший офицер «Князя Суворова» капитан 2-го ранга Павел Иванович Македонский (1863–1905)
Присматриваясь и приглядываясь к внутреннему распорядку на эскадре, я был поражен почти полным отсутствием применения боевого опыта, горького опыта, приобретенного ценой неудач и поражений в течение целых 8 месяцев войны… Я не хотел верить, чтоб им пренебрегали, и вместе с тем не мог допустить, чтобы он оставался неизвестным на эскадре, идущей в бой…
Тем более что на ней, на этой эскадре, при ее штабе, уже больше месяца состоял капитан 2-го ранга К., специально командированный адмиралом Скрыдловым из Владивостока для того, чтобы принять участие в ее снаряжении…
Правда, этот капитан 2-го ранга во Владивостоке жил на берегу, в боях не участвовал и никогда не слышал даже свиста неприятельского снаряда, но мог же он собрать необходимые сведения от очевидцев, наконец, по его званию — заведующего военно-морским отделом Штаба командующего Флотом Тихого океана — в его руках были все донесения, как с владивостокского отряда крейсеров, так и от Витгефта!.. Неужели все эти, поистине драгоценные, донесения не попадали ни в Петербург, ни во Владивосток, а хранились в штабе наместника, как материал, подлежащий обработке в форму реляций?.. Это казалось прямо чудовищным…
Так или иначе, но опыт войны не был использован, как бы то следовало. Какие были тому причины? Скудость сведений, получавшихся с Дальнего Востока, или пренебрежение, или следствие глубокой уверенности «шпица» в своей непогрешимости? — сказать трудно… Может быть, и то, и другое. Нельзя не отметить, что посол адмирала Скрыдлова придерживался взглядов патентованных мудрецов. Сам он в боях не бывал, но открыто высказывал, что на боевой опыт возлагаются преувеличенные ожидания, что к непосредственному боевому опыту надо относиться с тщательной критикой, что боевой опыт не вносит крупных переворотов и т. д. (Он, упомянутый капитан 2-го ранга, т. е. г. Кладо, печатно подтвердил эти взгляды позже в своем «Очерке военных действий на море во время Русско-японской войны», помещенном, в качестве приложения, в морской справочной книжке на 1906 г. — col1_0 М. — (Издание высокоофициозное))… Мне эти суждения казались преступной ересью и глубоко меня возмущали… Если наши мудрецы, пророчествовавшие теперь задним числом, все знали, все предвидели, — чего ж они молчали? почему не предупредили наших неудач?.. Да наконец, если боевой опыт только оправдал их предвидение, только подтвердил их теории, то тем шире надо его использовать, а не отмахиваться от него!.. Казалось бы, ясно? А на деле выходило не так…
В первый же день моего прибытия на эскадру, беседуя со старшим минером «Суворова» (старым знакомым еще по китайской кампании), я узнал от него, что на всех судах минные погреба не только не опорожнены, но еще сверх положенного по штату числа мин там хранятся и контр-мины, предназначенные для уничтожения неприятельских заграждений, т. е. например, на «Суворове» — более 200 пудов пироксилина!..
Первоначально я попытался обратиться по этому поводу к соответственным чинам штаба, но, конечно, успеха не имел. На мои заявления, что мины должны быть перегружены на транспорты, что боевые суда не могут возить в своих трюмах подобных вулканов, — мне отвечали снисходительной усмешкой, едва ли не жалели меня в моем грубом невежестве. Мне, однако же, дело казалось настолько серьезным и неотложным, что, пренебрегая возможными неудовольствиями, в тот же день за обедом я навел разговор на гибель «Петропавловска», описав подробно эту картину, упомянул о гибели «Хацусе», исчезнувшего под водою через 50 секунд…
Так что вы полагаете причиной гибели того и другого — взрыв минных погребов, детонировавших на взрыв мины? — спросил адмирал.
Безусловно, ваше превосходительство! К тому же это не мое единоличное убеждение — оно разделялось всеми…
Совершенно невозможно! — вмешался флагманский минер, видимо, едва сдерживавший свое раздражение. — Мне даже странно повторять здесь такие азбучные истины, как условия, необходимые для детонации, — непосредственное соприкосновение веществ или разделение их металлической преградой, к которой они с обеих сторон примыкают вплотную… воздушная прослойка уничтожает возможность детонации! Технический комитет на основании произведенных и в Балтийском, и в Черном морях опытов, научно поставленных, пришел к этому выводу! Вывод не новый — это было давно известно! Но опыты были произведены после гибели «Петропавловска» для подтверждения старой истины, именно в целях полного опровержения разных нелепых толков!
Каковы бы ни были опыты, про которые вы говорите, я своими глазами видел гибель «Петропавловска» и отчетливо, как сейчас, помню огромное облако дыма, характерной бурой окраски, окутавшее всю носовую часть броненосца, и в этом облаке — летящую мачту… Это не забывается! — А такую силу взрыва и такую массу дыма (именно бурого) мог дать только минный погреб… Белые облака пара появились уже позже, и всем было ясно, что это взрыв котлов и — конец броненосца…
Я вам повторяю, что при выполнении всех мер предосторожности, предписанных техническим комитетом, это невозможно] Если действительно случилось так, как вы рассказываете, то значит, на «Петропавловске» не соблюдались инструкции: мины своими корпусами непосредственно касались борта! не было изолирующей воздушной прослойки!..
Такого же мнения (приблизительно) держалась и часть членов комиссии минных офицеров в Порт-Артуре, созванной тотчас после гибели «Петропавловска»… Но ведь нельзя допустить, чтобы японцы, наблюдавшие катастрофу, не применили тотчас же на своих кораблях изоляции минных погребов по всем данным современной науки! — Они все на лету подхватывают. Однако через месяц после «Петропавловска» подобно ему погиб «Хацусе»! — Я не был очевидцем его гибели, но слышал рассказы людей, наблюдавших ее с Золотой горы… Слышал не как воспоминания, а как описание только что, на глазах, совершившегося события… Они рассказывали, что около грот-мачты броненосца взвился к небу гигантский столб пламени и дыма — словно извержение вулкана… Через 50 секунд от броненосца не осталось и следа. Это время вполне точное. Замечено по секундомеру!.. После этого случая всякие колебания были отброшены. Только крейсерам, стоявшим в проходе, разрешено было держать (либо у себя, либо на берегу, близ места стоянки) по три мины для снабжения ими миноносцев, которые по ночам бегали в море набрасывать минные банки… Да и то 28 июля, перед выходом в море, адмирал озаботился спросить сигналом: — Нет ли на судах мин заграждения? И если есть, то либо свезти на берег, либо за недостатком времени просто утопить!..
Я должен повторить, что технический комитет на основании научно поставленных и широко организованных опытов…
Чего шире того опыта, которому мы были свидетелями? — два броненосца!..
Нельзя же отрицать научных выводов! раз технический комитет…
Прежде всего, прошу не отождествлять науку с техническим комитетом, а затем скажу, что ни одна из наук еще не сказала своего последнего слова; каждый день приносит нам новые открытия… Астрономия была наукой и до Коперника, механика — и до Ньютона!.. Раз факты опровергают принципы, казалось бы, прочно установленные, нельзя закрывать глаза на действительность во имя их сохранения!..
Адмирал вмешался в спор, пытаясь примирить и согласить столь резко разнившиеся взгляды на дело.
Я вполне понимал всю затруднительность его положения. С одной стороны — говорил очевидец, в правдивости и наблюдательности которого он не имел повода сомневаться, с другой — выставлялось решение комитета, официально признаваемое окончательным, безапелляционным во всех вопросах технического свойства.
Полной победы мне одержать не удалось: мины не были перегружены на транспорты; но все же вышел циркуляр, 3 октября, которым предписывалось принятие особых мер к изоляции мин от соприкосновения не только с бортом непосредственно, но и через посредство какой-либо металлической части, с ним связанной, из опасения, что детонация может передаваться по металлу и на расстояние. Тут были — деревянные прокладки, войлочные подушки и т. п. Опыт войны не дал указаний, насколько такие меры были действительны, так как ни одно из судов второй эскадры не получило минной пробоины в области минного погреба.
Все эти технические подробности, конечно, не представляют большого интереса для моих читателей, и я остановился на этом эпизоде с единственной целью — характеризовать отношение лиц, заседавших в центральных учреждениях, к тем, которые находились в боевой линии… Если живому человеку, с живой речью, имеющему возможность немедленно ответить на всякое возражение, поддержать свои взгляды, заверить, что он видел все своими глазами, — было так трудно добиться хоть какого-нибудь отступления от непогрешимого завета магов и волшебников, осененных шпицем Адмиралтейства, — то какую же цену могли иметь указания, получавшиеся с театра военных действий, написанные кратко, может быть, даже недостаточно подробно мотивированные? — Несомненно, что обычной для них резолюцией было — «к делам»…
Хотя этот мой первый выход, конечно, не способствовал смягчению той холодности, с которой было встречено штабом мое прибытие, я тем не менее рискнул осведомиться у флаг-капитана, какие меры приняты для обеспечения безопасности эскадры при следовании ее Бельтом. Флаг-капитан ответил, что все меры приняты, что помимо наблюдения со стороны датских военных судов, оберегающих нейтралитет своих территориальных вод, у нас организована и своя собственная охрана как с берега, так и на воде при посредстве специально зафрахтованных пароходов, которые крейсируют в проливе и будут смотреть, чтобы какие-нибудь подозрительные суда не набросали мин на пути эскадры перед самым ее проходом.
Наученный опытом, я заговорил с большой скромностью на ту тему, что, раз подобные опасения существуют, не лишнее было бы впереди эскадры пустить тралящий караван, как это делали в Порт-Артуре, что, разумеется, принятые меры предосторожности вполне целесообразны, но случайный недосмотр всегда возможен, а уж позади тралящего каравана, вплотную к нему — там чисто, притом наверняка, вне всяких сомнений…
Флаг-капитан не стал спорить, но рекомендовал мне обратиться к флагманскому минеру, так как разрешение подобных вопросов и доклад по ним относятся к его специальности.
Направился по указанному адресу и в самом мирно-совещательном тоне высказал мои соображения. Принят был довольно благосклонно, во всяком случае, не «в штыки».
Так-то оно так… — говорил флагманский минер. — Конечно, протралить — это полное обеспечение от всяких случайностей… Но, сами посудите, сколько же времени возьмет у эскадры этот проход Бельтом? Неделю, а то и больше!..
Почему?
Да потому, что за день, в среднем, больше 8—10 миль никак не обследуешь! Да еще прикиньте на дурную погоду…
Мы, кажется, не понимаем друг друга. Я говорю про тралящий караван, идущий впереди эскадры. Второй отряд артурских миноносцев, входивший в состав каравана, шедший с тралами впереди эскадры во время ее выходов в море, состоял из миноносцев отечественной постройки типа «Сокол», т. е. 220 тонн водоизмещения. Пара таких миноносцев, буксируя тяжелый, стосаженный трал, свободно развивала скорость 5–6 узлов. Наши миноносцы по 350 тонн, и им будет еще легче! Составьте 5 пар в шахматном порядке, в строе двойного фронта — вот вам под самым носом эскадры, по пути ее следования, достоверно чистая полоса шириной более 300 сажен!.. С рассветом — тронуться в путь, а к вечеру — Бельт пройден.
Мы, кажется, действительно не понимаем друг друга… — заговорил мой собеседник, видимо, раздражаясь. — По крайней мере, ваше предложение так… неожиданно, чтобы не сказать более… Миноносцы составят тралящий караван! Миноносцы, которых у нас так мало, которые мы должны беречь пуще глаза!..
Но еще больше их надо беречь броненосцы!..
Вы здесь внове, всего второй день, видимо, еще недостаточно ознакомились со всем, что уже сделано… Вот схема организации работ по очистке проходов от мин заграждения, утвержденная адмиралом и объявленная еще 8 июля. Прочтите — это будет скорее, чем я стал бы рассказывать.
Я углубился в чтение…
Русские миноносцы типа «Сокол»
Случалось ли вам, читатель, вернувшись издалека в полной уверенности, что добрые родственники и знакомые все устроили и наладили согласно указаниям, которые были даны вами заблаговременно, вдруг убедиться, что ваши письма либо не дошли, либо на них не обратили никакого внимания? Приблизительно в таком положении чувствовал себя я, наскоро пробегая любезно предложенную мне «схему организации и т. д.».
Это была тщательно, детально разработанная инструкция, являвшаяся прямо незаменимой для смотровых учений по минной части на тихих водах Транзундского рейда.
Здесь все было предусмотрено, до самых ничтожных мелочей снабжения работающих шлюпок, даже «сухая пакля (около 2 фунт.)»… Но стосаженные, особо изобретенные, хитрые тралы буксировались паровыми катерами! Этим последним помогали при обследовании особенно подозрительных мест гребные катера! При них шли гребные баркасы с водолазами, которых предполагалось спускать на неприятельские мины, если окажется, что иным способом уничтожить их невозможно!.. Это после полугода горького артурского опыта! После того, как еще в апреле было признано, что не только гребные шлюпки, не только паровые катера, но даже и минные катера слишком слабосильны для успешного траления рейда или прохода, имеющего сообщение с открытым морем! После того, как уже 6 месяцев для этого дела был организован и в Порт-Артуре, и во Владивостоке специальный тралящий караван! После двух выходов в море артурской эскадры, шедшей с тралами впереди!.. А сам тип трала, выработанный потом и кровью, ценою таких жертв, ценою стольких жизней? — о нем здесь и не слышали или… не хотели слышать…
Должно быть, чувства, меня волновавшие, достаточно ясно выражались на моем лице, потому что минер, принимая от меня инструкцию, которую я наскоро пробежал, несколько утратил свою самоуверенность и как-то смущенно, почти растерянно говорил:
— Вы видите… сделали, что могли… опыты… технический комитет… комиссия… конечно, всего не предусмотришь… утверждено адмиралом…
Я чувствовал себя в положении человека, которого вдруг опрокинули на обе лопатки. Я взял себя в руки, сдержался. Я не стал ни возмущаться, ни протестовать. Я начал подробно рассказывать все по порядку, сопровождая свое изложение чертежами. Я убеждал, я просил… ради общего дела, ради флота, ради России…
Он сдался, но не совсем. Понятно было, что главным затруднением являлся доклад о необходимости выбросить уже три месяца тому назад утвержденную инструкцию и представить на утверждение новую, не имеющую со старой ничего общего.
II Первый переход — первая авария. — Стоянка у Факьеберга. — Попытка плавания с тралом впереди. — Поход Бельтом. — Наш беспроволочный телеграф. — Стоянка у Скагена. — Эпизод с «Камчаткой». — Примета. — «Тульский инцидент». — Плавание каналом и Бискайкой. — 100 приказов и 400 циркуляров. — «Эскадра» или «армада»?
3 октября — первая авария, о которой нам было сообщено по беспроволочному телеграфу: миноносец «Быстрый», приблизившись для переговоров к «Ослябе», вследствие неудачного маневра навалил на броненосец, помял себе носовой минный аппарат и форштевень и получил пробоину в надводной части борта, небольшую, всего 4 '/2 дюйма. Флагманский корабельный инженер выразил уверенность, что на ближайшей же якорной стоянке повреждение можно будет исправить.
4 октября в 7 ч. 15 мин. утра первый броненосный отряд стал на якорь близ маяка Факьеберг, у входа в Бельт, а в 9-м часу, по приходе последнего, запоздавшего в пути эшелона, вся эскадра оказалась в сборе. Тотчас приступили к погрузке угля, но после полудня так засвежело от S, что ее пришлось прекратить.
Идея организации при эскадре тралящего каравана была встречена адмиралом крайне сочувственно, и осуществление её в будущем было признано насущно необходимым, что же касается применения ее немедленно — встретились препятствия почти неодолимые: во-первых — на эскадре не имелось ни одного трала артурского образца, а во-вторых — миноносцы никогда не практиковались в этом деле, и потому от первого их выступления на этом поприще, без надлежащей подготовки, да еще в таком широком масштабе, — нельзя было ожидать ничего, кроме аварий.
По первому пункту я протестовал, утверждая, что в Порт-Артуре тралы никогда не делались в порту, а изготовлялись на судах эскадры, своими средствами и своими рабочими, причем сведения о порванных, потерянных или просто брошенных тралах получались обыкновенно только к концу рабочего дня, а к утру следующего — всегда снова имелся полный их запас, так как за ночь их успевали сделать. Что касается второго довода — я не мог не признать его убедительности. Я хорошо помнил, как трудно налаживалось дело в Порт-Артуре, сколько тралов было оборвано, сколько винтов было запутано, пока командиры судов, предназначенных для траления, не приобрели должной сноровки… — Надо было учиться, а без науки надеяться на счастливое выступление новичков не приходилось… Дело могло закончиться не только авариями, но прямо бедствиями… Проект, по-видимому, откладывался в долгий ящик, как вдруг я получил неожиданное подкрепление со стороны другого флагманского минера (их было двое), который, за недостатком места на «Суворове», жил на «Бородине». По его докладу адмирал решил, во всяком случае, произвести опыт теперь же. Если не для обеспечения безопасности плавания эскадры, то хотя бы для того, чтобы наглядно ознакомиться с делом. Тем более что из-за свежей погоды, вызвавшей остановку погрузки угля, уход эскадры был отложен на 6 октября, значит, времени на изготовку трала было в избытке. Миноносцев, хотя бы двух, дать все-таки не решились. В тралящую пару были назначены — «Ермак» и «Ролланд»… — Еще Пушкин сказал, что «в одну телегу впречь не можно коня и трепетную лань…». Тут же это сравнение являлось слишком мягким, следовало бы сказать: «Слона и маленького пони…» Но выбора не было — бери, что дают. Относительно постройки самого трала было экстренно разослано циркулярное предписание, какому кораблю какие предметы доставить на «Ермак» утром 5 октября. «Камчатке» по телеграфу был передан заказ на изготовление 50 кошек (Кошка — маленький четырехлапый якорь. В данном случае размер ее не превышал 8 дюймов.), которые составляли необходимую принадлежность трала артурского образца.
Я попытался было высказать свое мнение, что такое собирание с миру по нитке, конечно, свидетельствует о высокой организации и глубоко справедливо, но едва ли удобно, что не лучше ли забрать все необходимое прямо с «Суворова», затем приказать остальным возместить ему его протори и убытки?
Но это был уже до такой степени вопрос чисто штабной техники, что мне просто сказали: «Брысь!..»
5 октября оба флагманские минера и я прибыли на «Ермак». Предчувствия мои оправдались. Многие корабли (на совершенно законных основаниях) не прислали или не имели возможности прислать того, что от них требовалось. Пришлось делать сигналы, писать и рассылать записки. Между прочим «Камчатка» не доставила кошек. Спросили: «Почему»? — ответила: «За неполучением «наряда» к работе не приступали»…
Не правда ли, как характерно? Мне так и вспомнился артурский порт в первые недели по открытии военных действий, когда шагу нельзя было ступить без выполнения «необходимых формальностей», и старый приятель, который, поднимая руку к небу, торжественно возглашал: «Бумажка, дорогой мой, святое дело!..»
Кое-как справились и, проработав часть ночи, соорудили трал, не совсем такой, как в Артуре, но «под артурский». Принимая во внимание, что на «Ермаке» весь личный состав, по моим рассказам, ознакомился с делом, между тем как «Ролланд» был немецкий буксирный пароход, только что зафрахтованный, шкипер и команда которого не имели о тралении никакого представления, решено было, что я и один из флагманских минеров пересядем на «Ролланд», а другой минер останется на «Ермаке».
Чуть посветлело, оба парохода перешли к самому входу в Бельт и начали заводить трал. Вопреки моим опасениям, работа была выполнена без сучка без задоринки. Нигде и ничто не «заело» и не «захлестнуло». К 7 ч. утра, когда эскадра уже начала сниматься с якоря, мы были готовы идти впереди ее. Но тут… Всякому ясно, что в такой работе, как буксировка трала, чем больше корабль, чем сильнее его машина, тем менее он стеснен в своих действиях, и — наоборот, а потому в тралящей паре большой корабль должен приспособляться к маленькому. По-видимому, на «Ермаке» об этом не подумали и, не дав «Ролланду» времени для занятия надлежащей позиции, круто повернули на указанный курс и дали ход… Маленький пароходик, подхваченный за корму тралом, как буксиром, почти лишенный возможности управляться, отчаянно засигналил: «Стоп машина! Что вы делаете?..» Должен отдать полную справедливость командиру «Ермака», он сразу увидел и понял свою ошибку: не только застопорил машины — дал ход назад… Но было поздно. Осадить громаду «Ермака», двинувшуюся вперед, было не так-то легко и скоро… Трал уже успел вытянуться в струну и — лопнул… Между тем эскадра приближалась. На сигнал «Ермака» о нашей неудаче адмирал ответил: «Считать путь протраленным», — и пошел дальше… «Ермак», который в качестве могучего буксира должен был сопровождать эскадру, просемафорил нам: «Подберите трал и следуйте за нами», а сам присоединился к броненосцам… Уборка порванного трала заняла около 1? часа времени. Потом пошли догонять эскадру.
Эта неудача очень меня озаботила. Сам по себе случай был совсем неважный. Стоило вспомнить, сколько тралов перервали в Порт-Артуре, пока дело не наладилось окончательно!.. Если бы меня спросили: кто виноват? — я затруднился бы указать виновного. Неопытность — ничего более… Но этот «первый блин комом» — каким козырем мог он явиться в руках защитников «транзундской» инструкции!
Около 10 ч. утра, уже догоняя эскадру (мы шли кратчайшим путем), получили телеграмму — «Идти к «Орлу». В полдень подошли к броненосцу, стоявшему на якоре посреди Бельта.
Приблизившись, крикнул командиру в рупор:
— Прислан с пароходом в ваше распоряжение! Жду приказаний!
Мне не надо никакого содействия! Управлюсь своими средствами! Станьте на якорь поблизости!
Есть!
Однако вскоре же пришлось оказать содействие, и притом способом совершенно неожиданным.
Дело в том, что на «Ролланде» был установлен небольшой силы аппарат беспроволочного телеграфа системы Маркони, и только что мы отдали якорь, как этот аппарат начал принимать телеграммы, адресованные «Орлу», или, вернее, — вызов «Орла» «Суворовым», на который первый не отвечал.
Передали ему семафором — «Вас вызывает «Суворов». Тотчас же наш приемный аппарат записал ответ «Орла», а затем телеграмму «Суворова»: «Как скоро надеетесь исправить повреждение?» С «Орла» — молчание. После того, как «Суворов» дважды повторил свой вопрос, а «Орел» продолжал безмолвствовать, мы передали ему и эту телеграмму семафором. Он немедленно ответил: «Не позже как через 2 часа».
Дальнейшие переговоры велись по той же крайне оригинальной системе: «Ролланд» принимал телеграммы «Суворова» и семафором передавал их содержание на «Орел», до которого они почему-то не достигали, а «Орел», уже непосредственно, отвечал «Суворову».
Не будучи специалистом дела, я обратился за разъяснениями к флагманскому минеру, вместе со мной оставшемуся на «Ролланде».
Очевидно, на «Орле» какая-то неисправность в приемном аппарате… — заявил он.
Об этом я и сам давно догадался, а вы мне объясните, почему эту неисправность не могут найти и устранить? Ведь на «Орле» два минных офицера — специалисты своего дела, а его выручает какой-то буксирный пароход, на котором уж несколько лет, почти без всякого технического присмотра, стоит какой-то слабосильный аппаратишко и… так исправно работает!
Так ведь это — «Маркони». Он значительно проще…
А у нас на эскадре какая система?
У нас — патент германской фирмы «Сляби-Арко».
Что же это — последнее слово науки? Везде принято!
Н-нет… пока еще… нигде, но фирма представила такие данные, обещала такой район действий, какого до сих пор никому еще не удавалось достигнуть…
Так что боевая эскадра России, последняя карта в нашей игре, — предоставлена господам «Сляби-Арко» для производства широкого опыта? А если это только реклама?..
Я тут ни при чем! я — ни при чем! — поспешно заговорил минер (видимо, ему почудилось, что я готов на него броситься). — Я даже протестовал, как мог… Я настаивал на системе «Маркони», испытанной системе, столько лет… Но, вы сами понимаете, что я мог?.. Технический комитет признал наилучшей; главное управление заключило контракт. Тут уж ничего не поделаешь! Сам адмирал, если бы попытался, ничего бы не вышло!.. Лбом в стену!..
Ну, а вы? Кругом немцы, которые нашего разговора не понимают, — скажите прямо: что думаете об этой системе?
Трудно сказать, что будет… может быть, наладится. С нами идут на разных судах специальные монтеры от фирмы. Ведь только что приняли и поставили. Пока, если говорить откровенно, хорошего мало…
Ну, счастье ваше, что вы не член технического комитета! А то, сгоряча, я мог бы поступить с вами очень нехорошо… Снабжение армии негодным оружием, негодными боевыми припасами — ведь это приравнивается к измене!..
В 2 ч. дня «Орел» снялся с якоря и пошел догонять эскадру. Мы следовали за ним. Из обмена телеграмм между ним и «Суворовым» известно было, что повреждение произошло в рулевой машинке и, кажется, исправили его не совсем: броненосец очень плохо держал на курсе и сильно рыскал. Шли всю ночь. Около 8 ч. утра завидели впереди отставшие от эскадры «Аврору» и транспорт «Метеор». Около 11 ч. утра 7 октября, почти одновременно с ними, подошли к месту стоянки эскадры на SW от мыса Скаген.
Вернувшись на «Суворов», на самом трапе чуть не столкнулся со старым товарищем и приятелем, который давно уже потянул прочь от строя, как говорят во флоте — «пошел в отхожие промысла». Я торопился с докладом. Он торопился на свой корабль. Однако оба задержались, чтобы обменяться приветствиями.
Ты здесь по какому случаю?
Командую миноносцем…
Кой черт тебя понес? Разве потребовали? Зачем лезешь?
А ты зачем лезешь? Да еще по второму разу? Мало Артура?..
Я — другое дело! Я — в строю!..
— Врешь, братец! Все мы одной веревочкой связаны: столько лет мундир носил, флотским офицером числился — плати по векселю! К расплате!..
Пусть даже так, но почему этот трагический тон?..
Ну, мне некогда! При случае — поговорим… До свиданья! Поприглядишься — сам поймешь!.. — бросал он отрывистые фразы, сбегая по трапу, и, спрыгнув в подошедший катер, уже оттуда еще раз крикнул: — Помяни мое слово! К расплате! К расплате!..
От Скагена пришлось отослать обратно в Либаву миноносец «Прозорливый», у которого так потекли холодильники, что исправить повреждения своими средствами оказалось невозможным, а также и «Ермак», у которого было что-то неладно в дейдвудных трубах. Обидное начало!..
Здесь, насколько я мог быть осведомленным, предполагалось простоять двое суток для пополнения запасов угля на предстоящий большой переход. Каков был этот переход, каков был предполагаемый маршрут эскадры? — оставалось мне неизвестным.
По отношению ко мне штабные чины хранили безмолвие, считая меня за «чужого». Признаюсь, я даже не был в претензии: Слава Богу, что научились беречь настоящие секреты! — Однако же какими-то неисповедимыми путями кой-какие сведения проникали в кают-компанию.
Так, например, около полудня стало известно, что агенты нашей охраны сообщили, будто рыбаки видели 4 миноносца неизвестной национальности, державшиеся в море по ту сторону Скагена; видели также какой-то воздушный шар, прошедший над местом стоянки эскадры с SW на NO; командир транспорта «Бакан», возвращавшегося из Ледовитого океана, Донес будто бы адмиралу о каких-то подозрительных судах, Укрывавшихся в бухтах норвежского берега… Возможно, что эти сведения были неточны. Не посвященный в тайны штаба, я вынужден был для своих заметок довольствоваться тем, что слышал в кают-компании и частью от командира броненосца, старого соплавателя по эскадре Тихого океана.
Во всяком случае, что-то было, так как эскадра собралась в путь того же 7 октября, не закончив приемки угля.
В 3 ч. дня снялись с якоря миноносцы и транспорты, к которым они были приписаны; следом за ними — первый эшелон крейсеров (контр-адмирал Энквист); затем, в 5 ч. веч. — второй эшелон крейсеров (капитан 1-го ранга Шеин); около 7 ч. веч. — второй броненосный отряд (контр-адмирал Фелькерзам), а в 8 '/2 час. — «Суворов», «Александр III», «Бородино», «Орел» и транспорт «Анадырь». Ночь была лунная, ясная; погода — тихая.
К утру, 8 октября, при слабом SW нашел такой туман, что с трудом различали «Александра», державшегося позади нас в расстоянии менее двух кабельтовых. К полдню туман рассеялся.
От штурманов узнал, что идем через Ла-Манш. Не мог не высказать своего одобрения этому смелому ходу адмирала. Действительно, если донесения агентов были справедливы, если японцы готовили какую-нибудь ловушку эскадре тотчас после ее выхода из Балтийского моря, то, несомненно, по их подозрительному характеру, они не могли рассчитывать на сохранение тайны, а потому должны были предположить, что мы никоим образом не пойдем торной дорогой, а изберем океанский путь, кругом Англии, с погрузкой угля на Фаррерских островах, путь, где встречные суда — редкость, где на каждое из них можно было бы обратить внимание, всякое подозрительное осмотреть и либо самим уклониться в сторону, либо его попросить уйти с дороги. Недаром тревожные вести получались либо из Норвегии, либо из северо-восточной Англии…
День прошел спокойно.
В 9-м часу вечера «Камчатка», которая, как оказалось, вследствие повреждения в машине отстала от эшелона контр-адмирала Энквиста и шла в одиночестве, телеграммой донесла, что атакована миноносцами. Известие было до такой степени невероятно, что в первый момент вызвало только недоумение.
Императорский смотр эскадренному броненосцу «Император Александр Третий». Осень 1904 года
В самом деле: если даже на нашем пути действительно были японцы, то, разве только обладая даром ясновидения, они могли признать в одиноко идущей «Камчатке» корабль, принадлежащий к русской эскадре. Порукой тому служила ее внешность коммерческого парохода (и к тому же пребезобразного!). Наконец, если даже их осенило такое вдохновение, если им удалось «опознать» это сокровище, то какой смысл был нападать на нее? Разве ее потопление могло бы остановить движение эскадры?.. Тут какое-то недоразумение… Многие высказывали опасение: не натолкнулась ли она случайно на отряд немецких миноносцев? И если, чего доброго, открыла по ним огонь? Инцидент готов! и прескверный инцидент!
Последующие телеграммы были еще страннее и даже возбудили подозрение в мистификации.
«Камчатка» доносила, что некоторые миноносцы подходили на дистанцию одного кабельтова, что она приводит их за корму и, отстреливаясь, уходит от них разными курсами… И так до 11 ч. вечера!.. Всякому было ясно, что «Камчатка» с ее повреждением в машине (она и в полной исправности не могла дать больше 14 узлов), с ее артиллерией из нескольких 75-миллиметровых пушек, не могла бы держаться так долго против атаки целого отряда миноносцев. Будь это так, ее место давно было бы на дне Немецкого моря!.. Эти подозрения превратились почти в уверенность, когда в 11 ч. вечера получилась телеграмма, которой «Камчатка» просила «Суворова» показать свое место (т. е. широту и долготу), а затем — «обозначить место эскадры прожектором»…
— Ну, это кто-то шутки шутит! — говорили офицеры. — Кому-то надо знать наше место!..
Я предложил было в видах удостоверения личности просить нашего корреспондента сообщить имя, отчество и день рождения старшего механика «Камчатки». Такие сведения вряд ли могли быть в распоряжении «шутника». Предложение не встретило сочувствия.
Адмирал приказал ответить так: «Когда избегнете опасности, держите West, телеграфируйте ваше место, вам укажут курс».
Телеграммы прекратились.
Это было еще подозрительнее.
Слабый SW, балла на 3–4, развел-таки волну; из-за борта временами поддавало; сверху сыпалась какая-то дрянь — не то дождь, не то изморось; сырость пронизывала до костей… Дела у меня никакого не было, и неожиданно счастливая мысль пришла в голову: «Чего я тут зря толкаюсь?..» Мысль чисто артурская, когда, бывало, на рейде, в дежурстве, отстояв свои часы, разбудишь беспечно храпящего командира и, сдав ему «сдачу», сам не менее беспечно заваливаешься спать с твердой решимостью — с места не тронуться без тревоги — хоть взрывай!..
Многие смеются над приметами, а я так вот им верю…
Была у меня фотографическая карточка адмирала Макарова, полученная перед самым отъездом на войну. Конечно, ни в дороге, ни в Артуре я не мог собраться вставить ее в рамку, но возил с собою повсюду, как святыню, часто перечитывая те задушевные, простые слова, которыми была исписана оборотная сторона портрета — словно завещание, словно последнюю волю безвременно погибшего дорогого учителя… смею ли сказать — друга…
Конечно, и на «Суворове», в моей тесной каютке, этот портрет стоял на письменном столике, прислоненный к переборке. Обрез картона был обклеен узкой полоской красной бумаги (вкус фотографа), и вот… спустившись вниз, я увидел — очевидно, откуда-то протекло, — что струйка воды, сбежавшая по переборке, уделила несколько капель как раз на середину верхней кромки портрета, и эти капли, окрасившись на его бордюре и скатившись на стол, оставили вдоль лица и груди адмирала узкую, кроваво-красную полосу…
— Не к добру!.. — невольно подумал я, рассматривая портрет в надежде, что беду можно еще поправить; но нет — красная краска надежно въелась и уже засохла… — Быть худу!..
Я все-таки крепко заснул.
Меня разбудили, как мне показалось, звуки горна, игравшего тревогу.
— Во сне или наяву? — было моей первой мыслью. Топот ног людей, бегущих по трапам, грохот беседок со снарядами, катящихся по рельсам подачи, разом рассеяли сомнения… А вот — и первый выстрел!..
Я выбежал на кормовой мостик и почти наткнулся на младшего минера лейтенанта В., управлявшего кормовыми прожекторами, и старшего доктора Н., присутствовавшего в качестве любителя сильных ощущений.
— Что такое? В кого стреляют?
— Миноносцы! Минная атака! — заговорили они оба… — Вот! Вот!..
Только что выбежав из ярко освещенной каюты, еще не освоившись с темнотой, я ничего не видел…
Прожекторы светили вправо и по носу. Весь правый борт поддерживал энергичный огонь. Однако суматохи не было. Наоборот… То и дело слышались звонки приборов артиллерийской стрельбы, передающих приказания. Видимо, делом распоряжались. Это не было похоже на паническую «пальбу по воде», которой я был свидетелем 31 марта, в Порт-Артуре…
Поспешил на передний мостик, где должны были находиться адмирал, командир и прочее начальство. Пробегая мимо телеграфной рубки, взглянул на часы — 12 ч. 55 мин. ночи. Записал.
С переднего мостика мне открылась такая картина: справа и впереди в расстоянии нескольких миль виднелся ряд огней, между которыми временами мелькали вспышки сигналов. Кто-то (не помню, к кому я обратился) пояснил, что это отряд контр-адмирала Фелькерзама. Затем я увидел в лучах прожекторов справа и впереди, но много ближе, в расстоянии нескольких кабельтовых небольшой однотрубный и одномачтовый пароходик, видимо, недавно пересекший курс эскадры слева направо и медленно удалявшийся; другой, ему подобный, шел с первым почти контр-курсом и словно собирался таранить в правую скулу «Александра», который осыпал его градом снарядов (Впоследствии выяснилось, что этот пароходик уже был подбит, лишен возможности управляться и против воли шел прямо на «Александра», как бы с намерением его атаковать.); этот затонул на моих глазах; третий, того же типа, медленно проходил у нас под носом (тоже слева направо). Завидев его, комендор левой 47-миллиметровой пушки на верхнем переднем мостике сделал было несколько выстрелов, но сам адмирал схватил его за плечо своей железной рукой и гневно крикнул: «Как смеешь! Без приказания! Не видишь — рыбак!..»
Неожиданно с левой стороны, куда не стреляли, где царила глубокая тьма, вспыхнули несколько прожекторов, которые уперлись в нас своими лучами.
В такой момент первое движение — прикрыть глаза рукою, так как все равно ничего не увидишь… Без всякой команды, без всякого приказания — левый борт опоясался огненной лентой… Броненосцы открыли беглый огонь по прожекторам… Огонь — наудачу, так как определить расстояние не было возможности…
— Вот оно — откуда настоящая атака! — расслышал я чей-то возглас…
Отвечали «оттуда» или нет? — не решусь сказать с уверенностью, хотя среди гула собственных выстрелов, казалось, привычное ухо различало свист приближающихся снарядов (этот звук резко разнится от того, который производит снаряд удаляющийся)…
Почти одновременно над прожекторами, нас освещавшими, замелькали трепещущие огни сигнальных фонарей Табулевича, фонарей, как было достоверно известно, имевшихся только в русском флоте…
— Да это наши! — «Донской» и «Аврора»! — Показывают позывные!..(Действительно, это был эшелон контр-адмирала Энквиста, которому надлежало находиться на 6 ч. пути впереди нас и который оказался чуть ли не рядом с нами, идя к тому же без огней.) — крикнул я.
Английские рыбачьи суда в британском порту Халл (Гулль) после инцидента на Доггер-банке в Северном море. Хорошо видны пробоины от попаданий русских снарядов
Английские рыбачьи суда в британском порту Халл (Гулль) после инцидента на Доггер-банке в Северном море. Хорошо видны пробоины от попаданий русских снарядов
— Перестать стрелять! Закрыть боевое освещение! Луч — кверху! — скомандовал адмирал голосом, покрывшим собою все остальные звуки.
Запели горны; погасли прожекторы… Только один, носовой, высоко к небу поднял свой молочно-белый луч — это был условный для всей эскадры сигнал — «Перестать стрелять!»
Конечно, не сразу удалось восстановить спокойствие. И после сигнала то тут, то там еще раздавались одиночные выстрелы…
Вероятно, пальба продолжалась не более 10–12 минут, так как, спустившись вниз (выбегая наверх, забыл захватить часы), я отметил — «1 ч. 10 мин. ночи, 9 октября».
Вот все, что я могу сказать в качестве беспристрастного очевидца о нашумевшем на весь свет «гулльском инциденте».
Среди офицеров, собравшихся в кают-компании и горячо обсуждавших происшествие, господствовало три разноречивых мнения. Одни утверждали, что своими глазами видели миноносцы, прикрывавшиеся рыбачьими пароходами и атаковавшие эскадру, что один из них был сильно подбит, а другому — попало. Среди этих был и лейтенант В., человек достоверный, изрядно понюхавший пороху в прошлую, китайскую кампанию, но особенно горячился старший доктор Н., главным образом напиравший на то, что он был зрителем, не командовал, не распоряжался, а только смотрел в бинокль; он утверждал, что нельзя же допустить, чтобы он, много плававший, хорошо знающий флот, не мог отличить рыбачий пароход от такого характерного типа, как миноносец!..(Его рапорт, вероятно, находится при делах международной комиссии.) Вторые высказывали мнение, что миноносцы, может быть, и были, но, будучи своевременно открыты, удрали, и вместо них, в горячке, попало рыбачьим судам. Наконец, третьи опасались, как-бы вся история не оказалась прискорбным недоразумением…
Строго придерживаясь записей моего дневника, должен сознаться, что в то время я склонялся на сторону последних. Сам я миноносцев не видел, а из практики Порт-Артура хорошо помнил фантастические донесения о ночных боях, публиковавшиеся и с нашей стороны, и со стороны японцев. Впоследствии на основании вновь обнаружившихся фактов взгляды мои резко изменились, но об этом — речь впереди; тогда же я весьма определенно полагал, что мы просто «втяпались в грязную историю…» — одному померещилось, остальные подхватили…
Около 2 ч. ночи «Аврора» донесла по телеграфу, что у нее четыре надводные пробоины от 47- и 75-миллиметровых снарядов; ранены: священник — тяжело (оторвало руку) и один комендор — легко…
— Это недурно для начала!.. — говорил старший артиллерист «Суворова», нервно поправляя свое pince-nez…
С 4 ч. утра опять надвинулся легкий туман. Стихло. Тепло. К 7 ч. утра разъяснило, но пошла изморось. С 5 до 6 ч. дня, беспрерывно меняя курсы, малыми ходами пробирались сквозь целый лабиринт рыбачьих сетей.
Ночь на 10 октября была, по этому времени года, прямо на редкость — штиль, ясное небо, полная луна и тепло.
В 3 ч. ночи прошли плавучий маяк «Галлопер» и вступили в Английский канал.
В сумерках ненастного утра видели справа медовые откосы берега Дувра.
Около 11 ч. утра (10 октября) опознали на правую раковину (т. е. позади) отряд контр-адмирала Фелькерзама… Почему? Он должен был бы находиться впереди нас на 2 1/2 — 2 часа пути!..
Бронепалубный крейсер 1-го ранга «Аврора»
Около 9 ч. вечера, проходя мимо Шербурга, где должны были находиться наши три миноносца и транспорт «Корея», вызвали их по телеграфу. Ответили, что пришли благополучно, что местные власти не ограничивают срока стоянки и разрешают принимать какие угодно запасы, кроме боевых.
11 октября утром мы были при выходе из Канала в Бискайский залив (по осеннему времени — самое скверное место). Небо — голубовато-молочного цвета; по горизонту — мгла; берега не видно, хотя и следовало бы… В полдень все же имели место по обсервации. Оказалось, что о-в Уэссан прошли в 5 милях, не видя его во мгле. Взяли курс на Брест. После часу дня нашел туман, как молоко.
Идти брестским фарватером в тумане — невозможно. С другой стороны, по здешним местам октябрьский туман, сопровождаемый штилем, мог продержаться вплоть до следующего шторма!.. Адмирал решил, несмотря на всю желательность пополнения запасов угля, идти с отрядом в Виго, чтобы не терять времени. Он не только сутки, но каждый потерянный час считал невознаградимой утратой… Взяли курс на мыс Финистера.
Все эти соображения я передаю со слов командира «Суворова», который не находил нужным хранить их в секрете. В самом деле: если мы придем в Виго, то наш приход будет немедленно же оповещен всей Европе, и есть ли смысл скрывать порт назначения от личного состава кораблей, находящихся в открытом море? Кому они могут разболтать эту тайну? Очевидно, в таких обстоятельствах тайна — чисто канцелярская, лишний случай дать почувствовать «пушечному мясу», что не его дело совать нос в предположения высшего начальства. Начальство — указывает, штаб — ведает, а прочие — исполняют, что им предписано… Зловредная система, лютым врагом которой был покойный адмирал Макаров, считавший, что мичман, действующий осмысленно, принесет больше пользы, чем флагман, руководствующийся буквой непонятного ему предписания…
К вечеру туман рассеялся. В ночь на 12 октября и весь последующий день стоял штиль.
Эти дни — тихого, безмятежного плавания — не были для меня потерянными днями.
Лишенный возможности проникнуть в тайны штаба, ознакомиться с маршрутом, с планом кампании, с задачами, которые ставит себе эскадра в случае благополучного достижения вод Желтого и Лаонского морей, — я с тем большим рвением принялся за ознакомление с самой эскадрой на основании документов и опроса офицеров (конечно, старых знакомых).
Документами служили приказы командующего и циркуляры его штаба. С начала мая и до выхода из Либавы насчитывалось первых — свыше 100, а вторых — свыше 400. В том числе пространные инструкции и правила по разным отраслям военно-морского дела. Кроме того — целая тетрадь «схем» и «директив», весьма секретных, которые я получил для прочтения не без труда.
Это была почтенная работа, заслуживавшая премии «за трудолюбие» и даже «за искусство», если бы в ней не попадались такие перлы, как «схема организации работ по очистке проходов от мин заграждения» или «организация сторожевой службы и отражения минных атак с судов при якорной стоянке эскадры на незащищенном рейде»…
Читая некоторые пункты этих инструкций, этих правил, я иногда готов был потерять самообладание, бежать к их составителям и крикнуть им: «Что вы делаете? Опомнитесь! Неужели вы думаете, что ваши опыты в гаванях Кронштадта и Ревеля или на тихих водах Транзундского рейда — достовернее опыта, приобретенного ценою крови, в боях против неприятеля?..» — Но я сдерживался, я только заносил в свою памятную книжку вопросы, которые при случае следует возбудить, Я уже имел горький опыт, к чему в данных условиях приводит слишком энергичное выступление.
К тому же, в общем, — повторю еще раз, — работа была почтенная и с некоторыми исправлениями могла бы служить ценным руководством для личного состава хорошо обученной «эскадры»…
Вопрос, и крайне существенный, заключался именно в том, подходило ли под этот термин сборище кораблей, в походе которого на Дальний Восток мне довелось принять участие…
Руководствуясь датами приказов и циркуляров, я мог вывести заключение, что 12 августа эскадра впервые вышла из Кронштадта и на следующий день прибыла в Биоркэ; здесь простояла около двух суток, наскоро проделывая различные минные учения; затем перешла в Ревель, где имела (по-видимому) одну стрельбу на ходу по неподвижным щитам, а к 18 августа уже возвратилась в Кронштадт для окончания работ по изготовлению судов к дальнему плаванию. Из тех же документов явствовало, что оптические прицелы (уже много лет принятые в иностранных флотах и, конечно, в японском) у нас ставились к орудиям только в конце июля (!) — 29 августа эскадра выбралась из Кронштадта и перешла в Ревель для… стоянки, так как работы все еще не были закончены. В ночь на 3 сентября была первая ночная стрельба с якоря по неподвижным щитам. 6 и 7 сентября — стреляли минами. 9 и 10 сентября ходили в море, выполняли простейшие эволюции и производили вспомогательную стрельбу по движущимся щитам. С половины сентября и до конца месяца (т. е. до похода в Либаву) эскадра училась день и ночь с какой-то лихорадочной спешкой… Но две недели — много ли это?.. — «Эскадра» создается годами плавания!..
Чем внимательнее разбирался я в этих документах, тем понятнее становилась мне та замкнутость, та сдержанность, которую проявляли офицеры, когда разговор касался боевой силы второй эскадры.
Разговоры «по душе» с приятелями только сгущали краски, и все чаще и чаще вспоминался мне резкий голос старого товарища, кричавшего с катера: «К расплате! К расплате!..»
«Ну, что ж? — думал я. — К расплате, так к расплате, а все-таки лучше знать, чем идти втемную!» — И я продолжал мои расследования.
Судовые команды на эскадре почти наполовину состояли из «молодых матросов», т. е. новобранцев, только что выученных строю, ружейным приемам, матросскому катехизису («Что есть матрос?», «Что есть знамя?» и т. д.), никогда не видавших моря, и из «запасных».
Старший артиллерист «Суворова», довольно злой на язык, так определял положение:
Одних приходится учить с азов потому, что они ничего не знают, а других — потому, что они все забыли, а если что и помнят, то это уже устарело! Возьмите хотя бы только что поставленные оптические прицелы. Вспомните из вашей штурманской практики: сколько надо времени, чтобы доброго, старательного мужика выучить смотреть в зрительную трубу? Что он в нее видит первое время, при всем его желании угодить начальству?.. Конечно, не я буду восставать против введения оптических прицелов, давно принятых во всех флотах! Стреляя на дистанцию 75 кабельтовых, видеть неприятеля так же ясно, как при стрельбе на 10 кабельтовых, — несомненная выгода! Но ведь не менее очевидна выгодность пишущей машинки перед работой пером — однако, если вы хорошего писаря, умеющего писать четко и быстро, ради ускорения переписки срочного доклада посадите первый раз в его жизни за машинку, — то что из этого выйдет? — Ничего, кроме дряни! — «Боюсь, не случилось бы то же…» — закончил он на мотив какой-то шансонетки.
Ну, я вас хорошо знаю! Любите поругаться и сгустить краски! А сами, наверно, успели так «натаскать» ваших «Ерем», что для них оптический прицел — одно удовольствие…
Напрасно думаете! — заговорил он, нервно поправляя pince-nez и уже совершенно серьезным тоном. — Когда же было? Работы — приемки, приемки — работы… Все на якоре.
Редкие выходы в море на несколько часов… Учу! конечно, учу!.. Но наводка без выстрела — пустое дело, а несколько выстрелов — не наука!
Так почему же не учили? Почему не стреляли?
Тому была масса причин, вызванных спешной отправкой только что достраивающихся или еще не отремонтированных кораблей… Но помните старый анекдот, как одного коменданта крепости спросили, почему он в высокоторжественный день не произвел салюта? Он ответил: «Тому было 18 причин: во-первых, у меня не было пороха…» — Продолжать ему не дали. Так и тут. Мы везем с собою полный боевой комплект и еще 20 проц. сверх него. Но… это — все! Больше мы не должны ни на что рассчитывать, хотя бы впереди предстояло десять сражений!.. Наши попытки приобрести что-нибудь за границей неизменно заканчиваются крахом. Почему — не знаю. Может быть, потому, что комиссионные выдаются авансом? Может быть, потому, что эти комиссионеры уверены в своей безнаказанности, так как прикрываются высоким именем лиц, стоящих во главе?.. Вот и теперь, сейчас, известный вам капитан «на отличии», восходящая звезда, проживает в Париже по поводу давно и безнадежно прогоревшего дела — покупки южноамериканских крейсеров!..
Но как же молчат?..
Отстаньте! Ну вас к черту с вашими расспросами! У нас здесь все это давно уже переболело на сердце! А вы опять бередите!..
Дорогой мой, ради Бога, ругайтесь, как хотите, но не удирайте и рассказывайте! Ведь я ничего не знаю!.. Как же так? Если дело до такой степени скверно, то какой смысл посылать эскадру?..
Армаду, а не эскадру!..
Скажем — армаду…
А что же нам делать? Или адмиралу подать рапорт, что «сего числа, испугавшись неминуемой гибели, на войну идти не могу»? Так, что ли? Всенародно расписаться в том, что у нас не флот, а балетная бутафория?.. Да ведь нам не поверят! Вот в чем горе! Просто обзовут трусами и предателями!.. Нет, уж лучше пропадать!.. Хоть мы-то, по совести сказать, и без вины виноваты, а все-таки — к расчету стройся!..
К расплате?..
— Вот, вот! Это — настоящее слово! Десятками лет копили! Все думали — на наш век хватит, авось войны не будет! А до несения о том, что «все обстоит благополучно», — вернейший способ к успешному прохождению службы… Оставьте вы меня!.. Не могу я об этом говорить спокойно!..
Пытался побеседовать со старшим штурманом, расспросить его о степени подготовки эскадры в смысле совместного плавания, маневрирования и т. п. Этот характером не походил на артиллериста — не волновался, не горячился, — но тем безнадежнее звучали его спокойные ответы.
— Совместному плаванию, искусству держаться вместе, Бог даст, обучимся на долгом походе. Авось выберется время попрактиковаться и в разных перестроениях из одного порядка в другой. Это уж будет потруднее! Ну, а что касается маневрирования эскадрой или поотрядно в бою, выполнения разных тактических планов, изучения тактических приемов — об этом надо «отложить попечение». Это — дело многолетней подготовки. У нас последнее время установился нелепый, но в экономическом и служебном отношении очень удобный взгляд, будто военно-морское искусство можно изучать втиши кабинетов, причем корабли превратить в плавучие казармы и вместо широко поставленных практических плаваний и маневров ограничиваться разыгрыванием целых войн и отдельных сражений на… бумаге. Забыли святую истину, что как вера без дела, так и теория без практики — абсурд, чтовсякое искусство есть венец здания, фундаментом которому служит ремесло. Отсюда и то пренебрежение к боевому опыту, которым вы так возмущаетесь. Ведь даже в Тихом океане мы не сумели создать «эскадры». А японцы сумели. И у англичан, и у французов, и у немцев — есть «эскадры», а у нас — не было и нет… Вы сами рассказывали, что первый выход мобилизованного флота из Порт-Артура иначе не называли, как «походом аргонавтов», а Макаров вынужден был по приезде обучать свои корабли не боевой тактике, а простейшим перестроениям, причем еще они таранили друг друга и вместостроя получалась каша. Идя в бой, иметь в виду не только неприятеля, но и опасность от своих собственных соседей… — ведь «это было бы смешно, когда бы не было так грустно!..».Между тем в Тихом океане официально существовала «эскадpa», и сам наместник неустанно доносил о ее полной боевой готовности… Чего же вы хотите от Балтийского моря, где даже официально не было эскадры более 10 лет, а фактически — не было со времен адмирала Бутакова? Наши мудрецы утверждают, что, перемножив между собою пушки, арбузы, мужиков, фиктивные скорости и т. д. и сложив все эти произведения, они получают боевой коэффициент эскадры, не многим уступающий таковому же «эскадры» адмирала Того. Но это — не более как обман несведущей, сухопутной публики. Обман злостный. Мудрецы не могут не знать, что там множители совсем другие — там пушки, снаряды, опытные моряки, действительные скорости и т. д… А главное, там — эскадра, а здесь — сборище судов… Грустно все это, очень грустно, но, к сожалению, — правда… — Кстати, что вы думаете про Порт-Артур? Как дела? Какие надежды?
28 июля гарнизон вместе с моряками был численностью до 30 тысяч; что касается продовольствия и боевых припасов — затрудняюсь сказать точно. Это и в самой крепости составляло военную тайну. Начальство утверждало, что хватит по крайней мере до февраля, а то и дольше. По частным сведениям — с отдельных фортов о числе зарядов и снарядов, из магазинов и складов о количестве запасов — выходило приблизительно то же. Вот насчет эскадры, по-моему, надежды мало. После того, как начались бомбардировки с суши, как они будут чинить повреждения, полученные в бою, когда каждый день будет приносить новые повреждения? Кроме того, большая часть орудий, несомненно, уже на берегу и расстреливает свой запас; большая часть команд — на укреплениях и, конечно, несет потери…
Да-да… А все-таки хорошо, если бы продержались до нашего прихода; все-таки некоторая оттяжка сил; при встрече мы будем после долгого похода, а японцы — после долгой блокады в зимнее время. Это тоже марка изрядная!
Ни вообще на эскадре, ни мне в частности план предстоящих военных действий известен не был. Конечно, каждый делал свои догадки и предположения, но, как я уже заметил раньше, говорить о них громко не любили. Почему? — да потому, что с какой стороны ни взять — конечные выводы получались самые безотрадные, а вести такие разговоры в военное время значило бы способствовать упадку и без того не сильного духа…
Ill Прибытие в Виго. — Несколько слов по поводу разрешения гулльского инцидента. — Из Виго в Танжер. — Английский конвой. — Заветы Пророка. — Моя позиция в штабе. — Дакар. — «Либо поворачивай оглобли, либо рискуй опрокидонтом». — Черная лихорадка. — Габун
13 октября, в 10 ч. 30 мин. утра, отряд вошел в Виго и стал на якорь. Здесь нас ожидали пять германских пароходов с углем, но начать погрузку немедленно оказалось невозможным. На каждом угольщике находилась портовая полиция (испанская), присланная для того, чтобы воспрепятствовать такому снабжению кораблей воюющей державы в нейтральных водах.
Это запрещение распространялось даже на «Анадырь», пришедший вместе с нами и под военным флагом. Между тем у него в трюме было до 7 тысяч тонн кардифа — запас вполне достаточный для снабжения отряда. Повторяю — «Анадырь» нес военный флаг, а значит, испанское правительство просто запрещало всякие сношения, всякий обмен запасами, даже между военными судами, пришедшими в его порт. Это были какие-то совсем новые, никогда не слыханные, правила нейтралитета, объявленные под давлением Англии, доброго союзника нашего врага. Говорили, однако же, что Англия вряд ли имела бы успех, если бы ей не помогли обстоятельства, сопровождавшие деятельность наших вспомогательных крейсеров, которые оказались «вспомогательными» для… японцев. Невольно вспомнился резкий отзыв французского моряка по поводу лиц, руководивших этими крейсерскими операциями.
Начались оживленные сношения по телеграфу с Мадридом и Петербургом.
Но главное затруднение было не с углем.
Придя в Виго, мы узнали, какие грандиозные размеры принял инцидент со стрельбой в Немецком море. Английские газеты не называли вторую эскадру иначе, как «эскадрой бешеной собаки», которую необходимо либо вернуть, либо уничтожить. Сам инцидент они считали «актом открытого пиратства» (юридически нелепо, ибо пиратство, т. е. морской разбой, включает в себя, как необходимый состав преступления, корыстную цель). Но более всего общественное мнение Англии было возмущено тем фактом, что «один из русских миноносцев до утра оставался на месте происшествия и не оказал никакой помощи рыбакам, спасавшим своих товарищей»…
Это свидетельство, данное рыбаками, поседевшими на море, комментировалось на все лады. Говорили, что даже варвары щадили случайные жертвы войны и не отказывали им в сострадании, что после этого не должно быть колебаний, что это — пощечина Англии, оскорбление, которое можно смыть только кровью, если со стороны русского правительства не будет дано самого полного удовлетворения… Таким удовлетворением признавалось только возвращение эскадры и предание суду её начальника, командиров, а также всех, кто окажется причастным к делу, в особенности командира миноносца…
Для меня эти вопли были прямо откровением. Мой скептицизм не устоял перед свидетельством старых, опытных моряков.
Один из миноносцев до утра оставался на месте происшествия!
Значит, миноносцы действительно были! Значит, благодаря бдительности мы избегли огромной опасности! Значит — мы счастливо отразили атаку!.. Если при этом пострадали невинные — крайне грустно, но что ж делать? В Артуре во время бомбардировок гибли женщины и дети… Нашему правительству остается высказать свое соболезнование, обеспечить материально пострадавшие семьи, но — и только.
Позволю себе на этот раз отступить от моего правила и рассказать то, о чем узнал много позже.
Адмирал, осведомившись о кампании, поднятой английской прессой, немедленно телеграфировал нашему морскому агенту в Лондоне для опубликования, что в момент инцидента все наши миноносцы были впереди эскадры на 200 и даже более миль — факт, который легко проверить, осведомившись о времени их прибытия в порты Франции, а потому миноносец, остававшийся на месте происшествия до утра, был, несомненно, из числа тех, которые атаковали эскадру, и который, по свидетельству офицеров эскадры, был сильно подбит. Ясно, он исправлял свои повреждения или поджидал товарищей.
Весьма знаменательно, что едва это строго мотивированное опровержение появилось в одной из газет, как высокодисциплинированная английская пресса словно забыла о показании рыбаков, на которое раньше так настойчиво указывала. Мало того, на заседаниях следственной комиссии в Париже английские делегаты высказали убеждение, что рыбаки, несомненно, ошиблись, что никакого миноносца не было, что просто утром через это место проходила «Камчатка» (!) и они приняли ее за миноносец… Возможно (по расчету времени), что «Камчатка» действительно утром 9 октября проходила этим местом, но ведь речь шла о миноносце, который оставался на месте до утра! И наконец — я обращаюсь к экспертизе моряков всего света — можно ли допустить, чтобы при дневном освещении поседевшие на своем ремесле, старые морские волки приняли «Камчатку» — безобразнейшего вида высокобортный коммерческий пароход — за миноносец? Ребенок из рыбачьей семьи и тот не мог бы ошибиться так грубо!.. Также весьма убедительным являлось то обстоятельство, что все на эскадре, утверждавшие, что «своими глазами видели миноносцы», описывали их внешний вид (число труб и мачт, окраску, надстройки и т. п.) — совершенно одинаково. И это не на одном корабле, где можно было бы заподозрить взаимный гипноз, а на пяти, не имевших между собой в тот момент никакого общения!
Думаю, сам Шарко не признал бы возможности такого «внушения на расстоянии»…
Но это еще не все!..
Девять месяцев спустя, лежа на койке японского госпиталя в Сасебо, я узнал от товарищей, тоже раненных, но уже поправлявшихся и свободно гулявших по госпиталю, что в соседнем бараке лечится от острого ревматизма японский лейтенант, бывший командир миноносца. В это время в Портсмуте (в Америке) уже начались переговоры, конечным результатом которых должно было явиться заключение мира на тех или иных условиях. Это — всем было ясно, а потому наш сосед, вероятно, не находил нужным особенно секретничать относительно прошлого. Он открыто заявлял, что нажил свою болезнь за время тяжелого похода из Европы в Японию.
Ваша, европейская, осень — это хуже нашей зимы! — говорил он.
Осень? — спрашивали его. — Какой же месяц?
Октябрь. Мы, наш отряд, тронулись в поход в конце этого месяца.
В октябре? Одновременно со второй эскадрой? Как же мы ничего о вас не знали? Под каким флагом вы были? Когда прошли Суэцкий канал?
Слишком много вопросов!.. — смеялся японец. — Под каким флагом? Конечно, не под японским! — почему вы не знали? Об этом надо спросить вас… Когда прошли Суэцкий канал? Следом за отрядом адмирала Фелькерзама!..
Но тогда… не вы ли фигурировали в знаменитом «гулльском инциденте»!..
— Ха-ха-ха! Это — уж совсем нескромный вопрос!..Больше от него не могли добиться никаких объяснений, но мне кажется, что и этого было достаточно. Тем более что в европейских газетах около того времени (октябрь — ноябрь 1904-го) прорывались временами какие-то смутные сообщения о каких-то миноносцах, которые (в числе четырех, построенных в Европе) идут на восток для усиления азиатской эскадры С.-А. Соединенных Штатов…
Почему наши делегаты на международной следственной комиссии в Париже так поспешно признали возможность ошибки опытных моряков, принявших проходившую мимо «Камчатку» за миноносец, остававшийся всю ночь, до утра, на месте происшествия? — мне ли судить? — это рассудит история…
В ноябре того же 1904 г. на юго-восточном берегу Немецкого моря рыбаками была найдена самодвижущаяся мина Шварцкопфа, сильно избитая в прибрежных бурунах… Фотографии этой мины печатались в европейских иллюстрированных журналах (И даже перепечатывалась в наших — «Хроника войны», издававшаяся как приложение к газете «Русь».). Надо знать, что каждая самодвижущаяся мина, в каждой отдельной части ее, имеет марку завода, на котором она построена, и порядковый номер. Достаточно иметь в руках обломок такой мины, чтобы по марке и номеру узнать с полной достоверностью: кому и когда она была продана или доставлена.
Наши делегаты, по-видимому, не обратили особенного внимания ни на показания рыбаков о присутствии миноносца, ни на эту находку… Совершенно понятно, так как высшее руководство их действиями принадлежало нашей дипломатии, а по отношению к этой последней, из долгой практики заграничных плаваний, я вынес такое впечатление: по убеждению чинов Министерства иностранных дел, всякий русский подданный, обращающийся к ним за содействием, несомненно, личность подозрительная, ибо порядочного человека никто и нигде в цивилизованном государстве не обидит. В то время, как, например, английский консул всегда готов именем короля вступиться за интересы подданного его британского величества (хотя бы личности вовсе ему не известной), грозить осложнениями, вызовом эскадры, морской демонстрацией, чуть ли не войной, — «наш», если не может просто без дальних слов прогнать просителя, всегда старается его убедить, усовестить: — Стоит ли, мол, затевать историю? сознайтесь (между нами), и вы не без греха в этом деле… Бросьте — право, лучше будет…
Это предубеждение против соотечественников, глубокая уверенность, что «наши всегда les pieds dans le plat», конечно, сыграли немалую роль в деле разбора гулльского инцидента.
Впрочем — Бог с ними! Возвращаюсь к моему дневнику.
14 октября в 1 ч. пополудни получили желанное разрешение и немедленно приступили к погрузке угля, которая была закончена к 10 ч. утра следующего дня. Однако не ушли. Приходилось ждать, к какому решению придут в Петербурге относительно «инцидента». Английские газеты несколько сбавили тон, но все еще бряцали оружием. Получались известия, что приступлено к мобилизации Home squadron, которая будет сосредоточена в Гибралтаре вместе с эскадрами Атлантического океана и Средиземного моря. В общей сложности — 28 броненосцев и 18 крейсеров. Теперь уже требовали не возвращения самой эскадры, а только смены адмирала. Настроение на судах было крайне подавленное. Всякому было ясно, что если в Петербурге «сдадут», то дело наше безнадежно проиграно, так как, кроме Рожественского, эскадру вести некому. На этот счет двух мнений не существовало.
Один адмирал был, как всегда, бодр, полон энергии и выглядел даже веселее обыкновенного. Кто прочел ему выдержку из газетной статьи, в которой говорилось, что, если только он поведет свой отряд дальше, грозная сила английского флота — 28 броненосцев и 18 крейсеров — без труда его уничтожит. Адмирал только засмеялся.
— Охота считать и подсчитывать! Если кончится разрывом, то для нас имеют значение первые 4 броненосца, с которыми мы будем драться, а сколько их еще будет нас добивать — 24 или 124 — не все ли равно?
Не берусь судить, искренне или под давлением извне испанское правительство встретило наш приход так недружелюбно, зато в чувствах местного населения нельзя было сомневаться. Видимо, среди народа еще живо было раздражение, вызванное поведением Англии во время испано-американской войны, и жители Виго не упускали случая выразить нам свое доброжелательство. Это доброжелательство проявлялось во множестве мелочей, перечислять которые было бы трудно и скучно.
Когда адмирал съехал на берег, чтобы лично переговорить с губернатором, то, при его выходе из губернаторского дома, собравшаяся на улице толпа устроила ему сочувственную манифестацию. Местные газеты довольно недвусмысленно высказывали, что «враг союзника собственного врага должен считаться другом» и т. п.
Вечером 15 октября вышел и был прочитан при собрании офицеров и команд известный приказ адмирала:
«СЕГОДНЯ, 15 ОКТЯБРЯ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР ОСЧАСТЛИВИЛ НАС НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЮ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЮ ТЕЛЕГРАММОЙ:
«МЫСЛЕННО, ДУШОЮ С ВАМИ И МОЕЙ ДОРОГОЮ ЭСКАДРОЙ. УВЕРЕН, ЧТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ СКОРО КОНЧИТСЯ. ВСЯ РОССИЯ С ВЕРОЮ И КРЕПКОЙ НАДЕЖДОЙ ВЗИРАЕТ НА ВАС.
«НИКОЛАЙ».
Я ОТВЕТИЛ ГОСУДАРЮ:
«ЭСКАДРА ЕДИНОЮ ДУШОЮ У ПРЕСТОЛА ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА».
— ТАК ВЕДЬ, ТОВАРИЩИ? ЧТО ПОВЕЛИТ ЦАРЬ, ТО И СДЕЛАЕМ. УРА!»
Приказ этот вызвал энтузиазм, но — буду откровенен — не единодушный. Некоторые полусмущенные взгляды, выражения лиц, мимоходом оброненные слова как будто говорили, что многие готовы были бы с облегчением встретить весть о вынужденном возвращении, хотя добровольно никто бы не вернулся.
А жаль, что не дошло до разрыва с Англией! — полушутя, полусерьезно заявил лейтенант Б., мой старый знакомый.
Почему так?
Да потому, что тогда, как вышли бы в море, — тут нас сразу же и раскатали бы! А теперь — извольте за тем же делом ехать так далеко!
Вечером 16 октября стало известно, что по поводу «инцидента» будет назначена международная следственная комиссия и с каждого корабля, в качестве свидетеля, должно быть отправлено по одному офицеру для дачи показаний.
17 октября с поездом в 9 ч. утра свидетели уехали.
С «Суворова» был командирован капитан 2-го ранга Е. Признаюсь, это назначение меня удивило. Сколько помнится, с его же слов (да и другие об этом знали), он вышел наверх позже меня, так как в момент первых выстрелов находился в каюте, раздевшись и собираясь лечь спать, вряд ли видел больше меня и вряд ли его показании могли быть особенно ценными. Между тем ведь он в штабе был как бы представителем командующего Флотом Тихого океана, только что прибыл с театра военных действий… хоть сам и не воевал, но стоял, можно сказать, в центре дела.
— Вы где же думаете догнать эскадру? — не удержался я, чтобы не спросить отъезжающего.
Он ответил как-то неопределенно, уклончиво.
Однако флаг-капитан, несмотря на тесноту, господствовавшую на броненосце, не разрешил судовому начальству воспользоваться освободившейся каютой. Наоборот — собственноручно запер в ней все шкафы и ящики, где оставались вещи и бумаги, затем запер самую каюту и ключи взял к себе на сохранение.
— Значит, он вернется?
Флаг-капитан как-то загадочно кашлянул и ничего не ответил, а лейтенант С., оказавшийся, как и я, случайным свидетелем этой сцены, взял меня под руки и с таинственным видом заявил:
— Знаете примету? Говорят, что еще задолго до пожара крысы покидают корабль. Чуют! Инстинкт! Они — звери умные, берегут свои головы для лучшей участи и на пользу крысиного царства…
По-видимому, 18 октября вечером получился из Петербурга желанный ответ, так как сигналом приказано было приготовиться к походу, а в 7 ч. утра 19 октября I броненосный отряд вышел из Виго для дальнейшего следования на восток. В пределах территориальных вод нас сопровождал испанский крейсер «Estramadura».
В 10 ч. вечера нас обогнал справа хорошим ходом какой-то военный корабль — 2 мачты и 3 трубы, похоже на английский крейсер «Lancaster», заходивший в Виго во время нашей стоянки там. Выйдя вперед, повернул обратно, прошел у нас по левому борту контркурсом и скрылся. Вскоре после того за кормой, в расстоянии нескольких миль, появились огни пяти судов, видимо, следовавших за нами. По характеру расположения огней можно было с уверенностью сказать, что это отряд военных судов. Они все время держались позади нас, но не шли одним курсом, а маневрировали, заходя нам то справа, то слева, меняли строй, разделялись на два отряда и т. п.
С рассветом убедились, что нас действительно конвоирует отряд английских крейсеров.
В 7 ч. утра — повреждение на «Орле». Застопорили машины. Послали туда флагманского механика и флагманского минера.
Англичане, до того шедшие в строе кильватера, засуетились: сначала рассыпались цепью по горизонту, потом снова соединились; один крейсер отделился и полным ходом пошел на SO, вероятно, с донесением; остальные, разделившись попарно, крейсировали к северу и к югу от нас в расстоянии 5–7 миль. Все их движения были так стройны, маневры делались так быстро, так уверенно, словно не являлись результатом неожиданно получаемых приказаний, словно перед нами разыгрывалась хорошо срепетированная пьеса, в которой не замечаешь участия ни режиссера, ни суфлера…
— Любуетесь?..
Я оглянулся. Сзади меня стоял адмирал, не сводивший глаз с английских крейсеров.
— Любуйтесь! — продолжал он. — Есть на что! Вот это эскадра! Это моряки! Эх, если бы нам… — И, не договорив, начал быстро спускаться по трапу.
В его голосе звучало столько искренней горечи; по его лицу скользнуло выражение такого глубокого страдания, что я сразу понял… Я понял, что он тоже не тешит себя несбыточными надеждами, хорошо знает истинную цену своей эскадры, но, верный долгу, никому не уступит чести быть первым в рядах людей, добровольно идущих к кровавому расчету…
В 8 ч. утра «Орел» исправил свое повреждение, и мы тронулись дальше.
К вечеру вернулся английский крейсер, бывший в отлучке, а следом за ним пришел ещё отряд из четырех крейсеров.
Всю ночь они нас конвоировали, проделывая различные маневры, а утром 21 октября, убедившись, что мы идем в Танжер, сами круто свернули к востоку, вероятно, в Гибралтар.
На рейде Танжера, куда мы прибыли в 3 ч. пополудни, застали в сборе всю эскадру, кроме миноносцев и транспортов, к которым они были приписаны. Вся эта компания ушла вперед к Суэцкому каналу.
Эскадренные броненосцы типа «Бородино»
Танжер оказался единственным портом, где нам не только не чинили никаких препятствий, но приняли с полным радушием. Губернатор встретил приехавшего к нему с визитом адмирала, как дорогого гостя, приветствовал от имени султана, предложил стоять на рейде, сколько угодно, и делать, что угодно. Рассказывали, что с приходом первых наших судов английский консул, в качестве представителя союзницы Японии, пытался протестовать, но безуспешно. Ему было отвечено, что его величество султан марокканский не только не осведомлен официально о войне между Россией и Японией, но даже не состоит в сношениях с правительством последней и вряд ли слыхал об этом отдаленном государстве; что, во всяком случае, по завету Пророка, всякий странник приносит с собою благословение Божие под кров, его приютивший, — его не спрашивают: кто он? откуда он? куда направляется? — ибо нет закона более священного, чем закон гостеприимства; что если когда-нибудь на рейд Танжера придут японцы, то они могут быть уверены в таком же радушном приеме…
Не правда ли, насколько этот бесхитростный завет, свято хранимый со времен седой древности, кажется выше всех юридически обоснованных деклараций о нейтралитете, выработанных современной дипломатией?..
В 9 ч. вечера того же дня снялся с якоря и ушел в море отряд контр-адмирала Фелькерзама, следовавший через Суэц («Сисой», «Наварин», «Светлана», «Жемчуг», «Алмаз» и транспорты).
Восточный ветер, поднявшийся еще днем, ночью так засвежел, что к утру 22 октября пришлось прекратить погрузку угля. После полдня стихло, и работы возобновились.
В 3 ч. ночи на 23 октября в виду Танжера прошла английская эскадра, направляясь куда-то на SW.
За время стоянки к нам присоединились пароход-госпиталь «Орел» и пароход-рефрижератор «Esperance» (под французским флагом). На последнем было 1000 тонн мяса и другой живности в замороженном виде. Таким образом, и медицинской помощью, и провизией мы были обеспечены.
Эскадренный броненосец «Наварин»
В 7 ч. утра 23 октября начали сниматься с якоря. Корабли, непривычные к совместному плаванию, долго путались и тыкались в разные стороны, занимая свои места в строе. Сигналы следовали за сигналами: кому — «больше ход», кому — «стоп машина, не туда идете», одному — «держать правее», другому — «держать левее» и т. п. Флаг-офицеры прямо с ног сбились… Наконец в начале 9-го часа дело кое-как наладилось, и наш отряд тронулся в путь.
Шли в двух колоннах: правая — броненосцы «Суворов», «Александр», «Бородино», Орел» и «Ослябя»; левая — транспорты «Камчатка», «Анадырь», «Метеор», «Корея», «Малайя» и «Русь» («Ролланд» — к этому времени уже купленный, переименованный и поднявший русский флаг). В замке эскадры находились в строе клина крейсера «Нахимов», «Аврора» и «Донской». Этим отрядом командовал контр-адмирал Энквист, первоначально державший флаг на «Донском», а затем перенесший его на «Нахимов». Описываю этот строй так подробно потому, что он уже не менялся до самого прибытия на Мадагаскар.
В 9 ч. 45 мин. утра — только что выстроились и дали назначенный ход, — на «Суворове» испортилась рулевая машинка, и он круто бросился влево. Едва не протаранили «Камчатку». По счастью, командир «Суворова» ни на мгновенье не потерялся — тотчас остановил левую машину, а правой дал полный ход назад. Столкновение было удачно избегнуто, но вся левая колонна пришла в полное расстройство, так как транспорты при виде мчащегося на них, словно взбесившегося, броненосца кинулись от него врассыпную.
Через четверть часа повреждение было исправлено и порядок восстановлен.
Дальнейшее плавание, до Дакара, ознаменовалось только одним инцидентом — в ночь на 26 октября целых 5 часов простояли на месте из-за поломки «Малийи».
Погода стояла великолепная — тепло и слабый пассат (мы шли как раз его границей). Оговорюсь, однако, что это — мои впечатления. Это я — после артурского лета, стоянки в Сайгоне и похода из Сайгона в Марсель, временно промерзнув в Либаве, Немецком море и Бискайке, — чувствовал себя отлично, что же касается офицеров и команды на судах эскадры — они уже с выхода из Танжера заговорили о тропической жаре. Сколько содовой воды со льдом, а главное, холодного квасу выпивалось за день на «Суворове» — сосчитать невозможно! Правда, что среди команды оказался профессиональный квасник и квас был действительно превосходный!
Путь, которым мы шли, был малопосещаемым. Ни встречных, ни попутчиков — почти не видели. Английские крейсера продолжали некоторое время оказывать нам свое любезное внимание, но днем держались очень далеко, иногда даже скрывались из виду, только ночью подходили ближе, а после того, как мы спустились южнее Канарских о-вов, вовсе нас бросили.
Забыл упомянуть, что в Танжере, перед разделением эскадры, последний раз пытались меня «сплавить». Флаг-капитан чрезвычайно любезно, но и категорически, пожелал узнать, какого назначения я намерен просить у адмирала, причем предлагал свое содействие. Не менее категорически я ответил, что, впервые явившись на эскадру, в Либаве, просил уже о каком-нибудь (безразлично каком) месте на одном из боевых судов, что если бы кто-нибудь, по каким-либо причинам, вынужден был списаться, то, конечно, я считал бы себя вправе претендовать на эту открывшуюся вакансию, но ни в коем случае не позволю себе «просить», чтобы ради меня кого-нибудь сместили, убрали, чтобы в моих личных интересах была допущена хоть тень несправедливости.
— Если вы находите мое положение ненормальным, неудобным, — закончил я, — имеете доброе намерение его улучшить, урегулировать, я глубоко вам благодарен, но только сам за себя «просить» не буду и предоставляю все дело в ваши руки, на ваше усмотрение.
Не знаю, каков был доклад, но в результате вышел приказ, которым я зачислялся на «Суворов» с назначением заведовать военно-морским отделом штаба командующего эскадрой. Официально положение мое несколько изменилось: я уже не был пассажиром, но пассажиром, которому дано особое поручение. На деле — все осталось по-старому. Я не только не был допущен «во святая святых», не только не был посвящен в планы предстоящих операций, но даже и текущие дела — шифрованные депеши, от нас и к нам, оставались для меня секретом. Если я случайно входил в рубку, где флаг-капитан и чины штаба горячо обсуждали между собою последние полученные известия, — разговор так круто менялся, что… не оставалось ничего другого, как извиниться и уйти.
Должность заведующего военно-морским отделом в штабе командующего эскадрой по штату не положена (она была, уже во время войны, учреждена и то только для штаба командующего флотом), а потому соответствующие ей функции были распределены между флаг-капитаном, флагманскими специалистами и флаг-офицерами. При первой же моей попытке выступить в новой роли, объявить тот или иной вопрос подлежащим моей компетенции я увидел, что такая попытка принимается крайне враждебно, как вторжение в чуждую область, как нарушение чьих-то прав, вызывает нежелательные прения, почти раздоры…
Со своей стороны, ввиду серьезности момента, переживаемого эскадрой, я считал преступным возбуждение хотя бы тени распри в ее вполне организованном, сжившемся штабе, сплоченность и единодушие которого казались мне необходимым условием успеха. Тем более казалось мне невозможным замешивать в эту распрю адмирала, и без того чрезмерно обремененного делами и заботами, а между тем только на него я мог бы опереться.
Не знаю, правильно ли было мною поступлено, но я решил, ради пользы дела, спрятать самолюбие в карман, не задаваться высокой целью принимать участие в руководительстве эскадрой, не пытаться проникать в тайны, в которые меня посвящать не желают, примириться по внешности с ролью пассажира и «сведущего человека», оставленного при штабе по воле адмирала, выступать самостоятельно только в крайних случаях, но проводить свои идеи путем дипломатического воздействия на разных специалистов, знакомых командиров и даже адмиралов. Практика показала, что этот путь был верно намечен, и «под чужим флагом» мои предложения по большей части не встречали такого дружного отпора, как исходившие непосредственно от меня.
30 октября, в 8 ч. утра, пришли в Дакар. Здесь нас уже поджидали угольщики, однако начать погрузку немедленно не удалось, хотя, казалось бы, пришли во владения добрых союзников. Только что отдали якорь, как прибыл к адмиралу командир местного порта, — увы! — не для того, чтобы приветствовать с благополучным приходом и предложить свое содействие, а… с предложением о выходе. Он сообщил, что Япония протестует против допущения военных кораблей, следующих на театр военных действий, к погрузке угля в нейтральных портах, что Англия энергично поддерживает этот протест и что французское правительство, видимо, не решается открыто отвергнуть этот новый принцип нейтралитета… По крайней мере, ему приказано попытаться найти какой-нибудь выход, подыскать и указать нам место вне территориальных вод, где мы могли бы грузиться углем, и, во всяком случае, не разрешать начала работ без сношения с Парижем. Сам он всего себя отдавал в наше распоряжение и, видимо, искренне. (Это так походило на прием, встреченный «Дианой» в Сайгоне, — полное доброжелательство со стороны местных властей и пугливая сдержанность со стороны центрального правительства.) Губернатор обещал всяческое содействие, предлагал прислать не только свежую провизию, но, если окажется нужным, даже рабочих, только бы мы ушли…
— Куда?
— Например, к Зеленому Мысу! Там глубины позволяют стать на якорь вне пределов территориальных вод, т. е. Дальше трех миль от берега…
Но мы, только что придя с океана, хорошо знали, какая там ходит зыбь. Там о погрузке угля и думать нельзя было!
Адмирал категорически заявил, что так как погрузка в открытом океане невозможна, а равно невозможен и выход эскадры в море без угля, то запрещение выполнить эту операцию на рейде Дакара равносильно требованию разоружения судов воюющей стороны, зашедших в нейтральный порт, что противоречит всем декларациям о нейтралитете. Вопрос был поставлен ребром.
Полетели телеграммы в Петербург и Париж.
Уже после полудня неофициально определилось благоприятное для нас течение переговоров, а потому, пользуясь отдаленностью места стоянки эскадры от французского поселка, откуда «могли не видеть» того, что у нас делалось, в пятом часу дня подвели угольщиков к борту наших судов и приступили к погрузке.
Прием, встреченный нами в Виго и затем здесь, в порту союзной державы, заставлял серьезно подумать о возможности дальнейшего похода эскадры кругом мыса Доброй Надежды. Следующим этапом на нашем пути был намечен Libreville — французская колония, миль сорок к северу от экватора, расположившаяся при устье многоводной реки Габун. Войдя в нее, мы могли бы чувствовать себя, как в спокойной гавани, но, к сожалению, согласно полученным сведениям, местные французские власти имели категорические предписания: в реку нас не пускать.
Вместе с тем указывалось, что в расстоянии от берега более трех миль (т. е. вне пределов территориальных вод) глубина всего 10–12 сажен, и если мы там (т. е. в открытом океане) станем на якорь, то нам не только не помешают грузиться, но даже готовы оказать всякое содействие. Чисто по-французски — и любезно, и ни к чему не обязывает. Все равно, что голодному человеку, сидящему под яблоней, сказать: «Я не имею права разрешить вам сорвать ни одного яблока, но если которое-нибудь упадет — кушайте на здоровье! Я даже готов его вам очистить!» — Надо заметить, что ноябрь в Libreville'e является месяцем наиболее неустойчивой погоды. Преобладает штиль, но временами разражаются жестокие штормы с грозой (tornado), по силе немногим уступающие ураганам Вест-Индии, менее продолжительные, нежели последние, но зато более частые. После торнадо, не говоря о той опасности, которую оно представляет само по себе, надолго остается зыбь. Словом — погрузку угля «в океане, близ Габуна» отнюдь нельзя было считать обеспеченной.
Следующий этап (тысяча с чем-то миль южнее Габуна) был Great-fish bay — огромная бухта, совершенно укрытая от господствующих ветров и зыби. Ни по берегам самой бухты, ни на сотни верст кругом нее — ни дерева, ни кустика, ни единого родника пресной воды — только песок. Типичная африканская пустыня. Казалось бы, лучше не надо для нашей, отовсюду гонимой, эскадры… Однако по нынешним временам «Божьей земли» на свете не осталось вовсе, и эта пустыня официально принадлежала Португалии. Если бы в бухте оказалась английская эскадра и на ней специально привезенный из соседней Бенгуэлы португальский чиновник, который попросил бы нас о выходе, то, в случае нашего отказа, англичане имели бы несомненное право предоставить в его распоряжение свои силы для воздействия на нарушителей вновь объявленных правил нейтралитета… Чем бы все это кончилось? — задним числом гадать не стоит. Так или иначе, но и это место погрузки являлось ненадежным.
На всем западном берегу Африки только и был один пункт, на который мы крепко рассчитывали, это — Angra Pequena (миль семьсот с чем-то к югу от Great-fish bay), единственный порт германской колонии на этом берегу. Принимая во внимание, что уголь доставлялся нам пароходами Hamburg-America Linie, здесь мы не рассчитывали встретить никаких препон (и не ошиблись в расчете).
Затем — Мадагаскар. Ni plus, ni moins!.. — так как дальше все бухты, годные для стоянки, были во власти англичан, а намечавшаяся при составлении маршрута Delagou bay принадлежала Португалии, что то же самое…
О возможности погрузки в океане, проходя областью SW муссона, SO пассата и West'oBbix штормов, — говорить, конечно, не приходилось.
Оставалось решить вопрос: вернуться или идти дальше при условии, что новым броненосцам придется брать вместо «усиленного» запаса угля, каковой допускался 1100 тонн, — 2400 тонн?
Между тем «сам технический комитет» признавал, что эти броненосцы, уже при постройке перегруженные на 2 '/2 фута, даже и при «усиленном» запасе внушают опасения, и заботливо «уведомлял» об этом адмирала. Согласно этим уведомлениям, еще 1 октября адмиралом был отдан приказ, которым предписывалось «для сохранения безопасной для плавания меацентрической высоты: 1) Избегать наличия в трюме броненосцев жидких грузов, способных переливаться при качке, для чего, например, расходовать запас пресной воды из междудонных цистерн по очереди, т. е. не начинать расходовать воду из новой цистерны, пока не опорожнена вполне предыдущая. 2) Держать все значительные свободные грузы на местах закрепленными. 3) Расходовать уголь с тем расчетом, чтобы по мере опоражнивания нижних ям пересыпать в них уголь из верхних. 4) При плавании на крупном волнении держать все порта и прочие отверстия батарейной палубы задраенными».
Прошу моих сухопутных читателей извинить меня за эту малоинтересную и малопонятную для них, но зато для людей, сведущих в морском деле, красноречивейшую цитату.
Итак, надо было решить вопрос, который на кают-компанейском жаргоне формулировался: «Либо — поворачивай оглобли, либо — рискуй опрокидонтом…»
Вернуться… — Легко сказать! Но как это сделать, когда «ВСЯ РОССИЯ С ВЕРОЮ И КРЕПКОЙ НАДЕЖДОЮ ВЗИРАЕТ НА ВАС?..»
В этом случае явно сказывалась та огромная разница, которая существует между положением генерала, командующего армией, и адмирала, командующего эскадрой. По отношению к первому ни при каких обстоятельствах не может быть речи о его личной храбрости. Если он заявит, что не считает себя вправе «посылать» вверенные ему войска на явную гибель, его могут обвинить в чем угодно, но не в личной трусости. Для адмирала — наоборот. Он, на своем флагманском корабле, на котором сосредоточен огонь неприятеля, находится в центре опасности, первый несет свою голову под удары… Если бы он сказал, что не хочет «вести» свою эскадру на верную гибель, то ему всегда (справедливо или несправедливо — другой вопрос) могло бы быть брошено в лицо ужасное слово:
— Испугался!..
Теперь… судите сами — при том настроении, которое господствовало в России, «с верой и крепкой надеждой взиравшей на вторую эскадру», — возможно ли было, чтобы начальник этой эскадры сам заговорил о ее возвращении!.. И вот, несмотря на предостережения, полученные от технического комитета, он решил идти вперед, грузясь углем, как говорили в кают-компании, не только по горло, но по уши…
В Дакаре приказано было броненосцам типа «Бородино» принять по 2200 тонн, завалив углем не только жилую, но и нижнюю батарейную палубы. Флагманским корабельным инженером составлен был приказ (объявленный именем адмирала), в котором были подробно изложены способы осуществления этой невероятной операции, указаны все необходимые меры предосторожности, как при погрузке, так и при расходовании излишнего груза.
Флагманский корабельный инженер П. (добрый товарищ, пользовавшийся общими симпатиями) казался очень озабоченным, ездил с одного броненосца на другой, созывал других корабельных инженеров на совещания к себе, на «Суворов»…
Ну? что вы думаете? — спросил я его как-то.
Да коли иначе никак нельзя! Приходится приспособляться! — развел он руками.
Поворот овер-киль?
Нет… если порта нижней батареи выдержат, то вряд ли… Только бы не в скулу или не в лоб. Тогда плохо! — зарываться будем жестоко, а как высадит порты и хлынет в батарею, тогда — прощайте…
В ночь на 31 октября губернатором из Парижа получено было распоряжение разрешить нам грузиться углем, но с тем, чтобы погрузка была закончена в 24 часа. Разумеется, за начало этого срока был принят момент официального получения разрешения, т. е. 4 ч. утра.
День 31 октября был первым днем настоящей угольной «страды». Много таких дней пережили мы впоследствии, но этот, первый, естественно, был самым тяжелым.
В Дакаре, как и вообще в тропиках, с 10 ч. утра и до 3 ч. пополудни жизнь замирает. Закрываются правительственные учреждения; магазины не торгуют; войска не выходят из казарм; рабочие-европейцы прекращают работы; все не только прячутся в тень от палящих лучей солнца, но и в тени стараются не шевелиться, потому что всякое резкое движение вызывает обильную испарину. Такого режима держатся люди, до известной степени акклиматизировавшиеся, привычные, но нам было не до этих нежностей. Для нас успешность погрузки угля была вопросом жизни, а в ней, разделившись на две смены, работая день и ночь, принимал участие весь личный состав, начиная с командиров. При полном штиле, при температуре, не падавшей ниже +26° R, в течение 29 часов кряду, «Суворов» стоял, окутанный облаком угольной пыли. Яркие лучи солнца — днем, свет электрических люстр — ночью с трудом пронизывали этот черный туман. Со дна трюмов угольщиков (пароходов, груженных углем) само это солнце казалось багрово-красным пятном… Чернее негров, обливающиеся потом, с клочьями пакли, зажатыми в зубах (приходилось дышать через паклю, чтобы не задушить себя угольной пылью), работали в этом аду офицеры и команда… И не было ниоткуда ни тени ропота, ни даже намека на то, что силы человеческие небеспредельны… Странные — черные и мокрые — существа, выбегавшие на верхний мостик «на минутку, глотнуть свежего воздуха», торопливо спрашивали сигнальщиков: «Как погрузка? Сколько тонн за прошлый час? Успеем ли?» — и опять спешно убегали вниз…
А что творилось в закрытых угольных ямах, где разгребали уголь, сыпавшийся сверху? Где температура достигала 37° R? Где самые сильные и здоровые не могли оставаться дольше 15–20 минут?.. Никто не жаловался. — «Нужно! Нельзя иначе!» — И работа кипела… Бывало, что не выдерживали и валились с ног. Этих, так же спешно, не теряя ни минуты, выносили на руках, клали под душ, и они, отойдя, передохнувши, опять возвращались к прерванной работе… Было много случаев легких солнечных и тепловых ударов, по счастью, обошедшихся благополучно. Только на «Ослябе» в 3 ч. дня скончался от паралича сердца лейтенант Нелидов…
1 ноября перед закатом солнца, как свалила жара, состоялись его похороны. Присутствовали все чины администрации колонии. Гарнизон Дакара участвовал в отдании воинских почестей при погребении…
Весь этот день был дан команде для отдыха, мытья и приборки, а 2 ноября, в 3 ч. дня, тронулись дальше.
Трое суток шли благополучно; потом начались аварии. Упомяну только главнейшие: 5 ноября в 8 ч. вечера у «Бородино» лопнул бугель эксцентрика; пока бугель заменяли новым (работа серьезная), «Бородино» шел под одной машиной и не мог давать больше 7 1/2 узла хода; тем же ходом шла и вся эскадра; повреждение было исправлено к 8 ч. утра 7 ноября; дали прежний ход — 9 1/2 узла, но в 7 ч. вечера на «Малайе» лопнула серьга балансира… Приказали «Руси» («Ролланду») взять ее на буксир; долго путались (с непривычки и в темноте), стояли на месте и только в 10 ч. вечера могли дать ход, да и то — 4 1/2 узла!.. К утру, 9 ноября, «Малайя» поправилась; опять завернули по 9 1/2.
13 ноября, в 6 ч. пополудни, стали на якорь в открытом океане, южнее устья Габуна. Погода благоприятствует. Вчера и третьего дня была изрядная зыбь, а теперь — не шелохнет. Из реки к нам на соединение немедленно вышли немецкие угольщики и «Esperance». Приехал вице-губернатор с массой цветов и добрых пожеланий. Видимо, глубоко счастлив, что мы не вошли в реку, потому что воспрепятствовать нам в этом намерении фактически средств не имеется, а вместе с тем в Liberville проживает английский консул, который не упустил бы случая завопить о нарушении нейтралитета…
И это — союзники!..
Николай Угодник и Серафим Саровский сделали все, что могли. Не только торнадо нас не прихватило, но даже и зыбь шла с океана еле заметная. Погрузились — словно в гавани.
18 ноября в 4 ч. дня снялись с якоря для дальнейшего следования.
И, кажется, вовремя.
19 ноября — густая облачность и крупная зыбь, на которой перегруженные броненосцы здорово «клюют», то же и 20 ноября.
IV Учения и занятия на походе. — Great-fish bay и сердитый «Лимпопо». — Angra Pequena и милейшие майоры. — Вести о взятии японцами Высокой горы и о сюрпризах, приготовленных в Дурбане. — У мыса Доброй Надежды. — Шторм. — У берегов Мадагаскара. — Вести о гибели первой эскадры. — Адмирал и «шпиц»
Если стоянки на якоре характеризовались, как говорили в кают-компании, «черной лихорадкой» и «угольным запоем», то и пребывание в море, во всяком случае, нельзя было назвать временем отдыха.
Помимо того, что многое не было еще закончено постройкой или исправлением; помимо того, что днем и ночью во всех углах кораблей производились работы — что-то разбирали, собирали, пригоняли, чинили и т. п., — надо было еще обучать личный состав, дать ему ту подготовку, которой он не получил в мирное время, несмотря на донесения «о полной боевой готовности» и заверения, что «все обстоит благополучно»…
Конечно, в тех условиях бесприютности, в которых мы находились, главнейшей задачей было движение вперед, а так как беспрерывные аварии то на одном, то на другом корабле и без того сильно задерживали это движение, вынуждая без пользы расходовать наш жизненный эликсир — уголь, то обучение маневрированию, неизменно сопряженное с тратой времени и угля, являлось пока неосуществимым. Сам адмирал, не признававший слова «невозможно», не рисковал таким вызовом судьбе… Зато все, что можно было делать, не замедляя по собственной воле движения эскадры, — делалось.
Личному составу пришлось поработать.
Учения производились днем (в общей сложности) в течение 6 часов; вечером офицеры имели занятия в кают-компании, а ночью — делались внезапные тревоги.
Еще 9 ноября адмирал отдал приказ, которым предписывалось накануне каждого учения по боевому расписанию, в кают-компаниях, по указаниям командиров и под руководством старших офицеров разрабатывать тактический план боя, исполнением которого должно служить последующее учение.
При этом указывалось, что «следует всегда задаваться эскадренным боем: вычертив (на бумаге) движения противных броненосных, крейсерских и минных отрядов за получасовой промежуток жаркого артиллерийского боя на средних расстояниях, надлежит определить, какой именно из линейных кораблей проекта будет изображаться правым и какой левым бортом своего корабля на предстоящем учении, затем каждому борту назначить противников, наиболее соответствующих по плану, и составить для каждой группы орудий и для каждого орудия в группе ведомость моментов выстрелов, направлений, расстояний и рода снарядов. В сводных ведомостях, управляющих огнем правого и левого борта, должны быть, кроме того, показаны моменты вероятных попаданий неприятельских снарядов и поражения, ими производимые: убыль именных людей, точные места пожаров, порча проводов, приборов и механизмов, места подводных пробоин и проч.
«Из общей ведомости в орудийные должны быть внесены сведения, касающиеся каждого орудия в отдельности, как по убыли людей, так и по повреждениям, влияющим на действие данного орудия непосредственно или отвлекающим на время прислугу его.
С подробностями плана должны быть знакомы не только офицеры, составлявшие его, но в равной мере и причастные к его исполнению нижние чины: артиллерийские и минные кондукторы и квартирмейстеры, комендоры, гальванеры, минеры, трюмные и проч. — до санитаров включительно».
Приказ заканчивался так:
«Не следует смущаться непорядком, который будет иметь место при первых учениях: их следует доводить до конца и повторять. К учениям этого рода приступить немедленно и выполненные планы представлять еженедельно, или на стоянках, в мой штаб».
Нужно ли говорить, что этот приказ выполнялся? Что личный состав эскадры прилагал все усилия к осуществлению задач, поставленных адмиралом? В искреннем желании недостатка не было. Делали все, что могли. Но… план боя, вычерченный «на бумаге», проделанный во всех подробностях, «примерно», во время учения, — мог ли вознаградить недостаток опыта, дать знание «ремесла», которое приобретается только практикой многолетнего эскадренного плавания, маневров и действительных стрельб?..
С одной стороны, лучше что-нибудь, чем ничего, а с другой… я не мог не вспомнить одного резкого изречения адмирала, командовавшего в 98-м году эскадрой Тихого океана, по поводу доклада флагманского артиллериста о неимении снарядов и зарядов для производства новой стрельбы, так как «количество, по штату положенное», уже израсходовано и можно стрелять только пулями из ружейных стволов, прикрепленных к большим орудиям.
Все-таки что-нибудь! — комендор будет стрелять из ружья, но наводить ему придется самую пушку. Лучше, чем ничего! — говорил артиллерист.
Значит, вы держитесь правила, — перебил его адмирал, любивший крепкие народные пословицы, — что «лучше хоть вошь во щах, чем совсем без говядины»? А я с этим не согласен! Уж лучше пустые щи, чем этакое утешение!
21, 22 и 23 ноября — все то же. Облачно и крупная зыбь. SO пассат, дующий прямо с Южного Ледовитого океана, создает на западноафриканском берегу, южнее экватора, климатические условия, вовсе не похожие на тропическую область, лежащую в Северном полушарии.
23 ноября я записал в моем дневнике: «Широта 16°, а температура в 9 ч. утра +14° R. Спал под теплым одеялом. Распарившись за три недели, многие жалуются на собачий холод».
Около полдня того же 23 ноября подошли ко входу в Great-fish bay. Здесь, в океане, мотаясь на зыби, нас уже поджидали угольщики. Молодцы немцы! — работают, как хронометр!
В 1 ч. 30 мин. пополудни стали на якорь в самом устье бухты, прикрытые косою от зыби и в то же время и от косы и от материка в расстоянии более 3 миль. Вглубь, где было бы еще спокойнее, не пошли, так как, немедленно по входе, была нами «усмотрена», находившаяся здесь, очевидно, в ожидании нас, довольно нелепого вида небольшая посудина под португальским флагом. Оказалось — речная канонерская лодка «Лимпопо», постройки 90-го года, с одной пушкой в 65 мм и парой митральез. Это было не слишком внушительно, а потому когда командир этого «Лимпопо» приехал на «Суворов» просить нас о немедленном выходе, то адмирал, совершенно спокойно и крайне любезно, разъяснил ему, что от любого из берегов, принадлежащих Португалии, мы стоим в расстоянии более 3 миль, т. е. вне пределов территориальных вод, и значит — сами себе господа.
Но вы стоите в бухте! Ведь это факт.
В этом отношении мы можем только благодарить Господа Бога, что вход в бухту устроен Им шире 6 миль и между двумя прилегающими к берегам полосами территориальных вод Португалии, нейтралитет которых для меня священен, имеется узкая полоса открытого для всех моря.
«Лимпопо» рассердился и пошел в Бенгуэлу с протестом.
— На здоровье, миленький! Всего хорошего! — напутствовали с «Суворова» канонерку, которая, тяжело переваливаясь с борта на борт, медленно удалялась на север. — На этой зыби пока доскребешься до Бенгуэлы и вернешься назад с ультиматумом — нас тут и духу не останется!..
Конечно, будь здесь английская эскадра и на ней хотя бы исправник из Бенгуэлы — разговор был бы другой…
Международное право, о котором так много говорят в наши дни… не есть ли все оно сплошь только подгонка под правовые нормы фактов грубого произвола, стремление ученых юристов «не потерять лица», подыскать оправдание силе, не считающейся ни с каким правом?
На следующий день, 24 ноября, около 4 час. пополудни, снялись с якоря и пошли в Angra Pequena. Этот переход, по условиям погоды, резко разнился от предыдущих. SO пассат южной части Атлантического океана, под берегом переходящий в SW муссон, совсем не похож на ласковый N0 Северного полушария. Обыкновенно к рассвету небо заволакивалось низкими, быстро бегущими облаками, и ветер свежел; к полудню разъяснивало; после полудня несколько стихало; к закату солнца — опять облачно и свежо; к полночи — тише и яснее до рассвета. Словом — попеременно, каждые 6 часов, то довольно сносная, то пренеприятная погода. Температура воздуха, даже в полдень, не поднималась выше 16° R.
28 ноября, около 1 ч. дня, стали на якорь в Angra Pequena. Расположились в западной части бухты, отделенной узким скалистым мысом от восточной части, где собственно и находится сама германская колония. Угольщики нас уже ожидали, но приступить к погрузке оказалось невозможным из-за погоды — ревел SSW баллов на 8 (сила ветра оценивается баллами: 0 — штиль, 12 баллов — ураган.), и даже в бухту заходила с океана крупная волна. Зато со стороны местных властей было встречено полное сочувствие. Флаг-капитан, ездивший на разведки (в западную бухту), сообщил, возвратившись, что губернатор (в чине майора) принял его крайне радушно, а на дипломатический намек — не будет ли препятствий для стоянки эскадры — сделал большие глаза, спрашивал: «Какая эскадра? Где она находится?» — и категорически заявил, что, так как из бухты, в которой он живет, никаких кораблей не видно и так как флота для дозора за берегами колонии у него не имеется, а сам он человек сухопутный и отнюдь не обязан и не намерен крейсировать в море на туземной пироге, да еще в такую погоду, — то хоть бы сражение произошло за ближайшим мысом, он все равно ничего предпринять не может.
При этом случае как нельзя более ясно сказалось, что то, заметно подавленное, настроение, которое господствовало на эскадре, вызывалось не утомлением от сверхсильной работы, не физическими трудами и лишениями… Когда офицерство (а конечно, и команда через вестовых) узнало о «майорском» ответе; узнало, что нас не только не гонят, но даже и не ругают по поводу нашего прихода; особенно когда распространился слух, что «майор» только бранился самыми нехорошими немецкими словами по поводу перекупленного у него под носом большого транспорта зелени и овощей, привезенных из Капштадта якобы по его заказу и для его «войск»… — все как-то ожили, развеселились. Про «майора» начали слагаться целые легенды, и само слово это сделалось нарицательным.
Минер, лейтенант Б., прямо заявлял:
Если «майор» одолеет свою водобоязнь и приедет к адмиралу с визитом, берусь затащить его в кают-компанию и приветствовать шампузой от лица русского флота! Надеюсь, господа поддержат?
Конечно! Конечно!..
Не хорохорьтесь, дорогой! Я здесь — председатель, мне — честь приветствовать «майора» от лица всех! — смеялся старший офицер, капитан 2-го ранга М.
Исполать вам, коли вы становитесь во главе движения!.. — басил лейтенант. — На нас рассчитывайте! Нашелся же человек, что не плюет в рыло! Надо такого уважить!..
«Майорское» доброжелательство оказалось весьма кстати, потому что погода была явно против нас. К вечеру 28 ноября шквалы достигали силы 10 баллов (мерили по анемометру). Около 3 ч. ночи 29 ноября несколько стихло. Рискнули начать погрузку, но к 6 ч. утра опять заревело, да так, что, кроме зыби, заходящей с океана, в самой бухте разошлась волна. Угольщик, с которого грузился «Суворов», несмотря на все принятые меры предосторожности, изрядно поломался, так как наши 75-мм пушки нижней батареи, торчавшие наружу, втыкались в его борт, как иголки в пробку. Невелик урон, если бы при этом страдал только пароход, — заплатить ему за починку, и дело кончено; беда была в том, что страдали сами пушки: так, одна, воткнувшись в какое-то особенно крепкое место, при обратном размахе, выдергиваясь, согнулась градусов на 5… Конечно, такая уж не годилась для боя! Пришлось прекратить погрузку. 30 ноября — та же погода. Пробовали грузиться, перевозя уголь на баркасах. Ничего не вышло. Около 10 ч. утра пришлось поднять все шлюпки. Такой шторм, что могли бы затонуть у борта.
1 декабря за ночь несколько стихло. С 5 ч. утра начали погрузку баркасами, так как из-за зыби подвести пароходы к борту было все еще рискованно.
Около 11 ч. утра приехал с визитом к адмиралу «майор». Встречали как настоящего губернатора (невзирая на чин). Завтракал у адмирала. Был чествуем в кают-компании. При отъезде сопровождался салютом. Музыка играла германский гимн. Раскис. (Прошу извинить за нелитературное изложение, но это взято целиком из дневника.)
Весь день и большую часть ночи успешно продолжали погрузку. В 3 ч. ночи, 2 декабря, внезапно засвежело. Многие думали — шквал, и передержали пароходы у борта. В результате — изрядные аварии. К 7 ч. утра так же внезапно стихло. Флаг-капитан и флагманский артиллерист (полковник В.) ездили на берег в качестве официальных представителей адмирала ответить на визит губернатора и нанести визит командующему местными войсками и начальнику экспедиционного отряда, отправлявшегося воевать с какими-то «гереро». К полдню оба (опять майоры) прибыли с ответным визитом и, конечно, были приняты не менее радушно, чем губернатор.
3 декабря — весь день мертвый штиль и густой как молоко туман. Благополучно закончили погрузку угля, мылись и готовились к походу.
Из Капштадта пришел пароход. Привез газеты и разные новости на словах. После долгих и упорных штурмов японцы овладели под Артуром высотой 203 метра, которую русские называют «Vysokaia».
Высокая? Это где же? — спрашивали меня в кают-компании.
Это на северо-западном углу нашего сухопутного фронта… — отвечал я, не вдаваясь в подробности.
Высокая? Это — что же?.. — спросил меня адмирал каким-то странным тоном, пытливо заглядывая мне в глаза.
Это может быть конец крепости, и, во всяком случае, — конец эскадре. С нее — все рейды и порт как на ладони…
4 декабря, в 9 1/2 ч. утра, погрузившись углем «по уши», покинули непогодливую, но гостеприимную «майорскую» бухту с тем, чтобы, никуда не заходя, добраться до Мадагаскара. Возможно, что до прихода в Angra Pequena адмирал не терял еще надежды зайти, хоть на несколько часов, в Delagoa bay, чтобы там, пока будут идти пререкания с местными властями и получаться ультиматумы из метрополии, перехватить кое-что (в смысле угля) с собственных транспортов, но вести, полученные в Angra Pequena, вынудили его совершенно отказаться от подобной мысли. Наши агенты доносили (говорю со слов командира броненосца), что в Дурбане сосредоточена флотилия парусных шхун, типа рыбачьих, построенных в Бомбее и… вооруженных минными аппаратами; называлидаже имя командира этой флотилии — контр-адмирала Сионогу. По странному стечению обстоятельств, вместе с этими известиями адмирал получил телеграмму, которой сообщалось о дружеском предупреждении со стороны английского правительства, что близ Дурбана, в море, производятся обширные рыбные промыслы, встречается масса рыбачьих судов, а потому… было бы крайне нежелательно повторение «гулльского инцидента»…
На эту телеграмму (точный текст которой мне неизвестен) адмирал ответил не шифрованной, т. е. доступной для чтения на всех промежуточных станциях, телеграммой, которая гласила, что суда дурбанских рыбаков, пытающиеся прорезать строй эскадры или приблизиться к ней на дистанцию минного выстрела, будут беспощадно уничтожены, о чем он просит уведомить английское правительство для сообщения надлежащих инструкций рыбакам через колониальные власти.
Не знаю, как поступили с этой телеграммой наши дипломаты, но если даже они вовсе ее утаили, несомненно, что решение адмирала стало известно в Лондоне еще раньше, чем в Петербурге.
Выйдя из Angra Pequena 4 декабря, встретили в океане подозрительную, облачную и шквалистую погоду, при зыби от SSW. К вечеру зыбь настолько усилилась, что даже броненосцы изрядно «поклевывали». 6 декабря — та же погода. Зыбь крупная, неправильная, высотою до 20 футов. Броненосцы сильно «рыли», но бортовую качку имели незначительную. Зато на крейсеры жаль было смотреть, так их разматывало.
Около 11 ч. утра увидели Столовую гору и весь день шли в виду берега. Красивые места, удивительно напоминающие другую, северную, оконечность старого материка — Нордкап. В 4 ч. пополудни, находясь от мыса Доброй Надежды на S в 7 милях, взяли курс к Игольному мысу, а в 2 ч. пополуночи, 7 декабря, на меридиане его, легли в N0 четверть. Вступили в Индийский океан. Начался поход на восток и на север.
За ночь изрядно засвежело от WSW. К утру неправильная, беспокойная зыбь сменилась огромной волной, по счастью попутной. В 4 ч. дня, при ясном небе, — WSW силою до 5 баллов. У броненосцев — килевая качка до 7 градусов, бортовая — до 5? градуса. Иногда гребни волн захлестывали на ют.
Перед закатом солнца ветер задул порывами, доходившими до степени шторма. Волна стала круче. В 8-м часу вечера несколько раз здорово «взяли» кормой. Флагманский корабельный инженер без устали сновал по всему броненосцу, совещался со старшим офицером и трюмным механиком… То тут, то там раздавались удары молотов, забивавших клинья к подпорам; тащили бревна, доски…
Ну что?
Да ничего! ведь я говорил: только бы не в лоб! А попутный — Бог даст, выдержим!..
За ночь как будто стало полегче, но к рассвету 8 декабря опять засвежело. К полудню — шторм.
Не буду утомлять читателей подробным описанием того зрелища, которое представляла собою «разъяренная стихия». Картина всем слишком хорошо знакомая благодаря работам великих мастеров пера и кисти, чтобы я решился дополнять ее моими слабыми штрихами. Скажу просто: это был «не свежий ветер», а настоящий «шторм», не по впечатлению, а по анемометру.
В этот и в последующие, ближайшие, дни в моем дневнике записано так немного, что я позволю себе привести эту запись дословно, как она есть, не заботясь о литературной форме изложения. Может быть, так выйдет даже красноречивее.
«8 декабря, полдень. Волна больше, чем вчера. Размахи до 7° на сторону. Зато вместо противного течения — 20 миль попутного (За сутки). Идем попутным штормом. Если не будет еще свежее — шторм к нашему благополучию. В такую погоду никакие японские авантюры не страшны, а если нигде не окажется повреждений, то и для броненосцев хорошее испытание. Небо — ясно. Волна — до 25 футов.
12 ч. 30 мин. дня. Волна — 35 футов, а то и больше. Помоги Бог! — выдержат ли броненосцы? — Захлестывает на верхнюю палубу.
3 ч. дня. Волна так «накрыла» с кормы, что залило штабную рубку и поддало на верхний мостик. Гребной катер на правом срезе сильно поломан (Ударами волн), но еще висит на талях.
4 ч. дня. Мерили высоту волны — 37 футов. Размахи — до 12 градусов на борт. Сильно берем кормой. Кажется, все свежеет.
5 ч. дня. У «Малайи» испортилась машина. Сигналит, что повреждение незначительное, что исправит через 20 минут. Идем дальше. Остановиться, ждать — невозможно. Авось управится. Машина гнусная, но сам пароход — океанского типа, испытанный в штормах.
6 ч. вечера. Не стихает, но, кажется, волна стала отложе.
Качаемся мало. Зато, именно поэтому, в борт бьет, как в брекватер. П. (Флагманский корабельный инженер) имеет вид очень озабоченный.
6 ч. 35 мин. вечера. Потеряли правый катер (Сорвало ударами волн).
8 ч. вечера. Кажется, начинает стихать. Дует порывами — хороший признак. «Русь» («Ролланд») телеграфировала, что не в силах держаться этим курсом (Очевидно, накрывало догоняющей волной), берет NO 56 градусов (хочет укрыться берегом). Приказали ей к утру, если стихнет, соединиться с эскадрой. «Аврора» (Концевой корабль эскадры) сообщила, что перед заходом солнца потеряли из виду «Малайю» (очевидно, еще не исправила повреждения). «Авроре» приказали всю ночь от времени до времени прожектором подавать сигналы назад (делать позывные «Малайи»).
Около 11 ч. вечера. Ветер ходит от SW до SSW. Порывы. В общем баллов 6. Качка легче. Иногда «берем» кормой и правым срезом.
9 декабря, полдень. Шквалы, баллов на 5–6, с дождем, продолжались всю ночь от SW, затем от S. Явно — шторм миновал. Волна. Качает. Иногда поддает. Но как бодро! как весело на душе! — хочется смеяться… Броненосцы выдержали тяжелую марку!
Благодаря Богу — все хорошо! И ведь, может быть, в бухтах по берегу адмирал Сионогу, со своей флотилией парусных шхун, зубами щелкает от ярости! Напрасно ждали! Сорвалось — шторм помешал!
6 ч. вечера «Русь» («Ролланд») догнала эскадру. Идет вместе с нами. Погода удовлетворительная.
10 декабря. За ночь совсем было стихло, но после полдня задул S, баллов на 5, и пошла зыбь.
12 декабря. Вчера с утра fine weather!»
Дальше опять начинается многословие, а потому прекращаю выписки и перехожу к рассказу своими словами.
К вечеру 11 декабря «Камчатка» начала упорно отставать и, несмотря на все понудительные сигналы, никак не могла вступить в свое место. Между тем эскадренный ход был 9? узла. Наконец, на категорический сигнал — «Донести немедленно, почему не можете идти с эскадрой. Произвести дознание — обнаружить виновников!» — ответ: «Плох уголь. Не держится пар. Прошу позволения выбросить за борт 150 тонн угля. Тогда могу идти».
На всю эскадру уголь доставлялся одинаковый. Почему на «Камчатке» он вдруг оказался настолько плохим, что она не могла давать даже 9 1/2 узла? Почему именно 150 тонн надо было выбросить за борт?..
Только те, кто хорошо знал адмирала, могли по достоинству оценить то внешнее спокойствие, с которым он выслушал доклад об этом удивительном сигнале.
— Ответьте, что я разрешаю выбросить за борт только злоумышленников…
«Камчатка» тотчас прибавила ходу. Тут ей посчастливилось, так как в 9 ч. вечера на «Суворове» повредилась рулевая машинка и в течение получаса из-за него эскадра шла малым ходом. «Камчатка» успела ее догнать, не выбрасывая за борт ни угля, ни злоумышленников.
12 декабря как будто прошли краем SO пассата Индийского океана, а 13 декабря, минуя (в 10–15 милях) южную оконечность Мадагаскара, вступили в прилегающую к этому острову область летних1 штилей и ураганов. Впоследствии мы хорошо ознакомились с этим климатом и даже несколько притерпелись, но для начала — это было крайне неприятно: небо подернуто не то жидкими облаками, не то поднявшимся густым туманом; солнце не жжет и не слепит — сквозь эту дымку на него можно смотреть простым глазом; жары большой нет — всего +23° R, но зато относительная влажность — 96 %!.. Дышать нечем! В легкие попадает больше воды, чем воздуха… На дистанции двух миль уже с трудом можно было различать цвета сигнальных флагов…
Забыл упомянуть, что еще из Great-fish bay госпитальный «Орел», во избежание предстоящих нам мытарств, был отправлен на Мадагаскар самостоятельно, с заходом в Капштадт, где он, под флагом Красного Креста, мог беспрепятственно, отнюдь не нарушая самых драконовских правил нейтралитета, пополнить запасы провизии, угля и приобрести все необходимое для больных.
В Южном полушарии декабрь соответствует нашему июню.
Рандеву ему было назначено у южной оконечности Мадагаскара, а потому 13 декабря шли, выслав крейсера дозорной цепью вправо и влево от курса. «Орла» не видали. Очевидно, задержался в Капштадте из-за шторма.
Около полночи на 14 декабря налетел свежий шквал от NO, сопровождаемый великолепной грозой и настоящим тропическим ливнем. К рассвету стихло. Атмосфера несколько очистилась. Легче вздохнулось. На западе смутно видели зубчатый гребень береговых возвышенностей (с расстояния 35 миль).
Утром этого дня, здороваясь с адмиралом, я не на шутку встревожился его видом. Он, казавшийся таким неутомимым, бодрым, почти беспечным за все время безумно рискованного перехода, теперь, когда мы могли считать себя почти у цели, вдруг «сдал», словно постарел сразу на несколько лет… Причина понятна — нельзя было в его годы безнаказанно проводить 10 суток на мостике, не сводя глаз с эскадры, только урывками вздремывая на кресле, — естественная реакция…
Как бы то ни было, не один я встревожился, — весь «Суворов» заволновался.
— Здоров ли адмирал? Что с адмиралом? — осаждали вопросами докторов.
Доктора только отмахивались…
Около 11 ч. утра броненосец внезапно наполнился таким диким ревом и свистом, что с трудом можно было слышать голос соседа, кричавшего в ухо. Совершенно инстинктивно я выбежал наверх. «Суворов» был вне строя, выйдя вправо; по левому его борту проходила эскадра, которой он делал сигнал — «Так держать. Не следовать движениям адмирала», — что, в переводе на разговорный язык, означает: «Идите прежним курсом и строем. Не обращайте на меня внимания».
Оказалось, что у одной группы котлов лопнула труба, подающая пар от них в главную паропроводную трубу.
К полудню управились, догнали эскадру и вступили в свое место. По счастью, обошлось без жертв. Три человека рисковали живьем свариться, но спаслись благодаря счастливому случаю и находчивости старшего. Поблизости к месту происшествия оказалась открытая горловина угольной ямы. Только что лопнула труба и со свистом и ревом хлынул из нее пар, как старший, ни на мгновенье не потерявшись, сразу сообразив, в чем дело, сунул своих помощников в яму, вскочил туда же сам и «задраил» (Задраить — плотно, герметически закрыть) за собой горловину. Когда, почти через час, эти люди, которых считали погибшими, вылезли из своей темницы на свет божий, — радость была всеобщая. Адмирал перед фронтом команды хвалил их за находчивость, назвал молодцами, выдал денежные награды из собственного кошелька, а сам… вдруг совершенно утратил свой усталый, больной вид и опять помолодел.
— Видели? Подстегнуло — и ожил! — посмеивался старший доктор. — Такие люди устают и хворают только в «свободное от служебных занятий время!»
День 15 декабря прошел без приключений.
16 декабря, в 8 ч. утра, подошли к южной оконечности о-ва S-te Marie и затем вошли в пролив между ним и Мадагаскаром. В 11 ч. 30 мин. утра стали на якорь.
Пролив шире 10 миль; мы расположились посередине, а потому с формальной стороны обвинить нас в нарушении нейтралитета было невозможно.
Около 4 ч. дня пришел из Капштадта госпитальный «Орел» и привез роковую весть: артурская эскадра потоплена огнем осадной артиллерии японцев.
Это известие, как мне казалось, не произвело на эскадре особенно угнетающего впечатления. По-видимому, многие давно его ожидали и только не решались высказывать громко своих опасений. Я говорю, конечно, про более старых и опытных. Зеленая молодежь, убаюканная героическими реляциями Стесселя, и в особенности команда — искренне верили, что по приходе на Восток мы будем «второй эскадрой Тихого океана», так как «первая» не только существует, но ко времени нашего прибытия успеет исправить все полученные в боях повреждения и встретит нас почти новенькая. Для них это было тяжелым разочарованием, но, как и всегда, они не слишком задумывались над судьбой, ожидающей их в отдаленном будущем. Особенно этому способствовала глубокая вера в своего адмирала, убеждение, которое на морском жаргоне формулировалось двумя словами: «Наш — сделает!»
На рассвете 17 декабря послали «Русь» в Таматаву за более точными сведениями об Артуре, а главное — об отряде контр-адмирала Фелькерзама.
Тут только я узнал, что по первоначальному маршруту сосредоточение эскадры на Мадагаскаре предполагалось в Диего-Суарец, великолепном порту, расположенном на NO оконечности о-ва, главной базе французского военного и коммерческого флота в этих водах.
Ввиду протеста Японии, энергично поддержанного Англией, наши добрые союзники «сдали» и решительно заявили, что не могут принять дорогих гостей у себя дома. Оказывается, что это известие было получено адмиралом еще на походе западным берегом Африки (где именно — в точности не знаю). При этом Главный морской штаб сообщил, что французское правительство ничего не имеет против сбора эскадры на рейде Носи-бэ — место, пригодное для якорной стоянки, среди островов, прилегающих к NW берегу Мадагаскара, — и что контр-адмиралу Фелькерзаму уже приказано идти именно туда.
Как рассказывал лейтенант С, адмирал был глубоко возмущен таким самоуправством стратегов, заседавших под «шпицем». Заход в Носи-бэ, помимо того, что удлинял переход на 600 миль, был небезопасен и в чисто навигационном отношении, так как в этой своей малопосещаемой части Мо-замбикский пролив весьма плохо обследован, и сама лоция рекомендует плавать здесь со всеми предосторожностями, отнюдь не ручаясь за точность промера — наоборот, — указывая на возможность существования не нанесенных на карту коралловых рифов, круто поднимающихся с больших глубин. Нелепо было бы рисковать посадкой на мель, а может быть, и гибелью одного, если не нескольких судов, идущих к театру военных действий! — Адмирал ответил, что если Диего-Суарец для нас закрыт, то он наметил для сбора эскадры пролив S-te Marie, куда и просит направить контр-адмирала Фелькерзама.
В тот же день, 17 декабря, начали погрузку угля. К сожалению, угольщиков было только два (остальные находились в Диего-Суареце), так что приходилось грузиться по очереди.
Около полдня пришла «Малайя», благополучно выдержавшая шторм.
В 10 ч. утра 18 декабря вернулась из Таматавы «Русь». Из полученных телеграмм узнали, что 8 декабря 2 броненосных и 6 легких японских крейсеров прошли Сингапур, направляясь к югу; 2 вспомогательных крейсера недавно заходили в Мозамбик (совсем близко), но самое интересное — контр-адмирал Фелькерзам пришел в Носи-бэ и там благополучно пребывает…
Надо заметить, что о-в S-te Marie, на котором помещается мадагаскарская каторга, не имеет телеграфного сообщения (равно как и Носибэ — нам только такие дикие места и предоставлялись для стоянки). Чтобы отправить телеграмму, приходилось посылать кого-нибудь либо в Таматаву, либо в Диего-Суарец, притом отнюдь не военное судно (это могли бы счесть за нарушение нейтралитета). Так как один из угольщиков уже был разгружен, его отправили в Суарец, а на нем — флагманского интенданта, капитана 2-го ранга В., с поручением направить сюда остальных угольщиков, которые нас там дожидались, а также послать телеграмму контр-адмиралу Фелькерзаму. Последняя заключала в себе приказание: «с получением сего» идти на соединение с нами.
Не знаю, обсуждал ли с кем-нибудь адмирал план предстоящих действий при новой обстановке, создававшейся гибелью артурской эскадры; не знаю, были ли люди, посвященные в подробности этого плана; однако даже из отдельных его замечаний, по смыслу отдаваемых распоряжений, на основании тех данных, которые чины штаба не находили нужным держать в тайне, — общий характер решения, им принятого, обрисовывался довольно определенно: немедленное движение вперед, чтобы не дать японцам времени переменить расстрелянные пушки, отремонтировать котлы и машины, вообще поправиться, починиться, отдохнуть после 11 месяцев тяжелой боевой службы; форсированный марш на восток с теми силами, какие есть под руками, не терпя задержки, бросая по пути всех повреждающихся и ненадежных, чтобы вступить в Японское море с отрядом, хотя и немногочисленным, но состоящим из отборных, вполне исправных судов, поставив целью — «прорыв» во Владивосток, а затем, оттуда — угрозу путям сообщения неприятеля.
Как обещал уже много раз, буду вполне откровенен. На нашем отряде, обогнувшем мыс Доброй Надежды, состоявшем под непосредственным начальством адмирала Рожественского, под обаянием его железной воли, — настроение в общем было бодрое и хорошее. Не было ни слепого азарта, ни опьянения мечтами о славной победе, но глубокая, почти холодная, решимость бестрепетно следовать за ним всюду, куда бы он ни повел! Хотя бы на верную гибель!.. В этом отношении — разногласий не было. Зато в отношении оценки целесообразности и осуществимости самого плана намечалось три взгляда: одни — вполне разделяли мнение адмирала; другие, еще верившие в возможность приобретения аргентинских и чилийских кораблей или присоединение к нам Черноморского флота, — находили более разумным подождать, пока не соберутся силы, достаточные для решительного боя со всем японским флотом; третьи — открыто высказывали, что, раз уничтожена первая эскадра, которая при начале войны была (официально) сильнее японской, то вести под удары победоносного врага вторую, слабейшую первой, — значило бы доставить японцам лишний случай пожать дешевые лавры, а потому — надо возвращаться, так как идея прорыва во Владивосток основана главным образом на счастье, на удаче, а удача-то как раз за все время войны была на стороне японцев.
Что касается меня лично, то план адмирала казался мне чрезвычайно заманчивым по своей смелости. Отчего не рискнуть? (Уж очень набил мне оскомину лозунг Алексеева — «беречь и не рисковать».) В аргентинцев и чилийцев, по имеемым сведениям, я не верил, а на черноморцев не надеялся потому… что был до некоторой степени знаком с приемами нашей дипломатии. С другой стороны, самим признать себя неправоспособными, повернуть оглобли с риском услышать обвинение в трусости — этой мысли я не допускал!.. Однако же (буду беспощадно откровенен и по отношению к самому себе), если бы тогда в Петербурге поняли всю безнадежность (чтобы не сказать преступность) нашей авантюры, если бы оттуда получено было категорическое приказание «возвратиться» — я бы не только не возроптал, но, уже в достаточной мере ознакомившись с боеспособностью «армады», сказал бы от чистого сердца: «Слава Богу! догадались вовремя!..»
Не решусь утверждать, но смею думать, что адмирал держался приблизительно такого же мнения… Если среди нас, в тесном кают-компанейском кругу, не находилось человека, который рискнул бы сказать громко: «Нет надежды! Впереди — бесполезная гибель. Надо возвращаться!» — не рискнуть бы сказать этих роковых слов только потому, что, может быть, нашелся бы хоть один, несогласный, который взглянул бы косо и, чего доброго, подумал бы: «Кажется, струсил…» То могли он, на которого «с верою и крепкой надеждою» взирала вся Россия, сам заговорить о возвращении? Ведь не кто-нибудь, не случайно присутствующий при разговоре, мало знакомый человек, а сама Россия могла бы заподозрить его в недостатке решимости идти навстречу смерти!.. Нет! Этого он не мог!.. Он мог и должен был доносить об истинном положении дел, открыто высказать беспристрастную оценку своих сил и сил неприятеля, сообщить свои планы, без утайки сказать, на что он надеется. ЭТО ОН СДЕЛАЛ… Но решающее слово принадлежало Петербургу. Ведь не мог же он допустить мысли, что «там» его не понимают или не хотят понять? Что патентованные стратеги не в состоянии оценить того положения, которое верно оценивает не только он сам, не только младшие флагманы, командиры, старшие офицеры, но даже и рядовые офицеры из числа послуживших и видевших виды?..
Мне, да и многим другим, план, им намеченный, казался продиктованным… безвыходностью положения, в котором мы очутились. Это была последняя попытка урвать от судьбы — хоть что-нибудь! Погибнуть — хоть не без пользы! Эта затея напоминала собою отчаянную атаку кавалерии генерала Маргеритта под Седаном: если нет другого исхода, то с лучшими силами — вперед!..
Помните ли вы этого генерала, как он, тяжко раненный в голову, падая на руки сопровождавших его адъютантов, обнаженной шпагой еще указывал своим полкам дорогу вперед?..
Вспомните, как, тяжко раненный в голову, сброшенный полутрупом с погибающего «Суворова» на «Буйный», адмирал Рожественский еще нашел в себе достаточно силы, чтобы в момент краткого проблеска сознания приказать отчетливым голосом: «Идти эскадрой! Владивосток! Курс NO 23 градуса!..»
Да!.. Если те, что могли и должны были понимать положение дел не хуже его, не приказывали ему возвращаться, то оставался только один путь — вперед! хотя бы на верную гибель!.. И чем скорее — тем лучше…
Старший флаг-офицер, лейтенант С, о котором я уже упоминал, состоял как бы личным секретарем адмирала, вел всю наисекретнейшую переписку, был посвящен во все тайны едва ли не более самого флаг-капитана, а главное, докладывая расшифрованные телеграммы, принимая для шифровки ответы, часто тут же составляемые, мог, ближе кого-либо другого, судить о впечатлении, которое вызывали в командующем эскадрой эти сношения.
Правда, по части хранения вверенной тайны покойный Е. В. был настоящей могилой, и, конечно, те не подлежащие оглашению сведения, которые он сообщал мне, в качестве старого товарища, веря в мою скромность, — никогда не станут достоянием гласности. Разве только в том случае, когда придется опровергать заведомую ложь, распространяемую лицами, заинтересованными в деле и старающимися обелить себя в надежде, что достоверные свидетели покоятся на дне Японского моря. Тогда — дело другое! И надеюсь, что сам Е. В. С. в таких обстоятельствах не пошлет мне своего замогильного упрека в нарушении доверия.
— Да, — говорил он, — вы, может быть, догадываетесь, но никто не знает доподлинно того, что переживает адмирал!.. Иной раз принесешь расшифрованную телеграмму. Читает. Пальцами перебирает этот листок бумаги. Кажется — вот разорвет в клочья… Нет. Сдержится. Начинает диктовать ответ. Много раз меняет редакцию, делает поправки, сердится на меня… Я уж молчу. Сам понимаю, что это не по моему адресу, сам встравлен… Или вдруг скажет, по-видимому, совершенно спокойно: «Оставьте здесь, я… после, сам напишу…» — а уходя, слышишь, как он ломает карандаш, бывший в руках, скрипит зубами и, задыхаясь от бешенства, сдавленным голосом, костит каких-то «предателей»…
V Пошли «выволакивать» отряд контр-адмирала Фелькерзама. — День Рождества на «Суворове». — Настроение на отряде контр-адмирала Фелькерзама. — Измена Hamburgp-Linie — «Приказано ждать…»- Характеристика «армады» в приказах командующего ею. — Плохие приметы. — Кое-что мое. — Опять «Сляби-Арко»! — Минные катера как оружие. — Попытка двухстороннего маневрирования
19 и 20 декабря свежий SSO развел в проливе такую волну, что не только пришлось прекратить погрузку, но даже и сообшение между судами производилось с большими затруднениями. На какой-то удивительного вида туземной посудине приезжали с визитом к адмиралу местный administrateur (затрудняюсь, как перевести это звание на русский язык) и начальник таможни. Между прочим, дали весьма ценное указание, а именно рекомендовали перейти на несколько миль к северу и расположиться на якорной стоянке Танг-Танг, при устье реки того же имени, где далеко выдавшаяся в пролив песчаная коса прикроет нас от господствующих в это время года южной волны и зыби.
В ночь на 21 декабря опять послали «Русь» в Таматаву за новостями, а главное затем, чтобы узнать, что делает и что намеревается делать контр-адмирал Фелькерзам. Утром всем отрядом (за исключением «Малайи», которая опять поломалась) перешли на новое якорное место. Действительно, по условиям сезона, оно оказалось чрезвычайно удобным, хотя в лоции о нем вовсе не упоминалось.
— Спасибо местным французам! — радостно потирал руки флагманский штурман. — Хорошо посоветовали!.. Конечно, не без надежды на воздаяние! Ну, да адмирал, наверно, представит их к Станиславу на шею — пусть чувствуют!..
Боевые суда благополучно погрузились углем, приняв его частью с немецких угольщиков, частью с собственных транспортов.
День 22 декабря прошел в томительном ожидании. Ни «Руси» из Таматавы, ни какой-либо вести из Диего-Суарец. Благодаря закрытию для нас этого последнего и самовластным распоряжениям главного штаба, весь расчет сбился, произошла, совершенно естественно, величайшая путаница.
Адмирал, предполагая, что, может быть, угольщики боятся выйти из Диего-Суарец, опасаясь ареста со стороны японских вспомогательных крейсеров, о присутствии которых в этих водах получались настойчивые извещения, решил послать контр-адмирала Энквиста с крейсерами «Нахимов», «Аврора» и «Донской», во-первых, в Диего-Суарец для прикрытия перехода угольщиков, а затем — в Носи-бэ с предписанием контр-адмиралу Фелькерзаму немедленно идти на соединение.
23 декабря, в 5 ч. утра, крейсера ушли по назначению. Того же числа, около полдня, пришел из Диего-Суарец первый угольщик. Привез письмо от капитана 2-го ранга В. и донесение адмирала Фелькерзама. Первый писал, что из числа 5 вспомогательных крейсеров по сие время прибыл в Суарец только «Кубань»; где остальные — неизвестно; равным образом нет никаких вестей об отряде «Олег», «Изумруд», «Грозный» и «Громкий», который должен был догонять нас. Второй доносил, что, прибыв, согласно приказанию Главного морского штаба, в Носи-бэ, приступил к переборке машин, чистке котлов и т. п. — словом, выражаясь морским жаргоном, «разложился на составные элементы». Почти все следовавшие с ним миноносцы требуют серьезного ремонта. Раньше двух недель — не может тронуться с места.
Адмирал за эти дни проявлял лихорадочную деятельность. Не знаю, когда он ел, когда спал. Конечно, с разговорами никто к нему не подступался, а с его стороны были только приказания и требования различных сведений. Однажды, едва не столкнувшись со мною на трапе, он кинул отрывистое замечание:
Каково? После большого перехода — законный отдых! Традиция!..
Корабли «Догоняющего отряда» младшего флагмана 2-й эскадры Флота Тихого океана контр-адмирала Дмитрия Густавовича Фелькерзама (1846–1905) перед прохождением Суэцкого канала
— Старые корабли, ваше превосходительство, — пробовал возразить я. — Ведь переход действительно большой…
— А впереди — еще больше! Если такие старые, что ходить не могут, — черт с ними! Не надо хлама! Да нет! — просто привычка!.. Сам пойду — выволоку!..
Поход отряда в Носи-бэ был назначен на следующий день, 24 декабря. 600 миль крюку, но что же делать? — надо «выволакивать»…
Ночью пришла «Русь» (из Таматавы), привезла известие о сдаче Порт-Артура… Было горько, обидно для самолюбия, но, в сущности, после потопления первой эскадры этот факт ничего не изменял в нашем положении.
В 6 ч. утра по беспроволочному телеграфу получили уведомление, что к нам идут «Светлана» и миноносцы «Бедовый» и «Бодрый», посланные адмиралом Фелькерзамом с подробным донесением о текущих делах и, очевидно, разошедшиеся с отрядом Энквиста. Все — результаты той путаницы, которая создалась из-за самостоятельных распоряжений, исходивших одновременно из четырех инстанций: от начальника эскадры, от Главного морского штаба, от заведующего крейсерскими операциями и от Министерства иностранных дел…
В 8 ч. 30 мин. утра, согласно отданному накануне распоряжению, снялись с якоря и пошли в Носи-бэ. Только в 11 ч. 30 мин. утра встретили в море «Светлану» и миноносцы. Удивлялись, почему так долго, но оказалось, что из двух миноносцев отряда адмирала Фелькерзама, единственных числившихся исправными, «Бодрый» в пути повредился, идет под одной машиной и не может дать больше 7 узлов. Приказали «Руси» взять его на буксир и пошли дальше. За время выполнения этой операции (взятия на буксир) имели сношения со «Светланой». Адмиралу было доставлено подробное донесение о походе второго отряда. (Впоследствии я читал его в подлиннике.) По отношению самого отряда — ничего нового, кроме длинного перечня всевозможных повреждений и неотложных работ, зато несколько любопытных штрихов, характеризующих настроение местных властей, настроение, несомненно, отражавшее взгляды центрального правительства. По-видимому, Петербург слишком поддался перепугу; в Париже вовсе не ожидали, что мы так легко поступимся правами, предоставляемыми нам французской декларацией о нейтралитете, и, предлагая прогуляться в Носи-бэ, готовились встретить эскадру в СуареЦе. На рейде этого последнего были даже поставлены буйки, указывающие места стоянки кораблей; заготовлена свежая провизия (в том числе 1000 быков); местные мастерские (частной компании Messageries Maritimes) увеличивали кадры своих рабочих для спешного выполнения обширного ремонта и т. п… Впечатление создавалось такое, будто протестовали только «для видимости», но, конечно, раз наша дипломатия оказалась такой податливой, а Главный морской штаб так поспешил категорически приказать адмиралу Фелькерзаму идти в Носи-бэ — то тем лучше.
Императорский смотр бронепалубному крейсеру 1-го ранга «Светлана»
25 декабря, с 8? утра и до полдня, простояли на месте, застопорив машины, — миноносцы принимали уголь. За это время, находясь от Диего-Суарец в расстоянии около 30 миль, упорно, но тщетно вызывали по беспроволочному телеграфу «Кубань».
После обедни и положенного по уставу парада адмирал собрал команду на шканцы и, с чаркой в руке, произнес короткую, но глубоко прочувствованную речь. Она записана в моей памятной книжке почти дословно:
— Дай вам Бог, верой и правдой послужив Родине, в добром здоровье вернуться домой и порадоваться на оставленные там семьи. Нам здесь и в великий праздник приходится служить и работать. Да иной раз и как еще работать!.. Что делать — на то война. Не мне вас благодарить за службу. И вы, и я — одинаково служим Родине. Мое право, мой долг — только донести Государю, как вы служите, какие вы молодцы, а благодарить вас будет Он сам, от лица России… Трудное наше дело — далек путь, силен враг… Но помните, что «ВСЯ РОССИЯ С ВЕРОЙ И КРЕПКОЙ НАДЕЖДОЙ ВЗИРАЕТ НА ВАС!..» Помоги нам Бог послужить ей с честью, оправдать ее веру, не обмануть надежды… А на вас — я надеюсь!., за Нее! за Россию!.. — И, резким движением опрокинув в рот чарку, он высоко поднял ее над обнаженной головой.
Адмирал начал свою речь обычным, уверенным тоном, но чем дальше говорил, тем заметнее волновался, тем резче звенела в его голосе какая-то непонятная нота — не то слепой веры, не то мрачной решимости отчаяния… Команда, первоначально чинно собравшаяся на шканцах, всецело поддалась его обаянию. В глубоком молчании, стараясь не шуметь, люди, чтобы лучше слышать и видеть, громоздились на плечи друг друга, как кошки, вползали по снастям на мостики, ростры, шлюпки, борта, крыши башен… Последние слова, произнесенные явно дрогнувшим голосом, были покрыты мощным «ура!», заглушившим гром орудийного салюта… Передние ряды едва сдерживали задних… Казалось, вот-вот вся эта лавина тесно сгрудившихся человеческих тел хлынет на адмирала… В воздухе мелькали фуражки, руки, поднятые, как для клятвы… многие крестились; у многих на глазах были… слезы, которых не стыдились… И среди стихийного рева (в нарушение устава) резко выделялись отдельные крики: «Послужим! — Не выдадим! — Веди! — Веди!..»
Долго не могла успокоиться команда. Даже к чарке шли неохотно. Про обед словно забыли…
«Эх! — невольно подумал я. — Кабы сейчас да в бой!..»
Увы! еще целый океан отделял нас от неприятеля…
В 5 ч. вечера — у «Орла» повреждение в машине. Пришлось убавить ход до 6 узлов. Так как это обстоятельство сильно нас задерживало, послали «Светлану» вперед предупредить адмирала Фелькерзама о нашем скором прибытии.
Перед закатом солнца видели на SO ряд дымков. С «Бородина» доносили, что отчетливо различают 4 корабля, идущие в строе кильватера. Послать на разведку было некого. Ни одного крейсера. Могли быть и японцы. Неподалеку от Мадагаскара расположены Сейшельские острова, а еще ближе о-в Бурбон — английские колонии с телеграфом, всецело находящимся в руках англичан. Никакие агенты не могли бы доставить нам оттуда сведений, нежелательных союзнице Японии.
Ночь безлунная, но ясная. Все — по-боевому. Офицеры и команда, кроме всегда бодрствующих вахтенных, спят, не раздеваясь, на своих местах, у орудий.
Последующее плавание до Носи-бэ прошло без инцидентов, но зато в весьма тревожном настроении по отношению к безопасности самого плавания в смысле навигационном. Зловещие надписи «uncertain» (Недостоверно), отвечавшие линии промеров; буквы «P. D.» («Position Doubtfull» — Положение сомнительно) при банках и рифах так и пестрили карту.
— Ничего! Не по своей воле забрались в эту дыру! Авось, в воздаяние, пронесет Никола Угодник! — шутил адмирал, не сходивший с мостика, и тотчас же добавлял по адресу командира: — Надежные ли сигнальщики у вас на марсах? Хорошо ли смотрят вперед? (Благодаря удивительной чистоте и прозрачности воды в океане очень часто банку можно заметить по изменению окраски поверхности моря. Конечно, только днем)
27 декабря, около 11 ч. утра, пришли в Носи-бэ, где застали отряды контр-адмиралов Фелькерзама и Энквиста, а также транспорты, находившиеся под общей командой капитана 1-го ранга Радлова.
Того же числа прибыл вспомогательный крейсер «Урал», а 31 декабря «Терек».
Настроение, господствовавшее на отряде адмирала Фелькерзама, резко разнилось от того, что поддерживалось у нас личным присутствием, личным примером неутомимой деятельности и несокрушимой энергии адмирала Рожественского. Здесь этого не было. Здесь господствовало убеждение, что после гибели первой эскадры и падения Порт-Артура поход вперед невозможен. Чистя котлы, перебирая машины, корабли готовились… к возвращению. Об этом говорили громко и открыто, как о деле решенном, и, конечно, такое решение не могло не отразиться на образе жизни личного состава, на его отношении к службе. — Чего там надрываться, когда все равно идем домой! — Деморализация, являющаяся естественным следствием всякого отступления без боя… Если не стоит, незачем работать, то хоть развлечься, хоть убить время, чем-нибудь затуманить голову, отогнать прочь, заглушить эту обидную мысль — «повернули оглобли», — которая, нет-нет да и шевельнется на сердце…
Поселок Носи-бэ на острове Мадагаскар. 1905 год
Контр-адмирал Фелькерзам, у которого уже тогда начала энергично прогрессировать болезнь, сведшая его в могилу, либо не обратил внимания на это опасное настроение, либо сам поддался ему, ослабленный нездоровьем… Работы велись кое-как; команда ежедневно (и едва ли не в половинном числе) увольнялась на берег; офицеры проводили на берегу все время, свободное от вахты; про личный состав транспортов как зафрахтованных, так и Добровольного флота говорить вовсе не приходилось — эти загуляли, как вольные люди, для которых военный закон не писан. Скромное местечко Носи-бэ закипело жизнью. Нехорошей, нездоровой жизнью, какую можно наблюдать только в Порт-Саиде, этом проходном дворе всего Старого Света. Отовсюду нахлынули туземные красавицы, француженки (настоящие ифальсифицированные) именовавшие себя певицами и даже etoil'ями; открылись многочисленные, наскоро импровизированные кафе-шантаны; пышно расцвели несчетные, явные и тайные, игорные притоны…
Местный administrateur совершенно растерялся и, видимо, не знал, что ему делать; с одной стороны — безобразие, а с другой — nation amie et alliee и несомненное обогащение бедной колонии…
С приходом адмирала Рожественского курс круто изменился. Игорные притоны были закрыты; личному составу транспортов было, на основании законов военного времени, предъявлено требование беспрекословно подчиниться Морскому уставу; судовые команды увольнялись на берег только по праздникам, да и то с выбором; офицерам разрешалось считать себя свободными только в том случае, если в заведуемой ими части не производилось никаких работ, и т. д… А работа закипела!.. И не столько под угрозой суровых взысканий, как под влиянием отрезвляющей мысли, что Рожественский не пожалеет и все равно поведет в бой. Оказался неготовым? Есть дефекты? Отчего же не подготовился? Значит — сам виноват! Дерись, как можешь!..
Адмирал, еще в S-te Marie, тотчас по получении известия о гибели первой эскадры, решивший, что единственный шанс успеха — немедленное движение вперед, — получив донесение Фелькерзама о «необходимости двухнедельного срока для выполнения неотложного ремонта», спутанный в своих расчетах распоряжениями Министерства иностранных дел и Главного морского штаба, скрепя сердце отложил выход эскадры на Восток до 1 января 1905 г.
Это число он считал предельным.
— Вот ему (Т. е. контр-адмиралу Фелькерзаму) его две недели, если уж скорее не может! Но чтоб был готов! — бросал он порой отрывистые замечания.
Однако, придя в Носи-бэ, увидя самолично царивший там развал, сам 3. П. Рожественский вынужден был покориться этой force majeure…
При всей его настойчивости, при всей энергии, с которой он встряхнул личный состав и привлек всех, от первого до последнего, к работе, — ясно было, что к 1 января никак не успеть собраться.
Отложили на 5 января.
Уже были составлены и обнародованы: диспозиция походного строя, порядок погрузки угля в море боевыми судами с наших транспортов, порядок пополнения угольного запаса этих транспортов с германских угольщиков, ожидающих нас в определенной широте и долготе; уже были заготовлены секретные предписания капитанам этих угольщиков, указывающие им рандеву (пункты встречи с эскадрой)… все было налажено, все роли распределены, как вдруг — Hamburg-p-Linie отказалась от выполнения заключенного контракта… Главный суперкарг (Нечто вроде командующего угольной эскадрой) заявил, что, ввиду вновь принятых правил нейтралитета, компания не согласна поставлять уголь где-либо вне нейтральных вод (где это запрещено), а потому о погрузке на рандеву, в открытом океане, не может быть и речи.
Это заявление явилось совершенной неожиданностью. До настоящего момента мы не могли нахвалиться точностью, с которой Hamburg-p- Linie исполняла принятые на себя обязательства.
Начались деятельные сношения с Петербургом по телеграфу.
А время шло…
— Каждый потерянный день — невознаградим! Нельзя ждать! Нельзя!.. — прорывалось иногда у адмирала.
Он упорно держался плана, намеченного еще в S-te Marie: запаса угля на наших собственных транспортах с избытком хватило бы для похода новых броненосцев (присоединив к ним «Аврору» и «Светлану») во Владивосток, а потому — идти вперед немедленно, не теряя ни часа и бросив позади всякий хлам!
По-видимому, эта идея не была одобрена Петербургом. Совершенно не касаясь тех сведений, которыми находил возможным делиться со мною лейтенант С. (это было бы разглашением служебной тайны), по виду, по замечаниям, по распоряжениям адмирала ясно было, что нам «приказано» ждать подкреплений, что Петербург, закрывая глаза на действительность, слепо веря в чудо, возлагает на нас несбыточные надежды…
Это было тяжелое время. В моем дневнике с 5 по 17 января не записано ни одной строчки, — единственный столь значительный перерыв за всю кампанию. За этот период мне приходится руководствоваться воспоминаниями, подкрепленными приказами и циркулярами, в которых отмечались главнейшие моменты жизни эскадры.
Что сказать о настроении? — Когда определилось, что ждать присоединения к нам южноамериканских кораблей или судов Черноморского флота не приходится, на эскадре не было уже трех мнений, о которых я упоминал выше, но только два: либо — немедленно вперед, либо — возвращаться… В действительность подкреплений, которые могли быть высланы Балтийским флотом, никто не верил… Сторонники того или иного взгляда сходились на одном пункте — это было общее решение — либо вперед, либо назад! Стоять — нельзя!..
Первые по возобновлении строки моего дневника, 17 января, были: «Вчера — ровно месяц нашего пребывания на Мадагаскаре. Жара, сырость, духота — нестерпимые. Стоянка в этом климате и даже не столько климат, как самый факт стоянки, пагубной задержки, действуют на всех угнетающе. Близко — боюсь сказать — полная деморализация… Тошно писать. Скорее бы вперед, чтобы чем-нибудь кончилось…»
От жары, что ли, но иногда в голову приходили какие-то нелепые мысли… Думалось: если нас не пускают вперед, то неужели японцы не догадаются снарядить сюда соответственную экспедицию? Ведь официально мы стоим вне территориальных вод, и здесь все позволено. Почему не атаковать нас ночью минными судами, а потом — добить остатки при посредстве подводных лодок?..
Какой-то кошмар… Период полного упадка духа…
Но был на эскадре человек, который не поддавался этому настроению, который решил, что, раз его донесений не понимают или не хотят понимать, приказывают ему ждать подкреплений, которые он называл «лишней обузой», надеются, что силь; небесные совершат чудо, — то ему ничего не остается более, как до конца исполнить свой солдатский долг…
Этот человек был 3. П. Рожественский.
«Ждать подкреплений и затем идти вперед для победы и одоления! Так приказывают? Хорошо! Оставив мечты о победе, использовать время ожидания для запоздалого обучения и сплочения нестройной армады».
Он умел заставить работать, умел подбодрить людей, близких к полной апатии. Начались, вперемежку с погрузками угля и ремонтными работами, усиленные учения и занятия, выходы в море для практической стрельбы и маневрирования. К сожалению, последнее нельзя было выполнять так часто, как было бы желательно, потому что после всякого выхода и маневрирования, неизбежно связанного с переменными ходами, дня два-три приходилось давать на отдых и переборку постоянно повреждавшихся механизмов, а что касается практической стрельбы — то… дело стояло за недостатком боевых припасов.
Невольно, опять и опять, вспоминался старый анекдот: «Почему вы не стреляли?» — «Тому было 18 причин: во-первых, у меня не было пороху…» — «Можете не продолжать и остальные 17 оставить при себе…»
Как горько и больно было читать в приказе (10 января 1905 г), отданном, очевидно, для поднятия духа в среде команды, такие строки: «…надо учиться не покладая рук. Мы не можем тратить много запасов для учебной стрельбы… Вся прислуга должна освоиться с оптическими прицелами… Если Бог благословит встречей с неприятелем в бою, то надо беречь боевые запасы…»
И это в то время, когда, по имеющимся сведениям, японские комендоры, уже много лет тому назад «освоившиеся» с оптическими прицелами, день и ночь практиковались в стрельбе, не только не жалея боевых припасов, которые имелись в избытке, но и самых пушек (При современных огромных давлениях и температурах, развивающихся при выстреле, орудия крупных калибров очень быстро изнашиваются — происходит выгорание металла в канале орудия), на замену которых были готовы новые…
Одновременно с этим приказом вышел другой, очевидно, вызванный донесениями наших агентов. Адмирал, предписывая усилить бдительность, следить неотступно за всяким плавучим средством, двигающимся по рейду в дневные часы, и не допускать никакого движения в темную пору, не бросать за борт бочонков и ящиков и не подпускать к борту никаких плавающих предметов, — объявлял во всеобщее сведение, что японцами принят ряд мер для нанесения возможного вреда нашей эскадре прежде, чем она придет в соприкосновение с их морскими силами на Дальнем Востоке.
«По достоверным сведениям, в южных проливах, по ту сторону Индийского океана, собраны японские крейсера, как военные, так и вспомогательные, занятые подготовкой ловушек; имеются отряды миноносцев, изучающие те бухты, в которых есть вероятность найти нашу эскадру. Туда же, по слухам, доставлены и первые подводные лодки, купленные японцами в Англии и Америке. Подготовкою встречи по ту сторону Индийского океана не ограничивается, однако, наш деятельный враг. Отдельные разведчики высланы им и в окрестности нашего теперешнего расположения. Задача этих разведчиков — перехватывать транспорты, которые почему-либо отделятся от эскадры или окажутся в положении, удобном для захвата или уничтожения, а также и организовать покушения на боевые суда. Эти крейсера-разведчики через колонии наших недоброжелателей и своих союзников находятся в телеграфных сношениях с агентами, поселенными на Мадагаскаре и в самом Носи-бэ (Один такой — швед, говоривший по-русски, — был уличен и вынужден покинуть Носи-бэ вследствие негласного бойкота, которому он подвергся не только на эскадре, но и на берегу, со стороны добрых французских граждан, у которых почти инстинктивно вся шерсть поднималась дыбом при слове espion), получая точные сведения о нашем расположении, о перемещениях и движениях отдельных судов».
Приказ заключался почти трогательным обращением к командирам — не вверять (по обычаю мирного времени) серьезное и ответственное дело охраны эскадры неопытным юношам, «неспособным еще разобраться в картах и ориентироваться на местности. Каждому следует поручать лишь то, что он может исполнить. Неопытный и вредный на дозорной службе — может с честью послужить в своем плутонге».
С 11 января начались учения постановки контрмин.
Около этого же времени (не помню точно, какого числа) вспомогательные крейсера — «Кубань», «Терек», «Урал» — ходили в море на учебную стрельбу.
— Ну что? Как? — спросил я руководившего стрельбой флагманского артиллериста по его возвращении на «Суворов».
Он только рукой махнул…
— Целил в ворону — попал в корову! Что вы хотите? — Первая стрельба! Все — как в лесу или словно с луны упали!..
13 января оба броненосных отряда (кроме «Сисоя», у которого как раз повредилась машина) и линейные крейсера выходили в море для стрельбы по заранее составленному и объявленному плану.
Ознакомившись уже, до известной степени, по рассказам, со степенью боевой подготовки эскадры, я не ожидал чего-нибудь особенно блестящего, но действительность превзошла мои ожидания…
Ну? Что скажете? — криво усмехаясь, обратился ко мне лейтенант С. в то время, как эскадра после трудового дня возвращалась на рейд Носи-бэ.
Что?.. Макарову, в Артуре, легче было. «То» все-таки походило на эскадру. Хоть и не очень. А «это»… — черт его знает…
Впрочем, предоставляю слово самому адмиралу (Приказ 14 января 1905 г. за № 42): «Вчерашняя съемка с якоря броненосцев и крейсеров показала, что 4-месячное соединенное плавание не принесло должных плодов. Снимались около часа… Но и за целый час 10 кораблей не успели занять своих мест при самом малом ходе головного. С утра все были предупреждены, что около полдня будет сигнал — повернуть всем вдруг на 8 градусов R и, в строе фронта, застопорить машины для спуска щитов. Тем не менее все командиры растерялись и вместо фронта изобразили скопище посторонних друг другу кораблей.
Особенно резко выделялись в I отряде невниманием командиров «Бородино» и «Орел». Второй отряд, из трех кораблей, попал налево одним «Наварином» на траверз «Суворова», и то на минуту… «Ослябя» и «Нахимов» плавали каждый порознь. Крейсера даже и не пытались строиться. «Донской» был на милю позади прочих. Призванные снова в кильватерную колонну, для стрельбы, корабли растянулись так, что от «Суворова» до «Донского» было 55 кабельтовых (Это расстояние не должно было быть больше 26 кабельтовых). — Разумеется, пристрелка одного из кораблей, даже среднего, не могла послужить на пользу такой растянутой колонне. Если через 4 месяца совместного плавания мы не научились верить друг другу, то едва ли научимся и к тому времени, когда Бог даст встретиться с неприятелем…(Я опускаю технические подробности, малоинтересные и малопонятные публике, не посвященной в военное дело) Вчерашняя стрельба велась в высшей степени вяло и, к глубокому сожалению, обнаружила, что ни один корабль, за исключением «Авроры», не отнесся серьезно к урокам управления артиллерией при исполнении учений по планам…
Ценные 12-дюйм. снаряды бросались без всякого соображения с результатами попаданий разных калибров… Стрельба из 75-мм была также очень плоха; видно, на ученьях наводка по оптическим прицелам практиковалась «примерно», поверх труб… О стрельбе из 47-мм орудий, изображавшей отражение минной атаки, — стыдно и упоминать: мы каждую ночь ставим для этой цели людей к орудиям, а днем, всею эскадрою, не сделали ни одной дырки в щитах, изображавших миноносцы, хотя эти щиты отличались от японских миноносцев в нашу пользу тем, что были неподвижны»…
Так писал командующий эскадрой в своем приказе…
18 и 19 января опять ходили в море для стрельбы и маневрирования, после чего, ввиду разных мелких поломок и повреждений на судах, оказалось необходимым сделать перерыв, и следующий выход состоялся лишь 25 января. Этим и ограничилось обучение наших комендоров, так как дальше пришлось бы расходовать боевой запас. Надеялись, что вскоре придет транспорт «Иртыш» и, может быть, привезет сколько-нибудь снарядов и зарядов для практической стрельбы.
По существу, это было не обучение, но — экзамен. Человек, накануне поединка делающий несколько выстрелов в цель", — не учится, но только проверяет свое искусство… Каковы были полученные результаты?
Мне не хочется повторять перед читателями те горькие слова, которые я в свое время занес в мой дневник. Возможно, что я был слишком требователен. Ограничусь краткими выдержками из приказов по эскадре, которые кажутся мне достаточно красноречивыми.
«18 и 19 января отряды снимались с якоря удовлетворительно, держались в сомкнутом строе кильватера почти хорошо, но повороты, даже последовательные, делали дурно. «Ослябя»… либо не попадал в струю, либо растягивал линию, стопоря одну машину, чем пугал «Сисоя» и «Наварина», которые поднимали шары (Поднятие шара (сигнал) означает уменьшение хода. Чем выше поднят шар, тем меньше ход. Когда шар поднят «до места» (доверху) — машина застопорена) и подолгу затем не приходили на расстояние… Строй фронта продолжает быть нашим камнем преткновения. Получается не строй, а безобразная толпа… Стрельба 18 и 19 января была несколько лучше стрельбы 13-го числа. Но в расходовании снарядов крупных калибров замечается все та же непозволительная неосмотрительность… — 13 января с «Суворова», разошедшегося встречными курсами с «Донским», сделан был выстрел по щиту, показавшемуся под кормой «Донского», в расстоянии 6 кабельтовых за «Донским». Управляющий стрельбой на «Суворове» дал первому орудию некоторое расстояние — снаряд не долетел до «Донского» на 1/2 кабельтова и лег очень влево так, что рикошетировал над «Донским». Следовало: вдруг прибавить к расстоянию не меньше 7 кабельтовых, чтобы получить перелет, и резко изменить установку целика линий на 10, чтобы получить отклонение вправо. Но, несмотря на предостережение, данное результатом первого выстрела, для второго прибавлена была только 1/2 кабельтова на прицеле и оставлен без изменения целик. — Снаряд и попал прямо в мостик «Донского»… Это было, конечно, очень дурно, но впечатление, произведенное этим случаем, было совсем непозволительно: 19 января с трудом можно было заставить суворовских артиллеристов стрелять в промежутки между своими судами, хотя цель была на 20 кабельтовых дальше своих кораблей, что позволяло стрелять не только в промежутки, но и через головы своих. Следует иметь в виду, что при длинной линии кильватера может быть очень важно вовремя завернуть голову на 16 градусов R, чтобы сдвоить огонь по хвосту неприятельской встречной колонны, и что поэтому крайне необходимо научиться стрелять в промежутки между своими кораблями, как на параллельных курсах (общий случай стрельбы крейсеров), так и на встречных… Скорость стрельбы 18 и 19 января была еще меньше, чем 13 января. Между тем, если 47-мм пушки все еще приходится употреблять для отражения миноносцев, то необходимо внушить офицерам и прислуге, что только дождем снарядов этого калибра может быть нанесен вред миноносцу…» (Приказ 20 января за № 50)
«Маневрирование эскадрой 25 января было нехорошее — простейшие последовательные повороты на 2–3 румба, при перемене курса эскадры в строе кильватера, никому не удавались: одни при этом входили внутрь строя, другие выпадали наружу, хотя море было совершенно спокойно и ветер не превосходил 3 баллов… Повороты «всем вдруг» были особенно дурны… — Стрельба из больших орудий 25 января была бесполезным выбрасыванием боевых запасов… — Стрельба из мелких пушек, изображающая отражение минной атаки, была несколько лучше прежних только на судах I броненосного отряда. II отряд броненосцев и крейсера стреляли и на этот раз непозволительно» (Приказ 25 января за № 71).
Не довольно ли документов? Ведь это — официальный, сдержанный язык приказов. Что думали, что чувствовали те, кому предстояло в «безобразной толпе» судов, занятых «бесполезным выбрасыванием боевых запасов», встретиться с победоносной эскадрой, превосходящей их численно, хорошо обученной в мирное время, имевшей целый год боевого опыта и даже имевшей время отдохнуть, починиться и привестись в порядок?..
Тотчас по прибытии в Носи-бэ адмирал распорядился отправить обратно в Россию транспорт «Малайя», причинявший нам в пути столько задержек своими постоянными поломками. При отряде адмирала Фелькерзама оказалось еще одно подобное же «сокровище» — транспорт «Князь Горчаков». От его услуг также решили отказаться.
Кто санкционировал фрахтовку этих пароходов? Неужели за те поистине бешеные деньги, которые им платились, нельзя было найти в Европе что-нибудь не только более сносное, но даже и очень хорошее!..
По верным приметам дела наши вообще обстояли неважно.
Сколько помнится, я уже говорил, что на некоторых судах находились монтеры, командированные фирмой «Сляби-Арко» для наблюдения за исправным действием аппаратов беспроволочного телеграфа (её системы), установленных на эскадре. Эти господа, согласно контракту, должны были сопровождать нас только до Angra-Pequena, но в начале похода многие из них, полные жажды приключений, неоднократно обращались к адмиралу с просьбами разрешить им остаться на более долгий срок, хотя бы даже на сокращенном содержании, причем указывали, что именно на театре военных действий их опыт и знания принесут наибольшую пользу. Некоторым это было разрешено. Теперь все они раздумали и заторопились домой.
Равным образом потребовали расчета и не пожелали идти дальше разные вольнонаемные рестораторы и буфетчики, еще в Кронштадте хорошо знавшие, что им предстоит, и даже выражавшие горячее желание побывать в бою.
На нашем кормильце — пароходе «Esperance» — начали, что ни день, ломаться рефрижераторные машины. Их экстренно чинили средствами «Камчатки», но чем дальше, тем повреждения становились серьезнее. Комиссия под председательством флагманского механика не имела точных данных для того, чтобы установить наличие злого умысла, однако подозрения были, и весьма основательные. После всякого исправления машины пускались в ход в присутствии комиссии, всесторонне ею испытывались, все оказывалось благополучным, затем — вдруг (через день-два) необъяснимая поломка. Кроме того, пароход был снят прямо с линии Аргентина — Лондон, прямо с работы по перевозке замороженного мяса, вовсе не был каким-нибудь старьем, — его покупало не главное управление торгового мореплавания, не Морское министерство, а чисто коммерческий человек для эксплуатации в собственных интересах… Как бы то ни было, вследствие частых приостановок действия рефрижераторных машин температура в трюмах «Esperance» все повышалась. Мясо начало оттаивать и портиться. Наконец дальнейшая борьба со злом оказалась невозможной. Свыше 700 тонн (около 45 000 пудов) оттаявшего и испортившегося мяса пришлось выбросить за борт, a «Esperance» отправить во Францию.
Так крысы и тараканы покидают жилище, которому грозят гибель и разрушение…
Не только в кругу приятелей, в кают-компаниях кораблей, где меня принимали как старого знакомого, но и за столом адмирала я никогда не упускал случая рассказать и подтвердить примерами, насколько, на основании боевого опыта под Артуром, миноносцы современного типа оказались мало отвечающими прямому своему назначению. Действительно, нельзя было не признать, что в качестве судов активного минного флота они сделали очень немного. Даже «атаку врасплох» 26 января, и ту можно ли было считать удачной? — При таких исключительно благоприятных условиях, когда, казалось бы, следовало ожидать безнаказанного уничтожения если не всей, то большей части эскадры, — всего три подбитых корабля!..
Зато, когда те же миноносцы, в силу обстоятельств, применялись как охранные, дозорные и тралящие суда, как мелкие разведчики и минные заградители, — они оказали обеим сторонам немалые услуги. При выполнении этого рода службы, до войны, по положениям мирного времени, вовсе не входившей в круг их деятельности, им очень часто приходилось вступать в открытый артиллерийский и даже минный (пуская мины по поверхности) бой друг с другом, и многие из этих лихих схваток доставили их участникам почетное звание или почетную память героев.
Думаю, я был прав, полагая, что именно в этом направлении следует тренировать миноносцы, состоявшие при эскадре. Конечно, с точки зрения кабинетной стратегии и транзундской тактики такое учение являлось непростительной ересью, а потому действовать приходилось осторожно. Однако не без успеха.
В 10-х числах января миноносцы, следовавшие при отряде адмирала Фелькерзама и прибывшие в Носи-бэ хромыми и увечными, починились, а 15 января состоялся двухсторонний маневр на такое задание:
Эскадра, обозначенная одним кораблем — «Светланой» — в качестве ее головного, — выходит из Носи-бэ для следования на Восток, причем имеет сведения, что где-то, в группах окрестных островов, скрываются неприятельские миноносцы, намеревающиеся атаковать ее при первом удобном случае, а потому в сторону подозрительных пунктов она высылает разведочно-охранный отряд из «Жемчуга» и 1-го отделения миноносцев; 2-е отделение миноносцев (неприятель), заранее ушедшее в море, прячется в укромном месте и караулит проход эскадры, намерения которой и момент выхода известны ему тоже только приблизительно (через шпионов); задача первых — предупредить внезапную атаку, а явную отразить открытой силой; задача вторых — уловить благоприятный момент для атаки.
Бронепалубный крейсер 1-го ранга «Светлана»
Не буду описывать самого маневра и вдаваться в оценку его выполнения, скажу только, что он возбудил интерес не только непосредственных его участников, но и всей эскадры. Судили, рядили, спорили, вообще несколько очнулись от той апатии, которая мало-помалу распространялась все шире и шире… К сожалению, этот маневр оказался первым и последним. Впереди был намечен целый ряд ему подобных, но они не осуществились ввиду… повреждений, необходимых работ и, главное, — из опасения «напрасного» изнашивания на полных ходах и без того надорванных механизмов наших миноносцев… Выгрести против этого течения оказалось мне не под силу…
Что касается траления, то после неудачной попытки в Бельте, вызвавшей много острот и снисходительно-иронических замечаний, мне все же удалось настоять на своем, и еще 2 декабря, в Angra Paquena, был издан циркуляр с подробными описанием и чертежами трала артурского образца и с инструкцией организации тралящего каравана из миноносцев. Тралы предписывалось изготовить теперь же, средствами кораблей 1-го ранга при содействии «Камчатки», чтобы, тотчас по соединении с отрядом адмирала Фелькерзама, можно было начать тренировку миноносцев в незнакомом им деле. Однако и по приходе в Носи-бэ циркуляр этот оставался мертвой буквой; провести его в жизнь оказывалось не так-то просто, пока я не спохватился, что все дело в фирме: не проходит под моим флагом — надо пустить под чужим.
Действительно, как только делом заинтересовался контр-адмирал Фелькерзам, как только он, по приказу начальника эскадры, принял на себя руководство всей организацией и во всей полноте власти начал без стеснений командовать флагманскими минерами — исчезли всякие трения и все начало быстро налаживаться. Не только траление, но и постановка мин заграждения с миноносцев, которую до того считали каким-то артурским бредом!..
Дело пошло успешно, насколько позволяли почти постоянные поломки и повреждения в механизмах наших миноносцев.
Вероятно, ввиду такого плачевного их состояния и, может быть, под впечатлением моих рассказов о том, какое широкое применение давали под Артуром японцы своим минным катерам, — адмирал приказал из наших минных катеров образовать два отряда: I — из шести новейшего типа — и II — из восьми более старых и тихоходных. Оба отряда были отданы в мое-распоряжение.
— Позаймитесь с ними. Авось пригодятся! — говорил адмирал. — Кстати, и на эскадре получатся отражать атаки. Наши миноносцы для этого ворошить нельзя — того гляди, окончательно поломаются и не дойдут до места.
24 января я впервые собрал свою флотилию, никогда до того соединенно не плававшую. Это первое наше выступление ознаменовалось происшествием, которое «было бы смешно, когда бы не было так грустно».
Перед самой войной, осенью 1903 г., у нас решено было ввести новый свод сигналов (солидная комиссия работала над его составлением больше 5 лет). Книги этого нового свода не успели доехать до Порт-Артура, так как он уже был отрезан, но попали во Владивосток, и ими же была снабжена вторая эскадра.
Еще при выходе из Либавы я обращал внимание тех, кому ведать надлежит, на то обстоятельство, что, встретившись с артурской эскадрой, мы будем говорить на разных языках, но меня успокоили, сказав, что на всякий случай захвачены и старые книги. Впрочем, с падением Порт-Артура возможность затруднения была радикально устранена.
Но вот что случилось на самой второй эскадре: при спешном ее снаряжении корабли получили шлюпочные сигнальные книжки (сокращенный и упрощенный свод сигналов, ничего общего не имеющий с судовыми сигнальными книгами) нового издания, а приложения к ним, содержащие так называемые эволюционные сигналы, отпечатать в новой редакции не успели. Оказалось, что в новой книжке и в приложении к старой тем же сочетаниям флагов соответствуют значения, ничего общего между собой не имеющие.
Как только моя флотилия в назначенный час собралась у «Суворова», я сел на мой флагманский катер и по эволюционному своду (приложение к старой книжке) сделал сигнал: «Быть в строе кильватера». Велико было мое удивление, когда со спуском сигнала все мои катера вместо того, чтобы чинно вступить в свое место, дали полный ход и бросились врассыпную, кто куда!.. Они заглянули в новую книжку, а там этот сигнал значил: «Осмотреть берег»… Не без труда удалось собрать разбежавшуюся компанию…
На «Суворове» сначала изумились, но затем, сличив новую книжку и старое приложение, поняли, что вышло недоразумение. Много смеялись…
В результате пришлось отдать приказ по эскадре: спрятать новое, но неполное издание под замок и впредь пользоваться старым со всеми его приложениями.
Мелочь?.. — но какая характерная!
А если бы подобный случай имел место в виду неприятеля?..
В последующие дни — опять перерыв моего дневника, но на этот раз не как результат угнетенного состояния духа, а просто — за недостатком времени, так как с утра до ночи я возился со своей флотилией. Это был хороший, бодрый период. Во-первых — нашлось свое дело, занявшись которым можно было встряхнуться, отогнать от себя черные мысли; во-вторых — по чести сказать — мои молодые капитаны были как на подбор, не знали усталости, не признавали слова «невозможно», и если бы Бог дал добраться до неприятеля, то они, наверно, что-нибудь да сделали бы; в-третьих — не только никто на меня не косился, не считал, что я вторгаюсь в пределы его компетенции, но даже наоборот — готовы были оказать всякое содействие — пусть, мол, забавляется на свободе своими игрушками и не мешает нам священнодействовать по рецепту, выработанному под «шпицем»…
1 февраля всей эскадрой ходили в море, где, разделившись на два отряда, маневрировали друг против друга, как бы в бою, но по заранее составленному и объявленному приказом плану. Вышло «не особенно замечательно, но все-таки хоть что-нибудь», как закончил я в моем дневнике описание этого маневра. К вечеру, перед возвращением в Носи-бэ, к нам присоединились ожидавшиеся со дня на день «Олег», «Изумруд», «Днепр-1», и «Рион» (бывшие — «Петербург» и «Смоленск») и миноносцы — «Громкий» и «Грозный».
Два слова по поводу беспроволочного телеграфа на эскадре. Привожу выдержку из приказа от 1 февраля за № 83:
«На транспортах «Корея» и «Китай» установлены маркониевские станции беспроволочного телеграфа с коротким рангоутом, с простой проводкой. На всех прочих судах эскадры, кроме миноносцев, поставлены станции «Сляби-Арко» с высоким рангоутом, с огромной сетью. На «Урале» есть мощная станция, также «Сляби-Арко», претендующая действовать на расстояние 500 миль и более… За все время станция «Корея» принимала прежде всех прочих телеграммы с расстояния в 90 миль, тогда как до сего времени ни один из наших кораблей не мог разбирать телеграмм на расстояниях, превышающих 65 миль. И сегодня, 1 февраля, в 6 1/2 утра, станция «Корея» приняла первой, с расстояния 60 миль и стоя за горой, телеграмму «Олега», которую не могла принять мощная станция «Урала», хотя именно на последнюю было возложено поручение войти в переговоры с «Олегом» еще со вчерашнего дня, и несмотря на то, что между «Уралом» и «Олегом» не могло быть в это время не только земли, но даже ни одного рангоута».
Оставалось только благодарить технический комитет, пренебрегший испытанной системой «Маркони» и снабдивший нас аппаратами «Сляби-Арко», которые должны были действовать еще лучше…
За неделю беспрерывных дневных учений моя маленькая флотилия так спелась, что можно было приступить к выполнению дальних ночных экспедиций и маневров, среди которых, конечно, главную роль играли внезапные атаки на эскадру. Оказалось, что этой последней действительно следовало «получиться», как выразился адмирал, и даже очень. Красноречивее всего говорят об этом его приказы, в которых по поводу каждого такого ученья напоминаются различные правила и приемы, рекомендуемые при отражении ночной минной атаки. Нельзя допустить, чтобы эти правила были неизвестны личному составу, но дело в том, что знать, как надо действовать, — это одно, а уметь применить свое знание на практике — совсем другое. Никакое самое тщательное изучение вопроса в тиши кабинета не может дать того, что дается опытом, т. е. знания ремесла.
На бронепалубном крейсера 1-го ранга «Олег» сушат постиранное белье экипажа
С течением времени дело понемножку налаживалось; подбираться к эскадре незамеченными, отвлекать ее внимание фальшивыми атаками становилось все труднее.
5 февраля было для меня днем большого огорчения. Несмотря на уверения минеров, что их часть в полной исправности, я настоял, чтобы с минных катеров произвели учебную стрельбу минами. Стрельба была произведена, конечно, днем, при штиле, с расстояния 5 кабельтовых. Не говорю про второй отряд (там все устройство было старого образца — им и Бог простит), но при стрельбе с 6 новых, по последней (одобренной техническим комитетом) модели построенных и вооруженных катеров, — результаты оказались нижеследующие:
Выпущено 7 мин. Одна — не пошла вовсе. Одна — начала кружиться, временами выскакивая на поверхность и серьезно угрожая катерам, которые спасались от нее бегством. Две — махнули куда-то далеко вправо, а одна — влево. Наконец, две пошли удовлетворительно. Это среди бела дня, при полном спокойствии и души, и моря!.. Хороши мы были бы, выступив с таким оружием против неприятеля в условиях настоящей ночной атаки!
— Непонятный случай… Может быть, оттого, что немного покачивает?.. Приемные испытания в Ревельской гавани прошли отлично… — недоумевал флагманский минер.
— То-то и есть, что тут не гавань! Покачивает!.. Да можетбыть, когда атаку придется вести, так «валять» будет! Уж лучше старая шестовая мина, чем этакий самообман! Уж там, коли Бог пронес, коли дорвался и ткнул — дело сделано! А здесь… — таранить, что ли? Или из пистолета стрелять в броненосец?.. Маги и волшебники… Транзунд заел!
Он, кажется, обиделся.
Впрочем, это изречение — «Транзунд заел!» — было не мое. Им не так давно, в присутствии многих свидетелей, разразился адмирал в ответ на доклад, что все «обстоит благополучно» и хотя ничего не выходит, но правила, «предписанные инструкцией», в точности соблюдены.
Пять дней, вернее — пять суток, вместо обучения маневрированию занимались делом совсем необычным. Пренебрегая перунами технического комитета, без разрешения которого ни йоты не могло быть изменено в принятых образцах, — судовые механики и минеры при ближайшем участии офицеров, командовавших катерами (еще бы — ведь им-то и придется идти в атаку!), изобретали, спорили, даже ссорились, подпиливали, наращивали, отгибали, пригибали… — но в результате — мины начали ходить исправно, а это было все, что требовалось.
8 февраля всей эскадрой, со вновь присоединившимися, вышли в море для двухстороннего маневрирования («Иртыша» все еще не было, и стрелять было нечем). Начали по плану, как прошлый раз, но когда затем адмирал решил попытаться в дальнейшем развитии боя предоставить своим противникам — адмиралу Фелькерзаму и адмиралу Энквисту — полную свободу действий, руководствуясь лишь общим заданием, то… вскоре же ему пришлось собрать (не без труда) рассеявшиеся отряды эскадры и остаток дня посвятить выполнению простейших эволюции, из которых строй фронта и пеленга, повороты «все вдруг» — по-прежнему оставались нашим камнем преткновения.
Почти накануне боя… Как все это было горько и обидно…
— Ну, оптимист, — подошел ко мне лейтенант С. — Всегда, для всех находите слово ободрения… — Что скажете?
Я только пожал плечами…
VI Настроение на эскадре. — Молчание адмирала. — Газеты из России. — Впечатление проповеди г. Кладо на офицеров. — Ее деморализующее влияние на команду. — Голос из Маньчжурии о том же. — Телеграмма № 244 и ответ на нее. — Тягость стоянки. — Одна из ночей в Носи-бэ
Давая этот краткий очерк общего хода учений и занятий, которыми эскадра пыталась за время стоянки в Носи-бэ пополнить, исправить свои недочеты, но которые, увы, только обнаружили во всей наготе полную ее неподготовленность к боевой службе, лишний раз подтвердили всю безнадежность обычая — «на охоту ехать — собак кормить» — я умышленно ничего не говорил о внутренней ее жизни, о настроениях, владевших личным составом, хотя записи моего дневника дают к этому богатый материал. Мне кажется, что, придерживаясь строго хронологического порядка в передаче моих заметок, я не мог бы дать моим читателям полной картины ни внешней, ни внутренней жизни эскадры, хотя для нас, участников ее плавания, оба понятия так тесно сплелись между собою, что я, например, без всякого недоумения читаю такую страничку: «Вчера с утра и весь день стрельба минами с моих катеров. Плохое оружие и т. д. (подробн. запись результатов стрельбы). С 3 ч. ночи до 9 ч. утра дождь как из ведра. Слава Богу, адмирал, кажется, только прихворнул: сегодня ему много лучше. За обедней, когда священник провозглашал: «Христианские кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны…» — мне так хотелось его перебить и сказать: «Не о том молитесь, о слишком многом, надо просить кончины только «не постыдной», и того довольно. Сердечно радовался, когда узнал, что на эскадре фельетон Меньшикова «Напутствие России преобразовательному совету» называли неуместным акафистом, набором жалких слов и т. п. Если «Россия протягивает израненные руки», то надо думать не о пластырях и мазях для этих царапин, а заботиться о том, чтобы ей не нанесли смертельной раны в самое сердце».
Думаю, однако, что для публики чтение подобных заметок, хотя бы и переданных в литературной обработке, потребовало бы особого толковника.
После того, как выяснилось, что нам приказано чего-то ждать, временный подъем духа, вызванный смелой идеей немедленного похода вперед, во что бы то ни стало, угас неиспользованный; увлечение прошло и под гнетом полной неизвестности относительно будущего сменилось почти апатией.
По-видимому, это опасное настроение не прошло для адмирала незамеченным, и против него он принял единственную, бывшую в его распоряжении, меру: так занять людей делом, чтобы у них не было времени задумываться. Начиная с половины января, учения и занятия вперемежку с приемками запасов и угля производились с утра до ночи и даже ночью. Мера оказалась целесообразной. Настроение окрепло. Досадливая мысль — «зря стоим» — реже приходила в голову. Однако же злоупотреблять этим средством не приходилось: силы человеческого организма не беспредельны, а в изнурительном климате Мадагаскара они легче расходуются, чем восстановляются. Реакция, вызванная физическим изнеможением, если к тому времени не создастся обстановки, способной поднять упавший дух, — могла повести к полной деморализации.
Адмирал ни с кем не делился своими взглядами и предположениями на будущее. Лейтенант С., ведавший секретную переписку адмирала, единственный человек на эскадре, который знал все, был нем как рыба.
— Послушайте, — все-таки обратился я к нему однажды. — Я вовсе не хочу выпытывать от вас секретов, но объясните мне: почему он молчит?.. Вы, лично, молчали бы в таких обстоятельствах?
Он подумал и ответил тоже вопросом:
— Случалось ли вам получать от начальства приказание, которое вы считаете неосуществимым, и по поводу этого, насколько допустимо законом, вступать в пререкания, надеясь повлиять на принятое решение?
— Бывало…
— А если это затягивалось, если вы долго еще не теряли надежды, то находили ли вы нужным и полезным держать своих подчиненных в курсе ваших сношений с начальством? Ведь, говоря с ними, вы не стали бы лукавить (тогда уж лучше молчать), вы бы высказывали ваши взгляды, и, несомненно, если не все, то большая часть ваших подчиненных (если вы настоящий начальник, а не с луны свалились) были бы на вашей стороне. Так ведь?
— Положим, что так…
— А если, в результате, начальство все-таки приказало бы сделать так, как ему кажется наилучшим, то как следовало бы назвать ваши конфиденции, безусловно оставившие след в настроении вверенных вам сил? — преступной агитацией, попыткой создать движение, идущее вразрез с намерениями высшего начальства, даже хуже — попыткой оказать на него давление, заставить его отступиться от выполнения намеченных планов?..
— Все это так, но…
— Потому-то он и молчит. Он все еще надеется, что «там» его поймут. Только напрасно. Напрасно в смысле надежды, а не в смысле молчания. Я не открываю вам никаких тайн, а говорю сам от себя. Мы вышли из России при постоянном понукании со стороны русского общества, обвинявшего адмирала в нежелании идти на выручку Порт-Артура. Помните? Вы сами передавали свой разговор с Нелидовым, проездом через Париж. Ведь даже он, хорошо осведомленный в делах, и то выражался смутно и уклончиво, тесно связывая саму идею о возможности посылки эскадры с именем 3. П. Рожественского. Помните, вы передавали его слова — «не то хворает, не то не решается»… Дело сводилось к вопросу о личной решимости, так как, кроме него, некому было вести эскадру. Дубасов — стар. Чухнин — им одним держится Черноморский флот… Мы пошли. Я затыкал уши, когда вы говорили, что с началом сухопутных бомбардировок — конец артурской эскадре. Ведь мы были полны геройскими реляциями Стесселя… Если не совсем верили, то так хотели верить!.. Словом, мы смотрели на нашу эскадру как на сильный стратегический резерв, который идет для поддержки настоящего активного флота, действующего на театре военных действий, опирающегося на укрепленные, богато снабженные базы… С падением Артура рассеялись последние иллюзии. Наша армада — это случайное сборище кораблей частью новых, плохо построенных и еще не вполне достроенных, частью старых, наскоро отремонтированных, в лучшем случае заслуживающее названия «резервной» эскадры, — сделалось активным флотом, задачей которому ставится одоление победоносного, активного, настоящего боевого флота противника!.. И это при условии, что последний опирается на многочисленные, прекрасно оборудованные базы, а мы — для того, чтобы достигнуть нашей единственной базы, Владивостока, — должны предварительно победить его… Мы — слабейшие и численно, и по вооружению, и по снабжению и… — что ж лукавить — и по Духу, — мы смеем ли на это надеяться?.. Но «там» этого не понимают или не хотят понять, все еще верят в чудо… Вот почему он молчит…
Но если молчал адмирал, если С. говорил только намеками и притчами, то вскоре же газеты, начавшие прибывать из России, достаточно выяснили вопрос: почему мы стоим и чего нам приказано ждать? Ждать подкреплений… и каких подкреплений! — «Николай», «Ушаков», «Сенявин», «Апраксин», «Мономах» — вся рухлядь, весь хлам, числящийся в списках боевых судов Балтийского флота!.. Те самые суда, от которых, при сформировании второй эскадры, категорически отказался адмирал Рожественский, решившийся скрепя сердце, за неимением лучшего, взять с собою «Наварин», «Нахимов» и «Донской».
— Да это не подкрепление, а камень на шею! — заявляли наиболее горячие головы.
В особенности поражало всех то обстоятельство (создававшее положение почти безвыходное), что эта посылка старых утюгов и калош, по внешности, не представлялась измышлением «шпица» и особ, под сенью оного мирно почивающих, но являлась как бы уступкой властному требованию общественного мнения, вдохновенным пророком которого выступил г. Кладо.
С чьего голоса он поет! — ворчал С. — Тут дело нечисто!..
Не может он не знать истинного положения вещей! — говорили другие. — Либо — рехнулся, либо — по заказу… Но кому понадобилось?..
«Не спрашивайте адмирала Рожественского!..» — взывал г. Кладо, обращаясь к русскому обществу. «Сейчас, сейчас посылайте, что можно, не теряйте ни минуты, иначе может оказаться поздно, поймите — поздно… Поймите только, какое это страшное слово, сколько в нем зловещего…»
В своем исступлении г. Кладо доходил до такого абсурда, как предложение послать на войну никуда не годные, давно отслужившие свой век — «Минин», «Пожарский», даже… «Петр Великий»!..
Он говорил: «…в восьмидесятых годах… на Дальний Восток была послана плавучая батарея «Кремль»… Когда являлась необходимость, то энергичные люди дерзали преодолеть и невозможное…(Грубая ошибка (или описка) г. Кладо. — «Кремль» никогда не был «послан» на Дальний Восток. Его только «собирались послать», но вовремя одумались. — Невозможное было признано невозможным) О, Господи! да таких примеров можно привести тысячи! Ведь поймите вы, мечтатели, что встряхнуться надо, надо проснуться, — ведь другого выхода все равно нет; поймите, что иначе над нами повиснет грозный призрак возможности проигрыша кампании. Дерзайте, и кажущееся невозможным — совершится!» (Современная морская война. Морские заметки о Русско-японской войне Н. Л. Кладо, стр. 447–448)
Какие красивые, как будто полные истинного патриотизма, слова! Как не верить им в устах ученого-моряка? — не могло не говорить русское общество.
Какая недостойная игра! Какой злостный обман доверчивой сухопутной публики! — не могли не возмущаться мы, шедшие на второй эскадре.
Надо ли повторять здесь, хотя бы вкратце, все то, чем г. Кладо наполнял столбцы «Нового Времени»? Эти свои вдохновенные статьи он издал даже отдельной книгой. (Боюсь, не делаю ли я ему рекламы? — ну да все равно.) Во всяком случае, если не в точных выражениях, то по духу, по смыслу своему они еще живы в памяти читателей, и странно, право, что скорее всех забыл их содержание сам автор, который два года спустя в высокоофициозном издании без пророческого пафоса, но зато глубоко авторитетно, пишет: «Эскадру надо было вернуть с Мадагаскара. Очевидно, дальнейшее плавание эскадры было делом более чем рискованным — шансов на ее успех не было, собственно, никаких» и т. д. (Морская справочная книжка на 1906 г. col1_1 М. Приложение, стр. 66) — золотые слова, лишний раз доказывающие, как легко пророчествовать задним числом и подавать мудрые советы post factum…
Но мне кажется, что автору статей «После ухода второй эскадры» стыдно было бы писать такие слова без всяких оговорок…
Тогда, в тот год кровавой расплаты за грехи целого ряда поколений, когда было так дорого каждое правдивое, каждое честное слово, — он проповедовал совсем другое. Опираясь на стройную систему боевых коэффициентов, он доказывал, что на успех второй эскадры в настоящем её составе «есть надежда», но «должна быть — уверенность», и доказывал, что эта «уверенность» может быть создана посылкой подкреплений, состоящих из разного хлама, числящегося в списке боевых судов Балтийского флота. Он морочил публику ссылками на официальные данные морской справочной книжки и традиционные рапорты о том, что «все обстоит благополучно» и флот пребывает «в полной боевой готовности». Призывая русское общество потребовать от Морского министерства посылки на театр военных действий всей этой рухляди, он даже не настаивал на приведении ее в полную исправность. (Такая задача была бы неосуществима.) Он писал: «Пусть идут с такими неисправностями, которые допускают возможность дойти и драться там с пользой». Я думаю, даже не моряку и совсем неученому очевидна вся чудовищность такого предложения. Что такое неисправный корабль? Что у него неисправно? — или машина, или вооружение. Да разве, имея то или другое неисправным, он может драться и еще «с пользой»?
Г. Кладо хорошо знал, как знали и все прочие офицеры, что адмирал Рожественский при сформировании эскадры категорически отказался от включения в состав ее этих судов, а потому, в предвидении возможного протеста с его стороны, он и кричал: «Не спрашивайте адмирала Рожественского! Сейчас, сейчас посылайте, что можно, не теряйте ни минуты».
Какую цель преследовала вся эта газетная кампания? Кому, чьим интересам служил г. Кладо? — доныне еще смутно известно… Оправдываться незнанием, непониманием обстановки он вряд ли решится, а тогда — тяжела его ответственность перед Родиной!
На эскадре, во избежание хотя бы ненамеренного разглашения военной тайны, все офицеры, не по приказу (который всегда можно обойти), не под угрозой строгой кары (которой всегда легко избегнуть), но в силу честного слова, данного адмиралу через командиров, приняли на себя обязательство: не посылать никаких корреспонденции в газеты без личной цензуры начальника эскадры и даже в письмах домой ограничиваться только вопросами личного характера, не касаясь ни современного положения дел, ни планов на будущее.
По-видимому, до сих пор никому не приходило в голову беспокоить адмирала, и без того заваленного работой, выполнением обязанностей цензора, но теперь статьи посыпались, как из рога изобилия. Содержание всех их было почти одинаково. Они варьировались только в смысле формы, т. е. большей или меньшей степени резкости осуждения г. Кладо за его проповедь, которую одни считали каким-то недоразумением, другие плодом невежественного самомнения, а третьи — преступлением и даже изменой.
Адмирал находил время прочитывать все эти статьи (для него слово «некогда» не существовало). Думаю даже, они доставляли ему некоторое удовлетворение, как доказательство единомыслия с ним его офицеров. Резолюции были сочувственные, даже благодарственные, но всегда сопровождались пожеланием, чтобы статья не вышла за пределы эскадры: во-первых, потому, что подобного рода отповеди, являясь запоздалыми (через 3–4 месяца), не могли повлиять на ход поднятой агитации и лишь открыли бы окончательно наши карты перед японцами, и без того хорошо осведомленными; во-вторых, потому, что при настроении, господствовавшем в Петербурге, вряд ли нашлась бы газета, согласная их напечатать (Последнее предположение получило полное оправдание в судьбе собственноручной статьи контр-адмирала Фелькерзама, который написал и отправил ее, не слушая дружеских советов старого товарища. — Ее нигде не приняли под разными благовидными предлогами).
Если в кают-компаниях статьи г. Кладо вызывали единодушный взрыв негодования против него и против его вдохновителей, что повело только к большей сплоченности личного состава, то в команде впечатление, ими произведенное, было крайне нежелательным, чтобы не сказать — опасным.
Газеты получались на эскадре во множестве. Всякая попытка оградить команду от чтения этих статей, от проникновения их на «бак» — только усилила бы интерес к ним, была бы подливанием масла в огонь. Со злом пытались бороться дружескими, отнюдь не официальными, разговорами «по душе», при удобном случае. Но самые популярные офицеры наталкивались при этом на глухую стену никогда не умирающего, только дремлющего, веками взращенного недоверия темного люда к «господам, которые все заодно»… Команда глухо волновалась.
— Это что ж будет? Нас, значит, выслали, а сами — на печку? Сами-то идти не хотят? Экую силу под спудом держат! А мы-то нешто не люди? Псу под хвост, что ли? Нет, брат! ты сам присягу помни! Ты покажи себя, как перед Истинным! Тоже крест целовали! Христопродавцы!..
Такие недобрые речи, такие замечания не раз приходилось слышать, конечно, не с трибуны, а в непроглядной тьме ночи, когда ими вполголоса обменивались между собой незримые собеседники…
Они, эти простые люди, не могли не верить от слова до слова капитану 2-го ранга, еще так недавно бывшему в составе штаба эскадры, а теперь яростно нападавшему на «начальство», которое может, но не хочет послать нам «подмогу». Причисляя его к эскадренному составу, они считали, что он «самим» послан, чтобы требовать этой «подмоги».
Из моего многолетнего, почти непрерывного, тесного сожительства с плавающим составом нижних чинов я вынес убеждение, что команда каким-то необъяснимым путем, по каким-то неуловимым признакам очень быстро дает оценку своему начальнику и, надо отдать справедливость, редко ошибается.
Так было в Артуре, когда про Старка говорили: «Куда старику! обождем настоящего»; Макарова любовно называли «дедом», «бородой», «головой», «настоящим, который сделает»; об Алексееве отзывались, что он «только для видимости и в бой не пойдет», а про Витгефта — «Храбер на японцев, да со своими не совладает»… Наиболее важный момент в процессе развития этой оценки — тот, когда начальника начинают называть просто «наш» или «сам», когда слагается убеждение, что «наш сделает». С этого момента «наш» считается неразделимым с «нами», и всякое его решение — безапелляционным и наилучшим, преследующим «наши» интересы, противополагаемые интересам «начальства» — какой-то весьма далекой, таинственной, но всегда недоброжелательной, силы, преследующей какие-то свои особенные, чуждые «нашим» интересам цели, с которой «нашему» все время приходится бороться.
В данном случае среди команды под впечатлением статей г. Клало создалось совершенно несправедливое, но твердое убеждение, что «наш» послал его просить подмоги, а «начальство» препятствует. При этом, в силу той неопределенности, той неустойчивости понятий, которые возникают в коллективном сознании народных масс, мыслящих не идеями, но образами, для них невозможно было провести строгой границы между сторонниками «нашего», за которыми и в огонь, и в воду, и сторонниками «начальства», не заслуживающими доверия.
Офицер, к которому только что обращались по самым задушевным делам, вдруг оказывался в подозрении, как оправдывающий деяния таинственного «начальства», действующий с ним заодно, — и от него начинали сторониться, разговоров с ним избегали, толкованиям его заранее не верили. Получалась какая-то невообразимая путаница, неурядица. Команда смутно чувствовала, что где-то, что-то неладно, но не умела разобраться: где — друзья, где — враги… Этот период ознаменовался вспышками неудовольствия на разных судах, даже на таких, как, например, «Нахимов», на котором существовал солидный кадр старослуживых нижних чинов (да еще гвардейского экипажа), остававшихся на нем со времени последнего заграничного плавания.
Непосредственное вмешательство адмирала, его властное слово — немедленно прекращали беспорядок, но тем не менее что-то как будто было подорвано. Нарушения дисциплины становились все чаще. Подъем на фок-мачте гюйса, сопровождаемый пушечным выстрелом (Подъем гюйса (крепостного флага) на фок-мачте, сопровождаемый пушечным выстрелом, означает начало заседания «суда особой комиссии» — высшего судебного учреждения на эскадре, находящейся в отдельном плавании), сделался почти обычным явлением и уже не привлекал ничьего внимания. Преступления бывали серьезные; часто такие, за которые по законам военного времени полагалась смертная казнь… Адмирал не конфирмовал ни одного такого приговора… Однажды докладчик позволил себе высказать мнение, что излишняя мягкость может быть во вред, что надо показать прочим пример в целях устрашения…
— Излишняя мягкость? Ну, нет! Я не из жалостливых! Просто считаю бессмысленным. Можно ли устрашить примером смертной казни людей, которые идут за мной, которых я веду на смерть? Перед боем всех арестованных выпустят из карцера (Так полагается по уставу), и, как знать, может быть, они будут героями!.. — резко ответил ему адмирал.
Каким-то путем этот разговор, происходивший с глазу на глаз, в тот же день облетел всю эскадру, и… странно, что преступления против дисциплины не только не умножились, но чувствительно сократились…
Передавались, конечно, не подлинные слова, а лишь идея, да и та приукрашенная, приобретшая характер легендарного сказания.
Верно это, ваше высокоблагородие, — спросил меня конфиденциальным тоном вестовой, прибиравшийся в каюте, — будто «наш» всякие штрафы до бою отставил? Как, мол, ни виноват, пущай кровью отслужит — не препятствуйте!
Ты это откуда слышал?
Ребята сказывают…
А сам ты как полагаешь?
Чего ж тут полагать! Известное дело — «наш», он-те покажет! Скажет, что отрубит! Одно слово…
Предыдущие строки были уже напечатаны (в фельетонах газеты «Русь»), когда из высококомпетентного источника мною были получены сведения, что вдохновенная проповедь г. Кладо заслужила одинаковую оценку как среди офицеров второй эскадры (на Мадагаскаре), так и в среде их сухопутных товарищей (на полях Маньчжурии).
Письмо это так ярко подчеркивает солидарность взглядов «пушечного мяса» (морского и сухопутного — одинаково), так резко обрисовывает «его» отношение к героям, восседавшим на мягких креслах и никогда не слышавшим свиста неприятельского снаряда, что я позволю себе передать читателям некоторые выдержки дословно, не заботясь о стиле.
(Письмо, видимо, было писано наскоро, не для печати.)
«…Известные статьи г. Кладо и в действующей армии встречались с негодованием, и многие горячие головы называли эти статьи изменой России и отечеству.
СПБ. Телегр. Агентство услужливо передавало эти статьи даже по телеграфу, и на всех нас его (Кладо) оптимизм, основанный на цифрах и коэффициентах, производил удручающее впечатление. Его кликушеские завывания о немедленной помощи второй эскадре заставляли нас дивиться — что думают в Петербурге об этой необычной военной некорректности г. Кладо!»
Начальник разведочного отделения штаба генерала Куропаткина (ген. шт. полковн. Линда) «не раз говорил» начальнику морской походной канцелярии того же штаба (капитану 1-го ранга Русину) «о необходимости доложить главнокомандующему и просить его ходатайства о прекращении печатания преступных статей г. Кладо… что статьи эти… описывающие состояние второй эскадры, цифрами доказывающие превосходство японцев, — наводят на войска уныние и (главное) раскрывают глаза японцам. — В деле разведки компетентность источника сведений имеет огромное значение, и как бы ни были хорошо осведомлены японцы о нашем флоте, преступная болтливость г. Кладо должна быть для них откровением».
Далее тот же полковник Линда указывал капитану 1-го ранга Русину, что необходимо «торопить движение эскадры», считая «задержку ее в Носи-бэ и выжидание небогатовских судов — преступной».
В заключение мой уважаемый корреспондент говорит: «Статьи г. Кладо… я считал и считаю государственным преступлением».
Я счел своим долгом привести здесь этот голос из Маньчжурии как иллюстрацию к моему дневнику, писанному на Мадагаскаре.
4 февраля адмирал вдруг так расхворался, что слег в койку. По эскадре разнесся слух, что это явилось результатом получения телеграммы о выходе из Либавы отряда Небогатова. Будто бы с адмиралом приключилось что-то вроде удара. Через два дня он снова появился наверху, еще более похудевший, осунувшийся… слегка волочил правую ногу… На него поглядывали с тревогой, но вскоре же успокоились, услышав знакомый, ничуть не изменившийся, властный голос.
— Этот не заболеет! Разве — после заключения мира!.. — повторял старший доктор свое любимое изречение.
На строгом основании действующих законоположений адмирал Небогатов, посылавшийся со своим отрядом на усиление эскадры адмирала Рожественского, «имел поступить» в подчинение последнему лишь «по присоединении», а до этого момента, будучи совершенно самостоятельным, сносился только с Главным морским штабом и от него получал необходимые указания.
Бывало (если в Петербурге, за множеством дел, замешкаются), что адмирал узнавал о движениях и намерениях своего будущего младшего флагмана из телеграмм… агентства Гаваса! Невероятно — но факт. Зато — какое торжество стройной системы организации!..
После 8 февраля, т. е. по присоединении к нам «Олега», «Изумруда», «Днепра», «Риона», «Громкого» и «Грозного», общее недовольство бесцельной, а по мнению многих, и прямо вредной, стоянкой начало проявляться настолько резко, что адмирал оказался вынужденным нарушить свое молчание и в собрании флагманов и капитанов (не всех, но лишь старших) прочесть телеграмму за № 244, полученную им еще в половине января, и свой ответ на нее.
Как и следовало ожидать, никто из присутствовавших не сохранил полученных сведений в тайне. Все слишком хорошо сознавали, до какой степени истомился личный состав эскадры под бременем неизвестности. Впрочем, нет. Это было бы неточное выражение. Телеграммы Гаваса и Рейтера, газеты, русские и французские — давали в общем довольно верную картину настоящего момента, предсказывали почти безошибочно события ближайшего будущего, так что неизвестности, строго говоря, не было, а была только неуверенность. Чувствовалось, что происходит какая-то борьба, что адмирал держится одного взгляда, а в Петербурге смотрят на дело совсем иначе. Ознакомление с телеграммой № 244 и с ответом на нее до известной степени выяснило положение дел.
К сожалению, я не могу привести точного текста ни самой телеграммы, ни ответа. Могу изложить только их содержание.
Телеграмма № 244 указывала, что после падения Порт-Артура и гибели первой эскадры на вторую возлагается задача огромной важности: овладеть морем и тем самым отрезать армию противника от сообщения с метрополией; если эскадра (по мнению ее начальника) в настоящем составе не в силах осуществить этой задачи, то ей без малейшей задержки, как только обстоятельства позволят, будут высланы в подкрепление все боевые суда, оставшиеся в Балтийском море. В заключение адмирал запрашивался о его планах и соображениях.
3. П. Рожественский ответил: 1) что с теми силами, которые находятся в его распоряжении, он не имеет надежды овладеть морем; 2) что отряд старых, неисправных и частью, по самой постройке, неудачных судов, который намереваются послать ему в виде подкрепления, послужит не к усилению эскадры, а к ее обременению; 3) что единственный план, представляющийся ему возможным, — попытаться с лучшими силами прорваться во Владивосток и оттуда действовать на пути сообщения неприятеля.
Сколько помнится, было добавлено еще несколько слов о пагубном влиянии продолжительной стоянки на Мадагаскаре, как в смысле истощения физических сил, так и в отношении духа личного состава.
Эти телеграммы имели решающее значение, так как не являлись обычным обменом мнений, обычным пререканием между начальником эскадры и центральными учреждениями. Это было нечто гораздо большее — предначертанная программа действий и прямой, чисто военный, ответ на нее.
Дальнейших прямых указаний не воспоследовало, но косвенным ответом на донесение адмирала явилось известие о выходе из Либавы отряда Небогатова — известие, едва не свалившее с ног «нашего» начальника (Впоследствии стало известно, что в это же время адмирал Рожественский телеграммой просил о своей смене, донося о болезни, указывая на адмирала Чухнина как вполне здорового и способного заменить его. — Безрезультатно).
Эта «декларация» адмирала, по внешности, внесла некоторое успокоение. Споры в кают-компаниях прекратились. «Проклятые вопросы», над решением которых ломали головы, отпали сами собою. Догадкам, предположениям уже не было места. Все просто и ясно! — Приказано. — Инцидент исчерпан… Мне это спокойствие не нравилось. В нем было что-то мертвое. Не спокойствие, а безразличие. Не спокойствие воина накануне боя, полное гордой и смелой решимости, а спокойствие невинно осужденного накануне казни, пожалуй, тоже полное гордой и смелой решимости, но совсем в другом роде… Со слов лейтенанта С, говорившего какими-то загадочными изречениями, — адмирал все еще надеялся, что «там» поймут его донесения, поймут, что если он сам, ввиду изменившихся обстоятельств, не верит в успех предприятия, если он вместо плана кампании находит возможным представить только план прорыва, отчаянного набега, в слабой надежде ведения впоследствии партизанской войны, — то надо… — либо согласиться на этот план, либо… вернуть эскадру.
В Петербурге этого не понимали или не хотели понять…
26 февраля пришел «Иртыш». Ожидавшихся снарядов и зарядов на нем не было. Кроме угля, самым дорогим для нас грузом оказалось на нем 12 000 пар сапог. Не смейтесь! Это вовсе не шутка. При постоянных погрузках угля обувь так быстро изнашивалась, что к этому времени большинство команды ходило в самодельных лаптях, плетенных из ворсы.
27 февраля телеграммы агентства Гаваса доставили первые известия о сражении под Мукденом. — 50 000 пленных, 23 знамени, 500 орудий. — Конечно, на эскадре не поверили этим сведениям дословно. Мы уж привыкли к тому, что в донесениях японцев, спешивших поведать миру о своих успехах, результаты побед чрезмерно преувеличиваются, но все же, если убавить вдвое, даже втрое, — получалось впечатление жестокого поражения, почти разгрома нашей армии… Как ни странно, это событие не произвело, по крайней мере по внешности, особенного впечатления на эскадру. Разговоров на эту тему почти не было. Словно бы в массе своей (не говорю по отдельности) все так устали, что даже работа мысли являлась утомительной. Сказывались результаты двухмесячной стоянки, мучительной по неопределенности положения, в беспрерывном непосильном труде, в состоянии неослабного напряжения нервов, в этом климате, которого европейцы при всех мерах предосторожности, при всех условиях возможного комфорта, применяемого даже в казармах, не выдерживают дольше 2–3 лет. Результаты дальнейшего пребывания — острое малокровие или, точнее, как выражались местные доктора, обеднение, разжижение крови. Единственное лекарство — отъезд в страны умеренного пояса.
Люди, испытавшие на себе жары Туркестана, Сирии, Алжира, даже Сахары, — могут пренебрежительно пожимать плечами и недоумевать: какая же это температура +26° R? — велика важность!.. Но эти 26° держатся днем и ночью при относительной влажности, доходящей до 98 %! В этом весь ужас. Нет отдыха. Испарина, выделяемая кожей, остается на ней, стекает каплями… Вы можете только обтираться, но никогда не можете высохнуть. Главное — это духота. Вы дышите воздухом, насыщенным парами почти до предела насыщения. Вы дышите горячим туманом, как на полке в бане…
28 февраля я лег спать в каюте с открытым иллюминатором. Вентилятор работал полным ходом. Около полуночи проснулся под впечатлением странного, но уже хорошо знакомого, чувства — затрудненности дыхания. Словно не хватает воздуха. Разеваешь рот, как рыба, выкинутая на берег, набираешь полные легкие, и все-таки мало. В висках стучит. Общая слабость, предательская лень и предательская мысль — «все равно, только бы не шевелиться, не устать еще больше»… Очевидно, закупорило тучами и не шелохнет. Авось прочистит грозой и ливнем, а пока… набрасываю на себя, что попало под руку, забираю циновку и надувную резиновую подушку (пуховые подушки, всегда мокрые, только распаривают голову) и бреду наверх, на задний мостик, отведенный на ночь в распоряжение офицеров. Тяжелый путь. Спотыкаешься на трапах; руки, ноги — плохо слушаются; в голове — какой-то туман… Славу Богу, добрался благополучно. — Как будто с левого борта тянет ветерком?.. — Туда, конечно, туда!.. Низко нависли густые, тяжелые тучи. Тьма непроглядная. Несмотря на привычку к местности, нет-нет и заденешь за что-то, отзывающееся сердитым ворчанием. Это — господа офицеры. Не отвечаешь на ворчанье и даже не обижаешься на нехорошие слова — кто не выругается, когда на него наступят. Добравшись до намеченного пункта — левой передней 47-мм пушки, бросаю на палубу свою циновку, прислоняю к тумбе орудия подушку и начинаю устраиваться поудобнее…
— Легче!., черт…
— Виноват, я, кажется, придавил?..
— Нет… ничего… подвиньтесь немного… По голосу я узнал лейтенанта С.
— Тоже вылезли?
— В каюте — сил нет! задыхаешься.
— И здесь немногим легче…
Несколько освоившись с темнотой, я разглядел, что он лежит ничком, приподнявшись на локтях и оперши голову на руки. Глубокое молчание царило кругом. Здесь было все-таки лучше, чем в каюте. Я несколько отдышался. Глаза смыкались; незаметно подкрадывалась не то дремота, не то сладкое забытье.
Неожиданно С. заговорил своим нервным, слегка срывающимся голосом:
— Ну, вот… По-видимому, в Петербурге крепко решили и уж не передумают. Идем полной армадой, со всеми вновь присоединяемыми убогими и увечными. Идем на гибель, на бесславную гибель… Счастье! Удача!.. Это только в сказках: дуракам — счастье!.. Да и то по той причине, что умные оказываются глупее их… так всегда по смыслу сказки выходит… Я знаю, что за время Артура вы прямо возненавидели лозунг «беречь и не рисковать», но ведь есть риск — и риск. То, что мы собираемся предпринять, — не риск, а безумие! Хуже — преступление!
— Но если для нас, поймите — «для нас», — нет другого выхода… Оставим эскадру. Обратимся лично к вам. Если бы сейчас было предложено всем желающим вернуться в Россию, были бы вы в числе их? Пусть вы правы. Пусть эскадра осуждена погибнуть без пользы. Пусть гибель её обнаружит перед светом, что у нас был не флот, а балетная бутафория. Пусть этот разгром будет позором для России… Те, что уклонились от этой кровавой расплаты, те, что поступили благоразумно и целесообразно, те, что не пошли на верную гибель, — они… впрочем, не знаю, что сделают они, а спрошу вас: вы, если бы сейчас вернулись в Россию, нашли бы в себе достаточно мужества, чтобы смело взглянуть в глаза тем, которые вернутся позже, случайно уцелев в гекатомбе, которую предотвратить вы, конечно, не могли, но быть жертвой которой вы не захотели?..
— Ах! замолчите, замолчите!..
— Нет, не замолчу! Если в азартной игре, неразумно начатой, последний золотой поставлен на карту в надежде повернуть счастье в свою сторону, в надежде отыграться, — смеет ли этот золотой исчезнуть, скатиться под стол? Нет! он должен честно стоять на карте! Его судьбой распоряжается не он, а кто играет! Ответственность на играющем.
— Ха-ха-ха! — нервно засмеялся С. — Да ведь эскадра-то наша — золотой-то фальшивый!.. Вы сильнее меня в сравнениях, в игре слов, но на этот раз позвольте продолжить! Если в таких обстоятельствах игрок возьмет ставку, а потом счастье к нему повернется и он начнет отыгрываться, тогда — all right! Но если карта будет бита, а золотой, стоявший на ней, окажется фальшивым, то не произойдет ли скандала?.. Вы говорите: ответственность — на играющих! Хорошо кабы так!.. Но в том-то и горе, что в данном случае игроки, несомненно, останутся в стороне! Топтать в грязь будут фальшивую монету, а не тех, кто ее чеканил, не тех, кто ставил ее на карту… И об этом прежде всего позаботятся сами фальшивые монетчики!.. Я ли их не знаю!.. Когда еще в этом деле разберется история, а пока что все на нас же свалят…
— Все это очень хорошо и логически правильно, — неожиданно раздался хриповатый бас лейтенанта Б., — но говорить об этом громко — не только бесполезно, а даже вредно. Герои, восседающие на мягких креслах, петербургские стратеги, предначертывающие планы действий эскадры, — нашего голоса не услышат. Мы — пушечное мясо. Примиримся со своей долей. Нечего зря бередить душу. И без того несладко.
Пауза. Затем С. опять заговорил, но уже тише, без увлечения, каким-то почти бесстрастным тоном:
— Помнится, вы рассказывали — Макаров вас напутствовал — «…погибнуть нетрудно и не страшно, но погибать зря — глупо»… Знаете ли, что 36 лет тому назад известный лейтенант Семечкин на одной из своих лекций сказал: «Что умереть не страшно, то в этом нам убеждать друг друга не нужно. Но умереть пешкой — ужасно. Отдать свою жизнь за родину легко и отрадно, но отдать ее не умеючи, дешево, за недорогую цену — невыносимо тяжело и трудно». Так говорил он 36 лет тому назад, и к этому мы идем в данную минуту… В общем разгроме без пользы, без толку пришибет каким-нибудь шальным снарядом… либо часами будешь держаться, из последних сил, за какой-нибудь плавающий обломок в ожидании, не соблаговолит ли подобрать победоносный враг… либо — еще хуже — будешь медленно задыхаться под днищем опрокинувшегося корабля… Какая гадость!.. Даже некрасиво…
Было тяжело его слушать… Я пробовал отшутиться.
— Ну, если насчет красоты, если вы хотели бы погибать верхом на коне и со штандартом в руках, то следовало поступать не во флот, а в кавалерию…
— Конечно, — отозвался откуда-то справа лейтенант В. (артиллерист). — У нас это проще. А что касается неприятных моментов, то в особо гнусном положении всегда естьсредство ускорить и упростить решение проблемы — «браунинг» в кармане.
— Вы меня не понимаете или не хотите понять, — продолжал С. после некоторого молчания. — Нечего отыгрываться фразами. Вы просто отмахиваетесь от назойливых мыслей. Но не ото всех можно отмахнуться. 10 000, а может быть, будет и больше, русских людей в возрасте от 20 до 30 лет посылаются не на бой, а на бойню. Они этого не сознают, а вы это понимаете. Они вам верят, а вы — будете ли с ними откровенны?
— Конечно, нет… — Что бы из этого вышло?! Мы их ведем вслепую. Мы — их начальники — не смеем сказать им правды, чтобы не вызвать деморализации…
— Конечно, огромному большинству из нас ни перед ними, ни перед Родиной отвечать не придется — с того света ответа не спрашивают… но если… тогда… в час расплаты, они спросят у нас ответа… что мы скажем?..
— Скажем, что им, как и нам, умирать надо! А кто изменники, кто предатели — Бог рассудит! — прозвенел в тьме чей-то молодой голос.
Я сразу узнал по акценту мичмана князя Ц.
Где-то, неподалеку, что-то брякнуло, словно приклад ружья, переставленного с места на место… Послышался какой-то вздох, что-то вроде — «О, Господи, Господи…»
— Stop, boy! — сердито заговорил Б. — Sentinel hears…(Стоп, мальчик! — Часовой слушает.)
Опять наступило молчание. С берега доносился одуряющий запах прелой зелени девственных порослей. Гроза, видимо, собиралась, но все медлила, словно ждала чего-то. Только вдали, над самым горизонтом, прорывались, временами, сквозь тяжелые тучи трепетные огни зарниц…
— Странные мысли, глупые мысли… — снова заговорил С., медленно, как в полудремоте, роняя слово за словом. — Может быть, это от погоды… Провезли 12 000 миль. Провезут еще 6000 миль. Для чего? — на убой… Видели, как живых телят со связанными ногами, навалив грудой на телегу, везут в город?.. Ну, эти, конечно, сами с собой ничего сделать не могут — нет «браунинга» в кармане, как говорит В… С другой стороны — понимаю ту маркизу, которая уже на эшафоте просила: «Господин палач, подождите одну минутку…» Очевидно, для нее жизнь была так прекрасна, что и «минутка» являлась ценной… А мы?.. — не телята и не маркизы — мы-то чего ради терпим эту каторгу, когда все равно — один конец…Право, иной раз так заманчиво кажется… Ну, стоит ли ехать так далеко…
Яркая молния словно раскрыла небо, и вслед за раскатом грома хлынул наконец долгожданный ливень. На палубе зашевелились. Слышались сдержанные восклицания, какое-то фырканье, топот босых ног, — это команда спешила воспользоваться столь высокоценимым душем пресной воды. Вспышки молний, пронизывая голубоватым светом частую сетку дождя, на мгновение выхватывали из тьмы группы людей, толпившихся на открытых местах, обнаженных и полуобнаженных, стоящих, сидящих, то согнутых, то вытянувшихся, с руками то поднятыми, то широко раскинутыми, в самых разнообразных и, казалось бы, неестественных позах, — словно какие-то призраки, внезапно захваченные в исступленной, бешеной пляске…
— Точно шабаш на Брокене! Правда? — окликнул меня В.
Я повернулся в сторону говорившего и при следующей вспышке увидел его в костюме Адама, но со всегда присущей ему важностью восседающего на борту минного катера.
Похоже. Особенно вы хороши! Смею спросить: на какой роли?
Конечно, не Фауста! — прозвучал из тьмы его насмешливый голос. — Полагаю, что при современной обстановке Мефистофель не дал бы за мою душу и ломаного гроша!
VII Вопросы пищевого довольствия команд. — «Удираем от Небогатова!» — Подъем духа. — Маршрут. — Общая характеристика похода через океан: учения и занятия, погрузки угля
Если «Иртыш» порадовал нас доставкой 12 000 пар сапог и, так сказать, предотвратил опасность сапожного голода, то, не говоря уже о боевых припасах, и по остальным частям снабжения дела обстояли не слишком благополучно. Огромный процент бочонков капусты и солонины, принятых из Кронштадта и Либавы, при вскрытии давали взрывы, сопровождавшиеся извержением зловонных газов, и содержимое их приходилось поспешно выбрасывать за борт. Между тем так называемая «морская» провизия, составлявшая основу питания команд в море, могла понадобиться не только на переходах, но даже и во Владивостоке, запасы которого, по имеемым сведениям, не отличались богатством, а на железную дорогу не рекомендовалось уповать чрезмерно, ибо она «с трудом обслуживает нужды армии». Частью вследствие этих соображений, а главным образом в интересах здоровья и поддержания сил команды, адмиралом принимались все меры, чтобы за время стоянки продовольствоваться исключительно свежей провизией. Это было, однако же, не так просто. Конечно, если бы поставщики могли предвидеть наше долговременное пребывание в Носи-бэ, они не задумались бы устроить здесь какие угодно склады, теперь же приходилось не только обирать все, что находилось в портах Мадагаскара и побережья Восточной Африки, но даже выписывать из Европы с риском, что заказ опоздает. В свежем мясе недостатка не было, так как Северный Мадагаскар именно та часть острова, в которой имеются степи, пригодные для скотоводства, и скотопромышленники только радовались, что могут продать свой товар по хорошей цене. Зато насчет зелени было плохо. Из ананасов, бананов и прочих тропических фруктов щей не сваришь. Капуста, картофель, даже лук, морковь, щавель и шпинат в этом климате вовсе не уживаются. Все это привозилось частью в полу консервированном виде (подсушенное, прогретое, запаянное в жестяные ящики) из портов Южной Африки, на возвышенных плато которой существовала культура европейской «зелени», частью — прямо из Европы, в виде настоящих консервов. Недурны были цены! Но даже и по этим ценам не всегда можно было достать необходимое. Часто приходилось недостающее количество продукта заменять суррогатами. Это слово сделалось модным и получило на эскадре широкое распространение. Так, например, если за неисправностью миноносца вместо него посылали два минных катера — это были суррогаты; если, за болезнью лейтенанта, минным катером командовал мичман — тоже суррогат. При этом обыкновенно суррогаты подлежали к отпуску в большем количестве, нежели продукты, ими заменяемые. В деле пищевого довольствия пропорция определялась комиссией докторов при участии флагманского интенданта. Так, например, капусту заменяли тройным по весу количеством корня маниока. Гречневая крупа заменялась рисом, тоже в определенном соотношении. С начала февраля ржаную муку и черные сухари стали беречь, как лакомство, — пекли пшеничный хлеб и выдавали галеты. В качестве «господского кушанья» пользовались среди команды большим успехом макароны — суррогат каши. Иные дни приходилось варить зеленые щи из консервов шпината, тех самых консервов, которыми охотно пользуются повара на званых обедах. Бывало, наш флагманский интендант, капитан 2-го ранга В., согласившийся принять на себя эту многотрудную обязанность по личной просьбе адмирала (Согласился потому, что уже командовал кораблем 2-го ранга в дальнем плавании, а на эскадре, идущей в бой, не было ни одной командирской вакансии. С другой стороны, усидеть дома, когда другие идут драться, ему, при его характере, было невозможно. Погиб на «Бородине»), выбегал от него с руками, воздетыми к небу, и, бросившись в кресло, просил стакан холодного квасу или содовой воды.
Это был человек, весь, как лейденская банка электричеством, заряженный жизненной силой, бодрой шуткой, казалось, совершенно неспособный когда-либо и в каких-либо обстоятельствах пасть духом.
В чем дело? Что случилось? — спрашивали его, смеясь, заранее уверенные, что он «балаганит».
Смейтесь!.. Что я с ним сделаю? Говорю: ваше пр-ство! Верю в науку, как в Евангелие. Доктора говорят, что лук необходим. Согласен. Но если этот лук дороже, чем артишоки в Петербурге! Уж лучше позвольте им ананасы выдавать — они здесь дешевле репы! — А он мне: «Это идея. Надо запросить комиссию. Но лук — луком». — Цена-то какова! — «Здоровье команды — всего дороже»… — Извольте тут разговаривать!.. Ему-то хорошо!.. Он, видно, надеется, что его в первую голову ухлопают, а если я уцелею? Ведь мне перед начальством придется ответ держать!..
2 марта, только к 6 ч. утра вернувшись с минными катерами из дальней ночной экспедиции, я завалился спать и даже приказал вестовому не будить меня к завтраку. Однако уже часов около 10 сам проснулся под смутным впечатлением, что на броненосце происходит что-то особенное. Начал прислушиваться. Наверху командир резким голосом, самолично, отдавал приказания; с проходившего мимо парового катера что-то кричали в рупор; в кают-компании старший офицер «разносил» за что-то вестовых; кто-то в офицерском отделении окликал встречных, спрашивая, не видали ли трюмного механика; привычной для слуха дробью доносился топот ног людей, бегущих вверх и вниз по трапам… Кажется, все как всегда — но и в звуках голосов и в топоте ног чувствовалось какое-то особое настроение, что-то новое, непохожее на вчерашний день. Сна как не бывало. Наскоро оделся, вышел из каюты и едва не протаранил старшего механика, мчавшегося куда-то полным ходом.
— Лево на борт! Полный назад! Что случилось?
— Уходим!
— Как? Что?
— Некогда, некогда! — и, вырвавшись у меня из рук, убежал. Заторопился в кают-компанию. По дороге едва избежал столкновения со старшим офицером, тоже работавшим полным ходом, который сначала выругался, потом извинился и наконец, уже исчезая на трапе, крикнул: «Запороли горячку!» В кают-компании застал лейтенанта Б., спешно докуривавшего толстейшую крученую папиросу. Кинулся к нему.
— Дорогой мой, объясните, в чем дело? Все точно сбесились!
— Сбесишься! — весело крикнул он. — Удираем от Небогатова!
— Расскажите толком! Я — прямо с койки, ничего не знаю, ничего понять не могу!
— Ночью пришла «Regina», пароход с полным грузом провизии. Чуть свет поехала интендантская комиссия составить расписание: кому, что, в каком количестве принять, чтобы никому не обидно. Известная канитель. Вдруг — телеграмма, сигнал, циркуляр, приказ, 30 000 курьеров: послать немедленно шлюпки, команду, разгрузить в 24 часа; чего не разберут, передать на транспорты; приготовиться к походу!.. Что за черт? Все обалдели, ничего не понимают… С берега привозят телеграммы Гаваса: «Небогатов спешно грузится углем на Крите; не сегодня завтра ждут в Порт-Саиде». Сразу поняли. Вполне одобрили. Подъем народного духа! Не будь разницы в чинах, расцеловал бы Зиновия! — Навязать хотите? — А вот вам масонский знак номер седьмой! — и он правой рукой изобразил то, что Гоголь называл «обидным перстосложением». — Ха-ха-ха! Ну, да еще потолкуем, а сейчас бегу — дела по горло!
Черт возьми! — думал я. — Становится интересно! Ведь еще вчера вечером и речи не было о таком спешном походе!
Поднялся наверх, в штабное помещение. Там — аврал неистовый. Именно, как выразился Б., 30 000 курьеров мечутся во все стороны. Ухитрился, однако, улучить минутку, захватить одного, в его каюте, лейтенанта С. (за последнее время мы как-то все больше и больше сходились).
— Знаю, что вам некогда, а потому — без дипломатии. Не секретничайте, говорите начистоту: удираем от Небогатова?
Он, как обычно, уклонился от прямого ответа, высказал только якобы личные соображения.
— Адмирал отнюдь не посвящал меня в свои планы. Я ни чего не знаю, да если бы и знал, то все равно ничего не сказал бы. Обстановка вам известна. Адмирал против присоединения отряда Небогатова, но не только вернуть, даже задержать его движение — не имеет власти. Он даже не находится сними в непосредственных сношениях. Приказывает, направляет Петербург. С другой стороны — категорического распоряжения оставаться здесь в ожидании прибытия подкреплений нет. Счастливая или несчастливая случайность — незнаю… События сегодняшнего дня могу изложить детально. Кроме меня, были свидетели. Значит — не тайна. Получив агентские телеграммы, адмирал, как всегда, ушел с ними в кабинет, но почти тотчас же вышел оттуда, видимо, взволнованный, и отдал срочное приказание: все погрузки, приемки закончить в 24 часа и приготовиться к походу. В первый момент у меня мелькнула мысль, что он для выигрыша времени хочет идти навстречу Небогатову. Я спросил: кому будем телеграфировать о рандеву или о маршруте? Он посмотрел на меня с недоумением, а затем ответил тоном, не допускающим возражений: «Никому, ничего». Теперь я шифрую телеграмму, которой кратко доносится, что эскадра «вышла на восток».
— Без указания — каким путем, каким проливом?
— Ни намека!..
— Но тогда как же? Куда и как направят Небогатова?
— В том-то и суть! Это соломинка, за которую он хватается! Мне кажется, он все еще надеется, что ввиду такого шага с его стороны «они» откажутся от своей затеи — либо вернут Небогатова, либо задержат его в Джибути, может быть… согласятся на первоначальный план адмирала — прорыв с лучшими судами, а может быть (но этому я не смею верить), поймут все безумие самого нашего похода…
Я уж давно не видел С. таким оживленным и бодрым. Да не он один. Вся эскадра словно проснулась.
— Вот это номер! — горячилась молодежь. — К черту утюги и старые калоши! Пронесет Бог — перемахнем океан, а там — видно будет! Может быть, и из нашего хлама одного-другого спрятать в Сайгоне, а сами — full speed! Только бы дорваться! Без этого камня на шее!..
Так говорили в кают-компании «Суворова», но я имею полное основание думать, что то же говорилось и на других судах. И вот почему: в 2 ч. дня, как было условлено еще накануне, ко мне съехались все «капитаны суррогатов» (офицеры, командовавшие минными катерами), т. е. 14 человек с судов 1-го ранга, для совместного обсуждения и разбора маневра предыдущей ночи; естественно, что они принесли с собою отголоски настроения, господствовавшего на их кораблях, и оно оказалось тождественным с настроением нашей кают-компании.
3 марта, в 1 ч. пополудни, начали сниматься с якоря. При съемке, из-за массы транспортов, такая же каша, как в Танжере, только в более широком масштабе. Окончательно построились и дали ход — в 2 ч. 40 мин. пополудни.
К 6 ч. вечера, выбравшись из островов и окружающих их рифов и банок, легли курсом в обход северной оконечности Мадагаскара. Вдруг — у «Орла» повреждение в левой машине… Начались наши мытарства! До 8 ч. вечера почти стояли на месте. В 8 ч. дали ход 5 узлов. Только в полночь могли прибавить до 8?.
Боевая эскадра!.. Нет, видно, одного духа — мало!
Ночью — занятное зрелище — 45 кораблей! Целый город на воде… И какая приманка для доброй минной атаки!
Надо заметить, что уже с самого прихода на Мадагаскар мы получали предупреждения и от собственных агентов и через «добрых друзей и союзников» о подготовленных по пути следования эскадры многочисленных embuscades не только в стиле дурбанского предприятия, но и серьезнее. Вполне определенно сообщалось, что навстречу нам высланы вспомогательные крейсеры «Hong-Kong Mara» и «Nippon Mara», имеющие на борту подводные лодки. В качестве главных опорных пунктов для этого рода операций указывались — Сешельские острова, Диэго Гарсия и Зондский пролив.
Два слова о маршруте. Как я узнал (только перед выходом из Носи-бэ), первоначально путь эскадры намечался через Зондский пролив, причем в бухте Ламбок (на Суматре) предполагалась более или менее продолжительная стоянка, отдых, пополнение запасов угля и провизии и т. п. Предположения эти, конечно, не могли остаться в секрете. Кроме меня и большинства офицеров эскадры, пребывавших в неведении, весь свет (и, конечно, первыми — японцы) знал об этом из самых достоверных источников. В результате — энергичный протест Японии против ожидаемого нарушения нейтралитета и даже открытые угрозы по адресу Голландии, если она допустит эскадру базироваться на ее территориальные воды. Ясно, что при такой постановке вопроса положение Голландии, выражаясь кают-компанейским жаргоном, было «из средних и даже ниже среднего», потому что, с одной стороны — Япония — сила, а значит, и право требовать выполнения вновь объявленных правил нейтралитета, с другой — тоже сила, считающая себя в своем полном праве пренебрегать этими правилами. Ведь если бы нам оказалось необходимым зайти в Ламбок, то к просьбе голландских властей о выходе мы могли бы отнестись так же добродушно, как отнеслись к протесту неустрашимого «Лимпопо» в Great-fish bay!.. Разница была та, и весьма существенная для нас, что близ Great-fish bay не имелось японского флота, тогда как в Ламбоке он мог появиться в любой момент и предпринять против нас активные действия, объявив всему свету, что мы первые попрали священные основы международного права.
Можно сказать, что и наше положение было тоже «из средних», так как Голландия, очевидно, не имела фактической возможности оградить свои территориальные воды от вторжения, как с нашей стороны, так и со стороны японцев.
Для всех европейских газет (за исключением русских, которым это было запрещено) вопрос о том, какой путь изберет эскадра для дальнейшего следования, — являлся самой жгучей, самой благодарной темой обсуждения. Мнения и отзывы известных (а иногда и вовсе не известных) адмиралов занимали целые столбцы. В общем все авторитеты сходились на том, что идти Зондским проливом — значит идти на гибель; о Малаккском — и речи не было; указывали путь кругом Явы или между Новой Гвинеей и Австралией, в обход Зондского архипелага, где, за отсутствием телеграфа и множеством возможных путей между островами, крайне трудно организовать дозорную службу для наблюдения за движением эскадры… Адмирал Фриментль, довольно известный в английском флоте, заявил даже, что он, на месте Рожественского, пошел бы кругом Австралии, огибая ее с юга: путь длинный, но зато безопасный, а впереди — временная база на Каролинских островах, принадлежащих Германии, которая одна, до сих пор, не боится оказывать нам явное доброжелательство.
По выходе в открытое море все узнали, что адмирал избрал путь через Малаккский пролив.
На «Суворове» это решение было встречено восторженно.
— С одной стороны — безумная авантюра, а с другой — именно ввиду своей отчаянности может удасться. Благоразумным японцам и в голову не придет такого трюка! Но если выгорит — честь и слава! Вот ахнут, вот рты разинут Фриментль и К°! — толковали между собой офицеры.
Я всецело присоединялся к их мнению.
28-дневный поход через океан эскадры из 45 вымпелов — событие беспримерное в истории парового флота, а потому я позволю себе ниже описать его, хотя вкратце, изо дня в день, так сказать, дать журнал плавания, основанный на записях моего дневника, но раньше того мне хотелось бы представить читателям общую картину эскадренной жизни за это время.
За исключением дней погрузки угля, учения и занятия, имевшие целью восполнить по возможности недостатки нашей подготовки к бою, продолжались беспрерывно. Главное внимание было, конечно, обращено на обучение наводке и определению расстояний дальномером и на глаз. Каждое утро по боевой тревоге крейсера: «Аврора», «Донской», «Жемчуг», «Изумруд», «Днепр» и «Рион» расходились вправо и влево от эскадры, маневрируя по способности, идя разными курсами и скоростями, то удаляясь, то приближаясь, то выскакивая далеко вперед, то отставая. Они служили точками прицеливания. В этом же смысле пользовались и маневрами разведочного отряда, начальник которого, капитан 1-го ранга Шеин, целыми днями занимался обучением своих подчиненных. Одновременно, все эти 10 крейсеров, маневрировавшие в пределах видимости эскадры, составляли кругом нее довольно надежную дозорную цель.
Основой каждого учения по боевой тревоге, как и раньше, служил план боя, разработанный офицерами корабля под руководством старших, план, с которым, согласно приказу адмирала, должны были быть ознакомлены все «до санитаров включительно».
Особыми приказами были объявлены правила перестроения в боевой порядок, по условным сигналам, при появлении неприятеля по курсу, сзади, справа или слева, а также инструкции для действий транспортов в подобных обстоятельствах; подробно указывалось, кто и кому должен оказывать помощь и защиту в случае повреждения в бою или минной пробоины, причем таким помощникам и защитникам вменялось в обязанность: 1) Всеми средствами беспрерывно оповещать флагмана о состоянии бедствующего судна; 2) Принимать все меры к сохранению корабля для эскадры; 3) Принимать решительные меры к уничтожению корабля в случае, если захват его неприятелем окажется неотвратимым (Приказ 14 марта 1905 г. за № 159).
Перестроение эскадры из походного в боевой порядок при (предполагаемом) появлении неприятеля в какой-нибудь части горизонта, отвод транспортов от (предполагаемого) места боя и (примерная) охрана их — были проделаны несколько раз, но, к сожалению, особенно часто заниматься учениями этого рода не представлялось возможным, так как за время, посвященное маневрированию, эскадра почти не выполняла главного своего назначения — не двигалась вперед.
Учебных стрельб не производилось вовсе, потому что, «во-первых», нечем было стрелять, а остальных причин — приводить не стоит.
К вечеру каждого дня первой заботой адмирала было как можно теснее собрать эскадру. Это было не так-то просто, особенно из-за транспортов, никогда не учившихся совместному плаванию. Ночью разведочный отряд — «Светлана», «Кубань», «Терек» и «Урал» — шел впереди эскадры, в строе двойного фронта, в шахматном порядке, имея на флангах крейсера «Жемчуг» и «Изумруд». Этот полумесяц как бы прикрывал голову эскадры от внезапного, предательского нападения.
Почти каждую ночь, а иногда и по два, и по три раза за ночь, в неопределенные часы, по личному распоряжению адмирала, производились тревоги, имевшие целью проверить бдительность вахтенной службы, исправность прожекторов, умение быстро усваивать условные сигналы. Бывало и так, что подобного рода тревоги вызывались обстоятельствами плавания, имели характер настоящих. Это — когда дозорные обнаруживали на курсе эскадры или близ него попутчика или встречного. Судя по поведению таковых, можно было сказать, что, по-видимому, после «гулльского инцидента» за эскадрой установилась довольно прочная репутация. Стоило только которому-нибудь из крейсеров направиться к «неизвестному» и осветить его прожектором, как он, нимало не медля, без всяких сигналов и принуждений, круто клал руля и полным ходом спешил удалиться от неприятного соседства.
Моментами наивысшего напряжения, почти лихорадочной деятельности были, конечно, дни погрузки угля.
Грузиться борт о борт не удалось ни разу. В океане, какой бы штиль ни стоял, всегда откуда-то (может быть, из-за сотен и даже тысяч миль) идет зыбь. Погрузку производили, перевозя уголь с транспортов на боевые суда в мешках, на судовых баркасах и специально для того построенных ботах, буксируемых паровыми катерами. Для насыпания угля в мешки, для погрузки мешков на шлюпки — на транспорты посылались значительные партии команды при офицерах (100 и более человек с корабля 1-го ранга); немалое число людей находилось на ботах, баркасах и паровых катерах; конечно, при этом не было никакой возможности сохранять даже подобия строя, так как транспорты и боевые суда стояли вперемежку, сообразно условиям наискорейшей погрузки; к тому же, по необходимости, пушки были закрыты чехлами, окутаны брезентами, чтобы не допустить проникновения угольной пыли в нежные части их сложных механизмов и установок… Словом, эскадра не только не была в боевой готовности, но даже не могла бы привести себя в это состояние достаточно быстро, в случае тревоги. Правда, пять вспомогательных крейсеров — «Кубань», «Терек», «Урал», «Днепр» и «Рион» — по своим колоссальным запасам угля не нуждавшиеся в дополнительных погрузках, несли в это время дозорную службу, рассыпавшись по окружности круга, центром которого служила нестройная толпа боевых судов и транспортов, но, к несчастью, эта дозорная цепь не могла быть вынесена достаточно далеко. Им приходилось держаться в пределах видимости обычных отдаленных сигналов, так как ни одной минуты мы не могли положиться на исправность действия нашего беспроволочного телеграфа (патент «Сляби-Арко» — технический комитет)… В атмосфере, почти насыщенной парами, видимость отдаленных сигналов не превышала 5–7 миль, а видимость приближающихся судов 10–12 миль. Итого — смотря по условиям погоды, мы могли быть предупреждены о приближающейся опасности с расстояния не более 20 миль, т. е. минут за 40–50 до момента первого хорошего прицельного выстрела со стороны неприятеля. Между тем, как показал опыт, даже бросив шлюпки на воде, только собрав команду на свои суда, мы никоим образом не успели бы за этот промежуток времени вполне приготовиться к бою.
Победителей не судят, но нельзя не признать, что японцы упустили много благоприятных случаев помешать движению нашей армады. Если бы их вспомогательные крейсеры неотступно следили за нами, то появление одного из них, только обменявшегося несколькими выстрелами с одним из наших дозорных и тотчас бежавшего, уже вызвало бы прекращение погрузки, изготовление эскадры к бою. Я утверждаю, что они смело могли бы не позволить нам грузиться углем в море. Они этим обстоятельством не воспользовались. Впрочем… может быть, они верили, что аппараты «Сляби-Арко» действительно лучше «Маркони»?..
VIII Дневник похода через океан. — Малаккский пролив. — Шествие в виду Сингапура. — Мысли в бессонную ночь. — Совет; три мнения… — Англо-японские разведчики. — День 30 марта. — «Не судьба!» — Прибытие в Камранх
Перехожу к журналу плавания. Оговорюсь, что в моем дневнике отмечены лишь серьезные повреждения котлов и механизмов, задерживавшие движение эскадры на несколько часов; мелкие же неисправности, заставлявшие корабли только ненадолго выходить из строя, исправлявшиеся «на ходу», мною не записывались, так как их было слишком много. Я говорил уже в моей книге «Бой при Цусиме», что «наше долгое плавание — это был длинный скорбный лист наших котлов и механизмов и мартиролог наших механиков, которым приходилось и рожь на обухе молотить и тришкин кафтан перешивать наново»… — В один из дней у меня отмечено, что, идя под 10 котлами, мы за сутки переменили их — 19, т. е. почти полный комплект…
4 марта. Ночь прошла спокойно (в смысле японцев). Адмирал не смыкал глаз. Пытается сигналами поддерживать порядок в толпе, которую никак нельзя назвать строем. Преимущественно — отстают, растягивают линию и безмерно увеличивают расстояния между колоннами; реже — налезают на передних, выходят из строя, пугают соседей. В 8 ч. утра, выйдя к северу от Мадагаскара, легли курсом южнее Сешельских островов. В 2 ч. дня потеряли берега из виду. Легкий NO. Частые повреждения машин (особенно на транспортах) сильно тормозят движение. Правда — все пустяки. Можно надеяться, что еще не наладились после долгой стоянки, а дня через 2–3 пойдут лучше. Перед закатом солнца увидели на горизонте (сзади и слева) ряд дымков. К переднему, видимо нас догонявшему, послали миноносцы для освидетельствования. Оказался — германский купец.
5 марта. 2 ч. 30 мин. ночи. Спал, наслаждаясь (относительной) прохладой. Был разбужен соленой ванной — поддало в открытый иллюминатор. Пришлось выселиться из каюты и ждать уничтожения в ней следов потопа. Печально. Предстоит вариться в собственном соку, так как наверх нельзя. Во-первых, из труб сыпется в массе горячий песок угольного шлака, уносимого силою тяги из топок, а во-вторых — дождь.
В 6 ч. утра миноносцам приказано стать на буксир к транспортам (по особому, заранее объявленному, расписанию). Для первого раза операция заняла 1 1/2 часа. Стояли на месте. В начале 9-го часа строй так растянулся (сказал бы — расползся по всем швам), что адмирал приказал головным застопорить машины и занялся, при посредстве сигналов, сбором заблудших. В 9 ч. утра наладились, дали ход. Вдруг у «Иртыша» лопнул буксир. Опять — стоп. Еще час. В 11 — м часу утра только что дали 8 узлов, — у «Сисоя» повредилась рулевая машинка. Вышел из строя. Идет «по способности», управляясь машинами. Из-за него вынуждены держать 5 узлов хода. Для «Сисоя» и это много. С 1 ч. до 2 ч. пополудни стояли на месте, его поджидая. Потом снова — 5 узлов. В 4 ч. дня «Сисой» починился. Завернули 8 узлов… С радостью наблюдаю, что (по крайней мере, на «Суворове») если чего и боятся, то разве того, как бы не испугаться. Дух хорош. Пожалуй, на пользу, что мы так отрезаны, что нет никаких вестей. Последнее время вести были прескверные. Лучше без них. Будем делать свое дело, а там — что Бог даст!
7 марта. Удачный день. Только один раз останавливались из-за лопнувшего буксира «Блестящего». И то — ненадолго. Суточное плавание 187 миль, т. е. 7,8 узла.
8 марта. В 5 ч. 45 мин. утра сигнал — «Начать погрузку угля». — В 7 ч. 15 мин. утра подошел к борту «Суворова» первый груженый баркас. В 4 ч. дня сигнал — «прекратить погрузку угля». — Поднимали шлюпки, собирались в строй очень долго. Ход дали только в 7 ч. вечера. Итого простояли на месте 13 1/4 часов, из которых собственно погрузочных было 8 3/4, а 4 1/2 часа ушло на подготовительные и заключительные работы. «Суворов» принял 206 тонн, что дает скорость в рабочий час около 24 тонн.
Не слишком блестяще, особенно принимая во внимание, что погода благоприятствовала — слабый W и небольшая зыбь. Что делать — никогда этому не учились. Все — в первый раз. Будем надеяться, что дальше пойдет лучше. Около 10 ч. вечера слева и сзади увидели какие-то огни, вскоре скрывшиеся. Минеры утверждают, что получаются какие-то телеграммы, но разобрать в них ничего нельзя. Не разряды ли атмосферного электричества? — А впрочем — кто знает?
9 марта. В общем — ничего. Только уж очень часто рвутся буксиры.
11 марта. Все благополучно. Вечером, до восхода луны, «Олег» убедительно доносил, что видит какие-то суда без огней, догоняющие эскадру, как будто даже различает пламя, вырывающееся из трубы миноносца. Пока не взошла луна и не посветлело, все оставались на местах, как по тревоге. Однако — ничего подозрительного не случилось. Надо полагать — померещилось.
12 марта. За ночь повреждалась «Камчатка», но ненадолго. У «Сисоя» и у «Нахимова» сильно сдают холодильники. Средняя скорость за сутки всего 7 1/2 узла. Зато Николай Угодник (должно быть, специально для нас, так как в лоции не указано) устроил попутное течение — 22 мили. Тихо; облачно.
13 марта. В полдень были в 200 милях к югу от Peros Banos (архипелага Chagos). Под утро, завтра, будем проходить Addu-Atoll всего в расстоянии 60 миль. Едва ли не самое удобное место для минной засады со стороны японцев. — (Вечером). Изрядно свежо. Не милость ли Божия? — В такую погоду против судов на ходу никакая минная атака успеха иметь не может.
14 марта. Стихает. Осталась крупная зыбь. Все утро посвятили маневрированию. Перестроение в боевой порядок и некоторые эволюции (правда, самые элементарные) прошли недурно. Каши не было. Как будто кой-чему получились. Плавание всего 165 миль, так как попутного течения не оказалось. Вечером впереди видели какие-то огни.
15 марта. Совсем тихо. Даже зыбь незначительная. С 6 ч. утра начали грузить уголь. В этом деле заметен прогресс. И приготовления, и уборка после погрузки идут много успешнее. Что касается скорости самой погрузки, то, благодаря разным приспособлениям, а главное — приобретенной сноровке, — она почти удвоилась. «Суворов» грузил по 43 тонны в час! Плавание 144 мили. Течение, вопреки указаниям лоции, 14 миль на N. Обидно. Совсем не по дороге.
16 марта. Все спокойно. Штиль; невысокая, очень отлогая зыбь. Грузили уголь. Погиб паровой катер «Сисоя». По счастью, обошлось без человеческих жертв. Дело было так. После нескольких рейсов с буксирами катер подошел к броненосцу, чтобы принять пресную воду и уголь, и здесь, вследствие неудачного маневра, прижавшись к борту броненосца, попал кромкой своего борта под башмак стрелы сетевого заграждения. Броненосец, качаясь на зыби, как раз склонялся в это время в его сторону; катер накренило; он черпнул всем бортом, как говорят, «захлебнулся» и пошел ко дну. Люди успели выскочить. К вечеру засвежело от S. 7 лет тому назад в этот день великий князь Кирилл Владимирович собственноручно поднимал на Золотой горе в Порт-Артуре русский флаг… Печальный юбилей… Или отошла в область полузабытых преданий гордая резолюция Николая I: «Где раз поднят русский флаг, там он уже никогда не спускается»?.. Как больно и грустно…
17 марта. В 9 ч. утра пересекли экватор. Хорошо, что не упустили сносных условий погоды и грузились углем «по уши», — после полдня задул NW баллов на 5, и разошлась волна.
23 марта. В 6 ч. утра увидели Большой Никобар. Взяли курс в середину между Никобар и Пуло Брасс. Вступаем в Малаккский пролив. Любопытно: выследили нас японцы или нет? Случаев было много. С полдня вступили в пролив и легли курсом вдоль берега Суматры. Сказывается близость земли. Температура поднялась немного — градуса на два, — но влажность резко повысилась. Душная, тягостная жара. Если даже выследили, вряд ли можно ожидать здесь встречи с главными силами и решительного боя. Для них же было бы невыгодно уходить так далеко от своей базы, когда мы сами идем туда. Вероятнее всего внезапные нападения, так сказать, партизанская война. Сообразно этому для похода проливом приняли такой порядок: посредине — транспорты в строе двух колонн; впереди — разведчики с «Жемчугом» и «Изумрудом»; по сторонам — отряды линейных судов; в замке — крейсера. Миноносцы снялись с буксиров, идут под своими машинами, заняв места по диспозиции. Настроение бодрое, даже задорное, как в шахматной игре при смелом ходе, рассчитанном на «зевок» противника. — С 8 1/2 до 10? вечера стояли на месте, — у «Орла» лопнула паровая труба.
24 марта. Ночь прошла спокойно. С утра пасмурно. Около 8 ч. утра — ливень с грозой. До полдня — серенькая погода и дождь. Потом — разъяснило. Ночью был один встречный пароход. Быстро свернул в сторону, как только «Жемчуг» осветил его прожектором. За день попалось еще несколько. Любопытно: куда идут? как скоро будут в порту? т. е. другими словами — как скоро телеграф разнесет по свету известие, что мы идем Малаккским проливом?.. Если японцы прозевали, то успеют ли предпринять что-нибудь?..
25 марта. Ночь прошла тихо. Погода мглистая. Встречные все чаще и чаще. Более нервные корабли только и делают, что «усматривают неприятеля».
С «Алмаза» сделан сигнал, что адмирал, командир, офицеры, находившиеся на мостике, и сигнальщики — все ясно видели 12 миноносцев, прятавшихся за пароходом British-Indian Сo и затем удравших на NO. Странное донесение. Вероятно, японцы приходили предупредить нас, что они здесь и чтобы ночью мы были осторожнее. Иначе такого маневра не объяснишь. «Олег» чаще всех видит подозрительные вещи. Предупреждал о подводных лодках.
Около 2 ч. ночи пройдем One fathom's bank. На мой взгляд, из всего пути самое удобное место для ночной атаки. Почти вплоть до рассвета будем идти фарватером, который временами суживается до 5 миль. Дорога — только одна. Серьезная ночь.
26 марта. Все — all right! Было много встречных, но ничего подозрительного. Пока воздержимся от заключений. Что еще скажет следующая ночь… Узкости пройдены. Подходим к Сингапуру. Кругом — глубоководные проливы, множество островов. Есть место для маневрирования в бою. Возможно внезапное появление линейных судов неприятеля. В 11 ч. утра перестроились в прежний походный порядок, более удобный для развертывания в боевой (т. е. транспорты — сзади, самостоятельно). Около 2 ч. дня проходили маяк на островке Raffles. Сингапур — как на ладони. На рейде — два английских крейсера. В полном составе, никого не растеряв в дороге, торжественно шествуем мимо, вступая в воды Тихого океана. Эффектная минута!.. На броненосце всё как-то притихло…
— Через несколько минут телеграф сообщит всему свету… — словно про себя, но, как мне показалось, слегка дрогнувшим голосом проговорил адмирал, стоявший на левом крыле мостика и пытливо вглядывавшийся в даль по направлению к городу.
Командир «Суворова» капитан 1-го ранга И. неожиданно нарушил торжественное настроение, весело расхохотавшись.
— Фриментль-то! Вот ахнет! Ведь он нас считает теперь к югу от Австралии! Богатейший трюк! — восклицал он.
И всем вдруг стало тоже удивительно весело. Смеялись даже сигнальщики, из уважения к начальству прикрывавшие лица биноклями…
Из Сингапура на пересечку курса эскадры выбежал маленький пароходик под флагом русского консула. Хоть и лестно было бы повидать его лично, узнать все новости, но для этого пришлось бы останавливать эскадру. Ограничились тем, что командировали один из миноносцев принять депеши и затем на ходу (это было организовано) передать их к нам. Сдав пакеты миноносцу, пароходик догнал эскадру и некоторое время шел рядом с «Суворовым». Консул кричал, что им собраны все газеты, какие попались под руку в этой спешке; кой-каких, может быть, нет, а потому главнейшие новости он передавал в рупор.
Между прочим, оказывается, что всего три дня тому назад японские крейсера заходили в Сингапур, а теперь, по имеемым сведениям, их эскадра ушла на север Борнео. Похоже, что нас начисто прозевали.
В 7 ч. вечера прошли маяк на острове Pedro Branco. Впереди — Южно-Китайское море.
27марта. Ночь прошла спокойно. В 6 ч. утра застопорили машины. Миноносцы (их уже не ведут на буксире) принимали уголь. В 11 ч. утра тронулись дальше.
28 марта (2 ч. пополуночи). Вчера за день так выспался, что теперь сон не берет. Думаю, если даже японцы собираются напасть, то все же раньше, как завтра, мы их не увидим, — от Лабуана на пересечку нашего курса 600 миль. Возможно, что близко бой. Внимательно прислушиваюсь к собственным мыслям, припоминаю разговоры офицеров между собой, стараюсь дать себе отчет в господствующем настроении… Ничего — настроение бодрое, спокойное… Пожалуй, даже слишком много спокойствия — почти равнодушие к собственной судьбе; а ведь с этой судьбой тесно связана и судьба нашего дела… Явный результат переутомления. Устали все мы. Нервы притупились. Отдых невозможен. Ну, так скорее бы конец… Наш спешный выход с Мадагаскара изрядно всех подбодрил. Удачный проход Малаккским проливом тоже вызвал немалый подъем духа. Дух бодр. Это чрезмерное спокойствие, почти равнодушие, почти подавленность, которых нельзя не отметить, являются результатом причин чисто физических. В бою все встряхнутся, и дух вступит в свои права. На бой нас еще хватит. Хотя… нельзя передерживать — силы на исходе… Чтобы скоротать время, читал переводный роман «Жертва Авраама» из времен бурской войны какого-то Ионсона, должно быть, участника самой войны. Странное дело, нашел много мыслей, которые и мне приходили в голову в Порт-Артуре, особенно после первых столкновений с неприятелем. Так, на пример, эти слезливые «ахи» и «охи» по поводу участи бедных раненых. Я не говорю про офицеров, свободно, по доброй воле избравших военное дело, а значит, и войну со всеми ее последствиями, своим ремеслом, — нет, я говорю только про нижних чинов, служащих по призыву, обязанных служить, вне зависимости от их склонностей. Здорового парня берут из его семьи, везут за 10 000 верст, заставляют драться с неведомым врагом, неведомо за что, а когда он, израненный, окажется на койке госпиталя — сердобольные особы поят его чаем, угощают вареньем и «так жалеют бедненького»!.. Я ничего не имею против чая с вареньем и всяких других удобств, но эта жалость кажется мне глубочайшим лицемерием. Мало того, она, эта жалость, обидна для раненых.
Их страдания заслуживают более серьезного отношения. Человека послали на смерть и увечья, а когда это случилось — его жалеют!.. Да разве он не вправе сказать: «Не оскорбляйте меня вашим запоздалым состраданием! Раньше надо было думать об этом! Если бы не мне, а тем, что теперь проливают слезы, самим пришлось идти на войну, если бы не было у них под рукой всегда готового пушечного мяса, — они были бы осторожнее!»… Это верно — «были бы осторожнее» — но никакая осторожность не в состоянии коренным образом устранить самую возможность войны, а значит — и смерти, и увечья сотен тысяч людей.
И вот — мы опять лицом к лицу с вечной, неразгаданной тайной, перед завесой, скрывающей от пытливого ума человека роковой смысл войны… Я не верю мечтателям, которые надеются, что со временем войны прекратятся. Война такое же стихийное явление в жизни органической, как ураган, землетрясение — в жизни неорганической. Автор романа тщетно пытается разрешить эту загадку и оставляет вопрос открытым; но странно, что и другой, попутный, вопрос он считает неразрешимым: «Может ли истинный христианин идти на войну с тем, чтобы убивать себе подобных?» Эта мысль красной нитью проходит через всю книгу, иллюстрирована массой текстов из Писания, но ответа на нее нет, а между тем, мне кажется, он существует. На первый взгляд какое жестокое противоречие: с одной стороны — все христианские церкви (всех вероисповеданий) признают присягу на верность воинскому долгу, имеют установленные каноническими правилами молитвы и даже целые богослужения о «победе и одолении» врага, с другой — не только подходя к причастию, не только участвуя непосредственно в пасхальном крестном ходе, но даже входя в преддверие алтаря (официально миряне лишены права входа в сам алтарь, — они могут быть только в ризнице или в жертвеннике), подходя к Плащанице для поклонения, всякий военный обязан снять оружие. Значит, оружие не терпится в «месте святе»? Но как же призывают на него благословение Божие?.. Мне думается, противоречие падает, и ответ на вопрос является сам собою, стоит лишь поставить его иначе: «Может ли истинный христианин идти на войну с тем, чтобы, жертвуя собственной жизнью, защитить себе подобных от врага, идущего извне?» Ответ ясен — не только может, но и выполнит этим свой священный долг, так как «больше сея любве никто же имат, иже душу свою полагает за други». Война наступательная, имеющая целью покорение народов, захват их имущества, — противна Христову учению, но защита Родины, жертва собственной жизнью за благо ее — святой подвиг любви и самоотвержения. Однако довольно философии.
28 марта, 2 часа дня. Сегодня утром, совершенно неожиданно (и притом впервые) был приглашен к адмиралу на совещание. Кроме меня, присутствовали только флаг-капитан и лейтенант С. Думаю, что приглашением обязан последнему. Адмирал начал с заявления, что присутствующие в курсе дела, и просил их высказать свое откровенное мнение. В отношении ко мне это было не совсем правильно, так как я не состоял в числе посвященных в тайны штаба и если знал больше, чем другие офицеры «Суворова», то лишь из отрывочных и часто уклончивых сообщений лейтенанта С. да из разговоров за адмиральским столом.
Флаг-капитан говорил довольно пространно и довольно неопределенно. Насколько я его понял, он указывал на необходимость закончить стратегическое развертывание сил и затем действовать, сообразно полученным сведениям о дислокации сил неприятеля. На мой вопрос, что понимать под «стратегическим развертыванием сил», — я получил ответ, что 25 марта адмирал Небогатов со своим отрядом вышел из Джибути. Оказывается, эта новость была доставлена консулом при нашем проходе мимо Сингапура.
— Неужели все-таки послали?.. — Без рандеву? Так? На авось? На Миколу?.. — не удержался я.
Адмирал ничего не ответил, только нахмурился и ниже опустил голову, а лейтенант С. проворчал мне на ухо: «Сорвалось! — не удалось удрать! Они сильнее… Плетью обуха не перешибешь! Мы их — донесением, а они нас — предписанием!..»
Новость сильно меня поразила, и, признаюсь откровенно, в первый момент я растерялся… — Небогатову приказано идти quand m?me… Нам посчастливилось обмануть бдительность предприимчивого врага… Взяли «на номер» (в рулетке), но нельзя же надеяться взять и второй раз подряд… К тому же мы — все-таки сила — пять хороших броненосцев, один броненосный и три легких крейсера, не считая старцев… А у него? у Небогатова? — сплошь рухлядь!.. Что делать?.. Ждать? Невозможно!.. Идти вперед, а его бросить на произвол судьбы — пусть выкручивается, как знает? — не по-товарищески… Однако, если мы пойдем вперед, осмелятся ли японцы разделить свои силы, оставив здесь, на юге, отряд, достаточный для верной победы над Небогатовым?.. Вряд ли!.. Они любят действовать наверняка, а ведь наш успех, хотя бы и неполный, в Японском море будет для них страшным ударом… Если же здесь оставят только кое-что и, допустим, при удаче для них, подобьют Небогатова? — он укроется в нейтральные воды, в худшем случае — разоружится… Ну и Бог с ним!.. Конечно — вперед!..
Все эти мысли с быстротой молнии проносились в моей голове за время короткой паузы, в течение которой адмирал, чертя что-то карандашом на листе бумаги, изредка вскидывал на меня глаза, ожидая, когда я заговорю.
Я высказал громко то, что думал, подтвердив невозможность задержки теми соображениями, которые ночью заносил в свой дневник: надо использовать тот подъем духа, который вызван удачным походом через океан и счастливым проходом Сингапурского пролива, тот подъем духа, который победил переутомление, всех сделал бодрыми, сильными и здоровыми; не надо обманываться — это не может тянуться долго; физическая усталость возьмет свое; наступит реакция тем более глубокая, чем выше был первый подъем; передерживать нельзя… Вперед! и — будь что будет!..
После меня говорил лейтенант С. Он высказался крайне категорично.
— По пути во Владивосток нас, несомненно, ожидает решительное сражение с победоносным японским флотом, уже уничтожившим первую эскадру, которая была сильнее нас. С нашей стороны выступят утомленные долгим плаванием и тревожными ожиданиями корабли, никогда не бывшие в бою, никогда не испытавшие разрушительного действия меткого артиллерийского огня противника. В этом сражении (не надо закрывать глаз) мы понесем жестокие потери, если… не будем уничтожены вовсе… Надеяться проскочить, надеяться на благоприятную погоду, на промах неприятеля, на удачу?.. — возможно ли? — когда за всю войну счастье упорно стоит на стороне японцев… Допустим даже, что остатки эскадры доберутся до Владивостока. Что они будут там делать? Ждать очереди ввода в единственный док? А откуда возьмутся боевые и всякие другие припасы, когда Сибирская дорога «с трудом удовлетворяет нуждам армии»? Где будут в то время наши транспорты и что будет делать небогатовский отряд судов археологического состава?.. Кто же при таких условиях будет «владеть морем» — задача, поставленная телеграммой за № 244?.. — Что же делать? Отвечу резко: воспользоваться эффектом, который, несомненно, вызвало наше появление в Южно-Китайском море в полном составе и без потерь и поспешить с заключением почетного мира. Надеяться на успех дальнейших морских операций —… мечтать о чуде… К сожалению, принятие такого решения от нас не зависит. Жаль…
Адмирал не только не высказал своего личного мнения, но даже не подавал никаких реплик. Мне показалось, однако (может быть, я ошибаюсь), что он сочувственно отнесся к моему предложению, а также с каким-то особым выражением пристально смотрел на лейтенанта С, когда тот произносил заключительные фразы своей речи. Очевидно, здесь была замешана тайна «весьма секретной» корреспонденции, известной только им двоим…
Остаток дня прошел без приключений.
29 марта. Около 6 ч. утра справа, контр курсом и довольно близко, прошел «Cressy» (английский броненосный крейсер), салютовал флагу адмирала. Отвечали тем же числом выстрелов.
Около 8 ч. утра слева, тоже контр курсом, разошлись с другим английским крейсером. Этот был в ближайшем расстоянии, милях в 5.
Больше англичан не видели, но слышали телеграфные переговоры нескольких их судов. (С их манерой телеграфировать наши минеры хорошо ознакомились по пути из Виго в Танжер и Дакар.) Совершенно ясно — английские крейсера в роли японских разведчиков.
Много встречных и попутчиков. Неудивительно — мы на большой дороге между Сингапуром и Гонг-Конгом.
Идем в полу боевом порядке, готовые окончательно перестроиться для боя при первом известии о появлении врага. Разведочный отряд под начальством капитана 1-го ранга Шеина («Светлана», «Кубань», «Терек», «Урал», «Днепр» и «Рион») идет впереди эскадры, рассыпавшись дозорной цепью.
Около 11 ч. утра госпитальный «Орел» опустили в Сайгон для пополнения запасов. Секретным предписанием командиру назначено рандеву — бухта Камранх. Если не найдет там — искать соединения с эскадрой, по способности, руководствуясь сведениями, какие удастся собрать, или приказаниями из Петербурга.
Около 5 ч. вечера «Светлана» телеграфировала: «Вижу неприятеля». Тревога. Послали к ней «Жемчуг» и «Изумруд». Ничего. По-видимому, ошибка.
К ночи вернули разведчиков, которые, как обычно, выстроились впереди эскадры в строе двойного фронта, в шахматном порядке с «Жемчугом» и «Изумрудом» на флангах.
«Терек» донес, что под вечер какой-то благожелательный встречный купец сообщил ему, будто видел отряд миноносцев к востоку от нашего курса. Не их ли заметила «Светлана»?..
В начале 11 ч. вечера у «Наварина» повредилась правая машина. Ползли по 4–5 узлов, и все-таки «Наварин» отставал. Через час поправился. Дали 8 узлов. («Наварин» был отставши — мили на 2 позади концевого корабля.)
30 марта. «Наварин», видимо, поторопился донести о своей исправности, так как только к 2 ч. ночи вступил в свое место. Дали эскадренный ход — 9 1/2 узла.
Ночь прошла спокойно. С рассветом застопорили машины и приступили к погрузке угля. Меня это удивило. До Камранха — всего 60 миль. Почему? Странно… И адмирал сегодня какой-то странный, непоседливый, неразговорчивый, раздражительный… Нервной походкой, широко шагая, слегка приволакивая ногу, появляется то на одном мостике, то на другом, ненадолго скрывается в своем помещении, снова бродит по юту, справляется с записной книжкой, что-то отмечает, то хмурится, то улыбается (первое чаще), словно сам с собой разговаривает.
— Что это с «нашим»? Муха укусила или вожжа под хвост попала? — обратился ко мне лейтенант В. (младший минер).
Я не нашелся, что ответить.
Того же числа (перед завтраком). Адмирал долго говорил с флагманским штурманом. О чем — неизвестно. Однако штурман прибегал в рубку за генеральной картой «от Гонг-Конга до Владивостока». Затем (у адмирала) интервью, весьма оживленное, со старшим механиком. Приказание запросить транспорты: у кого сколько угля для эскадры. Запрос: исправны ли котлы и механизмы для дальнего похода. В ответ почти все просили разрешения кое-что перебрать и пересмотреть, но в срок нескольких часов; самый долгий срок заявил «Наварин», но и тот обещал быть готовым к 3 ч. пополудни. Мне кажется, что решается судьба эскадры, наша судьба… Лейтенант С. того же мнения.
Что вы думаете? — спросил я его. — По-видимому, «наш» решил попытаться махнуть прямо во Владивосток. Это — идея. Японцы нас прозевали — факт несомненный. Пусть след нашелся. Но какой? Скажем: завтра же англичане сообщат им, что видели нас идущими к берегам Аннама; госпитальный «Орел» придет в Сайгон — лишний намек на то, что мы поблизости. Пока разберутся — мы уж пройдем Формозу.
Вы знаете мой взгляд на положение дел, — ответил С, — но если он неосуществим, то я, конечно, присоединяюсь к вашему. Вперед! На поход, даже на бой, в данный момент у публики еще хватит пороху. На ожидание — нет. Скиснут, сдадут… И уж если вперед — то теперь же! И главное — отсюда же, с моря, не заходя ни в какую бухту, не вступая в телеграфные сношения!.. Там, — он злобно погрозил кулаком по направлению к Сайгону, — наверно, уж лежат директивы, написанные высоким слогом, в которых главную роль играет упование на силы небесные!.. Пока они нас не достигли — руки развязаны. А станем на якорь — все к черту! Повиснем на телеграфной проволоке! (Как оказалось впоследствии, лейтенант С. был глубоко прав, 3/16 апреля агентство Гаваса разослало по всему миру следующую телеграмму из Петербурга: «Рожественский будет ожидать Небогатова». Очевидно, это не могло быть решением адмирала, но было решением Петербурга, принятым немедленно по получении известия о прибытии эскадры в Камранх. Не говоря про само решение, какая преступная болтливость!)
За столом адмирал, против обычая, ни с кем не заговаривал. Тотчас после завтрака ушел в свой кабинет. Около 1 ч. пополудни неожиданно появился на верхнем мостике и приказал потребовать, чтобы все суда немедленно, по точному обмеру угольных ям, донесли о наличии угля. Распоряжение совсем необычное, казалось бы, даже излишнее (Ежедневно утром все суда сигналами показывали «утренний рапорт», заключающий в себе сведения о наличии к 8 ч. утра угля, пресной воды, числе больных и арестованных, о температуре в погребах и т. п. Вторичный запрос о том же, в тот же день, являлся только контролем).
«Ну, — подумал я, — видимо, решился. В добрый час!» Как и следовало ожидать, все показывали на 100–150 тонн больше, чем при утреннем рапорте. Только «Александр» что-то медлил ответом. Сделали ему напоминание. Наконец ответил… Смотрим — ничего не понимаем… Заработал семафор: «Нет ли ошибки в сигнале? Вы показываете на 300 тонн меньше, чем утром!» — Увы! — оказалось, что этот сигнал совершенно верен, что ошибки в нем нет… Наоборот — им исправляется целый ряд ошибок, допускавшихся при показывании утреннего рапорта… Наличие там определялось обыкновенно не обмером угольных ям, а списыванием суточного расхода с запаса, числящегося по журналу и состоящего из угля, принятого в Носи-бэ и до принятого в пути во время погрузок в море, которых, не считая сегодняшней, было пять. В результате — просчет, т. е. нехватка — 400 тонн.
Конечно, возможны были ошибки, как при записи расхода, так и в приемных отметках, но не в равной степени. Расход ведется систематически из часа в ч. На второй эскадре, на которой уголь являлся условием sine qua non ее существования, особенно строго предписывалось отпуск его в кочегарки производить не прямо из угольных ям, а мерными кадками, под строгим контролем, для чего в помощь механикам назначался с вахты мичман или прапорщик запаса. Целью этой меры было — каждый пуд угля держать на учете. При этом способе старшему механику предоставлялась также возможность строго контролировать работу подведомственных ему чинов. Если бы расход угля в течение одной вахты резко разнился от такового же расхода в течение другой, он должен был бы личным присутствием убедиться, не вызывается ли такое обстоятельство неумелостью или небрежностью кочегаров, восполняющих недостатки плохого горения, зависящего от ухода за топкой, усиленным подбрасыванием топлива. Словом, записи расхода, конечно, не были чужды погрешностей, но вряд ли могли бы дать такие результаты. Другое дело — запись прихода, которая велась при «авральной работе», при страшной спешке, при общем желании быть впереди других, отличиться…
Во избежание недоразумения считаю долгом оговориться, что о каких-либо денежных интересах отпускавших и принимавших уголь в данном случае и речи быть не может. Уголь был наш, казенный, давно оплаченный в Петербурге. Лежит он на транспорте или на боевом корабле — все равно — никакого процента с его стоимости никто на эскадре получить не может. Если счетчики «Александра», выводя средний вес мешка с углем, склонны были прикинуть, а не откинуть сомнительные фунты, то это вызывалось лишь (правда, близоруким) стремлением прославить свой корабль, но отнюдь не корыстными побуждениями
— 400 тонн нехватки! Вот они — первые премии за скорость погрузки в море, постоянно обиравшиеся «Александром»! По 80 тонн на каждую погрузку!.. 400 тонн!.. Ведь если пополнять их в море — два, а то и три дня потеряно!.. Да и возможно ли? Где японцы? Может быть, под боком? Кто знает?..
Значит — идти в Камранх и там — «повиснуть на телеграфной проволоке»?..
Мне было тяжело, почти… жаль смотреть на адмирала… Он, не раз, даже по пустякам выходивший из себя, грозивший кулаком какому-нибудь кораблю, ошибшемуся в исполнении маневра, посылавший по его адресу самые нелестные эпитеты (благо там не слышат и не видят за дальностью расстояния), — теперь не проронил ни слова… Как-то сгорбившись, судорожно ухватившись руками за поручень, он стоял на крыле мостика, из-под сдвинутых бровей пристально всматриваясь в сигнал, трепавшийся на ноке фор-марса-реи «Александра», словно не веря глазам…
Пояснения, данные по семафору, не оставляли места никаким сомнениям. Мы ответили: «Ясно вижу». «Александр» спустил сигнал.
Адмирал точно очнулся, махнул рукой и пошел вниз…
И ты, Брут!.. — с горькой улыбкой промолвил лейтенант С., оглядываясь на «Александра», который он, как многие другие (и я в том числе), всегда считали образцовым кораблем в эскадре. — Ну, что скажете? — добавил он, обращаясь ко мне.
Что ж сказать? Не везет!..
Очевидно, идея прямого похода во Владивосток рушилась…
Мне кажется, несколько знакомый с характером адмирала, который, при всей его энергии, не был, до известной степени, чужд фатализма, — я угадывал его решение — «Не судьба!..»
В начале 3-го часа пополудни стали получаться (на приемном аппарате беспроволочного телеграфа) какие-то телеграммы. По манере — не похоже на английские. Переговаривающиеся приближаются (На аппарате легко заметить — приближается или удаляется телеграфирующий). Тотчас прекратили погрузку, собрали команду, подняли шлюпки, построились по дневной походной диспозиции, наиболее удобной для перестроения в боевой порядок. После 3 ч. пополудни телеграфирующие начали удаляться. В 4 1/2 ч. дня взяли курс на маяк Padaran (на подходе к бухте Камранх).
31 марта. Ночь прошла спокойно. Около 7 ч. утра были у входа в бухту. Застопорили машины. Послали миноносцы протралить место предполагаемой стоянки эскадры (как знать, чего не знаешь?), а минные катера — поставить вешки согласно диспозиции, чтобы избежать путаницы и позднейших перестановок, столь возможных, и даже естественных, при слабости организации «армады». В ожидании выполнения этих подготовительных работ грузили уголь, чем в особенности рекомендовано было заняться «Александру».
С часу дня один за другим, по порядку номеров диспозиции, начали входить в бухту транспорты. Несмотря на поставленные вешки и самые подробные указания, дело затянулось так, что боевым судам не успеть было войти засветло. Приходится еще ночь провести в море.
В 4 ч. пополудни, прибравшись после угольной погрузки, построились по особой диспозиции для прикрытия Камранха и подходов к нему от покушений неприятеля, а именно: поотрядно, уступами, лежа курсом SO 10 градусов, причем самый правый и южный отряд составляли крейсера, позади них и левее — броненосные отряды, а в хвосте и восточнее всех прочих — разведочный отряд. Расстояние между ближайшими кораблями смежных отрядов — 2–3 мили. До 6 ч. вечера шли малым ходом. Потом застопорили машины, повернулись носами в море. Течением нас слегка относит на север, так что к утру опять будем своим центром против входа в бухту. Непосредственно сам вход охраняют миноносцы.
Ночь наступила тихая и ясная. Видимость вполне удовлетворительная. Всякую попытку минной атаки можно обнаружить своевременно, а свобода для маневрирования — полная.
1 апреля. Ночь прошла спокойно. Только во 2-м часу появился какой-то небольшой пароход, шедший с севера на юг и державшийся между нами и берегом. К нему немедленно подошли миноносцы, а также «Жемчуг»; осветили, осмотрели. Оказался — товаро-пассажирский, каботажного плавания, под китайским флагом. Провожали его до пределов видимости, освещая лучами прожекторов, — наилучшее средство, чтобы с него ничего не видели.
В 11 ч. 30 мин. утра вошли в Камранх и стали на якорь по диспозиции.
Всего пройдено от Носи-бэ — 4560 миль, никуда не заходя. Факт беспримерный. Как бы англичане не лопнули от зависти! Прибыли благополучно, в полном составе, никого не растеряв в пути… А, кабы не «Александр», могли бы, чего доброго, отхватив тем же махом еще «полстолька», быть через две недели во Владивостоке!.. Досадно!
Настроение заметно приподнятое. Зашел в кают-компанию. Там ораторствует Б. (старший минер).
— Худо ли, хорошо ли, а от Кронштадта — 16 628 миль! Недурной кусок! И в полном составе! Зиновию — честь. Кому другому по плечу? — Дубасов да Чухнин, а там — хоть шаром покати!
Переход действительно недурен. Однако, если прикинуть по арифметике, выходит, что, исключив из общего срока время, потраченное на погрузки угля, получается средняя скорость 180 миль за ходовые сутки (в этом же счете и попутное течение), т. е. 7 1/2 узла. Исключив течение — 7 узлов. Это наш — sea speed (Читатели могут спросить: — Почему же? — Ведь самые плохие из транспортов и те были законтрактованы, как 10-узловые? Отвечу: из-за поломок, повреждений и недостатка подготовки к такому походу, которые вызывали непредвиденные задержки в пути.). Неутешительно…
Немедленно по постановке на якорь приступили к привязыванию сетей. (На поход были отвязаны.)
Пришли и почти одновременно с нами вошли в бухту 4 угольщика (Hamburg — America — Linie). Это около 30 тысяч тонн. Эх, кабы погрузиться и удрать без вступления в сношения с Петербургом!
Днем дул свежий бриз. К вечеру стих. Ночью — мертвый штиль. Два крейсера держатся перед входом, образуя световую преграду; 4 миноносца — в дозоре; 6 минных катеров — в сторожевой цепи.
На этом я прекращаю дословные выписки из моего дневника о походе через океан и дальше буду передавать его содержание своими словами, опуская неинтересные технические подробности, пополняя и разъясняя краткие заметки, много говорящие мне, но малопонятные широкому кругу читателей.
IX Игра судьбы. — Адмирал Жонкьер. — Выселение в 24 часа. — Начало скитания у берегов Аннама. — Журнал «скитания». — Настроение на эскадре. — Слово «невозможно» существует. — Агония армады. — Победителей не судят. — Сведения об японцах. — «Под гору, чем дальше, тем круче…»
2, 3 и 4 апреля усиленно перегружали уголь с немцев на боевые суда, а затем на эскадренные транспорты.
2 апреля пришел из Сайгона госпитальный «Орел». Оригинальный случай, если угодно — игра судьбы. При проходе Малаккским проливом, ночью, на «Нахимове» пропал человек. Полагали, что упал за борт и утонул. Оказалось — иначе. За бортом он действительно очутился, но нечаянно или умышленно — сказать трудно. Скорее — последнее. Человек, внезапно сорвавшийся откуда-нибудь, непременно вскрикнет, но если бы даже у него дух захватило и крикнуть он не успел — все же в этот момент похода вахтенная и сторожевая служба неслись с таким напряжением всех сил, борта были до такой степени усеяны людьми, во все вглядывавшимися, ко всякому звуку прислушивающимися, что падение человека за борт могло пройти незамеченным лишь при условии, что им было выбрано для этой цели особо укромное место и особенно благоприятный момент. Вернее всего, видя огни города Малакка, считая берег совсем близко (ночью расстояния крайне обманчивы), он просто решил дезертировать, в надежде либо доплыть до берега, либо быть подобранным рыбаками или мимо идущим пароходом. К тому же, когда его подобрали, оказалось, что он держался на воде при посредстве спасательного круга, который случайно (по его словам) попался ему под руку…
Факт в истории войн не единичный. Очень часто человек явно рискует жизнью, даже покушается на самоубийство в данный момент, чтобы избавиться от страха перед будущей, только ожидаемой, смертельной опасностью. Мне по этому поводу невольно вспомнился случай в Порт-Артуре, когда один офицер был отправлен в Россию потому, что, побывав в нескольких делах, впал в нервное расстройство и с безумными глазами уверял и докторов, и ближайшее начальство, что «дольше ждать не может» и в следующем деле, при первых выстрелах, лишит себя жизни. На этот раз судьба зло посмеялась над злополучным беглецом. До берега он не доплыл (расстояние было все же около 6 миль), акулы его не съели, но, с другой стороны, и рыбаки его не подобрали. Попади он в Малакку или на пароход, идущий куда угодно, кроме Сайгона, — он, несомненно, избег бы службы на второй эскадре. Надо заметить, что Малаккский пролив очень бойкое место, и здесь всяких пароходов немало. Надо же было, чтобы после 11-часового пребывания в воде его принял на борт пароход компании «Messageries Maritimes», проходящий здесь только два раза в месяц и доставивший его в Сайгон, в распоряжение нашего консула…
С ближайшим транспортом, привезшим нам провизию, он прибыл на эскадру и был водворен на «Нахимов». Конечно, никакого суда над ним не состоялось, так как он утверждал, что упал за борт нечаянно, но все же избегнуть своей участи ему не удалось.
Того же числа (2 апреля) пришел в Камранх на крейсере «Desgartes» младший флагман французской эскадры в южнокитайских водах — контр-адмирал Жонкьер, с которым я познакомился еще на «Диане», в Сайгоне, полгода тому назад. Среднего роста, сухощавый, с сильной проседью, но необычайно бодрый и живой, как ртуть. Года? Сильно за сорок, пожалуй, даже пятьдесят, но энергия — впору молодому лейтенанту. Он был решительным сторонником того взгляда, что выступление Японии против России только первый шаг если не к полному изгнанию европейцев из Азии, то, во всяком случае, к замене господства белых гегемонией пан азиатского союза, общим знаменем которого будет знамя Восходящего Солнца.
— Я несколько не понимаю японцев, — говорил он, — но нахожу им оправдание в соображениях чисто географических, а главным образом в том, что их походы в Корею — это нечто вроде ваших походов на Константинополь, нечто, уходящее в глубь веков, вполне понятное их поголовно грамотному народу. Струна, играя на которой они могли вызвать взрыв народного одушевления, как у вас при войнах с Турцией. У вас — Олег, прибивший свой щит к воротам Константинополя, у них — Хидейоси… С чисто военной точки зрения им правильнее было бы действовать по линии наименьшего сопротивления, а ведь мы здесь, на Востоке, неизмеримо слабее вас! Под боком — Сиам, где наследный принц женат на японской принцессе, где из числа министров двое (из них один — военный) японцы, где армия вооружена японским ружьем, обучена японскими инструкторами, по японскому уставу, где склады боевых припасов одинаково могут служить и туземным войскам, и войскам радостно приветствуемого десанта… Чем располагаем мы здесь для защиты колонии? — смешно сказать… Я искренне верил, что первый удар будет направлен против нас! Впрочем, может быть, японцы, держащиеся мудрого правила считаться с психологией возможных противников, хорошо зная вас — неисправимых идеалистов, — не без основания думали, что вы не поступите подобно нашему правительству, а видя доброго союзника в опасности, навалитесь на них всей силой с севера?.. Возможно! И тогда я их понимаю. Чего я никак понять не могу — это уклончивых и нерешительных действий нашего правительства! Неужели они не в силах уяснить себе такой очевидности, что ведь после вас — наша очередь? — Что отказываясь, в угоду Англии, от нашей первоначальной декларации о нейтралитете, полу соглашаясь со вновь объявленными дополнительными правилами, они себе же роют яму в будущем! В случае войны мы окажемся, если эти принципы утвердятся, почти такими же бесприютными, как вы!.. Во всяком случае, верьте, что мы, работающие здесь, на месте, понимающие положение вещей, мы, сколько в наших силах, мы — верные ваши союзники, не только по дружбе, о которой так много говорили перед заключением договора (помните: сначала entente cordiale, потом nati on amie и лишь наконец — nation alliee), но самые верные союзники — по расчету!
3 апреля пришел «Eridan», первый пароход из Сайгона, доставивший нам свежую провизию и зелень. Зеленые щи! Оцените-ка это после целого месяца всякой «консервятины», как выражались в кают-компании!.. На том же пароходе прибыли лейтенанты К. и М. и машинист-воздухоплаватель.
Последние двое сидели в Порт-Артуре до самого конца. В качестве больных не были забраны в плен, но эвакуированы в Шанхай на попечение русского правительства. Оправившись от болезней, устремились на вторую эскадру. Рассказывали нехорошие вещи, так что их «просили» (запрещение — было бы в наших обстоятельствах пустым звуком) не особенно распространяться, чтобы не подрывать и без того некрепкого духа.
По их словам, поведение Стесселя было весьма далеко от геройства. Единства, сплоченности не было. Настроение масс, подмеченное мною еще в июле, — недоверие к словам и заверениям «начальства» — только прогрессировало. Со смертью Кондратенко пал последний авторитет. Убеждение, что «начальство» только «отыгрывается» за счет пушечного мяса, что «все равно, не стоит», — росло и ширилось… В последние дни дралось не более 5000 человек, а сдаваться пришло совсем здоровых 23 000… Происходили ужасные сцены — драки, даже убийства, — мотивом которых было: «где ты, подлец, прятался?..»
Действительные защитники фортов, изнуренные голодом, одетые в лохмотья, не могли, придя в город, равнодушно видеть складов обмундирования и продовольствия, приготовленных к сдаче японцам «под оправдательные документы»… Многое было разбито, разграблено… Мимо! Мимо!..
Того же числа Жонкьер на «Descartes» ходил в бухту Натранх (около 20 миль к северу от Камранха) и на следующий день вернулся.
День 5 апреля прошел тихо и спокойно. Погода ровная: днем — свежий бриз, ночью — штиль. Ездил по поручению адмирала к Жонкьеру предупредить его, что завтра собираемся выйти в море для испытания кое-каких, частью исправленных, частью перебранных после долгого похода механизмов.
Оделся соответственно предстоящему визиту. На китель вместо обычного «Владимира» нацепил «Legion d'honneur». С первых слов заявил, что сам напросился на поручение, — хотелось увидеть его, который так сердечно отнесся к нашему крейсеру, гонимому судьбой (тут он меня перебил — «C'est pas la fatalite — c'est de la diplomatic!»), столько оказал дружеских услуг и мне, и другим офицерам «Дианы», и, наконец, ей самой… Хотя и не удалось осуществить — но не по его вине…
(Тут он опять замахал руками — «Pst! pst! si on nous entendrait a Paris…»), наконец, когда я почтительнейше доложил ему о служебной цели моего визита, он, с помощью всего арсенала любезных слов, просил благодарить адмирала за его предупреждение, которого он даже не смел ожидать, так как в военное время мотивы выхода в море — тайна, и если ему ее доверили — он может только гордиться доверием и т. д. К этому он добавил, как бы между слов, что через Натранх имел непосредственные сношения с высшим начальством, и «пока» он руководствуется правилами декларации о нейтралитете, объявленной при начале войны. По его мнению, мы ведем себя строго корректно, и цель его пребывания здесь — охранять территориальные воды Франции, главным образом от японцев, которые уже показали себя в Чемульпо и в Чифу. — «Я сумею сделать! Qu'on tire, qu'on vise meme, sur топ croiseur! Когда я без выстрела вынесу на границу наших территориальных вод французский флаг (les couleurs de la France)!»
Почему я так полюбил этого совсем мне чужого француза и никогда не забуду знакомства с ним, которое, если подсчитать в общей сложности, по хронометру, не превышало нескольких часов беседы?.. Может быть, оттого, что гонимым, отверженным так дорого смело и открыто сказанное слово участия?..
Enchante de vous voir et au plaisir de vous revour, — говорил он, прощаясь со мною. — Но если вам удастся, если… я не хочу загадывать! Тогда — наша декларация, от которой (Dien soit nenit) мы еще не отказались официально, — она воспрянет во всей силе, и ваша «Диана» выйдет на соединение с эскадрой! Vousy reviendrez, mon commandant? Hein?
Pour sur, mon Amiral! — отвечал я, горячо пожимая его руку…
6 апреля, в 8 ч. утра, обоими броненосными отрядами, прихватив из крейсеров «Аврору», вышли в море. Определяли девиацию компасов, немного маневрировали. Истинной целью выхода было — прикрыть отправку в Сайгон транспортов «Киев», «Китай», «Юпитер» и «Князь Горчаков», с которых уже было выбрано все, что возможно, и которые в дальнейшем плавании были бы нам только помехой. Между тем, придя в Сайгон и нагрузившись имевшимися там запасами кардифа, они могли представить собою плавучие базы для наших крейсеров, выходя к этим последним на назначенное рандеву по условной телеграмме. «Кубань», «Терек» и «Урал» были посланы конвоировать транспорты до их подхода к Сайгону, на случай появления японских вспомогательных крейсеров.
7 апреля. Грузили уголь. В 6 1/2 ч. вечера благополучно возвратились «Кубань», «Терек» и «Урал». Неприятеля не видели. Транспорты — в Сайгоне.
8 апреля. Около полудня приехал Жонкьер, крайне смущенный. Объявил, что по требованию французского правительства (союзники!) мы должны немедленно покинуть территориальные воды. Срок — 24 часа… Что делать! — битые всегда виноваты… Если бы под Мукденом был разгромлен Ояма — мы бы жили здесь припеваючи в ожидании прихода Небогатова… Ох, уж этот небогатовский отряд!.. Теперь мы знаем: приказано ждать его присоединения. «Закончить стратегическое развертывание сил» и… — дальше уповать на силы небесные. Не будь этого отряда, мы были бы теперь уже на полпути к Владивостоку с японцами, потерявшими наш след… А кто виноват? — стратеги, не только никогда не слышавшие свиста неприятельского снаряда, но даже пугливо удиравшие от самой возможности попасть в такое положение! Тот же Кладо, который вопиял: «Не спрашивайте Рожественского!.. Посылайте все, что можно!.. Не теряйте ни минуты, иначе будет поздно!.. Там дорог каждый корабль, каждая пушка!..» Так ведь в действительности дорог-то корабль, а не калоша! Дорога пушка, а не «дырка, облитая железом»!.. Горько и обидно не только выписывать, но даже и перечитывать эти строки моего дневника…
Перед отправлением транспортов в Сайгон, ввиду вполне определившейся невероятности возвращения на эскадру г. Кладо, его каюта была отперта, вещи и бумаги, в ней находившиеся, собраны флаг-капитаном, запакованы и сданы для препровождения по адресу через консульство.
— Ну? что я вам говорил? — обратился ко мне по этому поводу лейтенант С. — Вернется? — Не так глуп! А вот — помяните мое слово — сидя на мягком кресле, нас же будет критиковать! Он-то!.. Ну, да это — не важно. Растление — вот что обидно. Слепота общества — за нее стыдно. Я все время в корреспонденции, не теряю связи с Петербургом, знаю всю подноготную… Знаете ли вы, что г. Кладо все свое гражданское мужество проявляет в надежде на воздаяние? Весь его литературный вопль — перепев бирилевского доклада от октября (или ноября) месяца 1904 года! Доклада, в котором наш «боевой» адмирал (где только он воевал?) доказывает полную возможность и даже необходимость посылки нам в подкрепление всякой рухляди… Это ничего, что Клало сейчас в оппозиции. Это оппозиция не по существу дела, а личная. Свалят Авелана, посадят на его место Бирилева — тут-то Кладо и расцветет! Наверстает все протори и убытки… А «там-то» сбесились! — «почетный кортик»! Ха-ха-ха!..
Я никогда не видел его в таком возбужденном состоянии (Маленькая справка: ВЫСОЧАЙШИМ приказом по Морскому ведомству от 2 мая 1905 г. исключенный из службы капитан 2-го ранга Кладо, в правление адмирала Бирилева, вновь принят на службу, переименован «по адмиралтейству», произведен за «отличие» в полковники и ныне состоит лектором «Истории военно-морского искусства» в учреждаемой Академии Морского Генерального Штаба.
Ну, разве же лейтенант С. не оказался пророком?!).
9 апреля. Всю ночь спешно разгружали «Тамбов» и «Меркурий», а также немецких угольщиков и пароходы с провизией, прибывшие из Сайгона.
В 1 ч. пополудни (точно в 24-часовой срок) все боевые суда вышли в море. В бухте остались только транспорты да «Алмаз», которого самый придирчивый неприятель не решился бы зачислить ни в какой ранг боевых судов.
На «Суворове» состоялось собрание флагманов и капитанов.
Еще в Индийском океане (21 и 22 марта, в приказах за № 170 и 171) адмирал просил командиров ежедневно повторять наставления офицерам и комендорам о необходимости крайне осмотрительного и толкового расходования боевых запасов при встрече с неприятелем… разъяснять, что бестолковое бросание дождя перелетающих и не долетающих снарядов только веселит противника и служит ему наглядным поучением, как не надо стрелять… что заряжать надо быстро, а наводить очень тщательно… Но самая тонкая наводка бессмысленна, если установка прицела неверна…
Приказ этот предписывалось прочитать в присутствии офицеров и комендоров, но не ограничиться только чтением, а непременно ежедневно собирать их… для подтверждения и разъяснения важности неторопливой и осмысленной стрельбы… При отражении ночью минной атаки… сохранять полное спокойствие, чтобы не поражать своих. Крейсерам, охраняющим фланги, воздерживаться от стрельбы внутрь строя, если не представляется случая выстрелить под большим углом снижения и против промежутка между кораблями… Пока корабль не взорван, воспрещается выходить из строя, чтобы не произвести замешательства между задними мателотами, помня, что таковое очень выгодно для атакующего… Только взорванный и неспособный иметь эскадренного хода корабль должен выходить наружу походного строя, и в таком случае к пострадавшему должны подойти корабли, указанные в приказе № 159 (об этом приказе я упоминал уже в моем предисловии к дневнику похода через Индийский океан).
Среди других многочисленных распоряжений нельзя не отметить приказ от 2 апреля за № 178 — о мерах к предупреждению и отражению атаки подводными лодками и приказ от 3 апреля за № 182, в котором излагался схематически план действий в случае появления неприятеля в виду Камранха в значительных силах: «…я выйду в море… со мной будут главные силы эскадры, т. е. оба броненосных отряда, крейсера «Жемчуг» и «Изумруд» и 1-е отделение миноносцев, а также крейсерский отряд в составе — «Олег», «Аврора» и «Донской». Места «Жемчуга», «Изумруда» и миноносцев — те же, как указано для боевого порядка при встрече неприятеля в море. Назначение их — оберегать фланги линии броненосцев от минных атак. Место крейсерского отряда — за срединой линии броненосцев, в стороне, противоположной неприятелю и вне его перелетов. Назначение их — действовать против крейсеров неприятеля, пытающихся обойти фланги линии броненосцев и поставить их в два огня, а также прикрытие и оказание помощи судам броненосных отрядов, потерпевших от неприятеля или от аварии. При этом «Олег» и «Аврора» могут действовать и наступательно, если противник окажется им по силам, но «Донской», не обладающий должной скоростью хода, не должен увлекаться наступлением и должен держаться от броненосцев в таком расстоянии, чтобы всегда мог уйти под их защиту и не рисковал бы быть от них отрезанным».
«Для защиты транспортов от нападения на них крейсеров или миноносцев неприятеля… назначаются «Светлана», «Кубань», «Терек», «Урал», «Днепр», «Рион», 2-е отделение миноносцев, все минные катера и «Алмаз». С уходом главных сил все суда, кроме транспортов, снимаются с якоря (необходимо для Жонкьера, чтобы он мог донести: «Все ушли»). «Алмаз», тоже снявшийся с якоря, остается во внутренней бухте при транспортах (Жонкьер прямо сказал: «К этому придраться невозможно!»). Все выше перечисленные вспомогательные крейсера под общей командой и руководством начальника разведочного отряда капитана 1-го ранга Шеина («Светлана») выходят на внешний рейд и, в одной кильватерной колонне, держатся между мысом Камранх и о-вом De-la-Prise. Между ними и берегом — 2-е отделение миноносцев. Минные катера располагаются по западную сторону о-ва Танге…
«В зависимости от обстоятельств и сил неприятеля, начальник разведочного отряда (капитан 1-го ранга Шеин) или выжидает приближения неприятеля, или выходит в море для боя с ним перед входом в бухту, сохраняя, однако, всегда такое положение, чтобы неприятель не мог, в обход его, проникнуть к месту стоянки транспортов. Отдельные суда, пытающиеся произвести такой прорыв, атакуются миноносцами 2-го отделения, следующими при крейсерах, а при входе в самую бухту их встречают минные катера, которые до последнего момента не должны обнаруживать своего присутствия (Тут говорить о нарушении нейтралитета не приходится — он будет уже нарушен со стороны неприятеля фактом нападения на транспорты, стоящие в территориальных водах нейтральной державы).
Все оставленные эскадрою на воде паровые катера располагаются перед входом на внутренний рейд и следят за возможным появлением подводных лодок, которые уничтожают таранением. Если, несмотря на все принятые меры, неприятель появится перед входом на внутренний рейд, его встречают огнем «Алмаз», «Камчатка, «Анадырь» и «Иртыш». Последние три стоят вполне готовыми выпустить якорные канаты и дать ход, дабы, если неприятель проникнет на самый внутренний рейд, действовать против него таранными ударами».
Кроме того, в предвидении возможных повреждений от минных атак приказом от 3 апреля за № 183 предписано было флагманскому инженеру П. и его сотоварищам — К., 3. и Л. — «осмотреть отсеки и бортовые коридоры, а также проверить непроницаемость горловин и исправность остальных приборов, обеспечивающих непотопляемость на всех боевых судах»1.
Все эти приказы, равно как и другие, о которых я говорил раньше, указывавшие, как действовать, что будет предприниматься, если неприятель появится сзади, спереди, справа, слева, — были на собрании подтверждены и комментированы. 3атем адмирал сообщил о суровом решении французского правительства, доставленном Жонкьером:
— Судить — вправе или не вправе они предъявлять нам такие требования — вне нашей компетенции. В этом деле должны разбираться Петербург с Парижем. Будь «Descartes» английским крейсером, можно было бы спорить… В крайнем случае — опереться на силу. Пусть собирает эскадру достаточную, чтобы принудить меня уйти! Но здесь — союзники… И — «просят» о выходе… Я решил держаться в море, вне территориальных вод, близ Камранха, где оставлю транспорты и не боевые суда. Приказано ждать Небогатова. Буду ждать. Через Сайгон буду поддерживать телеграфное сообщение с Петербургом. Буду ждать, пока не сожжем угля столько, что остатка хватит только на поход до Владивостока. Если к этому времени Небогатое не подойдет — делать нечего — пойдем вперед без него… Вперед! Всегда — вперед! Это надо помнить…
Адмирал говорил без увлечения, каким-то, вовсе ему не свойственным, холодным, «казенным» тоном… Впечатление осталось смутное…
Началось наше скитание у берегов Аннама — медленная агония сборища кораблей, официально именовавшегося второй эскадрой. Этим тяжелым дням в моем дневнике отведено обширное место. Много, слишком много, было томительного досуга… Боюсь, что читателям тягостно будет следить за моими заметками изо дня в день. Постараюсь по мере возможности сократить повествование.
В то же время флагманский корабельный инженер П. объезжал все корабли, наблюдая, по поручению адмирала, за наивозможным уменьшением горючего материала в надводной части и подавая в этом отношении не только советы, но и приказания именем адмирала.
Прежде всего — хронологическое изложение фактов самого скитания.
Как я говорил уже, 9 апреля все боевые суда, на глазах Жонкьера, вышли в море, а в бухте остались только транспорты, к которым, казалось бы, самые драконовские правила нейтралитета неприменимы. Кроме того, с нашей стороны дано было обещание, что, пока транспорты пользуются покровительством нейтралитета Франции, а сама эскадра, хотя и пребывает вне территориальных вод, состоит в связи с ними, — никаких крейсерских операций, как в смысле захвата судов, везущих военную контрабанду, так даже и в смысле разведок, предприниматься не будет, чтобы не дать повода предъявить обвинение в пользовании водами союзника, как базой для военных действий. Кажется, трудно быть корректнее?.. Так думали мы, так думал Жонкьер и прочие местные власти. В Петербурге и Париже думали иначе.
Не имея данных, не берусь судить — французы ли под угрозой Англии оказались особенно настойчивыми, или наши оказались чрезмерно уступчивыми — во всяком случае, принято было решение, чтобы в территориальных водах Франции и духу не оставалось не только военного, но даже и торгового русского флага… Известие о таком решении мы получили 12 апреля, а рано утром 13 апреля вся «армада» вышла в море. Свидетелем нашего удаления был Жонкьер на крейсере «Descartes». Проводив нас за пределы территориальных вод, проследив за нами, пока мы не скрылись из виду, он пошел в Сайгон с донесением, что «русская эскадра удалилась от берегов Аннама на восток; назначение — неизвестно».
Скитаться в океане, ожидая Небогатова, скитаться всей «армадой», охраняя транспорты, когда и собственная-то охрана являлась крайне проблематичной, — было фактически невозможно. Адмирал принял решение, единственное, какое оставалось в этом безвыходном положении: как только скрылись из виду «Descartes», уходивший в Сайгон, и скалы Камранха, откуда могли наблюдать за нашими движениями и давать сведения на телеграф, — мы повернули к северу и вечером того же дня вошли в бухту Van-fong. Вошли в полном составе — и транспорты, и боевые суда, — вошли и стали на якорь. Стоянка — отвратительная, но все же стоянка, необходимая если не для отдыха, то хотя бы для передышки измченному личному составу. Все-таки здесь атаку можно было ожидать только с одной стороны… Но об этом скажу после.
Единственное достоинство бухты — отсутствие телеграфа, отсутствие всяких официальных властей. Однако же… и тут не повезло! — Раз в месяц сюда заходит небольшой пароходик каботажного плавания, забирающий от местных рыбаков их улов и снабжающий их необходимыми продуктами. На беду, он оказался в Van-fong'e как раз в день нашего прибытия, а 14 апреля ушел в Сайгон (с заходом в попутные бухты).
Все же остались: пока дойдет, пока соберутся «попросить о выходе»…
Действительно, только 16 апреля телеграф оповестил мир о нашем пребывании в Van-fong'e. Немедленно adminisrtateur'y, имевшему резиденцию в Натранхе (по прямой линии — 20 миль к югу от Van-fong'a), даны были приказания предъявить нам требование о выходе в срок 24 часов. Уважаемый adminisrtateur, видимо, был того же образа мыслей, что и Жонкьер, а по части служебной этики придерживался тех же взглядов, что небезызвестный читателям «майор» в Angra Penquena. He перенося морских путешествий (по свойству своей натуры), он повез нам свой грозный ультиматум берегом и, ввиду несовершенства путей сообщения, только 19 апреля прибыл на «Суворов», совершенно измученный, ибо во исполнение долга ехал день и ночь.
Делать нечего — 20 апреля всей «армадой» опять вышли в море, при свидетелях — был прислан из Сайгона Жонкьер, но уже не на «Descartes», а на «Guichen». Снова он имел случай донести, что мы «удалились на восток по неизвестному назначению». Предупредил, однако, что целые сутки будет крейсировать вдоль берега, наблюдая, чтобы мы не забрались в какую-нибудь другую «бестелеграфную» бухту.
21 апреля вернулись на старое место. Так скверно (об этом после), что все равно — пусть хоть в нарушении слова обвиняют…
22 апреля флагманский штурман полковник Ф. и я (приказом по Морскому ведомству, полученным еще на Мадагаскаре, я был «легализирован» на эскадре в должности флагманского штурмана — чистая фикция, так как в штабе адмирала состояло уже трое флагманских штурманов, все старше меня и много меня опытнее) отправились на пароходе «Русь» осматривать близлежащие бухты, годные для стоянки, но вне пределов телеграфной досягаемости, и такие, чтобы прохожие — мимо идущие пароходы — с моря не могли бы увидеть эскадру и своей болтовней не обнаружили бы тайны нашего убежища. Наметили Vung-Ro и Port Dayotte. Последняя очень хороша. Единственный недостаток — плохо промерена и описана. Могут быть неприятные сюрпризы вроде отвесно подымающихся со дна коралловых банок. Медлили перебираться, пользуясь полученным из Натранха (куда посылали, якобы с моря, миноносец) известием, что идет тайфун и есть опасение, что пройдет близко. Это уж — force majeure! Право убежища при прохождении тайфуна не может быть отменено никакими дополнениями к декларации о нейтралитете. И впрямь — даже в бухту заходила крупная зыбь, а сторожевым крейсерам приходилось очень тяжело, хотя тайфун прошел стороною, много севернее.
Все-таки… — место нашей стоянки было на юру, на виду у всех прохожих. При всей доброжелательности со стороны местных властей вечером 24 апреля мы получили конфиденциальное сообщение, что наше возвращение в нейтральные воды Аннама стало достоянием газет всего мира. Япония возмущена и протестует. Англия энергично ее поддерживает. Париж, совершенно перепуганный, мечет громы и молнии по адресу местной администрации, а Петербург, еще более перепуганный, говорит: «Я — не я! Лошадь — не моя! Моя хата с краю — ничего не знаю! Рожественский — полномочен! Его дело! Выводите его, как хотите, — мы умываем руки»…
А в то же время — «стратегическое развертывание сил…» Никола Угодник… Серафим Саровский…
Как было тяжело! как было скверно на душе!..
25 апреля, с рассветом, послали специальным маршрутом две пары крейсеров — «Рион» с «Жемчугом» и «Днепр» с «Изумрудом» — навстречу Небогатову, про которого стало известно, что 22 апреля, в 4 ч. утра, он прошел Сингапур.
26 апреля, с утра, опять вышли в море. Жонкьер на «Guichen» наблюдает, как мы уходим…
Господи! за что такая обида? Приткнуться негде! Везде гонят!.. Вечные жиды какие-то!..
Жонкьер (искренний наш доброжелатель) посмотрел, понюхал и пошел крейсировать вдоль берега, чтобы через сутки иметь право донести: «Ушли на восток; назначение — неизвестно».
Утром вернулись наши разведчики, не принеся никаких вестей о Небогатове.
Около 11 ч. утра заслышали телеграф «Мономаха», что-то доносившего «Николаю». К полудню вступили в правильные телеграфные сношения, а в 3 ч. пополудни соединились с отрядом «утюгов и калош», громко именовавшимся «отдельным отрядом второй эскадры Тихого океана»…
О впечатлении встречи — скажу ниже. В данный момент — только хронология.
В 5-м ч. дня на «Суворов» прибыл Небогатов. Уговорился с адмиралом относительно дальнейшего. Мы — готовы, но Небогатову — надо погрузиться углем, осмотреться перед долгим походом, ознакомиться с приемами, выработанными на эскадре на случай встречи с неприятелем. Указали ему заранее намеченное укромное место — Port Dayotte. Туда он и отправился. Мы остались в море.
28 апреля, изрядно поизрасходовавшись, пробовали грузиться углем. Ничего не вышло — такая зыбь!.. Решили зайти в Van-fong. Авось успеем погрузиться, пока не попросят о выходе… Всю ночь работали как бешеные… — с рассветом 29 апреля вышли из бухты. За ночь оборудовали!.. Без хвастовства сказать — недурно!..
Бродя в открытом море, дождались 1 мая, когда к нам на соединение вышел отряд Небогатова, пополнивший запасы и готовый к походу…
— Наконец-то!.. Слава Богу!..
Кажется, это было единодушно.
Покончив с хронологией, попытаюсь, в кратких чертах, обрисовать то настроение, которое господствовало на эскадре за время ее вынужденного скитания у берегов Аннама.
То, чего я больше всего боялся, — опасение, что слишком туго натянутая струна не выдержит, и если не лопнет, то начнет «сдавать», — это опасение оправдалось с первого же дня, как стало известно, что «приказано ждать»…
Чувствовалось, что с таким невероятным напряжением всех сил только что созданная организация рушится, ползет по швам, и вместо едва достигнутого подобия эскадры — вновь остается только «армада»… Передержали!.. Это чувствовалось… Мне могут сказать: — Не относите своего личного настроения ко всем! Дайте факты, что приказание ждать Не-богатова подорвало последние силы; докажите, что предложение уповать главным образом на силы небесные не подняло, а уронило дух эскадры!..
Хорошо. Вот факты.
Уже 3 апреля адмирал был вынужден изменить якорную диспозицию эскадры не в видах наилучшей охраны ее, а ввиду невозможности поддерживать должную охрану при прежней, наиболее целесообразной, заранее выработанной диспозиции…(Приказ от 3 апреля за № 201. 424) Оказалось, что крейсера, миноносцы и минные катера не в силах нести службу в две смены. Командиры докладывали о переутомлении команд, о частых поломках механизмов, главной причиной которых являлся недосмотр, вызванный все тем же переутомлением… А ведь еще неделю тому назад они служили бессменно и выражали готовность служить так до Владивостока!..
4 апреля (приказом за № 204) число миноносцев, высылаемых в охрану, было ограничено двумя…
Казалось, сам 3. П. Рожественский признал, что в лексиконе законно существует слово — «невозможно»…
Трудно обыденной речью передать читателю то настроение, которое господствовало в среде личного состава эскадры. Смею ли высказать?.. Мне казалось — его можно было формулировать так: «Сделать, что можем сейчас, — не позволяют, а если когда-то позволят — будет поздно. Слепцы или ослепленные самомнением с того конца Старого Света хотят руководить нами, думают, что они видят лучше нас, подступивших к самому порогу Страны восходящего солнца!.. И мы бессильны перед их решением… Что ж! Долг солдата выше всего!.. Когда укажут — понесем покорно наши головы… Страха нет, но и надежды тоже. Слепая судьба — неверное выражение. Судьба зорко смотрит и, сравнивая нашу «армаду» с японскими боевыми «эскадрами», заранее ставит свой приговор».
Все так устали. Помимо воли, помимо желания отдельных лиц все шло к развалу. Служба падала.
7 апреля (в приказе за № 194) адмирал говорил:
«Упорный восьмимесячный труд по водворению на эскадре беспроволочного телеграфирования увенчался следующими результатами. Вчера, 6 апреля, когда броненосцы были в море, потребовалось передать экстренное приказание заведующему транспортами. Станция флагманского корабля в продолжение часа с четвертью вызывала «Алмаз» с расстояния 15 миль и вызвать не могла; тогда станция «Суворова» стала пытаться вызвать «Олега», но и там все почивало. Очевидно, столь же нерадиво относились к телеграфной службе «Жемчуг», «Изумруд», «Днепр» и «Рион», которые были обязаны передать сигналом кому следует о вызове и отвечать за неисправного. Сегодня, с 2 ч. дня, должны были поступить телеграммы с приближающихся к эскадре «Кубани», «Терека» и «Урала».
Станция «Суворова» напряженно старалась получить эти, заранее условленные, телеграммы, но… ничего не получили… Такое состояние «суворовской» станции — очень грустный факт, но гораздо более грустным представляется то обстоятельство, что ни одна из станций всей эскадры не получила вызовов «Кубани» и не сообщила о них на «Суворов». Сегодня же с «Суворова» напрасно старались вызвать находившегося в дозоре «Риона». Неужели командир «Риона» не постиг, как бессмысленна его служба в дозоре, когда его телеграфные аппараты в беспорядке? Гг. флагманы и капитаны! Пора принять самые энергичные меры!..»
Конечно, адмирал был не только вправе, но и обязан писать такие приказы, но верил ли сам он в возможность осуществления предъявленных требований?.. That is the question… Я думаю, что нет.
Опять начались недоразумения, вспышки недовольства среди команд по самым вздорным поводам; участились (прекратившиеся было) проступки против дисциплины; при разгрузке пароходов, доставлявших провизию из Сайгона, происходили сцены почти… грабежа; работающие разбивали бочки и ящики с вином, перепивались, буйствовали, даже оскорбляли офицеров, наблюдавших за порядком…
Несмотря на первоначальное утверждение, что слова «невозможно» не существует, — существование его с каждым днем становилось все ощутительнее.
7 апреля, в приказе за № 196, адмирал писал: «Для облегчения службы миноносцам и для предоставления командирам их возможности содержать суда в полном порядке и боевой готовности, сокращены вдвое наряды на сторожевые посты, в уверенности, что командиры… Вчера миноносец… находясь в охране, потерял якорь, — значит, либо стоял, либо имел намерение постоять на якоре, что несовместимо с возложенною на миноносец службою».
С началом «скитания» дело пошло под гору, чем дальше — тем круче…
Днем — пребывание в море с застопоренными машинами, в неустанном наблюдении за горизонтом (не появятся ли дымки) и за ближайшей поверхностью воды (не удастся ли обнаружить перископ приближающейся подводной лодки). Ночью — плавание со скоростью 3 узла, едва достаточной, чтобы поддерживать строй и в случае опасности минной атаки дать должный ход, начать маневрировать… Круглые сутки — напряжение всех сил, требование бдительности, уверенности, спокойствия, решимости… И все это — для людей, совершивших 6-месячное плавание в тропиках в условиях военного времени…
Учения продолжались автоматически изо дня в день. Это я твердо помню… Но в моем дневнике — не могу найти ни одной заметки о них. Это были «шаблонные», неживые учения, отбывание «номеров» таблицы занятий… Увлечение военно-морской игрой, розыгрыш (на бумаге) спорных вопросов тактики в кают-компании, не прекращавшиеся за все первое время похода, — бесследно исчезли. Справочные книжки, сочинения по вопросам морской тактики и стратегии, книги по военно-морской истории, имевшие ранее такой огромный спрос, что их едва можно было добиться, являлись заброшенными… Офицеры в свободное ст служебных занятий время читали главным образом… знаете что? — дешевые романы наиболее фантастического содержания… Особенным успехом пользовались произведения г-жи Крыжановской (Рочестер), писанные якобы по спиритическому откровению… Как это было отрадно хоть ненадолго забыться, увлечься чудесами «Магов», «Жизненного эликсира», «Жизни на Марсе», «Похождениями венгерского графа-(фамилии не помню) — вампира» и т. п. Смейтесь, если хотите и если можете, но факт остается фактом: оказывается, что путем известной подготовки можно людей взрослых и достаточно уравновешенных довести до такого состояния, когда единственным их желанием, единственной мечтой становится — «подальше от действительности!..».
Среди этой глубокой деморализации чуть теплилась единственная надежда: «Адмирал — все тот же! Он — не устал! Поведет — доведет! Он — сделает! Он — верит».
Так думали… Но правы ли были? Могли ли сказать, что заглянули «ему» в душу и — знают?.. По крайней мере — хотели верить и всецело отдавали свою судьбу в его руки…
Это был какой-то не то черный, не то красный туман, бред, агония эскадры, как я выразился раньше…
Порою мне (да и не мне одному) казалось, что и сам адмирал поддается этому роковому тяготению к открытой бездне… Только зажмуриться… неверный шаг… и — конец… Как хорошо!.. Сразу!..
Иначе как объяснить эти ночные тревоги — «обучение отражению ночной минной атаки, которые производились внезапно, по личному его приказанию, среди темной ночи, когда мы, ходом три узла, ползли вдоль берега Аннама?.. Прожекторы эскадры давали зарево, видимое по крайней мере миль за 50 и точно указывающее наше место неприятелю, если бы он был поблизости.
Что с ним? Ведь это — глумление, вызов судьбе! — говорил я лейтенанту С. — Как знать, не ищут ли нас в данную минуту японские минные отряды? Сами показываем? Зовем, что ли?
А хоть бы звали? — отвечал он, нервно сжимая мою руку. — Конец один… Может быть, так даже лучше… не всю эскадру перетопят! Что-нибудь и на развод останется! Ха-ха-ха!.. А уж надежды на победу и одоление в расчете на помощь сил небесных придется оставить, волей-неволей!.. Да, нет! видно — они с понятием — не хотят работать по мелочам! Не идут что-то!.. Оптом надеются!..
Победителей не судят. Однако смею утверждать, что, если бы «оптом» не удалось, если бы продолжительная свежая погода (вполне вероятная в этот сезоне) помешала дать решительное сражение в Японском море или туман (тоже вполне вероятный в этот сезон) дал возможность эскадре, незаметно для противника, прорваться во Владивосток, — тяжкие обвинения были бы взведены против адмирала Того за то, что он не воспользовался временем нашего скитания у берегов Ан-нама для минных атак, за то, что в этом направлении им даже ни одной попытки не было предпринято.
В самом деле, какие соображения сдерживали в данном случае столь прославленную предприимчивость японцев? Хотелось бы, чтобы наши патентованные стратеги из-под «шпица», так охотно пророчествующие задним числом, разрешили эту загадку.
Стратеги эти часто упрекали адмирала Рожественского в пренебрежении, которое он якобы оказывал разведочной службе. Не буду пытаться решить вопрос, на который беспристрастно может ответить только история, когда составителям ее откроются все «наисекретнейшие» архивы: были эти господа мало осведомлены или обманывали общество с целью перенести всю тяжесть ответственности на адмирала Рожественского и обелить пославших и распоряжавшихся? Об этом не могу судить с достоверностью. Напомню только, что, согласно данному обещанию, никаких крейсерских операций, за все время пребывания близ берегов Аннама, мы предпринимать не могли. Париж пуще всего боялся, как бы не явилось хоть призрака, хоть намека на то, что мы пользуемся нейтральными водами Франции как военной базой… А со стороны Петербурга, в этом отношении, мы — получали предписания, а французы — заверения, что ничего подобного допущено не будет. Разведку приходилось организовывать при посредстве тайных агентов, посылкой туда и сюда специально зафрахтованных пароходов, имевших мифические назначения… Делали, что могли.
И не скажу, чтобы безрезультатно. Мы знали достоверно, что в период за 1–2 недели до нашего прихода к берегам Аннама японские крейсера, сопровождаемые отрядами миноносцев, оказывали большое внимание бухтам побережья не только Тонкина, Аннама и Камбоджи, но даже и Сиама. Дикие, почти необитаемые острова Сиамского залива, среди которых встречаются довольно удобные места для якорных стоянок, и те заботливо осматривались. Потом — как сквозь землю провалились. Смутный след намечался близ Сингапура, в Rio strait, под берегом Борнео. Похоже, что караулили нас в Зондском проливе. После нашего благополучного прохода мимо Сингапура как будто заметались. Пошли на север Борнео. В первых числах апреля сосредоточились на рейде Mono (Пескадорские острова) — единственный их собственный рейд в этих водах, так как на Формозе нет ни одной бухты, годной для стоянки большой эскадры. Сообщали, что в Mono доставлены войска, осадная артиллерия, спешно возводятся укрепления, минируются подходы с моря — вообще устраивается временная база. Потом опять (конечно, не без дружеского содействия доброго союзника — Англии, в руках которой почти все телеграфные кабели Востока) перерыв в известиях. Опять — как в воду канули. Вновь вступили в пределы агентской (разведочной) досягаемости лишь после прохода Небогатовым, с его отрядом, Сингапура.
К слову сказать, не перемудрили ли они в этом случае? По отношению к нам все данные были, что мы пойдем Зондским проливом, — пререкания дипломатии с голландским правительством по вопросу о нейтралитете, фрахтовка угольщиков в Ламбоке и т. п… — все это, хоть и под глубочайшим секретом, не могло не стать достоянием всего мира и тем паче японцев. О своем решении идти Малаккским проливом адмирал не сообщил никому, хотя бы самым тайным из своих шифров. Секрет был сохранен. Наоборот, Небогатое, покидая Джибути, уведомил Главный морской штаб (конечно, шифром, весьма секретно), что пойдет Малаккским проливом. В результате — все газеты (английских колоний) с уверенностью писали об этом его маршруте и даже соперничали друг перед другом в вычислениях, какого именно числа апреля месяца он будет проходить Сингапур. Чуть ли по этому поводу не был открыт тотализатор. Шумиха эта так походила (употреблю модное слово) на провокацию, что японцы вправе были ей не поверить. Они вполне разумно решили: Рожественский весьма искусно распустил слухи, что пойдет Зондским проливом, а сам прошел Малаккским. Небогатов пытается повторить тот же трюк (и даже с меньшим искусством) — почти афиширует свой поход Малаккским проливом, но сам, конечно, пойдет Зондским. Тут мы его и накроем. Расчет правильный. Но — на всякого мудреца довольно простоты. Безусловно, что в данном случае Небогатов взял «простотой».
Эти две неудачи, две подряд, по-видимому, сбили японцев с толку. После прохода Небогатовым Сингапура они вскоре же вновь объявились на Пескадорских о-вах, но не задержались здесь, наоборот, ликвидировали дела и ушли на север. Последние полученные нами известия гласили, что главные силы, почти весь их флот, сосредоточен в Мазампо (25 миль к западу от Фузана — великолепный рейд).
Отряды их миноносцев, вспомогательные крейсера «Hong-Kong» и «Nippon», имевшие на борту подводные лодки, были в южных водах. Об этом мы имели сведения, не подлежащие сомнению. И тем не менее они ничего не предприняли против нас, скитавшихся у берегов Аннама в роли вечных жидов… Почему? Думаю, еще не скоро узнаем мы истинные мотивы такого решения… Но если допустить, что они верили в нашу силу, что они боялись нас… Какой это был счастливый и единственный момент для заключения почетного мира!.. По чьей вине он пропущен? Ответит история…
А ведь подбить, если не вовсе уничтожить эскадру, было так легко!..
Как я говорил уже, «с началом скитания дело пошло под гору, чем дальше, тем круче»… В доказательство приведу выдержки из некоторых приказов по эскадре:
«Вчера ночью (приказ от 20 апреля, за № 219) при движении эскадры со скоростью, почти вдвое меньшею против возможной по числу котлов, крейсер «Адмирал Нахимов» и броненосцы «Император Александр III», «Орел» и «Сисой Великий» все-таки растягивали промежутки до двойных и тройных против обязательного… Прошу гг. командиров поименованных судов не упускать из вида, что, оттягивая в бою, они могут поставить в бедственное положение весь хвост своих задних мателотов… Вчера же по ночной тревоге броненосцы «Сисой Великий», «Наварин» и крейсер «Адм. Нахимов» испускалииз своих прожекторов не световые лучи, а туман, застилавший все окружающее. Так мало обращено внимания… на установку и регулировку боевых фонарей. Весь крейсерский отряд продолжал светить, а значит, стрелять, когда с «Суворова» подъемом луча было приказано прекратить освещение и стрельбу. Таким образом расстреливают обыкновенно своих».
«22 апреля на рассвете находившийся на сторожевом посту крейсер «Кубань» (приказ от 23 апреля за № 223) увидел двух миноносцев, которые со своей стороны, рассмотрев крейсер, подняли французские флаги и быстро ушли. Командир «Кубани» не нашел нужным удостовериться, французские ли то были миноносцы. Того же 22 апреля, после заката солнца, командир сторожевого крейсера «Дмитрий Донской» телеграфировал, что видит в море свет прожектора; и действительно, даже из бухты на флагманском броненосце замечены были над высоким берегом лучи, поднятые в небо, причем направление, по которому были видны эти лучи, совпадало с пеленгом на пост, который должен был быть занят сторожевым крейсером «Урал». Из этого можно заключить, что если «Урал» не сам светит, то должен видеть свет лучше «Суворова» и лучше «Донского», потому что находится ближе к источнику света. Но «Донской» не догадался спросить телеграммой «Урала», видит ли он свет, а «Урал» сам ничего не телеграфировал. Когда же с «Суворова» приказано было «Донскому» спросить «Урал» о свете, то «Урал» не принимал вызова «Донского». «Донской» не догадался прибегнуть к прожектору, чтобы переговорить с товарищем, а удалился от своего поста для этой цели. Удалившись, «Донской» перестал принимать телеграммы «Суворова» и перестал служить связью между «Уралом», минными катерами, миноносцами и эскадрой. Засим потребовалось 9 часов времени (с 8 ч. вечера до 5 ч. утра), чтобы получить ответ «Урала». Тяжелое впечатление выносится из этого обзора сторожевой службы наших крейсеров за сутки 22 апреля: проявлено полное отсутствие инициативы и совершенное непонимание обстановки и соответствующих требований. Но еще тяжелее сознавать, что 22 апреля не произошло ничего особенного, никакого стечения неблагоприятных обстоятельств: та же неурядица повторяется изо дня в день».
Так писал, так несомненно и должен был писать адмирал в своих приказах. Но в данном случае и я долгом моим считаю сказать слово в защиту личного состава.
«Отсутствие инициативы, понимания обстановки, знания» — все верно, все было. Но откуда было взять и то, и другое, и третье, когда никогда этому не учились? В некоторых случаях, да и то не на долгое время, недостаток подготовки мог быть восполнен высоким подъемом духа, работой при полном (часто бесцельном и даже неразумном) напряжении всех сил, но ведь силы человеческие не беспредельны!
Говорят, что compison n'est pas raison, однако позволю себе одно сравнение.
Артель опытных дровосеков, без всякого переутомления, может свалить за день десятки деревьев. Поручите ту же работу такому же числу людей, впервые взявшихся за это дело. Допустим даже, что вы успешно внушили им идею о насущной необходимости не только для них, но для самого государства прокладки намеченной просеки. Первое время возможно, что подъем духа, вызвавший необычайное напряжение всех сил, сделает почти чудо, — калеча друг друга, затрачивая труда во много крат больше, чем это вызывается действительной необходимостью, они, может быть, не уступят в результатах профессиональным работникам. Но только надолго ли их хватит?.. В старину, когда еще не было огнестрельного оружия, тетиву лука натягивали только перед боем, а после боя опять спускали ее, давали отдых… А на второй эскадре — отдыха не было…
Тот подъем духа, который наблюдался в первые моменты по прибытии на Мадагаскар, — израсходовался за время двухмесячной стоянки в Носи-бэ.
Новая, едва ли не более могучая волна его, взмывшая после удачного прохода Малаккским проливом, также не была использована. Выражаясь образно, скажу, что она, может быть, была даже круче и выше первой, но именно в силу этого еще скорее, еще легче рушилась… Рушилась, не встретив преграды, в которую могла бы ударить всей своей силою, рушилась, как рушится всякая волна, рассыпавшись пенистым гребнем, превратившись в отлогую, унылую, «мертвую» зыбь…
X Впечатление от прибытия «самотопов». — Спешные сборы в последний поход. — Два слова о здоровье. — «Умри, но пересади адмирала!» — Кое-что из разговоров с лейтенантом С. — По поводу мечтаний о временной базе. — С кем — «с нами» или «с ними» — был «Бог браней». — Выбор пути во Владивосток. — Соображения навигационные. — Соображения тактические: внезапность, наличие всех сил в решительный момент, нравственный элемент, вопросы снабжения
Присоединение к эскадре отряда небогатовских «самотопов» (как их называли люди, на них же служившие) уже не подняло новой волны энтузиазма, не дало нового импульса к победе духа над физической усталостью… В моем дневнике подробно описана эта встреча. Торжественно. Почти до слез. Все радовались, ликовали. Но в чем была основа радости, ликования? — «Мы стали сильнее; пойдем, уничтожим дерзкого врага!» Так, что ли? — Нет! не это! — Так, может быть, думали герои, восседавшие на мягких креслах под шпицем Адмиралтейства и совершавшие боевые походы между Петербургом и Кронштадтом…
Не то было на эскадре. — Нет!.. — В 3 часа дня 26 апреля, когда отряд Небогатова присоединился к нам, все радовались, все поздравляли друг друга, но… не с прибавкой сил, не с укреплением надежды одолеть неприятеля, а с предвидением скорого разрешения томительного ожидания… — «Наконец-то!»
Если бы вместо отряда Небогатова появилась в виду нас японская эскадра, — возможно, что ее встретили бы с не меньшей, если не с большей радостью.
Таково было настроение.
Адмирал издал, собственноручно и единолично написанный, приказ, долженствовавший ознаменовать радостное событие, способствовать подъему духа… Но каким деланым, каким неискренним вышел этот приказ (от 26 апреля за № 229), как мало походил он на то огненное слово, которое было брошено толпе в Виго перед угрозой встречи с 28 английскими броненосцами, на ту задушевную речь, которая была сказана в день Рождества, у берегов Мадагаскара…
Крейсер 1-го ранга «Владимир Мономах»
В течение четырех суток, которые Небогатое провел, притаившись в Port Dayotte, а мы бродили в море, ему надлежало не только погрузиться углем, пополнить запасы материалов, провизии и проч., но также (и это главное) всесторонне ознакомиться с приказами и циркулярами, изданными на эскадре и содержавшими в себе различные схемы перестроения и подготовки к бою в зависимости от того, с какой стороны появится неприятель, руководящие указания для действия артиллерии и т. п. Вся эта литература была дополнена заранее составленными и немедленно изданными приказами, определяющими роль III броненосного отряда (так был назван отряд адмирала Небогатова. «Мономах» отошел из-под его команды и был зачислен в крейсерский отряд адмирала Энквиста). Надо ли упоминать, что, разумеется, в тот же день, 26 апреля, полные экземпляры всех этих приказов и циркуляров, заранее приготовленные, были переданы не только адмиралу Небогатову и его штабу, но и командирам, старшим офицерам и в кают-компании вновь присоединившихся судов. Собирать их, пояснять и рассказывать им все своими словами — не было возможности, так как не было времени. Ведь прежде всего являлось необходимым принять уголь, запасы и материалы, так как ежечасно мог прийти Жонкьер, и хотя с душевным прискорбием, но все же попросить о выходе. Да так и случилось: 1 мая «Guichen» был свидетелем окончательного удаления эскадры от берегов, появившись (намеренно или случайно) в виду как раз в тот момент, когда вся «армада» уже находилась в море и строилась в походный порядок. Наш искренний доброжелатель был таким образом избавлен от грустной необходимости «просить честью». Наоборот, мог (верю, что от души) посылать нам по беспроволочному телеграфу наилучшие свои пожелания счастливого плавания и успеха в предстоящем бою.
О каких-нибудь учебных маневрированиях, стрельбе совместно с III броненосным отрядом — и речи быть не могло. Что касается стрельбы, то «во-первых — не было снарядов…» В отношении маневрирования, что возможно, предполагалось, если представится случай, выполнить на походе. Учиться было поздно, когда не сегодня завтра бой…
Два слова о… здоровье (странная тема?). Благодаря мерам, принятым для поддержания наилучшего питания и условий жизни, на которые адмирал категорически приказал «ничего не жалеть», общее санитарное состояние эскадры было вполне удовлетворительно. 10 000 людей, запертых в железных коробках, полгода в тропиках — и никаких эпидемических заболеваний. Одно сказывалось — переутомление. На этой почве заболевания были довольно часты. У меня нет под рукой статистических данных, и я могу привести примеры только из личных наблюдений на «Суворове», не доверяя памяти по отношению сведений о других судах, так как в моем дневнике о них ничего не записано.
Адмирал, как я уже говорил, прихварывал еще на Мадагаскаре. После двух дней, проведенных в постели, с которой он встал не столько благодаря помощи докторов, как силой собственной воли, он вообще плохо выглядел, а в дни, следовавшие за периодами особого возбуждения, напряжения сил, заметно приволакивал ногу. По внешности от него, выражаясь простонародным жаргоном, оставались «кожа да кости». У флаг-капитана на подходе к Аннаму случилось какое-то «легкое» кровоизлияние в мозгу, причинившее «частичный» паралич, не мешавший, однако, исполнению служебных обязанностей (боюсь, доктора обвинят меня в неточности терминов. Виноват — не занес в мой дневник латинских слов, которые сообщали их коллеги на «Суворове»). Флагманский штурман, полковник Ф., последнее время питался исключительно жидкой или мягкой, тщательно размельченной пищей. Лично он, по своим субъективным ощущениям, был уверен, что у него рак пищевода, доктора же, в дружеской беседе, констатировали аневризм, создающий впечатление набухания и сужения пищевода (Та же болезнь обнаружилась у старшего минера лейтенанта Б., ветерана предыдущей войны, серьезно раненного при взятии Таку). Второй старший флаг-офицер, лейтенант С. (не надо смешивать с первым старшим флаг-офицером, тоже С. — моим товарищем), вообще слабого здоровья, вынужден был, по рецепту докторов, прибегать к опиуму и морфию. Сколько знаю, в одном с ним положении был и флагманский минер лейтенант Л. Даже здоровяк на вид флаг-офицер лейтенант Н. прибегал к медицинской помощи и, когда его спрашивали: «Что за дрянь вы глотаете?» — отвечал: «Для душевного спокойствия и от бессонницы местные эскулапы прописали что-то бромистое!..» Из числа судовых офицеров добрая треть числилась пациентами, и все по болезням с такими мудреными латинскими названиями, что, не занеся их своевременно в мой дневник, сейчас решительно не берусь приводить на память.
Изумительную, если можно так выразиться, жизнеспособность проявлял командир «Суворова», капитан 1-го ранга И. Убежденный сторонник того взгляда, что мы идем на верную гибель, он, решив этот вопрос бесповоротно, как бы закрыл глаза на будущее и жил исключительно настоящим моментом, весь отдавшись заботе о своем корабле, о своей команде.
— Как погибать? Перевернувшись или нет, от снарядов, от мины, от ядовитых газов, от ран, от задушения, от потопления — это от Бога и от начальства! А мы свое дело сделаем! Безусловно, вся сила огня на «Суворов»! Раскатают, как пить дать! Но я уж распорядился, внушил и старшему офицеру, и всем старшим лейтенантам, которым придется, по очереди, вступать в командование «за выбытием» начальства из строя, чтобы помнили твердо: подходит конец «Суворову» — умри, но пересади адмирала на исправный корабль. Без «него» — все пропало!.. Одного только боюсь — соваться будет зря, и в первую же голову его-то и ухлопают!.. Тогда — кранкен!
Так говорил этот человек, которого я, несмотря на обвинения в беспечности, даже в легкомыслии, которые многими против него взводились, — не могу не признать идеальным типом солдата…
Наиболее тяжкую утрату несла эскадра в лице контр-адмирала Фелькерзама, высокообразованного, дельного и деятельного моряка и, что всего важнее, друга и товарища, единомышленника и сотрудника адмирала Рожественского. Он еще был жив в момент присоединения к нам отряда контр-адмирала Небогатова, но положение его было безнадежно, и дни — сочтены…
Этот — не выдержал. К нему судьба была милостивее, чем к его старому товарищу. Он не был свидетелем разгрома эскадры, и гроб его, поставленный перед судовым образом «Осляби», покоится на дне Японского моря вместе с броненосцем, может быть, и до сих пор еще сохранившим его адмиральский флаг, оставленный на нем и после смерти флагмана, чтобы спуском его не произвести тягостного впечатления на личный состав эскадры…
За время «скитания» (кстати сказать, оно обошлось нам около 20 000 тонн угля, не считая расхода смазочных и прочих материалов) в долгие часы томительного, вынужденного досуга я особенно сошелся с лейтенантом С. В тех условиях, в которых протекало наше существование, кажется, оба мы радостно ухватились за полузабытую товарищескую связь, за общие воспоминания о пяти годах, проведенных на той же школьной скамье. Среди этих бесед я узнал многое, что до того все еще составляло для меня тайну, как для «чужого» в штабе. Возможно, что узнал даже больше, чем другие «природные» штабные чины, так как среди них безусловно один С. мог считаться в «первой степени посвящения».
Конечно, многое и теперь еще не может стать достоянием гласности, так как могло бы иметь влияние на ход современных событий, зато об иных фактах, о которых наши «стратеги», с видом людей широко осведомленных, успели уже написать столько вздору, является совершенно необходимым сказать правду, а это возможно лишь при условии — не считаться с канцелярской тайной, поскольку она касается исключительно прошлого и поскольку раскрытие ее не может принести вреда в настоящем.
Я узнал, что по первоначальному плану адмирала (во время сборов и выхода второй эскадры) целью похода ставилась деблокада Порт-Артура и совместные действия с первой эскадрой. При этом, так как японцы в деле миноносца «Решительный» самым грубым образом нарушили нейтралитет Чифу, а до того не менее бесцеремонно действовали в Чемульпо, — решено было не считаться с нейтралитетом этих портов и, базируясь на Чифу, войти в связь с Порт-Артуром. Расстояние между этими портами всего 70 миль, а потому транспорты, вспомогательные суда, исправляющиеся боевые суда и т. п. были бы прикрыты от покушений неприятеля самой эскадрой, оперирующей в столь ограниченном районе. Для поддержания своего господства на море японцам, в составе 4 броненосцев и 8 броненосных крейсеров, пришлось бы вступить в решительный бой с первой эскадрой — 6 броненосцев и 1 броненосный крейсер и со второй — 7 броненосцев («Нахимов» и «Донской» не в счет) при вполне возможной поддержке со стороны владивостокского крейсерского отряда. От исхода этого боя зависела бы участь кампании.
Если бы (что, впрочем, маловероятно) японцы не решились на такую ставку «ва-банк» и хотя временно скрылись бы в свои порта, то Порт-Артур, хотя бы тоже на время, был деблокирован, мог быть снабжен всем необходимым, а затем флоту предстояло действовать сообразно ходу операций на суше, т. е. либо содействовать освобождению Порт-Артура, причем осаждающие превратились бы в осажденных, либо, предоставив подкрепленный провизией и боевыми припасами Порт-Артур собственным его силам, перейти во Владивосток и, опираясь на эту базу, искать встречи и решительного боя с японским флотом, чтобы утвердить свое господство на море и тем отрезать японскую армию от метрополии.
При наших обычаях план этот, бывший секретом для офицеров второй эскадры, вряд ли мог оставаться тайной для наших недоброжелателей за границей. Новые, дополнительные правила к декларации о нейтралитете, пресловутый «гулльский инцидент» и шум, поднятый около него, — не являлись ли они отчаянными попытками предотвратить возможность осуществления этого плана?.. Почти наверно — да.
С падением Порт-Артура (и даже раньше) — с момента гибели первой эскадры Тихого океана — план этот рушился сам собою. Адмиралом был предложен другой — единственный, по его мнению, целесообразный — немедленное движение вперед с отборными судами, чтобы, пользуясь временным из-за долгой боевой службы ослаблением японского флота, прорваться во Владивосток и оттуда, не имея силы для нанесения решительного удара, вести партизанскую войну, «действуя на путях сообщения неприятеля». Для такой задачи силы могли бы быть достаточными… Предложение это не встретило сочувствия. Решено было послать второй эскадре подкрепления, которые могли бы возместить утраченное содействие первой, возложив на эту «армаду» задачу — овладеть (с Божьей помощью) морем, т. е. разбить японский флот в решительном бою… Напрасно адмирал совершенно открыто, en Unites lettres, доносил, что присоединение к его эскадре старых, неисправных судов он считает «обузой», что с теми силами, какие есть в его распоряжении (и с «обузой», имеющей прибыть), он «НЕ ИМЕЕТ НАДЕЖДЫ» овладеть морем… Петербургские стратеги на основании точного подсчета суммы «боевых коэффициентов» судов эскадры находили, что она и сейчас уже «имеет надежду на успех», а если к этой сумме прибавить еще некоторое слагаемое, то получится «уверенность» в успехе…
Трудно сказать, были ли японцы в курсе этих переговоров?.. Может быть. Но, может быть, просто, имея достоверные сведения от своих агентов об истинной боевой ценности той «третьей эскадры», которую мог бы выставить Балтийский флот, они с искренним удовольствием читали вдохновенные статьи г. Кладо, вводившего в заблуждение русское общество, а чего доброго, и лиц, стоящих у власти… Так или иначе — весьма знаменательно, что японцы ни непосредственно, ни через добрую свою союзницу (Англию) не приложили никаких стараний к сокращению времени нашей (более 2 месяцев) стоянки в Носи-бэ…
В то же самое время адмирал получал и чисто деловые предостережения: иметь в виду не обременить своим прибытием владивостокский порт с его скудными запасами и ремонтными средствами (ведь его «не успели» оборудовать должным образом к началу войны), а также не рассчитывать особенно на Сибирскую дорогу, которая «с трудом удовлетворяет нуждам сухопутной армии»… Другими словами, предлагалось не только разбить неприятеля и открытой силою пройти во Владивосток, но ставилась и другая задача: если на овладение морем вы «не имеете надежды», то, прорываясь во Владивосток, захватите с собой и средства для ведения партизанской войны.
Я говорил уже, что адмирал «сделал, что мог» — донес о тех планах, которые он считал единственно осуществимыми, и смело заявил, что «не имеет надежды» выполнить возложенную на него задачу — овладеть морем. Тем не менее осуществление этой задачи было ему указано с помощью… Божией и тех подкреплений, которые будут высланы… Тут уж не поспоришь!..
Правда, была сделана одна отчаянная попытка — удрать от «обузы»… Увы! — не удалось! Вот случай, когда можно было по чистой совести назвать телеграф проклятым изобретением!..
В то время, как мы негодовали, или, выражаясь морским жаргоном, «травились», в Петербурге наши бумажные стратеги в тиши кабинета составляли планы. Моряки только по мундиру (случайно им присвоенному) беззастенчиво морочили людей, вовсе в морском деле несведущих, создавали стратагемы, развертывали перспективы, не имевшие под собой никакой почвы, кроме самомнения их изобретателей и простодушного доверия слушателей.
Вести транспортный флот мимо Японии, возлагать на эскадру задачу не только быть ежеминутно готовой вступить в решительной бой с сильнейшим противником, но еще и конвоировать транспорты было до такой степени нелепо, что даже стратеги Маркизовой лужи не осмеливались высказаться за такое решение вопроса. Казалось, был один выход, и за него радостно ухватились, о нем говорили и тогда, и после войны, задним числом. Это — обосноваться, устроить временную базу в каком-нибудь промежуточном пункте, оставить там транспорты, все лишнее и, налегке, идти искать решительного боя; в случае удачи — очищения дороги хотя бы на короткий срок — воспользоваться этим временем и всей «армадой» проследовать во Владивосток; в случае неудачи — отступить на свою временную базу, пополнить запасы и… — действовать, сообразно обстоятельствам.
Не буду перечислять здесь всех проектов пресноводных моряков, среди которых встречались и столь смехотворные, как указание на Петропавловск (Камчатский), отрезанный от мира не только в смысле телеграфа, почты и путей сообщения, но даже и климатическими условиями (там весна — царство туманов) или овладение о-вами Бонин-сима, где нельзя найти удобной якорной стоянки не только для эскадры, но даже и для небольшого отряда боевых судов. Эти прожектеры достаточно ясно показали грубое незнакомство с лоцией, с умением разобраться в морских картах, достаточно обнаружили, что, берясь решать военно-морские вопросы, познания свои черпают из учебника географии Смирнова (для младших классов гимназий) и подкрепляют их лишь беглым просмотром географического атласа всего света издания Ильина.
Как я сказал уже, план, хотя бы самого кратковременного утверждения на промежуточной базе, — являлся, до известной степени, выходом из отчаянного положения, в котором находилась эскадра, имевшая перед собой задачу, успешное осуществление которой зависело почти исключительно от помощи сил небесных, а по слабому человеческому разумению было просто невозможно.
Об этом плане немало говорили и, конечно, еще больше думали на эскадре. Адмирал в предвидении возможности такого оборота дела, чувствуя, что, несмотря на все его донесения, Петербург упорно держится правила — «Нам лучше знать, что и как», — давно уже наметил себе опорным пунктом Чусанский архипелаг, лежащий на подходе к Шанхаю с юга и находящийся от Японии в расстоянии около 500 миль. Рейды этого архипелага могли бы свободно вместить флот вдвое больше нашего, а главное, в тактическом отношении были превосходны в смысле легкости организации обороны на случай внезапного нападения (Прошу не смешивать Чусанский архипелаг с группой Седельных островов, как это делают малосведущие в морской географии. Седельные острова были бы для такой цели вовсе непригодны). Были и другие подходящие места на китайском побережье, как например Nimrod Sund.
Все эти расчеты на китайские воды пришлось оставить ввиду полученного адмиралом официального уведомления, что, забывая про Чемульпо и Чифу, Англия принимает на себя обязательство охраны нейтралитета территориальных вод Китая, и буде он окажется нарушенным, готова поддержать его вооруженной силой. Ни много ни мало — угроза войной, и адмирал Рожественский был глубоко прав, указывая в заключении письма своего, напечатанного в «Новом Времени» (21 декабря 1905 г.), что за спиной японской эскадры стояла английская.
Таким образом, на китайские воды был наложен запрет. Французское правительство, как известно, прилагало все усилия к скорейшему и окончательному изгнанию эскадры из своих территориальных вод; об английских, американских — и говорить нечего; оставалось поискать, не найдется ли подходящего местечка в водах, принадлежащих самой Японии, конечно, при условии, что водвориться в нем можно без больших потерь.
Бонин-сима, Лиу-киу, Мияко-сима, порта Формозы — говорить о них могли только люди, не умеющие читать морских карт, никогда не заглядывавшие в лоцию Тихого океана (Есть такие книги, издания английского Адмиралтейства). Единственный подходящий пункт был рейд Mono на Пескадорских о-вах (в Формозском проливе). Но, как я упоминал уже, японцы не оставили его своим вниманием: подходы к нему были минированы; на прилежащих островах возведены временные укрепления, вооруженные осадной артиллерией и снабженные гарнизоном. Овладевать этой базой пришлось бы с бою. Допустим, что силы небесные, отступившиеся от нас при Цусиме, в данном случае оказали бы нам полное содействие, и мы утвердились бы в Mono, не потеряв ни одного корабля и понеся самый незначительный урон в рядах десанта, высаженного для овладения берегом.
Во всяком случае, некоторая, быть может, весьма значительная, часть нашего боевого комплекта снарядов была бы израсходована, а пополнить его не представлялось возможности… Между тем идти в бой с сильнейшим противником, не имея полного комплекта боевых припасов, довольно… рискованно (конечно, бумажные стратеги и внимания не обращали на такую мелочь). Допустим, однако, что и с этим можно было бы помириться. Но дальше? От Mono до Владивостока без малого полторы тысячи миль, а до Корейского пролива без малого тысяча миль. Могла ли эскадра, опираясь на эту базу и отправляясь в поход для действий в Японском море, оставить ее без прикрытия, без десанта на береговых укреплениях, которые пришлось бы вооружить пушками, снятыми с судов, без отряда судов, охраняющего подходы с моря? Конечно, нет! В противном случае на другой же день по удалении эскадры новоявленная база со всеми запасами была бы в руках японцев, и для этого было бы достаточно батальона солдат, перевезенного с Формозы, и небольшого отряда минных судов, или даже вспомогательных крейсеров. Вернувшись, в случае неудачи, эскадра встретила бы не друзей, а врагов и оказалась бы совершенно бесприютной, лишенной даже своей плавучей базы — транспортов… Значит, оставлять охрану? Какую именно? Конечно, устарелые суда. Но если командующий эскадрой доносил, что даже и в полном составе он «не имеет надежды» овладеть морем, т. е. одержать победу в решительном бою, то при разделении сил эта задача являлась еще менее осуществимой! Кажется, ясно?
Патентованные стратеги, заботившиеся не о чести русского имени, а лишь о том, как бы своими псевдонаучными соображениями оправдать предвзятые решения своих покровителей, полагали иначе… Впрочем, у них заранее была подготовлена лазейка: «Если вы действительно не имели надежды на победу в открытом бою, а не пугали только, так и оставили бы здесь то, что считали обузой, а сами прорывались бы во Владивосток! Обуза сыграла бы роль оттяжки японских сил!.. Но ведь этот план — прорыв — предлагался еще четыре месяца назад, когда японская эскадра была обессилена почти годичной тяжелой боевой службой, а наша эскадра рвалась в бой! Зачем же тогда эти два месяца томительного ожидания на Мадагаскаре и еще более томительный месяц скитания у берегов Аннама, подорвавшие силы личного состава? Зачем посылка этих «подкреплений», обреченных сделаться дешевыми призами для японцев, бесплатной премией к первой эскадре, забранной в Порт-Артуре?.. Разве думали об этом люди, основной мыслью которых было — «угодить» и «не прогневить», а главной заботой — в случае чего, сухим из воды выйти… Теперь, когда случилось худшее, чем можно было ожидать, когда всякий другой выход, грозивший не столь полным разгромом, кажется почти успехом, они пользуются своей лазейкой, но воображаю, какой вопль поднялся бы с их стороны, если бы адмирал тогда принял подобное решение! Как они кричали бы о преступном разделении сил, о гнусном предательстве товарищей, брошенных, обреченных в жертву и т. д…
Впрочем, довольно об этих господах. История вынесет им свой беспристрастный приговор.
В таких обстоятельствах что оставалось делать? Одно только — до конца исполнить свой солдатский долг: повинуясь приказанию, «идти овладевать морем» — идти, хотя бы и «не имея надежды» достигнуть успеха собственными силами. Единственная надежда, какая была, это на помощь Божию… Может быть, туман, свежая погода помогут проскочить незаметно? Может быть, Бог нашлет затмение на всегда бодрого и деятельного врага?.. Плохо верилось… Помните, у Пушкина:
Тесним мы шведов рать за ратью, Бледнеет слава их знамен, И Бога браней благодатью Наш каждый шаг запечатлен…В этой войне благодать «Бога браней» запечатлевала шаги японцев. Помимо их превосходства в смысле лучшей подготовки, организации, снабжения и проч., и сам «случай» всегда был на их стороне: «Петропавловск» наткнулся на такую же минную банку, как и «Победа», но первому удар пришелся против минного погреба, детонировавшего на взрыв, а последней — против полной угольной ямы; первый погиб, вторая только получила крен 4 градуса и без посторонней помощи под собственными машинами вошла в гавань для исправления… Наконец, и с «Петропавловска» спаслись многие офицеры, спасся великий князь Кирилл Владимирович и командир броненосца, стоявшие перед катастрофой рядом с адмиралом, но Макаров погиб… А 28 июля? Снаряд, убивший адмирала Витгефта, разве не был счастливым снарядом? Ведь «Миказа» тоже потерпела, и сильно, немногим меньше «Цесаревича», а Того не получил даже царапины!.. А в том же бою, сбитые верхушки обеих мачт «Пересвета», вследствие чего адмирал князь Ухтомский не мог делать сигналов, видимых всею эскадрой? Это — не счастье? Или скажут, что это были прицельные хорошие выстрелы, что так и хотели сделать? Нет! В этой войне не оправдал себя старый клич земли русской — «с нами Бог!» — Бог был «с ними»…
Надежда на счастливый случай, на благоприятные условия погоды, способствующие незаметному прорыву, на оплошность неприятеля — являлась весьма смутной. Но другой не было.
Смею думать, вряд ли на эскадре находились люди (кроме разве зеленой молодежи), которые рассчитывали бы на успех в решительном, открытом бою. Наоборот, были такие, которые утверждали, что японцы, глубоко уверенные в своем превосходстве, не только не станут мешать, но даже готовы помочь нам достигнуть Владивостока, имея целью заблокировать нас там, а по взятии крепости получить вместе с ней, в виде бесплатной премии, вторую эскадру по образцу того, как это блестяще удалось им исполнить в Порт-Артуре. Стоя на этой точке зрения, командир «Олега» на одном из совещаний предлагал адмиралу держать пари на крупную сумму, что если мы пойдем во Владивосток, то японцы, обнаружив наше намерение, всячески будут уклоняться от боя даже в случае неожиданной встречи. Адмирал не принял заклада, сказав, что с его стороны это было бы явным грабежом. Он держался противного мнения. Он считал, что японцы примут все меры к тому, чтобы не допустить нас до нашей базы, где мы можем отдохнуть, поправиться, починиться, оставить все лишнее, реорганизовать отряды, после чего борьба с нами будет много серьезнее. А так как в руках их было и превосходство сил и организации, то решительный бой по пути во Владивосток являлся неизбежным. Оставалось избрать этот путь, руководствуясь соображением, где легче будет проявиться Божьей помощи и где, в случае отказа с этой стороны, мы все же будем в наименее скверном положении.
Заранее прошу извинения у моих читателей, что вынужден остановиться на этом вопросе и рассмотреть его более подробно: уж слишком много вздору написано по этому поводу господами, самозванно выступившими в роли авторитетов военно-морского дела.
Дорога во Владивосток, во всяком случае, лежала через Японское море, находившееся в то время всецело в руках неприятеля, так как владивостокский отряд не проявлял, да и не мог проявить никаких признаков жизни. Это было нам достоверно известно. В Японское море вели 4 пути (не считая мелководного Татарского пролива), а именно: Корейский пролив — между южной оконечностью Кореи и Японским архипелагом, разделенный о-вом Цусима на два рукава — западный и восточный, Сангарский пролив — между о-вами Ниппон и Иезо и Лаперузов пролив — между о-вами Иезо и Сахалин (См. карту Японского и Желтого морей).
Единственным для нас шансом на успех было: внезапность появления и дурная погода, которою мы могли бы воспользоваться для скрытия своего движения (туман) или как препятствием для боя (свежий ветер, волна, крупная зыбь). Который же из путей?
О Сангарском проливе говорить нечего. Кажется (буду справедлив), даже малосмысленные «стратеги» и те о нем не заикались. Это узкость, имеющая между мысами при входе и выходе всего 9—11 миль, а если мерить по «чистой» воде, т. е. между прибрежными опасностями, то фарватер суживается местами до 7 миль. Сильное течение. Словом — и в мирное время, при тумане или ненастье, препятствующем видеть берега (днем) или маяки (ночью), не только эскадра, но даже и одиночный корабль мог решиться на проход им лишь в случае крайней необходимости. К тому же на северном берегу (Иезо) японский военный порт Муроран, а на южном (Ниппон) — такой же порт Аомори. Идти этой дорогой было бы шествовать на заклание (Опыт Владивостокской эскадры говорил о другом).
Корейский пролив к западу от Цусимы — если не узкость, то все же что-то в этом роде, так как на протяжении 40 миль пути материк и прилегающие к нему отдельные о-ва южнокорейского архипелага приближаются к Цусиме на расстояние до 25 миль. Сколько помнится, и на эту дорогу «стратеги» указывать не решались.
Оставалось два пути: Корейский пролив к востоку от Цусимы и Лаперузов пролив.
И тот и другой имеют общий характер (наглядно выражаясь) системы двух воронок, соединенных узкими концами и круто раскрывающихся в обе стороны. Наикратчайшее расстояние между мысами Крильон (Сахалин) и Соя (Иезо) — 22 мили, но на SO от Крильона в дистанции 11 миль лежит пренеприятный «Камень Опасности», едва возвышающийся над поверхностью воды и поднимающийся круто, сразу с большой глубины, так что лот не может предупредить о приближении к нему. Обстоятельство крайне опасное при плавании в тумане, фактически уменьшающее ширину пролива почти вдвое. Что касается восточного рукава Корейского пролива, то в самой узкой его части — между южной оконечностью Цусимы и островом Икисима — расстояние 25 миль, причем никаких подводных или надводных опасностей не имеется; проход совершенно чист вплотную к берегам.
Кроме того, раструб восточной воронки Лаперузова пролива выходит не в океан, а в Охотское море и, так сказать, упирается в Курильскую гряду, которую, идя с океана, необходимо пересечь, чтобы достигнуть самого пролива. Люди, плававшие в водах Дальнего Востока (просят не смешивать с отбывавшими ценз), по личному опыту хорошо знают, а не-плававшие из лоции могут узнать, что такое Курильская гряда, особенно в весенние месяцы. Это царство тумана, про который моряки говорят: «Как молоко»…
Нашей «армаде», которая, даже в ясную погоду, при наилучших условиях плавания, с трудом сохраняла некоторое подобие строя, предстояло, идя в «молоке», пересечь Курильскую гряду, пройти неширокими (в смысле чистой воды) и плохо обследованными проливами между островами, удачно попасть в воронку Лаперузова пролива, счастливо миновать Камень Опасности и, выйдя на простор Японского моря, следовать во Владивосток (Насколько все это просто, наилучшей иллюстрацией может служить судьба нашего приза, парохода «Ольдгамия», который именно этим путем был отправлен во Владивосток. Вёл его опытный моряк коммерческого флота Т., имевший помощников по своему выбору. Он не попал в пролив, влетел на камни острова Урупа и был сожжен, чтобы не достаться японцам). Прошу заметить, что в данный момент я разбираю вопрос с точки зрения чисто навигационной, оставляя в стороне всякие соображения о возможных действиях со стороны японцев.
- — Путь первой эскадры Тихого океана 28 июля 1904 г.
I Первый выстрел
II Конец боя
……………. Прорыв «Дианы»
____________ Путь второй эскадры Тихого океана 13 и 14 мая 1905 г.
III Полдень 14 мая 1905 г.
IV Первый выстрел.
III Гибель «Бородино» (конец боя).
На подходе к Корейскому проливу никаких опасностей не было. Воронка его, в сторону Желтого моря, развертывается свободно во всю ширь последнего, равно как и в восточном направлении с 25 миль быстро переходит на 75 (здесь именно и разыгрался бой), а дальше — в Японское море. Есть где разгуляться (Стыдно сказать, но «из песни слова не выкинешь», почти через два года после боя при Цусиме мне пришлось слышать, как на заседании одного почтенного общества один почтенный лектор сравнивал этот бой с Саламинским сражением (!), искренне убежденный, что и он происходил в «узкости», куда корабли нашей эскадры «втягивались один за другим» (!), тогда как неприятель пользовался полной свободой маневрирования… О, милые соотечественники! кто вас до такой степени одурачил, что вам даже в голову не приходит справиться с картой и прикинуть расстояние циркулем? Лень, или… разучились, или уж так привыкли слепо верить всему, что напечатано с одобрения начальства?..). Возможное течение строго на учете. Безопасность плавания, в смысле навигационном, обеспечена. Чем гуще туман, чем хуже погода, тем лучше для нас. Здесь, на этом просторе, они — наши верные союзники. А там, на севере, — враги. И, Бог весть, какой враг страшнее — они или японцы…
Так говорили старые, поседевшие на своем ремесле штурмана.
Теперь — вопросы тактики.
Внезапность. — Где вероятнее было осуществить этот принцип? — Предпринять поход кругом Японии через Лаперузов пролив с тем, хотя бы через меру, усиленным запасом угля, который имели суда эскадры, представлялось невозможным. — Значит, необходима подгрузка в пути. — Где же? — В море? Но Тихий океан в широте Японии — это не тропики, где погода расписана по календарю на целый год; здесь можно было неделями выжидать и все-таки не выждать благоприятных условий для погрузки в океане. Такой мелочью, конечно, могли пренебрегать стратеги Маркизовой лужи, но мы, моряки, должны были учитывать это обстоятельство. Если в море грузиться нельзя, надо идти к берегу, зайти в бухту или хотя бы прикрыться каким-нибудь мысом… — Где же? У какого берега? — Конечно, у японского, так как другого нет… — Но ведь тогда какая же внезапность? Карты раскрыты, маршрут наш в точности определился, и если даже, преодолев все навигационные трудности, счастливо «взяв все барьеры», ускользнув милостью Божией от ловушек, поставленных нам в проливе, мы выйдем в чистое море, — здесь, лицом к лицу, нас встретит японский флот в полном составе, веселый, бодрый, готовый к бою.
Между тем, подгрузившись последний раз у северной оконечности Формозы (где погода все еще держится по календарю) и по возможности заметая следы, мы могли через трое суток после того появиться в Корейском проливе. При некоторой удаче мог быть осуществлен принцип внезапности и с большим вероятием, нежели при походе Лаперузовым проливом, где было не одно, а много «если» (До известной степени это предположение осуществилось. Из официальных японских донесений явствует, что 12 и 13 мая всякий след эскадры был потерян японцами. В ночь на 14 мая адмирал Того, стоя с главными силами «близ Фузана» (очевидно, в Мазампо), совершенно не знал о месте нашего нахождения и ждал известий одинаково как с юга, так и с севера. Только в 4 ч. 25 мин. утра 14 мая японский вспомогательный крейсер «Синано-мару», бродя наудачу, случайно в тумане едва не столкнулся с одним из наших госпитальных кораблей, шедших позади эскадры. Опознав их (что было нетрудно, благодаря их окраске, установленной на Гаагской конференции, — белая труба, белый борт с продольной красной полосой и с огромным красным крестом), он, весьма естественно, решил, что они следуют за эскадрой, и действительно, пройдя несколько вперед по их курсу, открыл наши главные силы, о чем и донес немедленно.
Чем объяснить этот факт? Сказать, что это результат правильно поставленной разведочной службы? Полноте! Туман суживал горизонт до двух миль, а на сотни миль Корейского пролива у японцев было всего 16 разведчиков. Пройди «Синано-мару» через тот же пункт на 10 минут позже, и он ничего бы не увидел… Нет! Здесь, как и во всей этой несчастной войне, нельзя с глубокой горечью не сознаться, что Бог был не с нами.).
Наличие всех сил в решительный момент. Заметая следы (это удалось), подходя прямо с океана и направляясь в широкий раструб Корейского пролива, мы имели полное основание надеяться вступить в него в полном составе, никого не растеряв ни на каменьях, ни от мин, набросанных по пути, ни от минных атак. При следовании Лаперузовым проливом, с предварительным проходом через Курильскую гряду, такая надежда была бы… по меньшей мере крайне слабой.
Допустим, однако же (это допущение особенно облюбовано нашими «стратегами», охотно пророчествующими задним числом), что, избрав путь через Лаперузов пролив, мы снискали бы расположение сил небесных, имели бы случай беспрепятственно погрузиться углем в море; при проходе между Курильскими островами невидимая рука, своевременно и на срок нам необходимый, отдернула бы туманную завесу, а затем вновь накрыла бы ею тайну нашего плавания и т. д. Но в самом горле пролива, между мысами Крильон и Соя, нас же открыли бы наконец! Ведь не что-нибудь, не иголка в стоге сена, а целая эскадра!.. Пусть даже такое счастье, что только открыли, но не сумели бы, или не успели бы, причинить никакого вреда (Как выяснилось впоследствии, у японцев для наблюдения за северными проливами и охраны их был отряд под командой контр-адмирала Накао. Вряд ли удалось бы пройти безнаказанно, т. е. без потерь). От Лаперузова пролива до Владивостока дистанция 515 миль — ровно столько же, как от Владивостока до Мазампо, где, по последним сведениям, находился Того (он и действительно оказался там). Допустим, что нам «повезло», что стоя здесь и поджидая нас с юга, он получает краткую телеграмму: «Русская эскадра в полном составе проходит между мысами Крильон и Соя». Он, даже не слишком торопясь, снимается с якоря и, обладая эскадренной скоростью, в пол-тор'а раза превосходящей нашу, выходит нам на пересечку… В результате — все тот же решительный бой за обладание морем, без которого нельзя добраться до Владивостока.
В чем же выгода так охотно, задним числом, проповедуемого похода через Лаперузов пролив? В наилучшем случае, при осуществлении всех многочисленных «если бы», — то же, что и при выборе ближайшего и удобнейшего в навигационном отношении пути через Корейский пролив, — решительный бой со всем японским флотом.
Нравственный элемент. Кроме того, не говоря уже о гибельном влиянии, которое мог бы оказать на полу надорванные физические силы личного состава резкий переход от 6-месячного пребывания в тропиках к холодным туманам Охотского моря, где даже в конце июня встречаются плавающие льды, — огромное значение в деле выбора пути играл учет «настроения», господствовавшего на эскадре, того «нравственного элемента», на который тактика рекомендует начальнику обращать особое внимание.
Я неоднократно указывал на причины, приведшие личный состав эскадры в состояние, близкое к полной деморализации. Не буду повторять их, скажу лишь, что если эскадра еще существовала как нечто целое, то она держалась исключительно верою в своего начальника, в его несокрушимую энергию. Однако же мне казалось (может быть, я ошибаюсь), что и эта спайка начинала сдавать… — Передержали!.. — Если даже у офицеров порою вырывались безнадежные возгласы вроде: «Хоть бы пришли японцы и утопили!» — то как разгадать, что творилось в глубине масс, в душе этих 12 000 и физически, и нравственно переутомленных людей? Этот глухой ропот, который слышался кругом, это недовольство, выражавшееся нелепыми, дикими вспышками, — не являлись ли они результатом инстинктивного, не определяемого словами, но ясно чувствуемого сознания, что «дальше — так нельзя», что «на бой — еще хватит, но на ожидание — нет»…
Мне невольно приходили на память тяжелые минуты из времен Порт-Артура, когда казалось — вот-вот из недр темной толпы, мало осведомленной в тонкостях военного дела, живущей не рассудком, но сердцем, вдруг криком вырвутся те безумные слова, те чудовищные подозрения, о которых пока только шепчутся по углам: «Измена! Начальство нас продало!»
Может быть, здесь это было бы формулировано иначе. Может быть, здесь заговорили бы: «Куда ведут? Опять не в бой? Долго ли еще? Когда же конец? Измором взять хотят, что ли?..»
С этим необходимо было считаться.
Решение было принято. Путь избран — Корейский пролив.
В надежде (довольно слабой) отвлечь внимание неприятеля от этого пункта, вызвать, может быть, разделение его сил, — решено было с дороги послать вперед, к восточным берегам Японии «Кубань» и «Терек» для крейсерских операций на подходах к Токийскому заливу с востока (из Америки) и с юга (из Гонг-Конга). Появление их в этом районе при успешной (в смысле демонстративном) деятельности вполне естественно могло бы вызвать предположение, что дерзость такого поведения объясняется близким присутствием главных сил эскадры, следующей кругом Японии и направляющейся к Ла-перузову проливу.
К сожалению (не берусь судить, по каким причинам), крейсера эти ничем не проявили своего присутствия у берегов Японии. Японцы даже и не подозревали, что они бродят поблизости…
Немалое затруднение создавалось также заботливым предупреждением Главного морского штаба: не обременять собою скудно снабженного и оборудованного владивостокского порта и не рассчитывать на подвоз по сибирской дороге. С одной стороны, элементарные правила тактики предписывали идти в бой налегке и, уж конечно, не иметь при эскадре транспортов, стесняющих ее действия, с другой — это любезное предостережение. Послать транспорты во Владивосток в качестве обыкновенных блокадопрорывателей — значило бы заведомо предать их в руки японцев, стерегущих все подходы к нему. Взять всю ораву с собою, вести под своей охраной — недопустимо с тактической точки зрения. Отправить их в нейтральный порт с тем, чтобы, в случае удачного завершения предприятия, диверсиями из Владивостока прикрыть их прибытие в указанные сроки? Было бы недурно. Но в случае, скажем, не полной неудачи, а хотя бы значительных потерь и повреждений, из-за которых на более или менее значительный срок эскадра будет лишена возможности предпринять подобную диверсию, — как быть в этом случае? Как обойтись это время, «не обременяя порта и не рассчитывая на железную дорогу?» Приходилось идти на компромисс. Адмирал решил так: боевым судам принять запасов и материалов, сколько позволяет вместимость имеемых для того помещений (Эти помещения (погреба, кладовые) устраиваются на военных судах с таким расчетом, чтобы можно было главнейших запасов и материалов принять на 4-месячную кампанию, но так как всегда имеется некоторый запас места, то кое-чего можно принять и на больший срок — до 6, даже до 8 месяцев.); на транспорты «Анадырь», «Иртыш» и «Корея» (самые крупные и надежные, с ходом 14 узлов) перегрузить возможно большее количество запасов, необходимых в первую голову, — мины, материалы для ремонта боевого вооружения, запасные части механизмов и т. п.(К тому же в своих трюмах эти три транспорта (огромного водоизмещения) имели в общем более 15 000 тонн угля, т. е. количество, достаточное для одной погрузки полного запаса всей эскадрой); с плавучей мастерской «Ксения» передать на «Камчатку» все, что флагманские инженер-механики и корабельные инженеры найдут полезным, до станков включительно, сдав в обмен, для освобождения места, все, что не будет признано насущно необходимым; лучшим мастеровым «Ксении», буде окажутся желающие, предложить перевестись на «Камчатку», а с последней убрать худших и таких, что неохотно идут на театр военных действий; 6 транспортов отослать в Сайгон; 7 транспортов и плавучую мастерскую «Ксения» отослать в Шанхай.
Три вышеназванные отборные транспорта и «Камчатка» должны были следовать при эскадре и разделить судьбу ее в попытке достигнуть Владивостока. Кроме них, решено было взять с собой буксирные и водоотливные пароходы «Русь» и «Свирь» для буксировки и оказания помощи судам, потерпевшим в бою или от мин, а также госпитальные корабли «Орел» и «Кострома». Транспорты, отправленные в Сайгон и Шанхай, должны были, тотчас по прибытии, принять полные грузы угля и других припасов и материалов от известных агентов и быть готовыми, с получением условной телеграммы, к немедленному выходу в море на указанное рандеву.
В то время мы еще не изверились окончательно в международном праве. Нам в голову не приходило, что наши транспорты, обыкновенные пароходы под коммерческим флагом, могут быть, под давлением Англии, «интернированы» в нейтральном порту, что госпитальные суда могут быть забраны как призы, отведены в неприятельский порт и лишены возможности выполнять свое прямое и единственное назначение — оказывать помощь раненым и утопающим…
Вот каковы были, насколько мне известно, мотивы принятых решений.
1 мая тронулись в путь. Чтобы не утомлять внимания читателей подробным перечнем судов, скажу кратко, что походная диспозиция (дневная и ночная) имела в общем тот же характер, как и на подходе к берегам Аннама.
Транспорты, пришедшие с адмиралом Небогатовым, вошли в отряд нашего транспортного отряда, заменив те четыре, что были отправлены в Сайгон. «Мономах» поступил в крейсерский отряд адмирала Энквиста, а четырем броненосцам приказано было идти в замке эскадры, в строе фронта. Последнее не без особого умысла: хождение в строе фронта — наилучший прием практического обучения соблюдать свое место согласно эскадренной диспозиции.
Дальше, как и обычно на походе, мой дневник становится немногословным, кратко, но точно отмечающим события в строгой их последовательности.
Позволю себе, для этих дней, возможно ближе придержаться к нему, давая лишь самые необходимые пояснения некоторым фразам, малопонятным по их отрывочности.
XI Дневник последнего перехода. — «К РАСПЛАТЕ!»
1 мая. — Сегодня — и воскресенье, и майский праздник. Казалось бы, день для начала похода, по приметам, чего удачнее. С 6 ч. утра начали выходить из бухты стоявшие там суда. К 8 1/2 — построились в походный порядок, а затем был сигнал — «Транспортам взять на буксир миноносцы». Демонстративно присутствовал Жонкьер на «Guichen».
Теперь уже по чистой совести может донести, что ушли окончательно. Милейший тип. Можно ли не верить искренности его пожеланий? (По беспроволочному телеграфу) Что следовало ему ответить? — «Adieu, mon amiral», — или — «Au plaisir de vous revoir»?..
Как знать, чего не знаешь?..
В 11 утра легли на настоящий курс и дали ход 9 узлов. В добрый час!
Настроение… ничего! Пожалуй, на бой еще хватит. Даже острят, что следующий адмирал хоть придет на третьей эскадре со «Славой» (Броненосец «Слава»), но славы ему не видать, потому что либо соизволением Божиим она нам достанется, либо вместо нас будет пустое место, а тогда ему и соваться нечего. Недурно. Похоже на «Morituri tibi salutant». С. (лейтенант) мрачнее ночи. Каркает. Показывает на карту (на предстоящий нам путь) и говорит — «Via dolorosa»… После обедни и молебна о благополучном плавании, в своей компании, спрыснули выступление бокалом Мумма. С. (лейтенант) опять — «Пир во время чумы». — Встравился, даже изругал его (по-приятельски): — Зачем бередить? Сами знаем! Переделать, перерешить не в нашей власти. А больше одного раза не убьют…
2 мая. — Пока что — благополучно. Ночью, бродяжничая, заглянул в кают-компанию. Сидят В. (старший механик), Е. и Г. (прапорщики запаса), пьют пиво и едят бутерброды с колбасой. — Что такое? — Не понимаете? А еще штурман! Самое время. Ведь семь часов разницы по долготе? Ну, значит, как раз теперь все петербургские немцы закусывают в Екатерингофе! — Хохочут. Молодцы! К черту всякие предчувствия!..
Погода тихая. Жарко. Встретили 3 парохода — пересекаем торную дорогу (usual track) из Сингапура в Гонг-Конг.
3 мая. — Удачно вышли в отношении ночного плавания. Через два дня полнолуние. Ночью светло, как днем; прожекторы ни к чему. Пока мы не свободны в своих действиях (конвоируем транспорты), для нас всего опаснее ночная минная атака. На кораблях нет-нет да и повреждение. Идем третьи сутки, а повреждались уже: два раза «Тамбов», по одному разу — «Орел» (броненосец), «Наварин» и «Сисой». Правда, ненадолго, а все же задержка и, главное, отсутствие уверенности в их исправности. Что-то будет в бою?.. Разведочный отряд идет впереди, рассыпавшись дозорной цепью. Пытаемся раскинуть цепь пошире, поддерживая связь телеграфом. Сдает. Ненадежен. Кто виноват? Неопытность наших минеров или система «Сляби-Арко», принятая техническим комитетом? — Черт их разберет!.. Факт налицо, а «икал или не икал перед смертью» — по-моему, безразлично…
4 мая. — Утром опять повреждение у «Наварина». Часов пять шли малым ходом. Разведчики снова в дозорной цепи. Это теперь принято за правило. В 5 1/2 ч. вечера «Орел» вышел из строя — повреждение в рулевой машине. Сегодня особенно жарко и душно. Солнце в зените, и мертвый штиль.
5 мая. — Ночь прошла спокойно. С рассветом остановились и начали грузить уголь. На III отряде, с непривычки, плохо ладится. Впрочем, им немного и нужно. В 3 ч. дня окончили погрузку. Отпустили в Сайгон «Тамбов» и «Меркурий» с объявлением (сигналом) особой благодарности «за блестящую службу при эскадре». К 5 ч. построились. Вдруг — задержка. Ввиду ухода «Тамбова» миноносец, шедший у него на буксире, поручили вести «Ливонии». Она с ним возилась 1 1/2 часа, наконец справилась. Тронулись, прошли два часа — опять лопнул буксир, и началась та же история. Избавили «Ливонию» от непосильной задачи и передали миноносец «Свири». Досадно — все это время ползли по 3 узла. В 10-м часу вечера увидели за кормой пароход. Послали «Олег» для осмотра. Оказался англичанин; капитан говорит, что груз керосин; коносаментов нет; идет в Нагасаки. Задержали при эскадре, отложив подробный осмотр и решение до завтра.
6 м а я. — В 2 ч. ночи — повреждение в машине на «Апраксине». Сигналом донес, что исправление займет сутки, а пока не может идти больше 6 узлов. Недурно для начала. Будь они прокляты, наши «стратеги» и высланные ими «подкрепления»!.. — Пароход «Oldhamia» крайне подозрителен. К. (прапорщик запаса) опытный моряк (видал виды) — указывает: на пароходе угольные ямы почти пусты; угля, в обрез, до Нагасаки; между тем сидит в воде до ллойдовской марки (Особая метка на борту, наносимая по правилам Ллойда и показывающая предельное углубление в полном грузе. Если эта мерка ушла в воду, пароход перегружен, небезопасен для плавания, и ни одно общество не примет его на страховку). Керосин в жестянках и деревянных ящиках — груз громоздкий, но легкий. Ему (т. е. К.) случалось ходить с таким грузом. Заваливали не только трюмы, но все свободные помещения, принимали даже на верхнюю палубу; балластные цистерны заливали водой (для устойчивости); угля брали сверх полного запаса, и все же ллойдовская марка была на несколько футов выше воды. На «Oldhamia» угля мало, а груз — весь в трюмах. Верхняя палуба свободна. Откуда же такая осадка? Очевидно, на дне, под ящиками, лежит что-то весьма тяжелое. Капитан отказывается предъявить коносаменты. Опросом команды выяснилось, что все они, за исключением двух доверенных лиц капитана, набраны накануне выхода из порта, при погрузке парохода не присутствовали и о содержимом в трюмах ничего достоверного сказать не могут. Капитан со своими помощниками и механиками, равно как и те двое, что были при погрузке, не дают, вернее, не желают давать никаких объяснений. Зато один из матросов (немец) сообщил о нечаянно подслушанном им, за время плавания, разговоре посвященных, из которого он понял, что в носовом трюме — снаряды, а в кормовом — орудия. Адмирал решил забрать и отправить во Владивосток, чтобы там доподлинно убедиться, каков груз. Угля на такой поход не хватит. Приказали (пользуясь штилем) «Ливонии» снайтовиться с «Oldhamia» и перегрузить на нее 600 тонн. Послали на пароход военную команду и офицеров. Все утро простояли на месте. Около 10 ч. задержали еще пароход. Норвежец. Пустой. Идет на юг. Отпустили. Пользуясь остановкой, разослали по судам приказ (от 6 мая за № 240) о порядке ночного плавания между группами Японских о-вов и мерах предосторожности против набрасывания по пути эскадры плавучих мин. (О мерах предосторожности против замаскированных ночных атак, о возможности которых доносили наши агенты, уже было объявлено приказом от 20 апреля за № 216.) В 11 ч. 30 мин. утра тронулись дальше. «Ливония» идет, снайтовившись с «Oldhamia», на ходу перегружает уголь. В то же время особая команда пробует добраться до дна носового и кормового трюмов. Работа крайне затрудняется тем, что ящики (намеренно или вследствие спешной погрузки) уложены плохо. Приходится прокладывать настоящие шахты, укреплять их стены, да и то, без навыка в подобном деле, постоянно происходят обвалы. Лишний повод в смысле подозрительности перегрузки: так небрежно уложенный груз является еще более громоздким — откуда же осадка до предельной марки?
7 м а я. — 5 ч. утра. — Черт возьми! Что значит сила привычки, любовь к стихии, с которой сроднился, на службе которой прошли лучшие годы жизни!.. Вчера с вечера стало задувать от Ost'a. К полночи «Ливония» и «Oldhamia» были вынуждены расцепиться. За ночь разошлась волна. Иллюминаторы задраены. Поддает даже на срез. Покачивает. Но какой рассвет!.. Вылез наверх подышать свежим воздухом — и жаль уходить! Настоящее море! Бежит волнишка; дует соленый, славный, бодрящий ветер; дышится полной грудью… Как раз проходим Батан и Сабтан (О-ва между Формозой и Филиппинами). Слава Богу! Кажется, осталось позади проклятое болото штилевого пояса… Привет тебе, безбрежный океан!..
8 мая. — Вчера — день без приключений; ночь — тоже. Сегодня утром сняли с «Oldhamia» лишнюю команду. Докопаться до дна трюмов не удалось. Ничего — разберут во Владивостоке. Пойдет самостоятельно Лаперузовым проливом. Командиром приза назначен Т. (прапорщик запаса) с «Суворова». Помощники — по его выбору. Команда с судов эскадры. Капитана, механика и их помощников пришлось убрать. Вели себя вызывающе. Были попытки испортить машину, даже затопить пароход. Куда убрать? На боевые суда? Адмирал неожиданно проявил сентиментальность: — За что под расстрел людей нейтральных, хотя бы и занимающихся военной контрабандой? — Отправил их на единственную поблизости нейтральную территорию — на госпитальный «Орел», под покровительство флага Красного Креста. Оттуда с удивлением спросили: «Прибыло 5 здоровых англичан. Что с ними делать?» Адмирал приказал ответить что-то вроде «позаботьтесь о их добром здоровье до ближайшего порта». В 2 ч. дня сначала «Жемчуг», потом «Ослябя» и, наконец, «Светлана» увидели воздушный шар. «Светлана» указала даже румб и высоту. Послали по этому направлению «Олег» и «Жемчуг», но без результата. От нас (с «Суворова») тоже видели, даже многие. Я не видел. Н. (лейтенант, флаг-офицер) утверждал, что это не шар, а оборвавшийся военный разведочный змей. Летел высоко и шел на S. Если там были аэронавты — не завидую. К вечеру небо заволокло. Гроза. Дождь.
9 мая. — Ночь ненастная, но прохладная. Заметно, что вышли из тропиков. — В 8 ч. утра легли на NW 20° — курсом между Миако и Лиу-Киу.
Облачно; мглисто; волна; ветер NNO. Предполагали сегодня грузиться углем. Не удалось из-за погоды.
Еще вчера «Кубань», а сегодня и «Терек» отделились от эскадры для крейсерства у восточных берегов Японии. Дай им Бог нашуметь побольше. — Ветер отходит влево, к NW. Маневрировали, обучая III отряд. Полная неподготовленность. Из всех строев удается только один — «строй безобразной кучи»… — Грустное зрелище… — К полдню погода несколько исправилась. Может быть — все к лучшему. Погрузка не удалась, но из-за ненастной погоды мы не видим островов, между которыми проходим, а значит — и нас оттуда подавно не видят. Наше место — загадка. Бог даст, погрузимся завтра, когда будем уже вне возможной видимости с островов и как раз в мертвом пространстве, не пересекаемом никакими торговыми путями.
К вечеру совсем стихло.
10 мая. — Ночь прошла спокойно. В 5 ч. 30 мин. утра за стопорили машины и начали погрузку угля. Штиль, но пасмурно. Как будто к ненастно. Сигналами, телеграфом указано, что погрузка, вероятно, последняя. Приложить все усилия, допринять столько, чтобы к утру 13 мая оставался в угольных ямах полный, нормальный запас (Как дерзко лгут те, что утверждают, будто в бою суда были перегружены углем!..). Плохие вести о Фелькерзаме: бред, температура 35 градусов, пульс 160. Спросил старшего доктора, что это значит в переводе на общепонятный язык. Свирепо буркнул: «Агония…» — махнул рукой иушел прочь. Командиру «Осляби» дано секретное предписание — по смерти Фелькерзама не спускать его флага. Нервы так натянуты. Смерть адмирала накануне боя. Как это примут? Может быть — ничего, а может быть — сочтут за примету и вдруг «сдадут», ослабеют…
Пользуясь временем погрузки, разослали по судам последний приказ. Начинается словами: «Быть ежечасно готовыми к бою»…(Приказ от 10 мая за № 243. Как знать, если бы командиры знали, что на них этим приказом возлагалась обязанность — немедленно по выходе «Суворова» из строя перевезти адмирала со штабом на другой, неповрежденный корабль, — может быть, не все еще было бы потеряно?.. Ведь последняя, причинявшая наибольшие страдания, свалившая его с ног рана была получена адмиралом приблизительно через 40 минут после того, как «Суворов» лишился возможности руководить действиями эскадры)
11 мая. — Погода явно портится. Тем лучше. Ни поломок, ни задержек. Ни одного встречного. Это отлично. Настроение — ничего. Подтянулись, выглядят бодро.
12 мая. — За ночь окончательно разненастилось. Небо — ровного серого цвета. Мелкий частый дождь. Свежий ветерок. — Предполагалось, раньше чем отпустить транспорты, последний раз погрузить углем миноносцы, так как отсюда и вплоть до Владивостока такой возможности уже не предвиделось. Не удалось из-за погоды. Что ж делать! Если без особых приключений, то должно бы хватить и того, что есть. Хотя, конечно, запас не тяготит и никогда не вреден…
В 90 милях от Шанхая (по счислению) отправили туда транспорты. При них, в виде конвоя, — «Днепр» и «Рион». Эти последние, проводив беззащитных до устья, должны заняться своим (крейсерским) делом на подходах с юга к портам Западной Японии и Желтого моря.
На прощание — обмен трогательными сигналами.
Горизонт сужен дождем до 2–3 миль. Разлука — без свидетелей. Вообще все данные полагать, что от южной оконечности Формозы и до сего места никто нас не видел (Это так и оказалось в действительности). Недурно. Дай Бог и впредь также. С. бродит по мостику мрачнее ночи. Взял его под руку.
Ну, вот, видите: дошли-таки и…
Что «и»?
И… дальше, пока что, идем.
Идем, идем… как это вы говорили? забыл… Ах да!.. — К РАСПЛАТЕ!..(Дни 12, 13 и 14 мая подробно описаны мною в моей книге «Бой при Цусиме»)
Бой при Цусиме
Памяти «Суворова»
I
… Свежий ветер уныло гудит в стальных снастях рангоута и сердито гонит низкие, рваные тучи; мутные волны Желтого моря глухо плещутся о борта броненосца; мелкий, холодный дождь слепит глаза; сырость пронизывает до костей… и тем не менее группа офицеров все еще стоит на заднем мостике, провожая глазами медленно скрывающиеся за сеткой дождя силуэты транспортов.
На мачтах, на ноках рей развеваются сигналы — это наши спутники в дальнем и тяжелом плавании шлют нам свое последнее прости, свои последние пожелания.
Отчего на море этот братский привет, выраженный сочетанием флагов, так волнует душу, говорит ей больше всяких салютов, криков, музыки?.. Почему, пока не спущен сигнал, все смотрят на него, молча и сосредоточенно, словно это живые слова, а не пестрые тряпки вьются по ветру и мокнут под дождем?., а когда сигнал спущен, отворачиваются, и каждый, так же молча, идет к своему делу? — Словно дано последнее, безмолвное рукопожатие, — простились окончательно…
— Ну и погода! — восклицает кто-то, чтобы нарушить молчание.
— Погода богатейшая! — возражает другой делано шутливым тоном. — Если бы такую до самого Владивостока, то и слава Богу! Никакой генеральной баталии не устроишь!..
Снова запестрели сигналы — эскадра, отпустив транспорты в Шанхай, перестраивалась в новый и последний походный порядок.
Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков»
Впереди, в строе клина, шел разведочный отряд из трех судов: «Светлана», «Алмаз» и «Урал»; затем эскадра в двух колоннах: правую составляли I и II броненосные отряды, то есть 8 кораблей — «Суворов», «Александр», «Бородино», «Орел», «Сысой», «Наварин», «Нахимов»; в левой были III броненосный и крейсерский отряды, то есть тоже 8 кораблей — «Николай», «Сенявин», «Апраксин», «Ушаков» и «Олег», «Аврора», «Донской», «Мономах». По обе стороны эскадры на линии головных броненосцев, держались «Жемчуг» и «Изумруд»; при каждом из них по паре миноносцев — это были наши дозорные справа и слева. Сзади, слегка врезавшись между нашими колоннами, шла колонна транспортов, которые необходимо было довести до Владивостока (Жестокая ирония: мы стремились прорваться к своей базе, имея приказание, по возможности, привезти все с собой, чтобы не обременять её (то есть базу) требованиями материалов и запасов, так как железная дорога с трудом обслуживает армию и нам на нее нечего рассчитывать), — «Анадырь», «Иртыш», «Корея», «Камчатка»; тут же, всегда готовые подать помощь, водоотливные и буксирные пароходы — «Свирь» и «Русь». Пять миноносцев (2-е отделение) держались при крейсерском отряде, имея назначением в бою, совместно с ним, защищать транспорты от неприятеля. Совсем позади шли госпитальные суда — «Орел» и «Кострома».
Такое расположение судов давало возможность, в случае появления неприятеля, быстро, без сложных маневров (а значит, и без замешательства), перестроиться в боевой порядок; разведочный отряд, ворочая в сторону от неприятеля, уходит насоединение с крейсерским, который отводит транспорты от места боя и защищает их от покушений неприятельских крейсеров, а I и II броненосные отряды, увеличив ход и склонившись «все вдруг» («Все вдруг» имеет буквальное значение: все корабли одновременно ворочают в ту же сторону, на тот же угол, чем достигается параллельное самой себе перемещение их линии вправо или влево одновременно с движением вперед в зависимости от величины угла поворота. Повернув через некоторое время опять «все вдруг» на тот же угол, но в обратную сторону, корабли опять оказываются в строе кильватера, но на некотором расстоянии вправо или влево от прежнего своего пути.
«Все вдруг» противополагается термину «последовательно», когда каждый корабль ворочает, только придя на место поворота идущего впереди, то есть идет по его следу) влево, выходят под нос III отряду и ложатся на старый курс, вследствие чего все три отряда оказываются в одной кильватерной колонне. Образуется линия нашей кордебаталии — 12 броненосных кораблей. «Жемчуг» и «Изумруд», маневрируя «по способности» и пользуясь своей скоростью, вместе с приписанными к ним миноносцами занимают места у головного и концевого кораблей главных сил (или у фланговых кораблей) со стороны, противоположной неприятелю, вне перелетов его снарядов; их назначение — отражать попытки обхода со стороны неприятельских миноносцев.
Вот была заранее выработанная картина приготовления к бою, известная каждому офицеру на эскадре. Различные особенности перестроения, зависящие от того, в каком именно направлении будет обнаружен неприятель, руководящие правила для действия артиллерии, порядок оказания помощи пострадавшим судам, перенос адмиральского флага с одного корабля на другой, передача командования и т. п. — были изложены в особых приказах командующего, но эти подробности представляют мало интереса для читателей, незнакомых с морским делом.
День прошел спокойно. К вечеру на «Сенявине» случилось повреждение в машине. Всю ночь шли малым ходом. В кают-компании «Суворова» офицеры сердились и бранили «самотопы» (так прозваны были корабли Небогатова). Впрочем, раздражение было хотя и естественно, но не совсем справедливо: мы сами были немногим их лучше. Наше долгое плавание — это был длинный скорбный лист наших котлов и механизмов и мартиролог наших механиков, которым приходилось и рожь на обухе молотить, и тришкин кафтан перешивать наново…
За ночь, по первому холодку после полугода тропиков, отлично выспались, хотя, конечно, повахтенно, то есть полночи одна половина офицеров и команды у орудий, а полночи — другая.
13 мая тучи поредели; выглянуло солнышко, но по морю еще стлалась густая мгла, хотя дул довольно свежий SW.
Предполагая использовать все светлое время на проход вблизи японских берегов, где вероятнее всего было ожидать минных атак, адмирал назначил быть эскадре в средней точке ее пути Цусимским проливом в полдень 14 мая.
При таком расчете у нас оставалось в запасе около 4 часов, которые и были употреблены на «последнее обучение» маневрированию.
Еще раз… последний раз пришлось вспомнить старую истину, что «эскадра» создается долгими годами практического плавания (плавания, а не стоянки в резерве) в мирное время, а составленная наспех из разнотипных кораблей, даже совместному плаванию начавших учиться только по пути к театру военных действий, — это не эскадра, а случайное сборище судов…
Перестроение в боевой порядок (по своей простоте) еще выходило довольно сносно, но дальше… Особенно портил дело III отряд, хотя можно ли было винить в этом его адмирала и командиров? За время практических плаваний близ Мадагаскара и скитанья у берегов Аннама корабли наших отрядов, хоть несколько, получились, хоть несколько ознакомились друг с другом, что называется — «спелись». Третий отряд присоединился к нам всего две недели тому назад, присоединился, чтобы совершить совместный переход и вступить в бой. Учиться было уж некогда.
Адмирал Того, 8 лет не спуская флага, командовал постоянной эскадрой. Пять вице-адмиралов и семь контр-адмиралов, участвовавших со стороны японцев в Цусимском сражении в качестве начальников отрядов и младших флагманов, а также и командиры судов — все это были товарищи и ученики Того, воспитавшиеся под его руководством.
Японские флотоводцы: командующий 3-й эскадрой Соединенного флота вице-адмирал Сичиро Катаока, командующий Соединенным флотом и 1-й эскадрой Соединенного флота адмирал Хейхатиро Того, командующий 2- й эскадрой Соединенного флота вице-адмирал Гиконойто Камимура
В данный момент мы могли сожалеть о своей неподготовленности, и… только.
Для предстоящего боя приходилось пользоваться тем, что было в руках.
Адмирал предполагал (и действительность вполне оправдала его предположение), что в решительном бою Того выступит во главе своих 12 лучших броненосных судов. Против них Рожественский выставлял тоже 12, которые вел лично. В поединке этих двух сил, очевидно, лежал центр тяжести боя. Разница между нашими и японскими главными силами была, и даже существенная: самый старый из 12 кораблей Того — броненосец «Фудзи» — был все же на два года моложе «Сысоя», который среди наших 12 стоял шестым по старшинству. Скоростью хода неприятель превосходил нас почти в 1 1/2 раза… Про главное преимущество японцев — их новые снаряды — мы еще и не подозревали.
Среди маневрирования день 13 мая прошел незаметно.
Не знаю, как на других судах, но на «Суворове» настроение было бодрое и хорошее. Чувствовалась некоторая озабоченность, но без суеты. Офицеры, чаще обыкновенного, заглядывали в команду, обходили свои части, разъясняли, толковали, даже спорили со своими ближайшими помощниками. Некоторые, вдруг надумавшись, сдавали на хранение в денежный сундук дорогие по воспоминаниям вещи, только что написанные письма…
— Совсем точно в отъезд собираются, — остановил меня старший артиллерист, лейтенант Владимирский, показывая на матроса, сосредоточенно копавшегося в чемоданчике.
— А вы уж собрались?
— Я? — удивился он… и вдруг рассмеялся. — Представьте, уже собрался!
— То-то, то-то! — вмешался в наш разговор старший минер, лейтенант Богданов, ветеран прошлой войны, раненный при взятии Таку. — Ведь завтра, а не то и сегодня ночью — пожалуйте в контору — к расчету стройся!
На этого, кажется, никакая обстановка не производила никакого впечатления.
— А у вас нет… предчувствия? ведь вы уж были в бою… — спросил подошедший молодой мичман, державший в кармане руку (явно с письмом, предназначенным для сдачи в денежный сундук).
Богданов даже рассердился.
— Какое тут предчувствие! Я вам не гадалка! Вот если завтра придется на своих боках посчитать японские пушки — сразу почувствуете, а предчувствовать нечего!
Подошли еще офицеры. В несчетный раз поднялся спор: весь ли японский флот встретим у Цусимы или часть его?
Оптимисты утверждали, что Того дастся в обман и пойдет караулить нас на север, так как «Терек» и «Кубань» еще 9-го ушли к восточным берегам Японии и уж наверно там нашумели!(Судьба нам не благоприятствовала: «Терек» и «Кубань» за все это время никого не встретили и ничем не заявили о своем присутствии.) Противная партия возражала, что Того не хуже нас понимает обстановку и знает, что для похода кругом Японии в один прием угля не хватит — надо грузиться. Где? — это не тропики, здесь на погоду нельзя рассчитывать, а значит, и нельзя рассчитывать на погрузку в открытом море. Укрыться в какой-нибудь бухте? — везде телеграф, и, конечно, повсюду наблюдательные посты. Того будет своевременно уведомлен, и спешить на север ему незачем. Если бы даже нам удалось погрузиться в море и незаметно подойти к одному из проливов, то тут уж никак не спрячешься, а благодаря их узкости — получи: и минное заграждение, и плавающие мины, набросанные по пути, и атаки миноносцев, возможные даже среди белого дня. В туман или ненастье в эти проливы не сунешься, особенно эскадрой, да еще с транспортами… Да, наконец, если бы Бог и пронес нас через все это, что дальше? — та же встреча с японским флотом, который от Цусимы всегда успеет выйти на пересечку нашей эскадре, притом уже претерпевшей от миноносцев и мин всякого рода в проливах…
— Позвольте, позвольте, господа! Прошу слова! — возвысил голос старший штурман Зотов (он же и первый лейтенант), любивший и умевший поспорить. — Очевидно, что для нас наилучший путь восточная часть Корейского пролива. Помимо всяких других соображений, по-моему, главное, что здесь широко, глубоко, свободно для маневрирования и безопасно для плавания в какую угодно погоду. Даже чем погода хуже, тем для нас лучше. Все это говорено-переговорено, жевано-пережевано, и сами вольтерьянцы не станут об этом спорить. Полагаю, Того не глупее нас и так же хорошо все это понимает. Кроме того, полагаю, что употребление циркуля и четырех правил арифметики ему также известно, а тогда он без труда рассчитает, что если бы мы выкинули такой трюк, как поход кругом Японии, и решились бы заведомо, еще до встречи с ним, вытерпеть минную войну, то он все же вполне успеет перехватить нас по дороге во Владивосток, если в то время, как мы с океана подойдем к проливам, тронется в поход от… (внимание, господа!) от северной оконечности Цусимы… Минная оборона проливов, несомненно, давно уже организована. Военные порта Аомори и Муроран — под боком. Кто этого не знает — тому стыдно. Может быть, он еще отделит туда кое-что из минной мелочи, но сам с главными силами (скажу даже — со всем флотом), где может он находиться?.. Или нет, ставлю такой вопрос: где должен находиться? — Утверждаю, что нигде иначе, как близ северной оконечности Цусимы, а так как в море ему болтаться незачем, то он стоит в какой-нибудь бухте…
— Например, в Мазампо! — перебил младший штурман, мичман Баль.
— Согласен и на Мазампо, но позвольте кончить. Надежды на отсутствие главных сил японцев я считаю ребячеством. По моему мнению, мы достигли кульминационной точки нашей авантюры. Завтра будет решение: или по вертикалу, — Зотов энергично махнул рукой сверху вниз, — или, — и он тихо повел рукой вправо, плавно опуская ее книзу, — медленно, но верно, по параллели к точке захода…
— Как? Почему? Отчего к точке захода? — запротестовали кругом…
— Оттого, что если и не сразу, — крикнул Зотов, — то конец все тот же! Пройти во Владивосток с победой, овладеть морем — нельзя и думать! Можно только проскочить! А проскочивши за 2–3, много 4, выхода, сожжем все запасы угля и отцветем, не успевши расцвесть. Будем готовиться к осаде, свозить пушки на берег, обучать команду штыковому бою…
— A bas! a bas! Conspuez le prophKte! — шумели одни…
— Hear! Hear! Strongly said! — кричали другие…
— Что за австрийский парламент! Дайте ему кончить! — гудел бас Богданова.
— Отбросив решение вопросов далекого будущего, которые приводят господ присутствующих в такое возбуждение, — продолжал Зотов, воспользовавшись минутой затишья, — позволю себе сказать несколько слов о ближайшем. Я предусматриваю три возможности. Первое: если нас уже открыли или откроют в течение этого дня, то, без всякого сомнения, за ночь последует целый ряд минных атак, а наутро бой с японским флотом, — это будет неважно. Второе: если нас откроют только завтра, то мы начнем бой в полном своем составе, целые и невредимые, — это уже лучше. Наконец, третье: если мгла еще сгустится и вообще погода испортится, то, благодаря ширине пролива, нас могут либо вовсе прозевать, либо открыть слишком поздно, когда между нами и Владивостоком будет чистое море, — это будет совсем хорошо. По этим трем пунктам желающие могли бы даже открыть тотализатор. С своей стороны, готовясь к худшему и предвидя беспокойную ночь, предложил бы всем пользоваться каждым свободным часом, чтобы отоспаться впрок…
Речь имела успех.
II
По-видимому, до сих пор судьба нам благоприятствовала: нас еще не открыли. На эскадре всякое телеграфирование было прекращено, зато мы тщательно принимали телеграммы японцев, а минеры прилагали все усилия, чтобы определить и направление, откуда они идут. Еще в ночь на 13 мая, а затем днем того же числа начался разговор двух станций, вернее, донесения одной, ближайшей, находившейся впереди нас, которой отвечала другая, более отдаленная и левее. Телеграммы были не шифрованные. Несмотря на непривычку наших телеграфистов к чужой азбуке и на пропуски, оказавшиеся в самой азбуке, у нас имевшейся, можно было разобрать отдельные слова и даже фразы: «Вчера ночью… ничего… одиннадцать огней, но в беспорядке… яркий огонь… то же звезда»… и т. п.
Вероятнее всего, это была сильная береговая станция на островах Гото, которая куда-то далеко доносила о том, что видит в проливе.
К вечеру послышался разговор еще и других станций. К ночи их набралось до семи. Телеграммы были уже шифрованные, но по их краткости, однообразию и по тому, как они начинались и прекращались в определенные периоды, можно было с большой вероятностью сказать, что это не донесения, а перекличка разведчиков. Несомненно, что мы еще не были открыты.
С заходом солнца эскадра сомкнулась как можно теснее. В ожидании минной атаки половинное число офицеров и команды дежурили у орудий, прочие спали, не раздеваясь, близ своих мест, готовые вскочить по первому звуку тревоги. Ночь наступила темная. Мгла, казалось, стала еще гуще, и сквозь нее едва мерцали редкие звезды. На темных палубах царила напряженная тишина, изредка прерываемая вздохами спящих, шагами офицера или вполголоса отданным приказанием. У пушек словно замерли неподвижные фигуры прислуги. Все бодрствовавшие зорко вглядывались во мрак — не мелькнет ли где темный силуэт миноносца, чутко вслушивались — не выдаст ли незримого врага стук машины, шум пара…
Осторожно ступая, чтобы не разбудить спящих, я обошел мостики, палубы и спустился в машину. Яркий свет на мгновение ослепил меня. Здесь царили жизнь и движение. Люди, бойко стуча ногами, бегали по трапам; раздавались звонки, окрики; приказания передавались полным голосом… но, вглядевшись пристальнее, и здесь я заметил ту же напряженность и сосредоточенность, то же особенное настроение, которое господствовало наверху. И вдруг мне показалось, что все — и высокая, слегка сгорбленная фигура адмирала на крыле мостика, и нахмуренное лицо рулевого, склонившегося над компасом, и застывшая на своих местах орудийная прислуга, и эти громко разговаривающие и бегающие люди, и гигантские шатуны, тускло поблескивающие своей сталью, и мощное дыхание пара в цилиндрах — все это одно…
Старая морская легенда о корабельной душе вдруг всплыла в моей памяти, о душе, которая живет в каждой заклепке, которой держится каждый гвоздь, каждый винтик и которая в роковые минуты властно охватывает весь корабль с его экипажем, превращает в единое неделимое сверхъестественное существо и людей, и окружающие их предметы… Мне вдруг показалось, что эта душа заглянула мне в сердце, и оно забилось с неведомой силою… Казалось, на мгновение я постиг это существо, которому имя — «Суворов», в котором любому из нас цена — не более любой заклепки…
Это было мгновение сумасшествия… Потом все прошло. Осталось только ощущение какой-то особенной бодрости, какой-то глубокой решимости…
Рядом со мной старший механик, капитан Вернандер, мой старый соплаватель и приятель, что-то раздраженно доказывал своему помощнику. Я не слышал его слов и не мог понять, чего он так волнуется, когда все уже окончательно определилось: ни лучше, ни хуже не будет и ничего переделать нельзя.
— Полноте ершиться, дорогой! — сказал я, беря его под руку, — пойдем лучше, выпьем чаю — в горле пересохло…
Он только удивленно вскинул на меня своими симпатичными серыми глазами и, ничего не ответив, позволил себя увести.
Мы поднялись в кают-компанию. Обыкновенно в этот час шумная и людная — она пустовала. Два-три офицера от «подачи» и ближайших плутонгов крепко спали на диванах в ожидании тревоги или своей очереди вступить на вахту. Однако дежурный вестовой оказался на высоте положения и угостил нас чаем.
Опять кругом — жуткая тишина…
— Главное — не пори горячки…
— Один хороший выстрел — лучше двух плохих. Помни, что лишних снарядов нет и до Владивостока взять неоткуда… — доносился чей-то сдержанный голос из-за притворенной двери кормового плутонга. Кажется, говорил мичман Фомин.
— Поучает!.. — сердито буркнул Вернандер, давясь горячим чаем.
Я видел, что он чем-то очень разогорчен и хочет излить душу.
— Ну, рассказывайте, дорогой! Что у вас приключилось?..
— Это все проклятый уголь немецкой поставки… — Он понизил голос и оглянулся кругом. — Вы ведь знаете, что у нас было несколько самовозгораний в ямах?
— Знаю. Но ведь, слава Богу, удачно тушили. Разве опять?
— Да нет! Не то! Понимаете: горелый и тушеный уголь уж совсем другое. Расход большой! Против хорошего угля — процентов 20–30!..
— Постойте, голубчик! — искренне изумился я. — Да вы что же? — нехватки боитесь? Ведь вы до сих пор наш surplus расходовали! Ведь у вас теперь должен быть полный нормальный запас.
— Ну, полный, неполный… к утру будет меньше 1000 тонн…
— А до Владивостока 600 миль! Куда же еще?..
— А «Цесаревич» — забыли? 28 июля, когда ему располосовало трубы, он за сутки сжег 480 тонн! Ну?.. А у меня перерасход!..
— Не расход, а просто нервы расходились, — попробовал сострить я, — не все же ямы горелые…
— Ничего вы не понимаете! — рассердился Вернандер и, наскоро допив чай и схватив фуражку, куда-то убежал.
Я остался в кают-компании, перебрался на кресло, устроился поудобнее и задремал. Смутно слышал, как в полночь сменялась вахта. Некоторые из сменившихся офицеров пришли выпить чаю и вполголоса бранили чертову сырость. Кто-то растянулся на диване, крякнул от удовольствия и громко сказал: «Всхрапнем до четырех! и на нашей улице праздник!..» Я тоже заснул.
Проснулся около 3 часов ночи. Опять обошел палубы и вышел наверх. Все та же картина, что и с вечера, но посветлело. Луна в последней четверти стояла уже довольно высоко, и на фоне мглы, тускло посеребренной ее лучами, четко рисовались трубы, мачты, снасти… Опять засвежевший ветер пронизывал холодом и заставлял глубже прятать голову в воротник тужурки… Вышел на передний мостик. Адмирал спал в кресле. Командир, в мягких туфлях, неслышными шагами быстро ходил поперек мостика, с одного крыла на другое.
— Вы что бродите? — спросил он меня.
— Да так… посмотреть.
— Заснул? — кивнул я головой на адмирала.
— Только что. Я уговорил. Чего, в самом деле? Можно считать, ночь прошла благополучно. До сих пор не открыли — все перекликаются. А теперь, хоть открой — поздно. До рассвета всего часа два. Миноносцев, если даже и под рукой, не успеют собрать… Да и где найти в такую погоду? Смотрите — хвоста эскадры не видно!.. Разве кто случайно уткнется носом — все равно, что двести тысяч выиграть!.. Вот только ветер мне не нравится. Свежеет. Как бы не разогнал тумана… Ну, тогда завтра же и крышка. Кому что, а уж «Суворову» капут… А вдруг еще гуще станет? — внезапно оживился он. — Ведь уж сутки кругом бродят, а не видят. Вдруг и завтра то же. Прозевают начисто!.. Ходят, бродят, перекликаются… — а нас уж и нет! Ищи до второго нашего пришествия, т. е. уже из Владивостока! Там другой разговор будет!.. Но как встравятся! Сами себя со злости сгрызут! Вот потеха-то!.. — И командир, чтоб не разбудить адмирала, зажимая платком рот, расхохотался так весело и беспечно, что мне даже завидно стало.
Надо знать, что В. В. Игнациус, во-первых, принадлежал к числу самых убежденных сторонников того мнения, что наш поход — это отчаянная авантюра, успех которой зависит исключительно от степени содействия Николы Угодника и прочих сил небесных, а во-вторых, принимая во внимание манеру японцев — всю силу огня сосредоточивать на флагманском корабле, — считал, что в первом же решительном бою и он сам, и его броненосец обречены неизбежной гибели. Но, приняв эту неизбежность, он уже далее ни на минуту не терял своего всегда жизнерадостного и бодрого настроения, шутил, острил, живо интересовался разными мелочами судовой жизни и матросского обихода, а теперь (я искренне верю) от души смеялся, представляя себе злобу и разочарование японцев в случае, если бы они нас действительно прозевали.
И однако японцы «выиграли двести тысяч». И даже больше… На рассвете 14 мая, около 5 часов утра, их вспомогательный крейсер «Синано-мару» почти «ткнулся носом» в наши госпитальные корабли, а по ним опознал и самую эскадру. От нас его не видели, но то, что мы открыты, сейчас же обнаружилось по изменению характера телеграмм: это была уже не перекличка разведчиков, а донесение, передававшееся дальше и дальше на север (До этого момента, по японским сведениям, Того, стоя с главными силами где-то близ Фузана, совершенно не знал о месте нахождения нашей эскадры и ждал известий одинаково как с юга, так и с севера).
Отдельные телеграммы получались со всех сторон, а потому, по приказанию адмирала, для прикрытия нашего беззащитного тыла (транспортов) от внезапного нападения, разведочный отряд был отозван в замок эскадры.
Около 6 часов утра «Урал», догнав нас полным ходом, семафором донес, что сзади эскадры ее курс пересекли справа налево четыре корабля, опознать которые в тумане не было возможности.
В 6 час. 45 мин. утра справа, позади траверза, смутно обозначился силуэт какого-то судна. Оно шло сближающимся курсом, и вскоре в нем опознали «Идзуми».
Около 8 часов утра, несмотря на мглу, можно было определить расстояние до него — 50 кабельтовых (Кабельтов равен 100 морским 6-футовым саженям и составляет почти 1/10 морской мили). У нас пробили тревогу, и кормовая башня уже грозно подняла свои 12-дюймовые пушки, но «Идзуми», словно угадав опасность, начал быстро удаляться.
Конечно, можно было бы послать хороший крейсер, чтобы прогнать его подальше, но заслуживающих такого названия в нашем крейсерском отряде было только двое — «Олег» и «Аврора», да, пожалуй, еще из разведчиков — «Светлана»; остальные — «Донской» и «Мономах» почтенные старички — тихоходы, хотя и с порядочной артиллерией, да «Урал» и «Алмаз» — скороходы, но зато, можно сказать, с игрушечной артиллерией. Между тем с минуты на минуту можно было ожидать встречи с грозным врагом, когда будут дороги каждая пушка, каждый снаряд. Ведь если действительно наши три броненосных отряда будут решать судьбу боя поединком с 12 лучшими японскими кораблями, то весь остальной японский флот придется на долю нашего крейсерского отряда. Борьба, для которой следовало поберечь силы!.. А потому адмирал пренебрег дерзкой выходкой «Идзуми» и никого не послал для его преследования.
В начале девятого часа впереди левого траверза показались из тумана шедшие почти параллельным курсом «Чин-Иен», «Мацусима», «Ицукусима» и «Хасидате». Впереди их держался маленький легкий крейсер, по-видимому — «Акицусю», который тотчас, как мы их (а значит, и они нас) хорошо увидели, поспешно убежал на север, а весь отряд стал медленно увеличивать расстояние и постепенно скрылся из виду.
В конце 10-го часа также слева, почти на траверзе, увидели отряд легких крейсеров — «Читозе», «Касаги», «Ниитака» и «Отова».
Становилось очевидным, что решительный момент приближается.
По сигналу I и II броненосные отряды увеличили ход и, повернув «все вдруг» на два румба (Румб =11? градуса) влево, начали выходить под нос III отряду. Транспортам приказано было держаться правее и сзади эскадры, а крейсерам прикрывать их слева. По правую сторону транспортов, в обеспечение их от покушений со стороны «Идзуми» и ему подобных, был выслан «Мономах».
В 11 час. 20 мин. утра расстояние от нас до легких крейсеров было 50 кабельтовых. В это время с «Орла» (как он немедленно донес об этом семафором) произошел нечаянный выстрел. Не имея возможности (при бездымном порохе) разобрать, кто именно из головных судов сделал этот выстрел, эскадра приняла его за сигнал с «Суворова» и открыла огонь. Особенно живо стрелял III отряд.
Японские крейсера круто повернули влево и, также отстреливаясь, начали быстро увеличивать расстояние.
На «Суворове» был поднят сигнал: «Не бросать снарядов понапрасну».
И огонь прекратился.
В то же время сигналом приказано было: «команде обедать посменно».
В полдень, находясь на параллели южной оконечности Цусимы, мы легли курсом NO 23, на Владивосток.
Офицеры завтракали тоже посменно и наскоро. В этот день, по обычаю, в кают-компании полагался торжественный завтрак с присутствием в качестве гостей адмирала, командира и штаба. В данном случае он, конечно, не мог состояться — адмирал и командир не сходили с мостика, а штабные только забегали что-нибудь съесть в адмиральскую столовую.
Спустившись в свою каюту, чтобы пополнить перед боем запас папирос, я случайно попал в кают-компанию в самый торжественный момент. Несмотря на то что блюда подавались все сразу и ели их, как придется, по бокалам было разлито шампанское, и все присутствовавшие стоя, в глубоком молчании слушали тост старшего офицера А. П. Македонского: «В сегодняшний высокоторжественный день священного коронования Их Величеств, помоги нам Бог с честью послужить дорогой Родине! За здоровье Государя Императора и Государыни Императрицы! За Россию!»
Дружное, смелое «ура!» огласило кают-компанию, и последние его отголоски слились со звуками боевой тревоги, донесшейся сверху.
Все бросились по своим местам.
Легкие японские крейсера опять приблизились слева, но на этот раз в сопровождении миноносцев, выказывавших явное намерение выйти на наш курс.
Подозревая план японцев — пройти у нас под носом и набросать плавающих мин (как они это сделали 28 июля), адмирал решил развернуть I отряд фронтом вправо, чтобы угрозой огня пяти лучших своих броненосцев отогнать неприятеля.
С этой целью I броненосный отряд сначала повернул «последовательно» вправо на 8 румбов (90 градусов), а затем должен был повернуть на 8 румбов влево «все вдруг». Первая половина маневра удалась прекрасно, но на второй вышло недоразумение с сигналом: «Александр» пошел в кильватер «Суворову», а «Бородино» и «Орел», уже начавшие ворочать «вдруг», вообразили, что ошиблись, отвернули и пошли за «Александром». В результате, вместо фронта, I отряд оказался в кильватерной колонне, параллельной колонне из II и III отрядов и несколько выдвинутой вперед.
Однако неудавшийся маневр достиг намеченной цели: неприятельские крейсера и миноносцы, испугавшись возможности быть взятыми в два огня, надвигавшимися на них уступом, двумя колоннами, оставили намерение пересечь наш курс и поспешно начали уходить влево. Эти-то крейсера, вероятно, и донесли адмиралу Того, что мы идем в двух колоннах, и он, находясь в это время вне видимости, далеко впереди и вправо от нас, решил перейти нам на левую сторону, чтобы всею силою обрушиться на левую, слабейшую колонну. Между тем, как только японцы стали уходить с курса, I отряд тотчас, увеличив ход, склонился влево, чтобы снова занять свое место впереди II отряда.
В 1 ч. 20 мин., когда первый брон. отряд вышел под нос II и III и начал склоняться на старый курс, был сделан сигнал: «II отряду вступить в кильватер I отряду».
Около того же времени далеко впереди смутно обозначились во мгле главные силы неприятеля. Они шли нам на пересечку справа налево курсом, близким к SW. Выйдя нам на левую сторону, «Миказа» круто склонился к S. За «Миказой» шли «Сикисима», «Фудзи», «Асахи», «Кассуга», «Ниссин»…
Адмирал Рожественский со штабом находился еще на верхнем переднем мостике «Суворова», хотя управление броненосцем уже было перенесено в боевую рубку.
Признаться откровенно, я не вполне был согласен с его идеей, что Того поведет сам, в одной колонне, все свои 12 броненосных кораблей: ведь 28 июля он не присоединил к своим 6 судам двух броненосных крейсеров, тут же находившихся, а предоставил им держаться самостоятельно. Я склонен был думать, что Камимура будет действовать по способности, и, когда ясно обрисовались шесть старых артурских знакомых, не утерпел, чтобы не сказать с некоторым торжеством:
— Вот они, ваше превосходительство! — все шесть, как 28 июля…
Адмирал, не оборачиваясь, отрицательно покачал головой…
— Нет, больше: все тут! — и начал спускаться в боевую рубку.
Флагман японского флота броненосец Mikasa
— По местам, господа, — торопливо проговорил флаг-капитан, следуя за адмиралом.
Действительно: вслед за первыми шестью кораблями медленно выступали из мглы слегка оттянувшие крейсера Камимуры — «Идзумо», «Якумо», «Асама», «Адзума», «Токива», «Ивате».
III
«Будет игра!» — думал я, уходя на задний мостик, откуда можно было видеть не только неприятеля, но и свою эскадру и который я, по своей обязанности все видеть и все записывать, считал для этого самым удобным местом.
Тут же (на заднем мостике) оказался командир правой кормовой 6-дюймовой башни лейтенант Редкий, выбежавший «посмотреть», так как бой, видимо, должен был начаться с левого борта и его башня пока обрекалась на бездействие.
Мы стояли, обмениваясь отрывочными замечаниями, недоумевая, почему японцы вздумали переходить нам на левую сторону, когда наше слабое место, транспорты и их прикрытие — крейсера, находились у нас справа и сзади… Может быть, они рассчитывали, приняв бой на контргалсе и воспользовавшись своим преимуществом в скорости, обойти нас с кормы, чтобы напасть сразу и на транспорты и на слабейший арьергард? Но в такой обстановке легко было и самим угодить под амфиладный огонь…
— Смотрите! Смотрите! Что это? Что они делают? — крикнул Редкий, и в голосе его были и радость и недоумение.
Но я и сам смотрел, смотрел, не отрываясь от бинокля, не веря глазам: японцы внезапно начали ворочать «последовательно» влево на обратный курс!
Если читатели припомнят сказанное ранее о поворотах, то им будет ясно, что при этом маневре все японские корабли должны были последовательно пройти через точку, в которой повернул головной; эта точка оставалась как бы неподвижной на поверхности моря, что значительно облегчало нам пристрелку, а кроме того, даже при скорости 15 узлов, перестроение должно было занять около 15 минут, и все это время суда, уже повернувшие, мешали стрелять тем, которые еще шли к точке поворота.
— Да ведь это — безрассудство! — не унимался Редкий. — Ведь мы сейчас раскатаем его головных!..
«Дай-то Бог!..» — подумал я…
Для меня было ясно, что Того увидел нечто неожиданное, почему принял новое, внезапное решение. Маневр был безусловно рискованный, но, с другой стороны, если он нашел необходимым лечь на обратный курс, то другого выхода не было. Конечно, можно было бы повернуть эскадрой «всем вдруг», но тогда головным кораблем, ведущим ее в бой, оказался бы концевой крейсер — «Ивате». Очевидно, Того не желал допустить этого и решился на поворот «последовательно», чтобы вести эскадру лично и не ставить успеха начала боя в зависимость от находчивости и предприимчивости младшего флагмана (на «Ивате» держал флаг контр-адмирал Симамура).
Сердце у меня билось, как никогда за 6 месяцев в Артуре… Если бы удалось!.. Дай, Господи!.. Хоть не утопить, хоть только выбить из строя одного!.. Первый успех… Да неужели?..
Между тем адмирал спешил использовать благоприятное положение.
В 1 ч. 49 мин. пополудни, когда из японской эскадры успели лечь на новый курс только «Миказа» и «Сикисима» — два из двенадцати, — с расстояния 32 кабельтовых раздался первый выстрел «Суворова», а за ним загремела и вся эскадра…
Я жадно смотрел в бинокль… Перелеты и недолеты ложились близко, но самого интересного, т. е. попаданий, как и в бою 28 июля, нельзя было видеть: наши снаряды при разрыве почти не дают дыма, и, кроме того, трубки их устроены с расчетом, чтобы они рвались, пробив борт, внутри корабля. Попадание можно было бы заметить только в том случае, когда у неприятеля что-нибудь свалит, подобьет… Этого не было…
Минуты через две, когда за первыми двумя броненосцами успели повернуть и вторые два — «Фудзи» и «Асахи», — японцы стали отвечать.
Началось с перелетов. Некоторые из длинных японских снарядов на этой дистанции опрокидывались и, хорошо видимые простым глазом, вертясь, как палка, брошенная при игре в городки, летели через наши головы не с грозным ревом, как полагается снаряду, а с каким-то нелепым бормотанием.
— Это и есть «чемоданы» («Чемоданами» в Артуре называли японские длинные снаряды больших калибров. В самом деле: снаряд — фут в диаметре и более 4 футов длины, разве это не чемодан со взрывчатым веществом?)? — спросил, смеясь, Редкий.
Они самые…
Ют и кормовая башня главного калибра японского броненосца Asahi. Корабль имеет окраску мирного времени
Однако меня тут же поразило, что «чемоданы», нелепо кувыркаясь в воздухе и падая как попало в воду, все-таки взрывались. Этого раньше не было…
После перелетов пошли недолеты. Все ближе и ближе… Осколки шуршали в воздухе, звякали о борт, о надстройки… Вот недалеко, против передней трубы, поднялся гигантский столб воды, дыма и пламени… На передний мостик побежали с носилками. Я перегнулся через поручень.
— Князя Церетели (Князь Церетели — мичман, флаг-офицер)! — крикнул снизу на мой безмолвный вопрос Редкий, направлявшийся к своей башне.
Следующий снаряд ударил в борт у средней 6-дюймовой башни, а затем что-то грохнуло сзади и подо мной у левой кормовой. Из штабного выхода повалил дым и показались языки пламени. Снаряд, попав в капитанскую каюту и пробив палубу, разорвался в офицерском отделении, где произвел пожар.
И здесь, уже не в первый раз, я мог наблюдать то оцепенение, которое овладевает необстрелянной командой при первых попаданиях неприятельских снарядов. Оцепенение, которое так легко и быстро проходит от самого ничтожного внешнего толчка и, в зависимости от его характера, превращается или в страх, уже неискоренимый, или в необычайный подъем духа.
Люди у пожарных кранов и шлангов стояли как очарованные, глядя на дым и пламя, словно не понимая, в чем дело, но стоило мне сбежать к ним с мостика, и самые простые слова, что-то вроде — Не ошалевай! Давай воду! — заставили их очнуться и смело броситься на огонь.
Я вынул часы и записную книжку, чтобы отметить первый пожар, но в этот момент что-то кольнуло меня в поясницу, и что-то огромное, мягкое, но сильное ударило в спину, приподняло на воздух и бросило на палубу… Когда я опять поднялся на ноги, в руках у меня по-прежнему были и записная книжка и часы. Часы шли; только секундная стрелка погнулась и стекло исчезло. Ошеломленный ударом, еще не вполне придя в себя, я стал заботливо искать это стекло на палубе и нашел его совершенно целым. Поднял, вставил на место… и тут только, сообразив, что занимаюсь совсем пустым делом, оглянулся кругом. Вероятно, несколько мгновений я пролежал без сознания, потому что пожар был уже потушен и вблизи, кроме 2–3 убитых, на которых хлестала вода из разорванных шлангов, — никого не было. Удар шел со стороны кормовой рубки, скрытой от меня траверзом из коек. Я заглянул туда. Там должны были находиться флаг-офицеры — лейтенант Новосильцев, мичман Козакевич и волонтер Максимов — с партией ютовых сигнальщиков. Снаряд прошел через рубку, разорвавшись об ее стенки. Сигнальщики (10–12 человек) как стояли у правой 6-дюймовой башни, так и лежали тут тесной кучей. Внутри рубки — груды чего-то, и сверху — зрительная труба офицерского образца.
«Неужели все, что осталось?» — подумал я… Но это была ошибка: каким-то чудом Новосильцев и Козакевич были только ранены и с помощью Максимова ушли на перевязку, пока я лежал на палубе и потом возился с часами…
— Что? знакомая картина? Похоже на 28 июля? — высунулся из своей башни неугомонный Редкий.
— Совсем то же самое! — уверенным тоном ответил я, но это было неискренне: было бы правильнее сказать — «совсем непохоже»…
Ведь 28 июля за несколько часов боя «Цесаревич» получил только 19 крупных снарядов, и я серьезно собирался в предстоящем бою записывать моменты и места отдельных попаданий, а также производимые ими разрушения. Но где ж тут было записывать подробности, когда и сосчитать попадания оказывалось невозможным! Такой стрельбы я не только никогда не видел, но и не представлял себе. Снаряды сыпались беспрерывно, один за другим…(Японские офицеры рассказывали, что после капитуляции Порт-Артура, в ожидании второй эскадры, они так готовились к ее встрече: каждый комендор выпустил из своего орудия при стрельбе в цель пять боевых комплектов снарядов. Затем износившиеся пушки были все заменены новыми)
За 6 месяцев на артурской эскадре я все же кой к чему попригляделся — и шимоза, и мелинит были, до известной степени, старыми знакомыми, — , но здесь было что-то совсем новое!.. Казалось, не снаряды ударялись о борт и падали на палубу, а целые мины… Они рвались от первого прикосновения к чему-либо, от малейшей задержки в их полете. Поручень, бакштаг трубы, топрик шлюп-балки — этого было достаточно для всеразрушающего взрыва… Стальные листы борта и надстроек на верхней палубе рвались в клочья и своими обрывками выбивали людей; железные трапы свертывались в кольца; неповрежденные пушки срывались со станков…
Этого не могла сделать ни сила удара самого снаряда, ни тем более сила удара его осколков. Это могла сделать только сила взрыва. По-видимому, японцам удалось осуществить ту идею, которой пробовали достичь американцы постройкой своего «Vesuvium»…
А потом — необычайно высокая температура взрыва и это жидкое пламя, которое, казалось, все заливает! Я видел своими глазами, как от взрыва снаряда вспыхивал стальной борт. Конечно, не сталь горела, но краска на ней! Такие трудно горючие материалы, как койки и чемоданы, сложенные в несколько рядов, траверзами, и политые водой, вспыхивали мгновенно ярким костром… Временами в бинокль ничего не было видно — так искажались изображения от дрожания раскаленного воздуха…
Нет! — это было не то, что 28 июля…(По некоторым, вполне заслуживающим доверия, сведениям, в бою при Цусиме японцами было впервые применено для снаряжения снарядов новое взрывчатое вещество, секрет которого они купили уже во время войны у его изобретателя, полковника службы одной из республик Южной Америки. По слухам, этими новыми снарядами успели снабдить только орудия крупных калибров броненосных отрядов, и вот почему те из наших судов, которые имели дело с эскадрой адмирала Катаока, не терпели ни таких разрушений, ни таких пожаров, как атакованные броненосцами и броненосными крейсерами. Особенно убедительны примеры «Светланы» и «Донского». 15 мая «Светлану» расстреливало два легких крейсера, а «Донского» — пять подобных судов, и оба эти корабля, во-первых, оборонялись сравнительно долго, а во-вторых (и это главное), не горели, хотя на обоих — на «Донском», как на судне старого типа, а на «Светлане», как на яхте, — горючего материала не только в относительном смысле, но, пожалуй даже, и в абсолютном — было несравненно более, чем на новых броненосцах.
В морской артиллерии с древнейших времен существовало два, резко отличающихся одно от другого, направления: одно ставило своей задачей нанести противнику, сразу же, хотя немногочисленные, но глубокие и тяжкие повреждения — подбить двигатель, сделать подводную пробоину, взорвать погреба, словом — сразу вывести корабль из строя; другое — стремилось к нанесению в короткий срок возможно большего числа, хотя бы и поверхностных, и несущественных, повреждений, стремилось «оббить» корабль, утверждая, что такого «оббитого» уже не трудно будет добить окончательно, а не то он и сам погибнет.
При современной артиллерии, следуя первому, необходимо было иметь прочные, способные пробивать броню, т. е. толстостенные снаряды (чем уменьшается внутренняя пустота и разрывной заряд) и ударные трубки с замедлителем взрыва, чтобы снаряд рвался внутри судна; придерживаясь второго — наоборот: для снарядов достаточно лишь такой прочности, чтобы они не раскалывались при выстреле, т. е. толщина их стенок может быть доведена до минимума, а внутренняя пустота и разрывной заряд увеличены до крайних пределов, при этом ударные трубки должны воспламеняться при первом прикосновении.
Первый взгляд господствовал преимущественно во Франции, а второй — в Англии. В минувшей войне мы оказались приверженцами первого, а японцы — второго)
Я вдруг заторопился в боевую рубку, к адмиралу… Зачем? Тогда я не отдавал себе в этом отчета, но теперь мне кажется, что я просто хотел взглянуть на него и этим взглядом проверить свои впечатления: не кажется ли мне? не кошмар ли это? не струсил ли я просто-напросто?..
Взбежав на передний мостик, чуть не упав, поскользнувшись в луже крови (здесь только что был убит сигнальный кондуктор Кандауров), я вошел в боевую рубку.
Адмирал и командир, оба нагнувшись, смотрели в просвет между броней и крышей.
— Ваше превосходительство, — как всегда оживленно жестикулируя, говорил командир, — надо изменить расстояние! Очень уж они пристрелялись — так и жарят!
— Подождите. Ведь и мы тоже пристрелялись!.. — ответил адмирал.
По сторонам штурвала, справа и слева, двое лежали. Оба в тужурках офицерского образца, ничком…
— Рулевой кондуктор и Берсенев (Берсенев — полковник морской артиллерии, флагманский артиллерист.)! — крикнул мне на ухо мичман Шишкин, которого я тронул за руку, указывая на лежащих. — Берсенева первым! в голову — наповал!..
Дальномер работал; Владимирский резким голосом отдавал приказания, и гальванеры бойко вертели ручки указателей, передавая в башни и плутонги расстояния до неприятельских судов…
— Ничего!.. — подумал я, выходя из рубки; но тотчас же мне пришла мысль: «Ведь они не видят того, что творится на броненосце!..»
Выйдя из рубки, я стал жадно смотреть с переднего мостика, не сбылись ли мои недавние мечты, которых я не смел сам себе громко высказать…
Нет!..
Неприятель уже закончил поворот; его 12 кораблей в правильном строе, на тесных интервалах, шли параллельно нам, постепенно выдвигаясь вперед… Никакого замешательства не было заметно. Мне казалось, что в бинокль Цейсса (расстояние было немного больше 20 кабельтовых) я различаю даже коечные ограждения на мостиках, группы людей… А у нас? Я оглянулся. Какое разрушение!.. Пылающие рубки на мостиках, горящие обломки на палубе, груды трупов… Сигнальные, дальномерные станции, посты, наблюдающие за падением снарядов, — все сметено, все уничтожено… Позади — «Александр» и «Бородино», тоже окутанные дымом пожара…
Нет! Это было совсем непохоже на 28 июля!..
Неприятель, выйдя вперед, начал быстро склоняться вправо, пытаясь выйти на пересечку нашего курса, но мы тоже повернули вправо и снова привели его почти на траверз (Траверз — направление, перпендикулярное диаметральной плоскости корабля, или, что то же, — его курсу).
Было 2 часа 5 мин. пополудни.
Кто-то прибежал доложить, что попало в кормовую 12-дюймовую башню. Я пошел посмотреть. Часть крыши со стороны левого орудия была разорвана и отогнута кверху, но башня вращалась и энергично стреляла…
Старшему офицеру, руководившему пожарными партиями, оторвало ногу, и его унесли. Людей становилось все меньше. Отовсюду, даже из башен, куда осколки могли проникать только через узкие просветы амбразур, требовали подкреплений на замену убывших. Убитых, конечно, оставляли лежать там, где они упали, но даже и на уборку раненых не хватало рук…
На военных судах всякому человеку в бою назначено свое место и свое дело; лишних — нет; резерва — не существует. Единственный ресурс, которым мы располагали, это была прислуга 47-мм пушек и пулеметов, которая, чтобы не подвергать ее напрасному расстрелу, с началом боя была убрана под броневую палубу. Теперь эти люди оказались совершенно свободными, так как вся их артиллерия, стоявшая открыто на мостиках, была уже уничтожена без остатка. Ими и пользовались. Но это была капля в море… Относительно пожара — если бы даже нашлись люди, то не было средств для борьбы с огнем. Шланги, сколько раз их ни заменяли запасными, немедленно превращались в лохмотья. Наконец запасы иссякли. А без шлангов как было подать воду на мостики и на ростры, где бушевало пламя?.. Особенно ростры, где стояли пирамидой 11 деревянных шлюпок… Пока этот лесной склад горел только местами, так как в шлюпках еще держалась вода, налитая в них перед боем. Но она вытекала через многочисленные дыры, пробитые осколками, а когда вытечет…
Разумеется, делали, что могли. Пытались затыкать дыры в шлюпках, таскали воду ведрами…(На эскадре, по приказанию командующего, железные банки из-под машинного масла не выбрасывались, а судовыми средствами переделывались в ведра. Эти самодельные ведра во множестве были расставлены по всем палубам) Не знаю, нарочно были закрыты шпигаты или они просто засорились, но вода плохо стекала за борт, и на верхней палубе ее было по щиколотку. Это обстоятельство принесло большую пользу, так как, во-первых, сама палуба не горела, а во-вторых, в этой же воде мы тушили валившиеся сверху горящие обломки, просто растаскивая и переворачивая их.
Близ правой носовой 6-дюймовой башни, у трапа на передний мостик, я увидел флаг-офицера мичмана Демчинского с партией баковых сигнальщиков. Подошел к нему. Мичман Головнин (командир башни) угостил нас холодным чаем, который был у него запасен в бутылках.
Кажется — пустяки, а стало веселее.
Демчинский сообщил, что первый снаряд, попавший в броненосец, угодил как раз во временный перевязочный пункт, устроенный доктором, казалось бы, в самом укромном месте — в верхней батарее, у судового образа между средними 6-дюймовыми башнями. Много народу перебило; доктор как-то уцелел, но судовой священник — иеромонах о. Назарий — был тяжело ранен.
Мне захотелось пойти взглянуть.
Судовой образ, вернее, образа, так как их было много, — все напутственные благословения броненосцу — остались совершенно целыми; даже не разбилось стекло большого киота, перед которым в висячем подсвечнике мирно горело несколько свечей; кругом — ни души; только между исковерканными столами, табуретами, разбитыми бутылками и разбросанным перевязочным материалом — несколько трупов да груды чего-то, в чем с трудом можно было угадать остатки человеческих тел…
Не успел я окинуть глазами эту картину разрушения, как сверху, по трапу, спустился Демчинский, поддерживая флаг-офицера лейтенанта Свербеева, который с трудом держался на ногах, задыхался и просил пить. Я зачерпнул из ведра воды в десантный котелок, валявшийся тут же, и подал ему. Но руки у него тоже слушались плохо. Демчинский и я помогали ему. Он жадно пил, произнося отрывочные фразы: «Пустяки… скажите флаг-капитану… сейчас приду… задохнулся проклятыми газами… только отдышаться…» Его посиневшие губы с усилием втягивали воздух; в горле, в груди что-то хрипело, но, конечно, не ядовитые газы — с правой стороны спины тужурка была сильно изорвана и оттуда обильно сочилась кровь… Демчинский дал ему двух провожатых, чтобы довести до перевязочного пункта, а мы опять поднялись наверх.
Я вышел на левую сторону между носовой 12- и 6-дюймовой башнями посмотреть на японскую эскадру…
Она была все та же!.. Ни пожаров, ни крена, ни подбитых мостиков… Словно не в бою, а на учебной стрельбе! Словно наши пушки, неумолчно гремевшие уже полчаса, стреляли не снарядами, а… черт знает чем!..(В бою при Цусиме японцы потеряли: убитыми — 113, тяжело раненными — 139, серьезно раненными 243 и легко раненными — 42 (!). Помимо отзывов японских офицеров, которые могут быть пристрастными, эти цифры говорят достаточно красноречиво. Почти половина потерь (252 из 537) — убитые и тяжело раненные, другая половина — серьезно раненные и легко раненные — меньше 8 %. Общее число потерь — ничтожно. Очевидно, наши снаряды или не рвались вовсе, или рвались плохо, т. е. на небольшое число крупных кусков. Разрывной заряд японских снарядов был в 7 раз больше, чем у наших, и состоял не из пироксилина, а из шимозы (а может быть, из чего-нибудь еще сильнейшего). Шимоза при взрыве развивает температуру в 1 2/3 раза высшую, нежели пироксилин. В грубом приближении можно сказать, что один удачно разорвавшийся японский снаряд наносил такое же разрушение, как 12 наших, тоже удачно разорвавшихся. А ведь эти последние часто и вовсе не рвались…)
С чувством, близким к отчаянию, я опустил бинокль, отвернулся и пошел на корму…
— Последние фалы сгорели, — сообщил мне Демчинский, — я думаю увести своих людей куда-нибудь за прикрытие.
Я, конечно, вполне с ним согласился: чего было сигнальщикам торчать под расстрелом, когда не оставалось средств для сигнализации.
Было 2 ч. 20 мин. пополудни.
Пробираясь между обломками на корму, столкнулся с Редкиным, спешившим на бак.
— Ах! вот кстати! — возбужденно заговорил он, — из левой кормовой стрелять нельзя. Под ней, кругом — пожар. Люди задыхаются от жары и дыма…
— Ну, давайте, соберем кого-нибудь и попробуем тушить…
— Это уж я сам сделаю, а вы — доложите адмиралу. Может быть, он что-нибудь прикажет…
— Но что ж адмирал может приказать!..
— Может быть, курс переменит… не знаю…
— То есть выйдет из строя? — Ну, это — вряд ли!
— Нет, вы все-таки доложите!..
Чтобы успокоить его, я обещал доложить немедленно, и мы расстались, чтобы уж не встречаться более.
Как я и ожидал, на мой доклад адмирал только пожал плечами:
— Пусть тушат пожар. Отсюда помочь нечем…
В рубке лежало уже не двое, а пять-шесть человек убитых; за неимением рулевых, на штурвале стоял Владимирский. По лицу у него текла кровь, но усы лихо торчали кверху, и вид был такой же самоуверенный, как, бывало, в кают-компании при спорах о «будущности артиллерии».
Выйдя из рубки, я предполагал отправиться к Редкину, чтобы передать ответ адмирала и, кстати, помочь в тушении пожара, но задержался на мостике, глядя на японцев.
IV
За четверть часа на новом курсе японцы опять много выдвинулись вперед, и теперь «Миказа», ведя колонну, постепенно склонялся вправо на пересечку нам. Я ждал, что мы тоже немедленно начнем ворочать в ту же сторону, но адмирал еще некоторое время выдерживал на старом курсе. Я догадался, что этим маневром он хочет, сколько можно, уменьшить дистанцию. Действительно, для нас это было бы выгодно, так как со сбитыми дальномерами и наблюдательными постами наша артиллерия годилась только для стрельбы почти в упор. Однако выпускать неприятеля поперек курса и подвергать себя продольному огню — тоже было не расчет. Напряженно считая мгновения, я смотрел и ждал… В голове так и мелькало: «Пора! Или нет?.. Нет — пора!..» — «Миказа» ближе и ближе подходил к нашему курсу. Вот уже правая 6-дюймовая башня приготовилась стрелять… В этот момент мы быстро покатились вправо. Я облегченно вздохнул и оглянулся.
Флагман японского флота броненосец Mikasa в боевой окраске
Демчинский со своими людьми все еще не ушел и с чем-то возился. (Оказалось — он убирал в башню стоявшие на палубе ящики 47-мм патронов, чтобы они от пожара не начали рваться и бить своих). Я спустился к нему спросить, в чем дело, но не успел сказать слова, как следом за мной наверху трапа появился командир. Голова у него была вся в крови. Он шатался и судорожно хватал руками за поручни… Где-то, совсем близко, разорвался снаряд. От этого толчка он потерял равновесие и полетел с трапа головой вперед. По счастью, мы это видели и успели принять его на руки.
— Это ничего! это пустяки! голова закружилась! — обычной скороговоркой, почти весело уверял он, вскочив на ноги и порываясь идти дальше…
Но так как дальше, до перевязочного пункта, было еще три трапа, то, несмотря на протесты, мы его все же уложили на носилки.
— Кормовую башню взорвало! (С соседних судов видели, как броневая крыша нашей кормовой башни взлетела выше мостиков и затем рухнула на ют. Что, собственно, произошло? — неизвестно) — передали откуда-то…
Почти одновременно над нами раздался какой-то особенный гул; послышался пронзительный лязг рвущегося железа; что-то огромное и тяжелое словно ухнуло; на рострах трещали и ломались шлюпки; сверху валились какие-то горящие обломки, и непроницаемый дым окутал нас… Тогда мы не сообразили, в чем дело, — оказывается, это упала передняя труба.
Растерявшиеся, ошеломленные сигнальщики тесной кучей, увлекая нас за собой, шарахнулись в сторону, как раз под разрушающиеся ростры… Едва удалось силой остановить их, образумить…
Было 2 ч. 30 мин. пополудни.
Когда дым несколько рассеялся, я хотел пройти на ют, посмотреть, что сталось с кормовой башней, но по верхней палубе всякое сообщение между носом и кормой было прервано. Пробовал пройти верхней батареей, откуда, через адмиральскую каюту, был прямой выход на ют, но здесь штабное помещение оказалось охвачено сплошным пожаром… Возвращаясь, встретил быстро спускавшегося по трапу флаг-офицера лейтенанта Крыжановского.
— Куда вы?
— В румпельное отделение! Руль заклинило!.. — кинул он на бегу…
Только этого и недоставало, — подумал я, бросаясь наверх.
Выбежав на передний мостик, я в первый момент не мог ориентироваться: недалеко справа, почти контр курсом, проходила наша эскадра. Особенно врезался в память «Наварин», который, должно быть, отстав, теперь нагонял, работая полным ходом и неся перед носом огромный бурун…
Повреждения эскадренного броненосца «Орел» в Цусимском сражении
Очевидно, «Суворов» раньше, чем послушался машин, успел под действием заклиненного руля повернуть почти на 16 румбов.
Линия нашей эскадры была очень неправильная и сильно растянутая, особенно третий отряд. Головных я не видел, — они были у нас под ветром и заслонялись дымом пожара. В том же направлении находился и неприятель. Ориентируясь по солнцу и ветру, можно было сказать, что наша эскадра идет приблизительно на SO, а неприятель находится от нее к NO.
На случай, если в бою «Суворов» выйдет из строя, миноносцы «Бедовый» и «Быстрый» должны были немедленно подойти к нему, снять адмирала со штабом и перевезти его на другой, исправный, корабль. Однако, сколько я ни высматривал по сторонам — миноносцев не было… Сделать сигнал? но чем? — все средства сигнализации давно были уничтожены…
Между тем, если мы за дымом собственного пожара почти не видели неприятеля, он нас хорошо видел и всю силу своего огня сосредоточил на подбитом броненосце, пытаясь добить его окончательно. Снаряды сыпались один за другим. Это был какой-то вихрь огня и железа… Стоя почти на месте и медленно разворачиваясь машинами, чтобы привести на должный курс и следовать за эскадрой, «Суворов» по очереди подставлял неприятелю свои избитые борта, бешено отстреливаясь из уцелевших (уже немногих) орудий…
Вот что записано об этих моментах очевидцами из числа наших противников (Для установления связи между фактами, мною лично наблюдавши мися и записанными, а также для объяснения действий японцев, я пользуюсь источниками, которые, полагаю, нельзя заподозрить в пристрастии к нам: это две японские книжки официозного издания, обе под заглавием «Ниппон-Кай Тай-кайсен», т. е. «Великое сражение Японского моря». Книжки иллюстрированы многочисленными фототипиями, схематическими планами отдельных моментов сражения и содержат в себе донесения различных кораблей и отрядов. Некоторые несущественные разногласия в описании деталей различными свидетелями нигде не сглажены, что только придает изданию особенный характер правдивости.
Прошу читателей извинить тяжелый, иногда даже нескладный, язык приводимых мною цитат. Причина тому — мое желание по возможности ближе держаться к подлиннику, а японский язык по конструкции своей фразы совсем не похож на европейские.):
«Вышедший из строя «Суворов», охваченный пожаром, все еще двигался (за эскадрой), но скоро под нашим огнем потерял переднюю мачту, обе трубы и весь был окутан огнем и дымом. Положительно никто бы не узнал, что это за судно, так оно было избито. Однако и в этом жалком состоянии все же, как настоящий флагманский корабль, «Суворов» не прекращал боя, действуя, как мог, из уцелевших орудий…»
Другая выдержка из описания действий эскадры адмирала Камимуры:
«Суворов», поражаемый огнем обеих наших эскадр, окончательно вышел из строя. Вся верхняя часть его была в бесчисленных пробоинах, и весь он был окутан дымом. Мачты упали; трубы упали одна за другой; он потерял способность управляться, а пожар все усиливался… Но, и находясь вне боевой линии, он все же продолжал сражаться так, что наши воины отдавали должное его геройскому сопротивлению…»
Возвращаюсь к личным моим впечатлениям.
Повреждения эскадренного броненосца «Орел» в Цусимском сражении
Среди гула выстрелов собственных орудий, взрывов неприятельских снарядов и рева пожара, мне, конечно, и в голову не пришло подумать о том, в какую сторону мы ворочаем — на ветер или под ветер? Но вскоре я это почувствовал. Когда броненосец, разворачиваясь на курс, стал кормой против ветра, дым и пламя с горящих ростр хлынули прямо на передний мостик, где я находился. Вероятно, высматривая желанные миноносцы, я не обратил внимания на постепенное приближение опасности и спохватился только тогда, когда оказался в непроницаемом дыму. Раскаленный воздух жег лицо и руки; едкая гарь слепила глаза; дышать было нечем… Надо было спасаться, и притом спасаться, идя навстречу пламени, так как вперед, на бак, схода не существовало… Одно мгновение у меня мелькнула мысль соскочить с мостика на носовую 12-дюймовую башню, но ориентироваться, выбрать место и направление для прыжка было невозможно… Как я вылез из этого пекла?.. Может быть, кто-нибудь из команды, ранее видевший меня на мостике, выволок?.. Как я попал в верхнюю батарею, на знакомое место, к судовому образу, — совершенно не помню и не могу себе представить…
Отдышавшись, выпив воды и промыв глаза, я осмотрелся. Здесь было совсем уютно. Большой киот судового образа оставался невредимым и, по-видимому, кроме первого шального снаряда, уничтожившего временный перевязочный пункт, ни одного больше не залетало в этот укромный уголок.
Тут же стояло несколько человек команды. Среди них я признал некоторых сигнальщиков Демчинского и спросил о нём. Ответили, что ранен и ушел на перевязку. Эти люди стояли молча, наружно спокойные, и только во взглядах, устремленных на меня, чувствовалась глухая тревога, ожидание и смутная надежда… Казалось, они верили, или хотели верить, что я могу еще приказать делать что-то нужное, что-то важное и спасительное, и ждали… Но что я мог приказать? Разве что посоветовать уйти вниз, спрятаться под броневую палубу и там ждать своей участи?.. Это они и сами знали. Им надо было другого. Они еще чувствовали себя способными к борьбе… Эти «пережившие» были очень хороши!..
И мне показалось безумно жестоким разбить их веру, потушить последнюю искру надежды, сказать грубую правду, сказать, что борьба невозможна, что все кончено… Нет! Я не мог этого… Наоборот — я так страстно хотел обмануть их, раздуть эту искру… Что ж? — пусть умирают в счастливой уверенности, что, может быть, следующий миг несет с собой победу, жизнь, славу…
Как я сказал уже, на месте, где обыкновенно собиралась (На судах — церковь разборная и собирается только на время богослужения) церковь и где доктор устроил (так неудачно) временный перевязочный пункт, было довольно благополучно. Зато позади средних 6-дюймовых башен уже начинал разыгрываться пожар. Туда мы и пошли. Начали растаскивать горяшие предметы, тушить и выбрасывать их за борт через гигантские пробоины… Нашли уцелевший пожарный кран, даже обрывок шланга (без пипки); появились ведра… Работали молча и сосредоточенно, словно делали серьезное дело… Между тем мы тушили здесь какую-то рухлядь, а рядом, за тонкой, раскаленной стальной переборкой, отделявшей нас от штабного помещения, бушевал настоящий пожар, рев которого слышался временами даже среди шума битвы… Иногда кто-нибудь падал и либо оставался лежать, либо поднимался и шел или полз к трапу, ведущему вниз… На него даже не смотрели: не все ли равно? — одним больше, одним меньше…
Сколько так прошло времени — 5, 10, 15 минут… — не знаю… Вдруг мгновенная, яркая, как молния, мысль промелькнула в голове, ударила в сердце…
— А в рубке? Что в боевой рубке?..
Я бросился наверх. Усталость, угнетенное состояние духа исчезли бесследно. Мысль работала с поразительной ясностью. Я мгновенно сообразил, что дым заносит в пробоины левого борта, а значит, правая сторона — наветренная, и направился туда. Не без затруднений вылезши через развороченный люк на верхнюю палубу, я едва узнал то место, где еще недавно мы стояли с Демчинским. Тут, как говорится, ступить было некуда: сзади провалившиеся, костром пылающие ростры; впереди — груды обломков; трапа на мостик не существовало; все правое крыло мостика было разрушено, и даже проход под мостиком на другой борт был завален… Пришлось опять спуститься вниз и снова подняться уже на левую сторону. Здесь было несколько чище. Ростры хотя и горели и обвалились, но не рассыпались такой безобразной кучей, как справа. 6-дюймовая башня, видимо, вполне исправная, поддерживала энергичный огонь. Трап на мостик был цел, но завален горящими койками. 5–6 человек команды, неотступно следовавших за мной и тоже вышедших наверх, деятельно принялись, по моему приказанию, растаскивать эти койки и тушить их в воде, стоявшей на палубе. Вдруг где-то близко и особенно резко звякнул снаряд. Кругом запрыгали и застучали осколки…
— Кажется, по 6-дюймовой… — подумал я, жмурясь и задерживая дыхание, чтобы не наглотаться газов…
Действительно, когда дым рассеялся, из башни торчала только одна как-то беспомощно вверх задранная пушка… Из броневой двери высунулся командир башни, лейтенант Данчич:
— А у меня — кончено: одной — снесло дуло, у другой — разбита установка…
Я подошел и заглянул в дверь. Из прислуги двое лежали, странно свернувшись, а один сидел, неподвижно уставя широко открытые глаза и обеими руками держась за развороченный бок… комендор с озабоченным, деловым видом тушил какие-то горящие тряпки…
— А вы что тут делаете?
— Да вот хочу пройти в боевую рубку…
— Зачем? Там — никого.
— Как никого?
— Верно. Сейчас прошел Богданов. Рассказывал — все перебито, пожар, все ушли. Он вышел — мостик разбит — провалился. Удачно — прямо ко мне. Цел.
— Где же адмирал?..
В это время опять совсем близко раздался взрыв, и что-то не сильно и не больно ударило меня сзади по правой ноге. Я обернулся. Никого из моих людей не оставалось на палубе. Были они перебиты или просто ушли вниз?..
— У нас нет носилок? — услышал я тревожный вопрос Данчича и опять обернулся к нему:
— Какие носилки?
— Вас надо… С вас — течет!..
Я посмотрел — действительно, от правой ноги расходилась лужа крови, но нога стояла твердо.
Было 3 часа пополудни.
— Вы можете идти? Постойте, я вам дам провожатого, — хлопотал Данчич…
Я даже рассердился: какие тут провожатые! — и бойко начал спускаться по трапу, недоумевая, что случилось… Когда в самом начале сражения маленький осколок попал мне в поясницу — это было больно, но теперь — никакого впечатления…
Потом уже, в госпитале, когда меня повсюду таскали на носилках, я понял, почему во время боя не было слышно ни стонов, ни криков. Это уж после приходит. Очевидно, все наши чувства одинаково имеют строгие пределы для воспринятая внешних впечатлений, и глубоко правильно на первый взгляд нелепое изречение: так больно, что вовсе не чувствуешь, так ужасно, что совсем не боишься…
Миновав верхнюю и нижнюю батареи, я спустился в жилую палубу (под броневой), где был главный перевязочный пункт, но невольно попятился назад к трапу…
Жилая палуба была полна ранеными (Возможно, что здесь их было больше, чем на всей японской эскадре). Они стояли, сидели, лежали… Иные на заранее приготовленных матрацах, иные на спешно разостланных брезентах, иные на носилках, иные просто так… Здесь они уже начинали чувствовать. Смутный гул тяжелых вздохов, полузадушенных стонов разливался в спертом, влажном воздухе, пропитанном каким-то кислым, противно-приторным запахом… Свет электрических люстр, казалось, с трудом пробивался через этот смрад… Где-то впереди мелькали суетливые фигуры в белых с красными пятна.
ми халатах… И к ним поворачивались, к ним мучительно тянулись, от них чего-то ждали все эти груды тряпок, мяса и костей… словно отовсюду, со всех сторон поднимался и стоял неподвижный, беззвучный, но внятный, душу пронизывающий призыв о помощи, о чуде, об избавлении от страданий, хотя бы… ценою скорой смерти…
Я не стал дожидаться очереди, не захотел пробираться вперед других, но быстро поднялся по трапу в нижнюю батарею и здесь столкнулся с флаг-капитаном. Голова у него была перевязана (три осколка в затылке). Из расспросов узнал, что одновременно с повреждением рулевых приводов и выходом «Суворова» из строя в рубке были ранены в голову адмирал и Владимирский. Последний ушел на перевязку, и его заменил, вступив в командование броненосцем, третий лейтенант — Богданов. Адмирал приказал, управляясь машинами, следовать за эскадрой. Попадания в передний мостик все учащались. Осколки снарядов, массами врываясь под грибовидную крышу рубки, уничтожили в ней все приборы, разбили компас… По счастью, уцелели: телеграф — в одну машину, переговорная труба — в другую. Начался пожар на самом мостике — загорелись койки, которыми предполагалось защитить себя от осколков, и маленькая штурманская рубка, находившаяся позади боевой. Жара становилась нестерпимой, а главное — густой дым застилал все кругом, и, при отсутствии компаса, держать какой-либо курс оказывалось невозможным. Надо было переносить управление в боевой пост, а самим уходить из рубки в какое-нибудь другое место, откуда было бы видно окружающее… В рубке в это время находились: адмирал, флаг-капитан и флагманский штурман — все трое раненые, лейтенант Богданов, мичман Шишкин и один матрос, как-то до сих пор уцелевшие. Первым вышел из рубки на левую сторону мостика лейтенант Богданов. Смело, расталкивая горящие койки, бросился он вперед и… исчез в пламени, провалившись куда-то. Шедший за ним флаг-капитан повернул на правую сторону мостика, но здесь все было разрушено, трапа не существовало — дороги не было. Оставался только один путь — вниз, в боевой пост. С трудом растащив убитых, лежавших на палубе, подняли решетчатый люк над броневой трубой и по ней спустились в боевой пост. Адмирал, несмотря на то что был ранен в голову, в спину и в правую ногу (не считая мелких осколков), держался еще довольно бодро. Из боевого поста флаг-капитан отправился на перевязку, адмирал же, оставив здесь легко раненного флагманского штурмана (полковника Филипповского) с приказанием, если не будет новых распоряжений, держать на старом курсе, сам пошел искать места, откуда можно было хотя бы видеть бой…
Верхняя палуба представляла собою горящие развалины, а потому адмирал не мог пройти дальше верхней батареи (все то же место у судового образа). Отсюда он пытался проникнуть в левую среднюю 6-дюймовую башню, но это не удалось, и тогда он пошел в соответственную ей правую. На этом переходе адмиралом была получена рана, сразу давшая себя почувствовать жестокой болью, — осколок попал в левую ногу, близ щиколотки, и перебил главный нерв. Ступня оказалась парализованной. В башню адмирала уже ввели и здесь посадили на какой-то ящик. Он, однако, еще нашел в себе достаточно сил, чтобы тотчас же спросить:
— Отчего башня не стреляет? — и приказал подошедшему Крыжановскому найти комендоров, сформировать прислугу и открыть огонь… Но оказалось, что башня повреждена и не вращается. Между прочим, Крыжановский только что вернулся из рулевого отделения: рулевая машинка была исправна, но все три привода к ней перебиты; равным образом не было никаких средств для передачи приказаний из боевого поста к рулевой машинке, так как переговорной трубы не существовало вовсе, электрические указатели были испорчены, а телефон не действовал. Приходилось управляться из боевого поста машинами, т. е. больше вертеться на месте, чем идти вперед.
Обстоятельства, которые я излагаю здесь в хронологическом порядке и в виде связного рассказа, конечно, не в этом виде мною получены были, а разновременно и от разных лиц, но пытаться передать в точности эти недоговоренные фразы, внезапно прерванные близким взрывом снаряда, отрывочные замечания, брошенные на ходу, отдельные слова, сопровождаемые жестом, красноречивее всякого слова, — это было бы и невозможно и бесцельно. Тогда, в тот момент наивысшего напряжения нервной системы, какое-нибудь восклицание, взмах руки заменяли собою множество слов, вполне ясно выражали желаемую мысль, но, переданные на бумаге, они никому не были бы понятны.
Тогда время измерялось мгновениями.
Тогда было не до разговоров.
В нижней батарее настоящего пожара еще не было, он шел сверху, но через люки, развороченные дымовые кожухи и пробоины средней палубы вниз то и дело валились горящие обломки, и то тут, то там происходили мелкие «возгорания». Однажды особенно бойко занялось у боевой станции беспроволочного телеграфа, заблиндированной угольными мешками. Огонь серьезно угрожал скученным в этом месте (из-за повреждения рельса подачи) тележкам с 75-мм патронами, так что часть их даже выбросили за борт; но все-таки удалось справиться.
Конечно, пожар распространялся не только естественным путем, ему помогали и неприятельские снаряды, продолжавшие сыпаться на броненосец. Потери в людях не прекращались. Меня контузило в левую лопатку, и два маленьких осколка угодили в бок.
V
Я упоминал уже, что в случае выхода «Суворова» из строя к нему должны были подойти миноносцы «Бедовый» и «Быстрый», чтобы перевезти адмирала со штабом на другой, исправный, корабль. При этом, во избежание замешательства, пока не состоялся перенос флага или пока не было сделано сигнала о передаче командования, эскадру должен был вести корабль, следующий за выбывшим из строя.
Не беру на себя решать здесь вопросов: можно ли было видеть со стороны, что никакие миноносцы к «Суворову» не подходили? Было ли очевидно для всякого, что с избитого горящего броненосца, без мачт и без труб, тщетно ожидать какого-либо сигнала? Следовало ли поэтому считать, что командование фактически, само собою, передалось уже следующему по старшинству, и должен ли был этот последний так или иначе проявить свою деятельность? Во всяком случае, «Александр», т. е. вернее его командир, капитан 1-го ранга Бухвостов, в точности исполнил приказ и свой долг. После выхода «Суворова» из строя, ни от кого не получая новых распоряжений, он продолжал бой, следуя головным и ведя за собою эскадру.
С того момента, как я видел ее проходящею мимо «Суворова» на SO, «Александр» еще минут двадцать шел, постепенно склоняясь к S, пытаясь этим способом не допустить противника значительно выдвинуться вперед и броситься поперек курса. В то же время японцы, возбужденные первым успехом, стремясь снова осуществить свою идею — атаки все-ми-силами головного корабля, — так увлеклись ею и так проскочили вперед, что «Александру» открылась дорога на NO позади их. Он воспользовался этим и круто повернул к северу, рассчитывая при удаче самому обрушиться всеми силами на их арьергард, взяв его продольным огнем. Момент этого поворота японские донесения определяют различно: одни — в 2 ч. 40 мин., другие — в 2 ч. 50 мин. дня (момент гибели «Осляби», который под сосредоточенным огнем шести броненосных крейсеров адмирала Камимура вышел из строя еще раньше «Суворова»). По моим личным соображениям, последний момент более вероятен.
Если бы неприятельская эскадра стала ворочать «последовательно», как она это сделала в начале боя, то маневр «Александра» мог бы иметь успех, но ввиду серьезности момента Того на этот раз решился и приказал повернуть «всем вдруг» влево на 16 румбов. Поворот вышел не совсем удачно. Первая эскадра («Миказа», «Сикисима», «Фудзи», «Асахи», «Кассуга» и «Ниссин») исполнила его, как должно, но Камимура со своими крейсерами, вероятно, не разобрав сигнала и ожидая поворота «последовательно», прежним курсом проскочил мимо нашей эскадры и ложившимися на обратный курс броненосцами, мешая им стрелять, после чего, только выйдя на простор, мог повернуть (повернул все-таки «последовательно»), а затем догнать броненосцы и вступить им в кильватер.
Это был момент замешательства, за который японцы могли бы дорого поплатиться, но не нашей эскадре было его использовать, особенно в том состоянии, в каком она находилась к этому времени.
Неприятель, пользуясь своей быстроходностью, не только успел выправить расстроившуюся линию, но и достиг того, к чему стремился, — вышел поперек курса «Александра», снова отжимая его к югу…
* * *
Из правых портов батареи мы могли теперь хорошо видеть «Александр», который был у нас почти на траверзе и держал прямо на «Суворов». За ним следовали остальные. Расстояние уменьшалось. В бинокль уже отчетливо видны были избитые борта броненосца, разрушенные мостики, горящие рубки и ростры… но трубы и мачты еще стояли. Следующим шел «Бородино», сильно горевший. Японцы уже успели выйти вперед и завернуть на пересечку. Наши подходили справа — они же оказались слева от «Суворова». Стреляли и в нас, и через нас. Наша носовая 12-дюймовая башня (единственная, до сих пор уцелевшая) принимала деятельное участие в бою. На падающие снаряды не обращали внимания. Меня ранило в левую ногу, но я только досадливо взглянул на рассеченный сапог. Затаив дыхание, все ждали… По-видимому, вся сила огня японцев была сосредоточена на «Александре». Временами он казался весь окутан пламенем и бурым дымом, а кругом него море словно кипело, взметывая гигантские водяные столбы… Ближе и ближе… Расстояние не больше 10 кабельтовых… И вот — один за другим целый ряд так отчетливо видимых попаданий по переднему мостику и в левую 6-дюймовую башню… — «Александр» круто ворочает вправо, почти на обратный курс и уходит…(Был ли этот поворот намеренным или случайным — вследствие по вреждения рулевых приводов, — навсегда осталось тайной) За ним — «Бородино», «Орел» и другие… Ворочают поспешно, даже не выдерживая линии кильватера… не то — «последовательно», не то — «все вдруг»…
Глухой ропот пробежал по батарее…
— Бросили!.. Уходят!.. Сила не взяла! — раздавались отрывочные восклицания среди команды…
Они, эти простые люди, конечно, думали, что наша эскадра, возвращаясь к «Суворову», имела целью его выручить. Их разочарование было тягостно, но еще тягостнее было тем, кто понимал истинное значение происходившего…
Беспощадная память, неумолимое воображение так ясно, так отчетливо воссоздавали перед моими глазами другую, такую же… такую же ужасную картину: так же спешно, в таком же беспорядке уходили на NW наши броненосцы 28 июля, после сигнала князя Ухтомского…
— Сила не взяла!..
И страшное, роковое слово, которое я даже мысленно не смел выговорить, неумолчно звенело в мозгу, казалось, огненными буквами было написано и в дыме пожара, и на избитых бортах, и на бледных, растерянных лицах команды…
Рядом со мною стоял Богданов. Мы переглянулись и, кажется, поняли друг друга. Он уж хотел сказать что-то, но вдруг… остановился, потом оглянулся и промолвил делано-равнодушным тоном:
— А ведь у нас порядочный крен на левую!..
— Да, градусов восемь будет… — согласился я и, вынув часы и записную книжку, отметил: «3 часа 25 мин. пополудни; сильный крен на левую; в верхней батарее большой пожар».
Не раз потом я думал: чего мы прятались друг от друга и от самих себя? Почему Богданов не решился громко выговорить, а я не посмел, даже в собственной памятной книжке, написать это безотрадное слово — поражение?.. Может быть, в нас еще теплилась какая-то смутная надежда на чудо, на какую-нибудь внезапность, которая все изменит?.. Не знаю…
После поворота «Александра» японцы тоже повернули «все вдруг» на 16 румбов. На этот раз маневр удался… Да ведь это и был уж не бой, а только маневр…
Идя обратным курсом, японцы проходили у нас под носом, и с «Суворова» казалось, что это мы идем вразрез их колонны. Повернули вправо за нашей эскадрой. Конечно, не более, как самообман: управляясь машинами, да еще не по окрестным предметам, а по компасу из боевого поста, мы никуда не шли, а только ворочались вправо и влево, оставаясь почти на одном месте.
Проходя мимо, неприятель, разумеется, не упустил случая сосредоточить огонь на упрямом корабле, который не хотел тонуть. Кажется, в это время была подбита наша последняя башня- носовая 12-дюймовая.
По японским сведениям, одновременно с эскадрой к нам подходили неприятельские миноносцы и атаковали нас, но безуспешно. Я их не видел.
Повреждения эскадренного броненосца «Орел» в Цусимском сражении
Один снаряд так удачно попал в порт четвертого с носу 75-мм орудия нижней батареи левого борта, что, снеся орудие, еще пробил и броневую палубу. Вода, захлестывавшая, вследствие крена на левую, в разбитый порт, не стекала обратно, а лилась через эту пробоину в жилую палубу, что представляло серьезную опасность. Богданов первый обратил на нее внимание, и мы начали складывать из мешков (и чего попало под руку) нечто вроде бруствера, ограждающего дыру от притока воды. Говорю «мы», потому что в это время немногочисленная команда, оставшаяся в батарее, не отзывалась ни на какие приказания. Люди в каком-то оцепенении жались по углам. Приходилось вытаскивать их чуть не силой и подавать пример, работая собственными руками. К нам присоединились пришедший откуда-то флагманский минер, лейтенант Леонтьев, и Демчинский. Последний мог действовать только силой убеждения, так как кисти обеих рук у него были забинтованы.
В 3 ч. 40 мин. пополудни по батарее, а затем и по всему броненосцу пронеслось торжествующее «ура!». Где и кто закричал его впервые? Кому и что померещилось? — осталось неизвестным… Передавали, будто откуда-то видели, как пошел ко дну японский корабль; иные утверждали даже, что не один, а два!.. Во всяком случае этот торжествующий крик внезапно и резко изменил настроение команды: стряхнул угнетение, вызванное зрелищем расстрела «Александра» и ухода эскадры. Люди, только что прятавшиеся по углам, глухие к приказаниям и даже просьбам офицеров, теперь сами бежали к ним с вопросами — «куда? что делать?». Слышались даже шутливые восклицания — «Ходи! ходи веселей! Небось! Это 6-дюймовые! «Чемоданы» все вышли!»
Действительно, с удалением главных сил, нас расстреливали только легкие крейсера адмирала Дева, а это в сравнении с прежним было почти неощутительно…
Командир В. В. Игнациус, после перевязки второй раны в голову оставшийся в жилой палубе, конечно, не выдержал этого момента и, не слушая докторов, бросился по трапу в батарею с криком: «За мной, молодцы! На пожар! На пожар! Только бы одолеть пожар!»
К нему хлынули разные нестроевые, находившиеся в жилой палубе (санитарные отряды) и легкораненые, уже бывшие на перевязке…
Шальной снаряд ударил по люку, и, когда дым рассеялся, ни трапа, ни командира, ни окружавших его людей — никого не было…
Однако даже и этот кровавый эпизод (один из сотни других) не расхолодил возбуждения команды. В нижней батарее, где за недостатком рук начали чаще и чаще заниматься пожары, появились люди, закипела работа… Из судовых офицеров, кроме Богданова, прибежал еще лейтенант Вырубов (младший минер). Молодой, рослый, здоровый, в кителе нараспашку, он всюду бросался в первую голову, и один его окрик: «Навались! Не сдавай!» — раздававшийся среди дыма и пламени, казалось, удваивал силы работавших. Приходил ненадолго Зотов, раненный в левый бок и руку; выглядывал из жилой палубы князь Церетели, спрашивая, как дела; пронесли мимо вторично и тяжело раненного Козакевича… Появился откуда-то мой вестовой, Матросов, и чуть не силой стал тащить меня на перевязку. Едва от него отделался, приказав прежде всего принести мне папирос из каюты. Он бойко крикнул:
— Есть, ваше высокоблагородие! — и убежал. Больше мы не виделись…
— По орудиям! Миноносцы подходят! По орудиям! — пронеслось по палубе…
Легко было сказать — «по орудиям!».
Из всех двенадцати 75-мм пушек нижней батареи оказалась не подбитой только одна, с правого борта… Впрочем, и ей не пришлось стрелять на этот раз.
Миноносцы осторожно приблизились к нам с кормы (по японским сведениям, это было в 4 ч. 20 мин. дня), но в кормовом плутонге (позади кают-компании) еще уцелела 75-мм пушка. Волонтер Максимов, за убылью офицера принявший командование плутонгом, открыл по миноносцам частый огонь, а те, увидев, что эта странная, избитая посудина все еще огрызается, ушли, выжидая более благоприятного времени.
Этот случай подал мне идею выяснить, какими силами располагаем мы для отражения минной атаки, вернее — до какой степени достигает наша беспомощность…
В нижней батарее оказалось команды человек 50 самых разнообразных специальностей. Из них, однако, два комендора. Пушек, как ни искали, нашлась, вполне исправная, только одна, да еще другую комендоры предполагали «наладить», собрав взамен поврежденных частей соответственные части от остальных десяти, окончательно выведенных из строя. Затем была еще пушка у Максимова в кормовом плутонге.
Закончив инспекторский смотр нижней батареи, я поднялся в верхнюю в носовой плутонг (из башен ни одна не действовала). Здесь меня поразила картина, наиболее ярко характеризующая действие японских снарядов: пожара не было; что могло сгореть — уже сгорело; все четыре 75-мм пушки были сброшены со станков, но тщетно искал я на орудиях и на станках следов непосредственного удара снарядом или крупным его осколком. Ничего. Ясно, что разрушение было произведено не силой удара, а силой взрыва. Какого? В плутонге не хранилось ни мин, ни пироксилина… Значит, неприятельский снаряд дал взрыв, равносильный минному…
Читателям, может быть, покажутся странными эти прогулки по добиваемому броненосцу, осмотр повреждений, их оценка… Да, это было странное, если хотите, даже ненормальное состояние, господствовавшее, однако, на всем корабле. «Так ужасно, что совсем не страшно». Для всякого было совершенно ясно, что все кончено. Ни прошедшего, ни будущего не существовало. Оставался только настоящий момент и непреоборимое желание заполнить его какою-нибудь деятельностью, чтобы… не думать.
Спустившись снова в нижнюю батарею, я шел посмотреть кормовой плутонг, когда встретил Курселя.
Прапорщик по морской части Вернер фон Курсель, курляндец родом и общая симпатия всей суворовской кают-компании, плавая чуть ли не с пеленок на коммерческих судах, мог говорить на всех европейских языках, и на всех одинаково плохо. Когда в кают-компании над ним острили по этому поводу, он пресерьезно отвечал: «Но я думаю, что по-немецки все-таки лучше другого!» На своем веку он столько видел и пережил, что никогда не терял душевного равновесия и никакие обстоятельства не могли помешать ему встретить доброго знакомого приятною улыбкой.
Так и теперь, он уже издали кивал мне головой и радостно спрашивал:
— Ну, какие дела вы поделываете?
— Идет ликвидация дел… — ответил я.
— О, совершенно да!.. Но вот меня всё не ранит и не ранит, а вас, кажется, задевало…
— Было…
— Куда вы идете?
— Посмотреть кормовой плутонг и забрать папирос в каюте — все выкурил.
— В каюте? — и Курсель хитро засмеялся. — Я сейчас оттуда. Но, впрочем, пойдемте, и я — провожаю.
Он действительно оказался полезным провожатым, так как знал, где дорога свободна от обломков.
Добравшись до офицерского отделения, я в недоумении остановился — вместо моей каюты и двух смежных с ней была сплошная дыра…
Курсель весело хохотал, радуясь своей шутке…
Внезапно рассердившись, я махнул рукой и быстро пошел обратно. В батарее Курсель меня догнал и стал угощать сигарами.
В нижней батарее всякие возгорания были уже прекращены, и, ободренные успехом, мы решили попытать счастья в верхней. Двое трюмных (Трюмные — заведующие трюмами, водоотливной и пожарной системой) достали откуда-то совсем новые, необделанные шланги; один конец проволокой найтовили к пожарному крану, а на другой — тем же способом наращивали пипку…
— Ай да молодцы! — ободрял их Богданов. Вооружившись шлангами и прикрываясь от огня мокрыми мешками, сначала только высунулись через церковный люк, а затем, залив горевшую здесь рухлядь перевязочного пункта, и совсем вылезли в верхнюю батарею. Команда работала с увлечением, и скоро в церковном отделении пожар был прекращен. Зато позади средних 6-дюймовых башен бушевало пламя. Двинулись туда, но тут… Сюда, как в место более укрытое, убраны были с мостиков ящики патронов 47-мм пушек, и надо же было, чтобы как раз в то время, когда мы собирались тушить окружавшее их пламя, они начали рваться. Несколько человек сразу же упало убитыми и ранеными. Произошло замешательство…
— Это ничего! это сейчас кончается! — пробовал убеждать Курсель…
Но взрывы все учащались. Новые шланги были перебиты один за другим. В то же время где-то близко раздался характерный резкий удар, сопровождаемый лязгом рвущегося железа… Еще и еще… Это были уже не 6-дюймовые, а опять «чемоданы»… Людьми овладела паника. Никого и ничего не слушая, они бросились вниз.
Когда, огорченные неудачей, казалось, так хорошо начатого дела, мы спускались в нижнюю батарею, что-то (должно быть, какой-нибудь обломок) ударило меня в бок, и я пошатнулся.
— Опять задело? — спросил Курсель, вынимая изо рта сигару и участливо наклоняя голову…
А я смотрел на него и думал: «Вот если бы целую эскадру укомплектовать людьми с такой выдержкой!»
VI
Между тем наша эскадра после своего крутого поворота от «Суворова» шла, постепенно склоняясь вправо, чтобы не выпускать на пересечку своего курса японцев, которые неизменно к этому стремились. В результате оба противника двигались по дугам концентрических кругов: наши — по внутренней, японцы — по внешней.
Около 4 ч. пополудни судьба как будто пыталась последний раз нам улыбнуться.
Среди густого дыма, валившего из поврежденных труб, дыма от выстрелов и от пожаров, мешавшегося с туманом, еще стлавшимся над морем, японские главные силы как-то разошлись с нашими и потеряли их из виду.
Японские источники, которыми я пользуюсь, говорят об этом эпизоде весьма кратко и глухо. Ясно только, что Того считал нашу эскадру прорвавшейся каким-то образом на север и пошел туда на поиски за нею, но Камимура не согласился с этим мнением и со своими крейсерами направился на S и SW. Так, по крайней мере, можно понять горячие панегирики в особом отделе книги, озаглавленном «Доблесть адмирала Камимура». Не будь этой «доблести», возможно, что на 14 мая бой был бы закончен и наша эскадра имела бы время собраться и оправиться.
Идя на S, а потом на SW, Камимура услышал усиленную канонаду, доносившуюся с запада, и пошел прямо туда. Это адмирал Катаока нападал (до сих пор довольно безуспешно) на наши крейсера и транспорты. Камимура принял деятельное участие в сражении и тут же вскоре открыл наши главные силы, которые, описав почти круг диаметром около 5 миль, возвращались к тому же месту, откуда «Александр» сделал свой внезапный и крутой поворот и около которого беспомощно бродил «Суворов».
Было около 5 ч. вечера.
Мы с Курселем стояли в нижней батарее, куря сигары и обмениваясь замечаниями о предметах, к делу не относящихся, когда «Суворов» оказался среди нашей эскадры, нестройно двигавшейся на север.
Одни суда проходили у нас справа, другие — слева. Головным, ведя эскадру, шел «Бородино» (капитан 1-го ранга Серебрянников). «Александр», сильно избитый, с креном и севший в воду почти до портов нижней батареи, держался вне линии, медленно отставая, но не прекращал боя, действуя из уцелевших орудий. Я его не видел, но рассказывали, что у него вся носовая часть — от тарана до 12-дюймовой башни — была словно раскрыта.
Крейсера и транспорты, примкнувшие к главным силам, шли сзади и несколько влево от них, атакуемые отрядами эскадры адмирала Катаока (кроме самого Катаока, еще адмиралы Дева, Уриу и Того-младший). Камимура держался правее, т. е. к востоку, идя тоже на север.
«Чемоданы» так и сыпались. Из машины уже некоторое время тому назад сообщали, что «вентиляторы качают не воздух, а дым, что люди задыхаются, падают и что скоро некому будет работать»… Электричество меркло, и. от динамо-машин жаловались, что мало пару…
— Миноносец подходит!
Мы бросились к нашей единственной пушке (другой так и не удалось «наладить»), но оказалось, что это «Буйный», случайно проходивший мимо и по собственной инициативе приблизившийся к искалеченному броненосцу, чтобы спросить, не может ли он быть чем-нибудь полезен.
Флаг-капитан, находившийся на срезе, приказал Крыжановскому сделать ему семафором (руками) сигнал: «Примите адмирала».
Я наблюдал из батареи за маневрами «Буйного», когда внезапно откуда-то появился адмиральский вестовой, Петр Пучков, и бросился ко мне:
— Ваше высокоблагородие! Пожалуйте в башню! Миноносец пришел — адмирал пересаживаться не хочет!
Должен оговориться, что адмирал не был на перевязке, и никто из нас не знал, насколько тяжело он ранен, так как в моменты получения ран на все вопросы он сердито отвечал, что это пустяки. После того, как его ввели в башню и посадили на ящик, он так и оставался в этом положении. Иногда поднимал голову, задавал вопросы о ходе боя и потом опять сидел молча и понурившись… Но в том состоянии, в каком находился «Суворов», что другое он мог бы делать? Его поведение казалось всем вполне естественным, и никому не приходило на мысль, что эти вопросы не что иное, как только мгновенные вспышки энергии, краткие проблески сознания… Теперь, на доклад о подходе миноносца он, очнувшись, отчетливо приказал: «Собрать штаб!» — а затем только хмурился и, казалось, не хотел ничего больше слушать (Из всех раненых чинов штаба, бывших внизу под броневой палубой, удалось «собрать» только Филипповского и Леонтьева. Первый находился в боевом посту, наглухо отделенном от жилой палубы и имевшем приток свежего воздуха через броневую трубу боевой рубки (хотя и здесь он сидел при свечах — лампы гасли), а второй был у самого выходного люка. Жилая палуба была во тьме (электричество погасло) и полна удушающего дыма. Люди, бросившиеся искать чинов штаба, могли только звать их, но не получали ответа ни от тех, кого окликали, ни от кого другого. В дымной тьме царило мертвое молчание. Вероятно, все находившиеся в закрытых помещениях под броневой палубой, куда вентиляторы качали «не воздух, а дым», постепенно угорали, теряли сознание и умирали. Машины не работали; электричество погасло от недостатка пара, а между тем снизу никто не вышел… Можно думать, что из 900 человек, составлявших население «Суворова», к этому времени оставались в живых только те немногие, что собрались в нижней батарее и на наветренном срезе).
Через откинутый полупортик нижней батареи я, при помощи Курселя, выбрался на правый бортовой срез впереди средней 6-дюймовой башни. Помощь мне уже требовалась: правая нога слушалась совсем плохо, а левой можно было ступать только на пятку.
На срезе боцман и несколько матросов работали, очищая его от горящих обломков, свалившихся с ростр. Справа, по носу, совсем близко, не дальше 3–4 кабельтовых, я увидел «Камчатку», стоявшую неподвижно. Крейсера Камимуры расстреливали ее с таким же увлечением, как и нас, с той лишь разницей, что по отношению к «Камчатке» задача была много легче.
«Буйный» держался на ходу недалеко от борта. Командир его, капитан 2-го ранга Коломейцев, кричал в рупор: «Есть ли у вас шлюпка перевезти адмирала? У меня нет!» Флаг-капитан и Крыжановский что-то ему отвечали.
Я заглянул в башню, броневая дверь которой была повреждена и не отодвигалась вовсю, так что полному человеку пролезть в нее вряд ли было бы возможно. Адмирал сидел, весь как-то осунувшись, низко опустив голову, обмотанную окровавленным полотенцем.
— Ваше превосходительство! — крикнул я. — Пришел миноносец! Надо перебираться!
— Приведите Филипповского… — глухо ответил адмирал, не меняя положения…
Адмирал, видимо, собирался вести эскадру, перебравшись на другой корабль, и потому требовал флагманского штурмана, ответственного за счисление и следящего за безопасностью маневрирования.
— Его сейчас приведут! За ним пошли! Адмирал только отрицательно покачал головой…
Я не настаивал, так как раньше, чем выводить адмирала, надо было позаботиться о средствах для переправы.
В компании с Курселем, боцманом и еще двумя-тремя матросами достали из верхней батареи несколько полу обгорелых коек, какой-то конец (Во флоте говорят «конец», а не «веревка») и начали из этого материала вязать нечто вроде плота, на котором рассчитывали спустить адмирала на воду и так передать на миноносец. Рискованно, но другого выхода не было.
Плот готов. Кстати, пришел и Филипповский. Я бросился к башне.
— Ваше превосходительство! Выходите! Филипповский здесь!
Адмирал молча смотрел на нас, покачивая головой… Не то — соглашался, не то — нет… Положение было затруднительное…
— Что вы разглядываете! — вдруг закричал Курсель. — Берите его! Видите, он совсем раненный!
И словно все только и ждали этого крика, этого толчка… Все сразу заговорили, заторопились… Несколько человек пролезло в башню… Адмирала схватили под руки, подняли… но едва он ступил на левую ногу, как застонал и окончательно лишился сознания. Это было и лучше.
— Тащи! Тащи смелей! Легче, черти! На бок! На бок ворочай! Стой — трещит! Чего трещит — тужурка трещит! Тащи! — раздавались кругом суетливые голоса.
Адмирала с большими усилиями, разорвав на нем платье, протащили сквозь узкое отверстие заклиненной двери на кормовой срез и уж хотели подвязывать к плоту, когда Коломей цев сделал то, что можно сделать только раз в жизни, только по вдохновению… Сухопутные читатели, конечно, не смогут представить себе весь риск маневра, но морякам оно должно быть понятно. Он пристал к наветренному борту искалеченного броненосца с его повисшими, исковерканными пушечными полупортиками, торчащими враздрай орудиями и перебитыми стрелами сетевого ограждения…(Подойти с подветра не было никакой возможности — туда несло весь дым и все пламя пожара) Мотаясь на волне, миноносец то поднимался своей палубой почти в уровень со срезом, то уходил далеко вниз, то отбрасывался от броненосца, то стремительно размахивался в его сторону, каждое мгновение рискуя пропороть свой тонкий борт о любой выступ неподвижной громады.
Адмирала поспешно протащили на руках с кормового на носовой срез узким проходом между башней и раскаленным бортом верхней батареи и отсюда по спинам людей, стоявших на откинутом полупортике и цеплявшихся по борту, спустили, почти сбросили на миноносец, выбрав момент, когда этот последний поднялся на волне и мотнулся в нашу сторону.
— Ура! Адмирал на миноносце! Ура! — закричал Курсель, махая фуражкой…
— Ура! — загремело кругом.
Как я, с моими порчеными ногами, попал на миноносец — не помню… Помню только, как, лежа на горячем кожухе между трубами, смотрел, не отрывая глаз, на «Суворов»…
Это были мгновения, которые уже никогда не изглаживаются из памяти…
Миноносец у борта «Суворова» подвергался опасности не только разбиться. Как «Суворов», так и «Камчатка» все еще энергично расстреливались японцами; на миноносце уже были и убитые и раненные осколками, а один удачный снаряд каждое мгновение мог пустить его ко дну…
— Отваливайте скорее! — кричал со среза Курсель…
— Не теряйте минуты! Отваливайте! Не утопите адмирала! — ревел Богданов, перевесившись за борт и грозя кулаком Коломейцеву…
— Отваливай! отваливай! — вторила ему, махая фуражками, команда, вылезшая на срез, выглядывавшая из портов батареи…
Выбрав момент, когда миноносец откинуло от борта, Коломейцев дал задний ход…
Прощальное «ура!» неслось с «Суворова»…
Я сказал — с «Суворова»… Но кто бы узнал в этой искалеченной громаде, окутанной дымом и пламенем пожара, недавно грозный броненосец…
Грот-мачта была сбита на половине высоты; фок-мачты и обеих труб не было вовсе; возвышенные мостики и переходы были словно срезаны, и вместо них над палубой подымались бесформенные груды исковерканного железа; левый борт низко склонился к воде, а с правой стороны широкой полосой краснела подводная часть, обнажившаяся вследствие крена; в бесчисленных пробоинах бушевало пламя пожара…
Миноносец быстро удалялся, преследуемый оживленным огнем заметивших его японцев…
Было 5 ч. 30 мин. пополудни.
Напомню уже сказанное: до последнего момента никто из нас не имел ясного представления о тяжести ран, полученных адмиралом, а потому на «Буйном» первый вопрос был — на какой корабль везти адмирала для дальнейшего командования эскадрой? Но когда фельдшер, Петр Кудинов, приступил к оказанию ему первой помощи, то положение сразу определилось. Кудинов решительно заявил, что опасается за жизнь адмирала; что осколок черепа вогнан внутрь, а потому всякий толчок может быть гибельным и при тех условиях погоды, какие были, — свежий ветер и порядочная волна — невозможно передавать его на какой-нибудь корабль; кроме того, на ногах он держаться не может, а общее состояние — упадок сил, забытье, временами бред и краткие проблески сознания — делают его неспособным к какой-либо деятельности.
На «Буйном» с кожуха, на который я попал первоначально, я перебрался на мостик; но тут оказалось, что на качке ноги меня совсем не держат. Пришлось лечь. Однако лежа я так мешал всем, находившимся при управлении, что командир дружески посоветовал мне убраться куда-нибудь, хоть… на перевязку.
Миноносец «Буйный» на ходовых испытаниях. Вооружение еще не установлено
В это время мы догоняли эскадру, и флаг-капитан, решив, что раньше, чем делать какой-либо сигнал, все-таки надо спросить мнение адмирала, поручил это мне. С большими затруднениями пробравшись на корму и спустившись по трапу, я заглянул в капитанскую каюту.
Фельдшер заканчивал перевязку. Адмирал лежал на койке неподвижно с полузакрытыми глазами, но был в сознании.
Окликнув его, я спросил, чувствует ли он себя в силах продолжать командование эскадрой и на какой корабль прикажет себя везти?
Адмирал с трудом повернул голову в мою сторону и некоторое время точно усиливался что-то вспомнить…
— Нет… куда же… сами видите… командование — Небогатову… — глухо проговорил он и, вдруг оживившись, с внезапной вспышкой энергии добавил: — Идти эскадрой! Владивосток! Курс NO 234!.. — и снова впал в забытье…
Послав этот ответ флаг-капитану (не помню через кого — кажется, через Леонтьева), я сам хотел остаться в кают-компании, но здесь решительно негде было приткнуться. Все помещения миноносца и даже верхняя палуба были полны людей. Раньше чем подойти к «Суворову», он подобрал более 200 человек на месте гибели «Осляби». Среди них были и раненые, поплававшие в соленой воде, и полу захлебнувшиеся. Эти последние с их посинелыми лицами, сведенные судорогами от мучительного кашля и боли в груди, производили впечатление хуже самых тяжелых раненых… Я выбрался на верхнюю палубу и примостился на каком-то ящике у трапа в офицерское помещение.
На мачтах миноносца развевались сигналы, и, кроме того, близко державшимся «Безупречному» и «Бедовому» передавали какие-то приказания семафором («Безупречному» приказано было идти к «Николаю» и передать семафором последние распоряжения бывшего командующего новому, т. е. Небогатову. «Бедового» посылали к «Суворову» снять оставшихся людей. Он не нашел «Суворова».). Мы уже догнали эскадру и шли совместно с транспортами, которые спереди и справа прикрывались крейсерами. Еще правее, кабельтовых в 30, шли наши главные силы. Головным, ведя эскадру, — «Бородино». За ним — «Орел». «Александра» не было видно («Александр» погиб около 5 1/2 ч. дня.). Еще дальше в наступавших сумерках смутно виднелись силуэты японцев, шедших параллельным курсом. Огоньки орудийных выстрелов беспрерывно мелькали по их линии. Упорный бой все еще не прекращался…
Рядом с собой я увидел одного из офицеров «Осляби» и спросил его: что собственно, какая пробоина погубила броненосец?
Он как-то нелепо махнул рукой и голосом, полным обиды, заговорил прерывисто:
— Что — как… вспомнить горько! Нет счастья! Одни неудачи!.. Ну, да! — кто ж спорит? Хорошо стреляют… Но разве это прицел? Разве это умение? Счастье! Удача! Чертова удача! Три снаряда один за другим почти в одно место! Понимаете? Все в то же место! Все в ватерлинию под носовой башней!.. Не пробоина, а ворота! Тройка проедет!.. Чуть накренились — стала подводной… Такой водопад… разумеется, переборки не выдержали!.. Никакой черт бы не выдержал!.. — истерично выкрикнул он и вдруг, закрыв лицо руками, беспомощно опустился на палубу…
Около 7 ч. вечера на курсе наших главных сил появились неприятельские миноносцы. Крейсера открыли по ним энергичный огонь, и они поспешно удалились.
Миноносцы «Бедовый» и «Бравый» из состава 2-й эскадры Флота Тихого океана
«Не набросали бы мин на дороге», — думал я, ворочаясь на своем ящике и тщетно пытаясь устроиться поудобнее…
— «Бородино»! Смотрите, «Бородино»! — вдруг раздались кругом тревожные восклицания.
Я, как мог быстро, поднялся на руках, но на месте «Бородина» увидел только высокие взметы белой пены…
Было 7 ч. 10 мин. вечера.
Неприятельская эскадра, круто повернув вправо, уходила к востоку, а на смену ее надвигалась туча миноносцев. Они охватывали нас полукольцом — с севера, востока и юга… Готовясь принять атаку с кормы, крейсера (и мы за ними) постепенно склонялись влево и, наконец, пошли почти прямо на запад — на зарю (компаса вблизи не было).
В 7 ч. 40 мин. вечера я видел еще наши броненосцы, которые шли сзади нас в беспорядочном строе, отстреливаясь от наседавших миноносцев…
Это была моя последняя запись.
Мне становилось все хуже. От потери крови и начинавшегося воспаления в не перевязанных, загрязнившихся ранах чувствовалась сильная слабость, озноб, головокружение… Я спустился вниз искать помощи.
Памятник командующему японским соединенным флотом адмиралу Хейхатиро Того (1847–1934). На заднем плане флагманский корабль Того броненосец Mikasa
* * *
Но «Суворов»?
Вот как описывает японец последние его минуты:
«В сумерках, в то время, как наши крейсера гнали неприятельские к северу, они увидели «Суворов», одиноко стоящий вдали от места боя, с сильным креном, окутанный огнем и дымом. Бывший при наших крейсерах отряд миноносцев капитан-лейтенанта Фудзимото тотчас же пошел на него в атаку.
Этот корабль («Суворов»), весь обгоревший и еще горящий, перенесший столько нападений, расстреливавшийся всей (в точном смысле этого слова) эскадрой, имевший только одну, случайно уцелевшую пушку в кормовой части, все же открыл из нее огонь, выказывая решимость защищаться до последнего момента своего существования, пока плавает на поверхности воды.
Наконец, в 7 ч. вечера, после двух атак наших миноносцев, он пошел ко дну»…
Вечная память погибшим героям!..
Приложение Русские и японские силы, встретившиеся под Цусимой
КОМАНДУЮЩИЙ СОСТАВ
Русские Японцы Командующий эскадрой вице-адмирал Рожественский Командующий флотом адмирал Того - Начальники эскадр: I эскадра — в.-а. Мидзу; II эскадра — в.- а. Камимура; III эскадра — в.-а. Катаока Начальники отрядов К.-а. Фелькерзам (умер от болезни за 2 дня до боя); К.-а. Энквист; Кап. 1 ранга Шеин В.-а. Дева; В.-а. Уриу; К.-а. Того (младший) - Младшие флагманы: К.-а. Ямада; К.-а. Симамура; К.-а. Такетоми; К.-а. Огура; К.-а. Хосоя; К.-а. НасиноваСУДОВОЙ СОСТАВ
Главные силы
I брон. отряд I эскадра «Князь Суворов» «Миказа» «Имп. Александр III» «Сикисима» «Бородино» «Фудзи» «Орел» «Асахи» - «Кассуга» - «Ниссин» II брон. отряд II эскадра «Ослябя» «Идаумо» «Сысой Великий» «Якумо» «Наварин» «Ясама» «Адмирал Нахимов» «Адзума» - «Токива» - «Ивате» III брон. отряд - "Имп. Николай I" - "Сенявин" - "Апраксин" - "Ушаков" -Крейсера
Крейсерский отряд III эскадра - 1-й отряд "Олег" "Ицукусима" "Аврора" "Мацусима" "Дмитрий Донской" "Хасидате" "Владимир Мономах" "Чин-Иен" - 2-й отряд - "Сума" - "Чибода" - "Идауми" - "Акицусю" - 3-й отряд - "Касаги" - "Читозе" - "Отова" - "Ниитака" Разведочный отряд 4-й отряд "Светлана" "Нанива" - "Такачихо" - "Цусима" - "Акаси"Вспомогательные крейсера
"Алмаз" 16 вспомогательных крейсеров "Урал" -Крейсера, назначенные для совместных действий с миноносцами (прикрытия своих и отражения неприятельских)
"Жемчуг" "Тайохаси" "Изумруд" "Майя" - "Такао" - "Чихайя" - "Тацута" - "Удзи" - "Яйеяма" - "Чоокай" - "Ямато" - "Цукуса"Минные суда
9 дестроеров 12 дестроеров; 12 миноносцев I класса; 55 миноносцев II класса; 13 миноносцев III классаЦена крови
Но есть и высший суд, наперсники разврата…
М. ЛермонтовНеобходимое предисловие
Долго я колебался раньше, чем решился подготовить для печати эту, последнюю, часть моего дневника… Она казалась мне слишком интимной… Жутко было подумать, что кто-нибудь встретится и спросит: «Так и было?»
Что ответить? Единственный мой ответ: «Так было записано тогда же, на месте, в момент совершавшегося события». Во всякой летописи невольно сказывается личность летописца, но если заносил он в свою книжку все виденное и слышанное, «не мудрствуя лукаво», то ведь эта бесхитростная запись и явится в будущем той канвой, по которой ученые-историки разошьют свои пышные узоры.
В моих книгах «Расплата» и «Бой при Цусиме» я старался, строго придерживаясь дневника, который вел изо дня в день, из часа в час, дать читателям картину переживаний собственных и того тесного кружка людей, в котором я был замкнут.
Шесть месяцев на порт-артурской эскадре, завершившихся боем при Шантунге, 28 июля 1904 года; двухмесячный перерыв; семь с половиной месяцев плавания на второй эскадре в ее крестном пути от Либавы до Цусимы; роковой день 14 мая 1905 года, когда вместе с адмиралом Рожественским я был «переброшен» с погибающего «Суворова» на близкий к гибели «Буйный», все это было уже мной рассказано, и рассказать об этом я считал своим долгом, но от дальнейшего повествования до сих пор воздерживался. Мне думалось: «Читателям интересна история войны, а не моя история»; теперь же мне думается, что и с самого начала я писал не историю войны, а историю людей, принимавших в ней участие, и если это правдивое сказание удостоилось чести быть переведенным на все европейские языки, то стоит его закончить.
Ничего не утаю из моих записок, ни в чем их не исправлю. Буду строго держаться старого изречения: «Еже писах — писах».
Но есть и высший суд, наперсники разврата! Есть Грозный Судия! — Он ждет!.. Он недоступен звону злата, И мысли, и слова — Он знает наперед… Напрасно вы тогда прибегнете к злословью, Оно вам не поможет вновь… М. Лермонтов Презреньем — вам, молитвой и любовью Своим бойцам за пролитую кровь Отплатит Русь! — И Вечный Судия Нам даст Свой приговор за гранью бытия!.. Вл. СемёновГлава I Возобновление заметок. — На память и с чужих слов. — На «Буйном». — Перегрузка на «Бедовый». — Краткое благополучие. — Погоня. — «Да ведь они сдаются?..» — На буксире японского крейсера
Последнюю заметку в мою записную книжку я внес 14 мая 1905 года в 7 ч. 40 мин. вечера, лежа на палубе миноносца «Буйный». От потери крови и начинавшегося воспаления в не перевязанных, загрязнившихся ранах чувствовалась сильная слабость, озноб, тошнота, головокружение и мучительная жажда… Мой дневник, который я вел изо дня в день (и даже), из часа в час за все время войны — в Порт-Артуре и на второй эскадре, — прервался…
Только 22 мая (через неделю после боя) я в силах был снова взяться за карандаш и нацарапать несколько строк:
«Ивасаки (Ивасаки — японский доктор, в палату которого я поступил от доктора Оки, оказавшего мне первую помощь) тоже нашел (в ране) что-то лишнее. Стриг… Черт возьми!.. Всюду таскают на носилках. Дрянь. Говорят, рана была очень грязная (Неудивительно — девять часов без перевязки, сначала в дыму пожара и под струями грязной соленой воды, а затем — лежа на не менее грязной палубе миноносца). Кругом раны — жестокая контузия. Весь мускул сильно смят и косо разорван; страшно болезнен и маложизнен. Размеры (главной раны) — 130 миллиметров длины, а глубина — от 25 до 37 миллиметров. Оки обнадеживает крепкой натурой, говорит: «Very strong blood».
В этот же день, чувствуя себя (почему-то) довольно бодро (временная вспышка энергии), я набросал еще несколько кратких, неудобочитаемых и для постороннего человека совершенно непонятных, но моей памяти так много говорящих заметок.
Руководствуясь ими, попытаюсь рассказать о том, что со мной было за предшествовавшие дни.
Сделав последнюю запись (на «Буйном») и почувствовав себя «совсем скверно», я (как? — не помню) спустился в кают-компанию миноносца. Здесь фельдшер Петр Кудинов (так сам он рассказывал) нашел меня сидящим у стола и подо мной — лужу крови. По его словам, это было около полуночи. Странно, но, сколько помнится, тяжелая и огромная по размерам рана на правой ноге, причинявшая мне впоследствии столько… огорчений, в то время почти не болела. Боль чувствовалась вне ее — в колене и в бедре, и вся нога плохо меня слушалась. Зато хорошо помню, как я начал неистово ругаться, едва лишь фельдшер взялся за сапог на левой ноге и попробовал его снять. Малейшее давление на раздробленный большой палец и на два соседние, сильно помятые, вызывало такие ощущения, которые можно было выразить единственно при посредстве богатого боцманского лексикона… Немудрено! — ведь рассеченный осколком снаряда сапог был полон не только кровью, но и грязной, соленой водой, свободно проникавшей в него через пробоину, и в этом рассоле раненый палец вымачивался без малого девять часов…
Фельдшер Кудинов (дай ему Бог здоровья и счастья на многие лета) сразу сообразил, в чем дело. Сапог и носок были разрезаны. Затем он так нежно, так аккуратно справил свое дело!.. Да мало того! — чтобы мне не оказаться босиком, добыл откуда-то туфлю, вырезал у нее часть передка так, что от него осталась только перемычка, и эту импровизированную сандалию прибинтовал к ступне. Какой славный малый, и как глубоко я был (и всегда буду) ему признателен! Вот относительно дальнейшего устройства с некоторым комфортом оказалось труднее: не только все койки и диваны были заняты, но даже все матрасы разобраны.
— Эх, вы… — укоризненно ворчал Кудинов, видимо, не обращая никакого внимания на мои штаб-офицерские погоны. — Туда же хорохоритесь! Раньше бы надо мне показаться-я бы вас приспособил…
— Ну, ну… не свирепей… — отвечал я, — и так ладно будет…
Конечно, ни Кудинову, ни тем более мне и в голову не приходило вытаскивать матрас из-под кого-нибудь, хотя бы одного из легко раненных, которыми был переполнен миноносец…
Однако он добыл откуда-то чей-то дождевик. Правда, что, даже втрое сложенный, этот дождевик не напоминал собой тюфяка, но все-таки — не голая железная палуба! А фланелевая рубашка Кудинова, свернутая комочком и положенная под голову, — это была почти подушка!..
22 мая я записал в своем дневнике об этой ночи: «Пришлось лечь на палубе (железная), подостлав только дождевик… Холодно, больно, неудобно… Здорово качало… Слезла повязка. Фельдшер пришел, поправил; достал брезент, одеяло…»
В данный момент эти последние слова мне самому не вполне понятны: достал ли фельдшер брезент в качестве подстилки в дополнение дождевику, а одеяло — для покрышки, или только брезент, который служил и подстилкой, и одеялом? Во всяком случае положение мое в смысле комфорта значительно улучшилось.
Ночью трясла лихорадка. Бред путался с явью… Отчетливо, как сейчас, помню, будто командир миноносца приходил в кают-компанию, собирал военный совет, спрашивал мнения всех, начиная с самого младшего… Оказалось, что ничего подобного не было… На суде (по поводу сдачи миноносца «Бедовый») командир «Буйного» заявил, что никакого военного совета он не собирал и никогда никакого мнения от меня не спрашивал и спрашивать не мог, так как даже не подозревал о моем присутствии в кают-компании и видел меня только в момент перегрузки с «Суворова» на «Буйный», а после того, занятый своим делом, совершенно забыл о моем существовании… Из офицеров «Буйного» один, мичман Храбро-Василевский, показал, что хорошо помнит о моем присутствии на миноносце, потому что ночью, спустившись в кают-компанию, наступил на чьи-то ноги, торчавшие из-под стола, и, стараясь загладить свою неловкость, помогая потревоженному им раненому устроиться поудобнее, признал в нем меня…
Считаю долгом упомянуть об этом обстоятельстве затем, чтобы подчеркнуть недостоверность «воспоминаний» тяжелораненых, которые не только бред мешают с действительностью, но еще и эту путаницу совершенно чистосердечно пополняют рассказами посторонних лиц, слышанными позже и воспринятыми как факты, в которых они (раненые) якобы принимали непосредственное участие.
Под утро я заснул… Разбудили (кто? — не помню). Говорят: «Пересаживаться на «Бедовый»!» — Кто-то помог вылезти наверх. Невдалеке — «Дмитрий Донской»; совсем близко — два миноносца («Бедовый» и «Грозный»). Спрашиваю: «В чем дело?» — Конечно — не до меня; отвечают полусловами, что «Буйный» окончательно «искостился», идти не может… Изрядная зыбь. У борта «Буйного» — гребной катер с «Донского». Ведут к нему, говорят: «Садись! не задерживай!» — и даже ругаются… Миноносец мотается; катер прыгает рядом, и гребцы все силы напрягают, чтобы не разбиться о борт или, еще того хуже, не угодить планширем под какой-нибудь выступ и не нырнуть вместе со своей шлюпкой… — «Как тут садиться? Скакать нужно! Да разве ж я могу?..» — «Еще разговаривает!..» — Выбрав момент, приподняли, ткнули в спину, и я… спрыгнул в катер… неловко, торчмя, на обе ноги… свалился и от боли потерял сознание… Очнулся тоже от боли (вероятно, еще худшей). Я лежал поперек банки; на мне сидел кто-то в матросской рубахе, а на правой моей ноге, почти на самой ране, лежала какая-то здоровая палка и давила на нее… ну, затрудняюсь сказать, как она давила… Впоследствии я узнал, что тотчас после моего «переброса» на катер передали (тоже почти перебросили) носилки с привязанным к ним адмиралом. При этом один из принимавших носилки не удержался на ногах и сел на меня, а одна из ручек носилок всей тяжестью обрушилась на мою ногу и, как видно, крайне удачно… Все эти подробности стали мне известны значительно позже, а тогда я видел только спину сидящего на мне человека и, полный ожесточения, схватившись одной рукой за борт катера, другой, сколько было силы, колотил его по шее и по затылку, сопровождая свои действия самыми убедительными словами, которых не помню… да если бы и помнил, то вряд ли их можно было бы привести в печати…(На судебном следствии по делу о сдаче миноносца «Бедовый» выяснилось, что сидевший на мне человек был волонтер Максимов. Он же рассказал и все подробности происшествия)
Как меня выволокли на «Бедовый» — не знаю… Помню только, что лежал на его палубе ничком, почти уткнувшись головой в грот-мачту, и старательно подбирал под себя левую ногу, обутую в импровизированную сандалию, страшно боясь, чтобы кто-нибудь из пробегавших мимо людей не задел бы за этот «проклятый» палец. Правая нога вовсе меня не слушалась, но и не болела. Я только чувствовал, что она мокнет в чем-то теплом, и это не было неприятно… (в результате претерпенного при перегрузке повязка съехала и возобновилось обильное кровотечение).
Младший доктор с «Донского», оставшийся на «Бедовом», долго еще возился с перевязкой многочисленных и тяжелых ран адмирала. Адмирал хотя и был привязан к носилкам, но при двойной перегрузке — с миноносца на катер и с катера на миноносец — когда волей-неволей с ним обращались как с вещью, все бинты (как ни искусно накладывал их наш благодетель — Петр Кудинов) съехали со своих мест.
Отдышавшись, напившись (да не простой воды, а чаю с лимонной кислотой), я подбодрился и захотел мыться, так как, глянув в зеркало, увидел какую-то негритянскую физиономию, а проведя рукой по голове, мог убедиться, что на ней не волосы, а какой-то войлок — до такой степени мы были прокопчены дымом пожара и, смею добавить, шимозы.
Правда, что бодрости моей хватило ненамного. До уборной я добрался на своих ногах (хотя с опорой на окружающие предметы и при содействии окружающих), зато там, перед умывальником, управиться не смог… Выручил вестовой, который усадил меня на табуретку, принес таз и вымыл меня «в трех водах». После этого «трюка» я почувствовал себя как в раю. К тому же новые соплаватели наперерыв предлагали чистое белье, даже платье. Первое я принял с глубокой благодарностью, но от второго отказался: моя тужурка, изорванная осколками японских снарядов, и лохмотья брюк, залитые кровью, казались мне почетным обмундированием, с которым я ни за что не хотел расстаться…
— Ого, а вас и с левого бока изрядно попортило! — заметил кто-то, пока меня переодевали.
Действительно, невидные под тужуркой, ярко выступали на белом жилете красные пятна — одно, большое, у пояса, и два, поменьше, под левой лопаткой. По всей вероятности, эти осколки были в раскаленном состоянии (оттого и было так больно их получать), но зато, проникнув неглубоко, сами дезинфицировали, прижгли раны, которые уже успели покрыться струпом. Неприятно было только отдирать от них присохшую рубашку.
Потом пришел доктор (покончив с адмиралом) и начал «манипулировать» со мной.
За шесть месяцев в Порт-Артуре я достаточно пригляделся к минам, которые делают доктора при осмотре раненых (надо сознаться — все по одному шаблону), и научился понимать истинный смысл их всегда ободрительных замечаний.
В данном случае я понял, что дело серьезное и мне грозят крупные неприятности.
— Да он (осколок) навылет или засел? — спрашивал я доктора, возившегося с моей правой ногой. — Мне кажется, что есть там (в ране) что-то твердое…
Отвердение? — недовольным тоном переспросил доктор, но тотчас же поправился: — Твердое? Ну, если и сидит — «удалят». Ведь завтра же будем во Владивостоке, в госпитале… Там вас разделают по всем правилам науки, а пока здесь будем стараться об одном: держать в чистоте… И кой черт вы не перевязались немедленно?.. Не было бы там всей этой дряни!.. — закончил он почти сердито. — По крайней мере, хоть сейчас-то не геройствуйте, а уж раз свалились с ног, так лежите смирно!
* * *
Что делалось в это время на миноносце? Какие решения принимались? — Этим я вовсе не интересовался. Доктор сказал, что завтра мне придется лечь на операционный стол во владивостокском госпитале. Этим все исчерпывалось. Я считал (и, смею думать, по праву), что мое дело сделано, что, имея одну рану тяжелую, одну серьезную, три легких, много мелких поранений и две контузии, я, попав на корабль, только наблюдавший за боем, не сделавший ни одного выстрела ни из пушки, ни из минного аппарата, не имевший не только никаких повреждений, но даже и в среде экипажа ни одного хотя бы оцарапанного человека, я, такой избитый и растрепанный, — просто груз, подлежащий доставке по назначению. Мне и в голову не приходило расспрашивать окружающих: — Что и как? Это значило бы мешать им. Да если бы я и сунулся с какими-нибудь советами, то… может быть, меня не послали бы «к черту» громко, во внимание к моему положению, но, во всяком случае, отнеслись бы к подобным советам только снисходительно… «Пусть, мол, болтает, лежа на диване. Не надо его волновать».
В двенадцатом часу дня подали завтрак, состряпанный из консервов.
Есть я ничего не мог. С трудом проглотил чашку бульона с размоченными в нем кусками белого сухаря. Зато с наслаждением выпил два стакана горячего чая с коньяком и с лимонной кислотой. (По рецепту доктора. — Может быть, он и еще чего-нибудь туда прибавил?) Сразу стало тепло, хорошо, и я крепко заснул на своем диване, несмотря на шум и говор, стоявшие в кают-компании.
Проснулся по голосу флаг-капитана, который меня окликал. Отчетливо помню (а может быть, и бред), как он стоял, оправляя повязку на голове (имел три небольших осколка в затылке) и говорил:
— На Sud и к Ost'y — два дымка… (Это записано 22 мая.)
— Ну, что ж… полный ход, — ответил я.
(По старой штурманской привычке — записать «момент» — взглянул на часы — 3 ч. 15 мин.; записал «момент»).
— Ну, конечно… и я так думал… — промолвил флаг-капитан, уходя «наверх».
Я опять заснул…
Дальше мои воспоминания окончательно путаются. Многое из того, что и до сих пор так отчетливо представляется как пережитое мною лично, было опровергнуто свидетелями, дававшими свои показания под присягой.
Так, например, 22 мая в своем дневнике я записал:
«Задремал опять. Проснулся. Смотрю — 4 ч. 15 мин. Ход, как будто, неособенный (Опытный человек, находясь в кают-компании миноносца, всегда, по сотрясению кормы, легко скажет, идет ли миноносец малым, средним или полным ходом). Кругом никого. Забеспокоился — выполз наверх. Сидит Ильютович (Старший механик миноносца «Бедовый»). Спрашиваю ход. Отвечает: — 15. — Как так? сколько котлов? — Отвечает: — 2! — Разве не разводили во всех? — Нет!»
Наделе оказывается, что я не сам проснулся, а меня разбудил волонтер Максимов, и не я разговаривал с Ильютовичем, а Максимов передал мне свой разговор с ним, добавив, что «дымки» нас заметно нагоняют. Вот почему я забеспокоился и «полез» наверх. Как ни плохо работали мои мозги, но я не мог не понять, что раз за нами гонятся, то на случай встречи и боя необходимо иметь возможность дать полный ход. Ведь миноносец с парами в половинном числе котлов — игрушка в руках неприятеля. Что захочет, то с ним и сделает… Ведь это — азбука…
Где подтягиваясь руками, где ползя на четвереньках, я добрался до мостика, но влезть на него по вертикальному трапу, конечно, не мог и, уцепившись за нижнюю ступеньку, принялся кричать: «Пары!.. Пары во всех котлах!.. Пары!.. Пары!.. Чего ждете?.. Пары!..»
На ближайшем ко мне крыле мостика я видел командира миноносца, флаг-капитана и флагманского штурмана. Это не был бред — эпизод засвидетельствован матросом-сигнальщиком Сибиревым.
Они о чем-то совещались между собой…
Потом командир перегнулся через поручень мостика ко мне и крикнул: «Да! Да! Сейчас! Сейчас! — И громко скомандовал: — Разводить пары во всех котлах!»
— Есть! — отозвался ему боцман и повторил команду.
Мне было так трудно… Миноносец изрядно покачивало; ноги были как чужие; руки слабели; голова кружилась… казалось, вот-вот по горбатой, мокрой, железной палубе скатишься за борт…
Да разве ж я не сделал всего, что мог? Ведь я своими ушами слышал приказание: «Разводить пары во всех котлах!» Ну… а дальше — пусть исполняют свой долг…
Я пополз обратно…
В полпути (это был тяжелый путь, хотя всего сажень двадцать) какой-то матрос пришел ко мне на помощь. Кто именно — сейчас не вспомню…
Добравшись до дивана в кают-компании, я повалился на него почти без чувств… Этот поход к мостику и обратно окончательно вывел меня из строя…
Как выяснилось впоследствии, я был не один в кают-компании. На одной из коек, прикрытых занавесками, лежал лейтенант Крыжановский. Отравившись ядовитыми газами «шимозы» (хотя вовсе не раненый), он, всю ночь промучившись приступами удушья и тошноты, теперь крепко спал.
Я, конечно, и не подозревал о его присутствии, но теперь позволю себе воспользоваться его показанием, данным на суде.
Он показал, что был разбужен доктором, который сообщил ему тревожные вести: «Нас нагоняют, как стоячих. Очевидно — японцы. У нас ничего: пары — в двух котлах; пушки — закрыты чехлами; мины — неготовы…»
Крыжановский заторопился «наверх», заметил меня, спросил, не пойду ли и я, но я ответил: «Не могу»…
Ничего этого я не помню…
Помню только, как, лежа на диване (сколько прошло времени? когда это было?), прислушивался к звукам выстрелов, к свисту снарядов… и соображал, что это стреляют «они», а мы не отвечаем… Потом у нас застопорили машины. Пальба прекратилась… В чем дело?.. Вспоминались какие-то отрывочные слова о флаге Красного Креста, о парламентерском флаге…
И вдруг мысль, ясная, отчетливая, во всей своей наготе — мелькнула в мозгу: «Да ведь они сдаются?!»
Как в «Расплате», как в «Бое при Цусиме», так и сейчас буду беспощадно откровенен не только по отношению к товарищам по несчастью, но и по отношению к самому себе…
В этот роковой момент я не думал ни о чести андреевского флага, ни о славе России и ее флота, — я думал только о себе…
«Сдаются!.. А я-то? Ведь я с «Дианы»! Хорошо, если расстреляют, а то… и повесить могут!.. Нет! — лучше сам…» Я сорвался с дивана, схватил мой (мой собственный) браунинг, висевший на крючке для фуражек, отчаянным усилием взвел пружину… Осечка… Протянул опять. Проклятый патрон выскочил, но как раз в этот момент в кают-компанию спустился доктор и сердито взял меня за руку… Сопротивляться я не мог…
«Не судьба… — мелькнуло в голове. — Будь что будет…»
В Сасебо нас прибуксировали только 17 мая после полудня, пожалуй, даже к вечеру. Что я делал за эти двое суток? Ничего не записано… На память могу сказать, что меня то трясло в ознобе, и я не знал, как бы мне согреться и чем бы укрыться, — то в лихорадочном жару я садился на своем диване, вступал в спор с окружающими, говорил дерзости, почти оскорбления… Нападал на командира миноносца и заявлял полную свою готовность дать удовлетворение поединком, как только мы ступим на русскую территорию…
Миноносец «Бедовый» после сдачи японцам вместе с командующим 2-й эскадрой флота Тихого океана вице-адмиралом Зиновием Петровичем Рожественским (1848–1909). На мостике виден японский часовой
Глава II Прибытие в госпиталь. — Первые впечатления. — После операции. — Тетрадка и карандаш. — «Первый раз вытянул ногу…» — Живая вода. — Повесят или расстреляют?
Меня несли на носилках, а так как шел дождь, то с головой покрыли одеялом.
В госпитале первоначально как «тяжелого» поместили в отдельную комнату.
Кругом царило необычайное оживление, но вовсе не деловое, не озабоченное, вовсе не потому, что поминутно прибывали новые транспорты раненых… вовсе нет!.. Я чувствовал, я мучительно чувствовал, что это оживление полно радости, полно ликования. И когда ко мне подходили доктора, сестры милосердия, фельдшера, санитары с предложением услуг, старались напоить, накормить, подбодрить, я не мог не видеть, что только усилием воли они сдерживают на своем лице счастливую улыбку…
Да… этот день был днем великого праздника для всей Японии! Все, все они были так счастливы, что это счастье рвалось наружу, выражалось в каждом ничтожном слове, в каждом движении, взгляде… И они были счастливы… нашим разгромом!.. Если бы кто-нибудь из них позволил себе хоть чем-нибудь открыто выразить свою радость — кажется, я был бы способен вцепиться ему в горло, грызть зубами. Но все они были так ласковы, так участливы… И как это было тяжело!..
Меня хотели на носилках нести в операционную, но я почему-то счел это оскорбительным и заявил, что пойду сам. Нелепый, смешной протест (скажут даже — глупая выходка), но я не хотел… (понимаете? не хотел!) быть жалким, возбуждать сострадание в людях, которых я ненавидел, которым клялся в душе страшной местью за «Неё» — за Россию…
Необычайное возбуждение овладело мной (температура была 40). Боли я почти не чувствовал, а если и чувствовал, то только злился, что больно.
Конечно, этого нервного подъема хватило ненадолго. Уже в полпути «туда» меня подхватили под руки, а «оттуда» — принесли.
Оказывалось даже серьезнее, чем я думал.
Из разговора доктора Оки с его ассистентами (в «Расплате» я уже говорил, как «на пари» выучился японскому языку и китайской грамоте) я понял, что воспаление лимфатических желез от загрязнения раны распространилось весьма значительно за пределы ее (вот почему боль чувствовалась в бедре и в колене), а в самой ране многие клочья уже омертвели и начали… портиться. Слово «гангрена», которое японцы произносят «гангурен», было в особенности убедительно. Обмен мнений сводился к дилемме: с одной стороны, по правилам науки следовало бы немедленно ампутировать ногу в бедре, но с другой — подобное решение являлось бы смертным приговором, так как в том состоянии, в котором я находился, сердце не выдержало бы ни хлороформирования, ни тем более операции без хлороформа; если же ждать, пока хоть несколько восстановятся силы — заражение крови может продвинуться выше бедра, а тогда всякая операция бесполезна…
— Ну, так и не тормошите меня понапрасну! — прервал яих рассуждения. — Оставьте меня в покое! Да вы и права неимеете делать операцию без моего согласия!
Доктор Оки сердито проворчал, что и я тоже не имею права скрывать своего знания японского языка, а затем они заговорили вполголоса и такой скороговоркой, что я уже ничего понять не мог.
Раны только промыли, дезинфицировали. Видимо, решили обождать до завтра.
На прощание доктор сказал ободрительным тоном:
— Perhaps, all right! Very strong blood!
Почему он перешел на английский язык, в котором вовсе не был особенно тверд? Я думаю — с целью избежать дальнейших расспросов.
Уложив на койку, мне дали выпить небольшую чашку чего-то красного, слегка вяжущего и горьковатого. Фельдшер пояснил, что это «будоо-сю» (виноградное вино), но, вероятно, туда было что-нибудь подмешано, потому что я заснул, как убитый.
Утром 18 мая Оки, сняв перевязку и ощупав железы в бедре и под коленкой, разразился приветственными восклицаниями, затем сказал по-русски (верно, научился с другими ранеными): «Потерпите немуного!» — и принялся за работу. В главной ране (на правой ноге) много вырезал чего-то, что нашел лишним: большой палец на левой ноге прямо распотрошил, но не отнял крайнюю фалангу, как я думал, а только подпилил и подстриг раздробленную кость, заявив ободрительно, что «ничего, если будет покороче, а все-таки будет, и даже ноготь вырастет, хоть и некрасивый». Вытащить порядочный осколок, засевший в пояснице, было пустым делом, а два небольших, под левой лопаткой, ранки которых уж покрылись струпом, он оставил без внимания. — «Это всегда успеется. Начнут беспокоить — удалим».
Хлороформировать и теперь не решились. Вся операция прошла под кокаином, который вспрыскивался в оперируемые места по мере надобности. В большую (длинную) рану на правой ноге было сделано три вспрыскивания, если не четыре… Какое волшебное средство! Единственная боль, какую я чувствовал, были уколы шприца, а затем только щекотно. Если иногда я бранился, то лишь потому, что со мной обращались, как с вещью.
Тем не менее по окончании операции я в значительной степени напоминал собой рыбу, выброшенную на песок, а по поводу кокаина вдруг вспомнил знаменитое изречение: «Карась любит, чтобы его жарили в сметане» — и, пока меня перевязывали, начал смеяться, чем дальше, тем безудержнее…
— What it is? What it is? — укоризненно заговорил доктор. — Сай-йо на дзики-моно! Ах-ха! Варуку дес! (Такой молодец. Ай-яй. Совсем не хорошо) — и вдруг совсем неожиданно закончил: — Капитан! глоток виски?
— Терпеть не могу… — ответил я. — Коньяку бы, если найдется.
— Нобемас! Дзики-моно! — весело крикнул Оки. — Ханку! Ханку! (Туда же, разбирает. Молодец. — Скорее, скорее) — добавил он, обращаясь к окружающим.
Мне тотчас подали и почти влили в рот большую рюмку напитка, который я признал за коньяк…
Сразу стало теплее и легче. Вернее, уменьшилась эта напряженность, это странное ощущение, которое я не могу характеризовать иначе, как словом «щекотно»…
— Харасб, харасб! Тепери усуните! — повторяла сопровождавшая носилки сестра милосердия в смешном белом колпакес нашитым на нем красным крестом.
И мне так хотелось поцеловать эту маленькую лапку, так заботливо какой-то тряпочкой отиравшую холодный пот с моего лица… Куда делась та ненависть, которой я был полон еще вчера вечером? Мне было решительно все равно, к какой национальности принадлежит эта незнакомая женщина, хлопотавшая около меня, а что она меня жалеет, не казалось обидным…
— «Живая душа живой душе слово молвила», — вспомнилось вдруг где-то и когда-то прочитанное изречение…
И я вовсе не сердился, когда санитары, перекладывая меня с носилок на койку, говорили тоном запанибрата: «Кимо но фтой! Ясь! Ясь!» (Здоровый парень! Ладно! Ладно!)
Следующая перевязка состоялась уже при участии главного доктора госпиталя Тадзуки и его помощника, фамилия которого, к сожалению, у меня не записана, но о котором не могу не сказать пары слов. Среди раненых он получил прозвище «Живоглота» за свою манеру чуть что раскромсать живого человека в куски, а потом сшить и наладить все лучше прежнего. Надо отдать ему полную справедливость — это был хирург, получивший свой дар от Бога при рождении. Выучиться этому нельзя. Нет ни малейшего сомнения, что не только Тадзуки, а даже Оки или Ивасаки были ученее его, так как образование свое они заканчивали в европейских клиниках, он же никогда не выезжал из Японии; но в тех случаях, когда приходилось действовать по чутью, по вдохновению, когда (если можно так выразиться) надо было протянуть свои нервы до самого конца зонда, шарящего в глубине раны… — это было дано ему свыше, он умел это сделать!., и не раз смелым взмахом ножа (без всякого наркоза) в несколько секунд разрешал загадку, перед которой в тупик становились его ученые коллеги.
«Живоглот», первым делом освидетельствовав меня рентгеновскими лучами, категорически заявил, что кость только задета и никаких «отслоений» нет. Затем внимательно исследовал рану, о чем-то задумался… и вдруг… несколькими резкими движениями руки, в которой мелькали то нож, то ножницы, «удалил» все найденное им «лишним» с такой быстротой, что я едва успел ахнуть и крепко выругаться…
— Камау на! Симапмасьта! Ичн-бан дес! (Ничего. Покончил. Великолепно) — говорил он, смеясь и дружелюбно хлопая меня по плечу в то время, как ассистенты бинтовали ногу…
— Нанимо най!..(Конечно, пустяки) — отвечал я, стараясь попасть в тон, но невольно заглядывая в таз, куда бросали все «лишнее».
Хорошо помню, как, очутившись вновь на своей койке, я говорил… говорил без умолку с волонтером Максимовым, который (спасибо ему) всячески старался меня угомонить, терпеливо слушая мою несвязную болтовню об осаде Порт-Артура, о моих прежних плаваниях, о дальнейшем ходе военных действий и т. д. — до мечтаний о реванше включительно… Мне это помогало отвлекать свое внимание от непрерывной, то зудящей, то ноющей, то дергающей боли в «распатроненной» правой ноге… О прочих ранах и контузиях я и не думал — они казались царапинами.
Опять дали выпить чего-то, что называли «красным вином», — и я заснул.
Под влиянием этого напитка, который я получал после утренней и вечерней перевязки, а также на ночь, все ближайшие дни прошли как в полусне.
21 мая меня из отдельной комнаты, куда поместили первоначально, перенесли в общую палату, в которой были собраны все доставленные в Сасебо раненые русские офицеры и кондукторы флота. Всего 22 человека.
Общее заведование нами было возложено на доктора Ивасаки, заслужившего не только глубокую признательность, но, прямо могу сказать, горячую любовь своих случайных пациентов.
Вот человек, который смело мог бы и на Страшный Суд Божий явиться с повязкой Красного Креста в твердом сознании, что ни огненный меч архангела, ни «врата адовы» не помешают ему помочь страждущим…
22 мая мне стало несколько легче (температура понизилась). Через посредство фельдшера добыл тетрадку и карандаш (из госпитальной лавочки) и отрывочными фразами занес в нее все то, что выше изложено.
Оказалось, однако же, что я слишком понадеялся на свои силы. Положение ухудшилось. Ивасаки рассердился, бранил фельдшера и отобрал от меня мой дневник.
* * *
Должно быть, что за последующие дни дело было совсем скверно, так как о них я не только ничего не записал, но даже и вспомнить ничего не могу, а 28 мая, когда Ивасаки (вероятно, по усиленным просьбам) дал мне на минутку мою тетрадку, я занес в нее лишь одну фразу: «Первый раз вытянул ногу».
Фраза эта требует некоторых пояснений.
Дело в том, что, кроме изрядного количества (грубо выражаясь) говядки, вырванной из моей правой ноги осколком неприятельского снаряда, доктор Оки, «Живоглот», а затем и милейший Ивасаки — «удалили» из нее столько «лишнего», что приходилось заново обрастать мясом. При этом они же меня бранили и утверждали, что я сам виноват — «зачем не пошел на перевязку немедленно»… Так или иначе, но единственное положение, в котором я чувствовал себя сносно, это лежа на спине и круто согнув правую ногу (под колено была приспособлена особая подставка). Всякое движение вызывало мучительные, дергающие боли в глубине раны.
Понятно, почему с такой радостью я отметил в своем дневнике это событие — «Первый раз вытянул ногу» — и не записал ничего больше, хотя именно в этот день мы (раненые, лежавшие в госпитале Сасебо) получили такое лекарство, которое по своим целебным свойствам было неизмеримо выше всяких микстур и даже хирургической помощи. Прямо — живая вода!..
Повторяю — ничего у меня об этом не записано, а потому приходится говорить на память и основываясь отчасти на документах, полученных позже, отчасти на рассказах товарищей.
Упорно придерживаясь мнения, что ценность исторического материала имеют лишь «записки», веденные в самый момент совершавшегося события, но отнюдь не «воспоминания» (особенно воспоминания раненых) — буду краток.
Помню, как прибежал ко мне с японской газетой в руках старый (видимо, призванный из запаса) санитар, фамилия которого, к сожалению, у меня не записана, — и читал мне статью, написанную таким высоким стилем, что и сам он многого в ней не понимал, но смысл которой был ясен — «Русский Микадо благодарил своих воинов за пролитую ими кровь».
— Скорее скажите об этом вашим товарищам! Какая для вас всех радость! — твердил он.
Право, не знаю, правильно ли я перевел тогда на русский язык текст Высочайшей телеграммы, адресованной адмиралу Рожественскому, но, во всяком случае, даже и в моем переводе она вызвала такой энтузиазм, что все, способные двигаться, собрались около моей постели, а те, что лежали и не могли подняться, сердились и требовали, чтобы «легкие» записали и принесли им для прочтения эту благую весть.
Как-никак, а всякого мучила неотвязная мысль: «Пусть ранен, пусть беспомощен, но все же в плену… Оценят ли? поймут ли, что не по своей вине?., что судьба бросила в плен…» И вдруг — такая телеграмма!..
Привожу точный текст приветствия, с быстротой молнии разнесшегося по всем палатам госпиталя, давшего отраду даже тем, чьи часы были уже сочтены, у которых сил не хватало крикнуть «ура!», которым оставалось только умереть в сознании, что их подвиг помнят и ценят… И они умирали счастливыми…
Вот что было напечатано в японских газетах:
«Сегодня адмирал Рожественский, в ответ на свою телеграмму о бедствии, постигшем его эскадру, получил от Императора такой ответ: «От души благодарю вас и всех тех чинов эскадры, которые честно исполнили свой долг в бою, за самоотверженную их службу России и Мне. Волею Всевышнего не суждено было увенчать ваш подвиг успехом, но беззаветным мужеством вашим отечество всегда будет гордиться. Желаю вам скорого выздоровления, и да утешит вас всех Господь».
Дальше следовали комментарии японцев на тему, что герой, поверженный в неравной борьбе, — все же герой, что безумие храбрых всегда вызывает большее поклонение, нежели мудрость благоразумных, что есть несчастия, которые возвеличивают, что, видимо, и в России, как в Японии, одинаково ценят кровь, пролитую за Родину, и т. д.
Да. Это был радостный день…
* * *
Потом опять перерыв, опять несколько дней, не отмеченных записями в книжке. Твердо помню одно, что носили на перевязку по два раза в день — утром и вечером, — и все что-то стригли, подчищали… Но хуже всех этих экскурсий на операционный стол мучила мысль о будущем…
Достаточно знакомый с нравами и обычаями японцев, я был уверен, что они притянут меня к ответу и не удовлетворятся (чисто формальной) отговоркой, будто я уехал с «Дианы» накануне ее официального разоружения и не числился в списке «интернированных» офицеров. Через своих агентов они, конечно, знали, что приказ о разоружении был получен 22 августа (эта телеграмма, как я уже говорил в «Расплате», была даже не шифрованная), знали, что даже официальное разоружение состоялось 27 августа, а мой отъезд из Сайгона — только 2 сентября, так как раньше этого срока ни одного парохода, отходящего в Европу, не было.
Фактически я был офицером с корабля, разоружившегося в нейтральном порту, и вновь принявшим участие в военных действиях…
Тут суд короток, а приговор ясен…
Уж если англичане не задумались расстрелять Шефферса, захваченного в плен тяжело больным, которого к месту казни принесли на носилках, — то постесняются ли японцы?..
Эта мысль меня мучила… И, собственно, не мысль о смерти, а о… способе. — «Повесят! Какая гадость!..» — Но мелькнула надежда — вспомнился эпизод из войны на суше: — Были захвачены нашими два японских шпиона, уличены и приговорены к повешению; они обратились к Куропаткину с просьбой заменить повешение расстрелом, мотивируя свою просьбу тем, что они — офицеры и пошли на такое дело, т. е. нарушили обычаи войны, не корысти ради, а из любви к Родине. — Просьба была уважена — их расстреляли…
Но не будет ли унизительной подобная просьба с моей стороны? — Ведь придется просить о милости! — И у кого? — У Микадо!.. — Возможно ли? Не лучше ли «претерпеть до конца»?..
Я даже поделился моими соображениями с некоторыми из товарищей, но они меня подбодрили: «Конечно, можно!» — и я решил, в случае чего, просить… И уж если просить, так, заодно, чтобы… не в каком-нибудь арестантском халате, а в моей тужурке, изорванной осколками неприятельских снарядов, пережившей столько боев, и не завязывая глаз, как Шефферса…
Опасения мои вовсе не были плодом расстроенного воображения, лихорадочного бреда. Имелись факты, подтверждавшие всю неумолимость японцев в подобных случаях: называли офицера, который, «разоружившись» (или будучи «интернирован») в Чифу, пытался на частном пароходе пробраться во Владивосток, но был захвачен и, несмотря на то что даже намерение его вновь принять участие в военных действиях ничем не было доказано (он говорил, что просто стремился на Родину), все же был приговорен к восьми годам каторги.
Мне сообщили также, что всех раненых офицеров подробно спрашивают: кто с какого корабля? где был раньше? и т. п…
Ко мне не приходили, и вот тут являлся вопрос: почему? Потому ли, что до времени не хотят тревожить, как «тяжелого», или же потому, что со мной… дело заранее решенное?
Глава III Допрос. — Небрежность или великодушие? — Начало настоящего дневника. — Отношение японцев к военнопленным
Седьмого июня записано: «Резкое улучшение. — Раны энергично выполняются. — Отделения только кровяные». 8 июня: «Опасность заражения крови миновала».
Дальше следует эпизод, который я не решился тогда же занести в дневник из опасения, как бы не прочли японцы, но твердо врезавшийся в память.
Наконец-то и мне был учинен допрос, которому уже давно подверглись все прочие мои сотоварищи.
Чинил допрос специально командированный офицер Главного штаба, бывший перед войной помощником японского морского агента в Петербурге, много раз приезжавший в Кронштадт «посмотреть на то, что осматривать разрешается». Недурно говорил по-русски. Я в то время был адъютантом главного командира (С. О. Макарова), а потому в пределах существующих правил оказывал ему всякое содействие и гостеприимство. Раза два-три вместо обычного «кормления» в морском собрании он завтракал у меня и (так мне кажется) не забыл хлеба-соли…
Надо ли пояснять, что мы сразу же узнали друг друга и обменялись приветствиями (по крайней мере, по внешности) как старые приятели.
Затем имел место следующий диалог:
— Так, значит, перед самой войной вы оставили ваше высокопочтенное место и отправились на эскадру?
— Да. Я был назначен старшим офицером на «Боярин»…
— Но это известно, что «Боярин» уже погиб, когда вы приехали, а потому вы недолгое время командовали миноносцем «Решительный»…
(«Черт возьми, как они хорошо обо всем осведомлены!» — подумал я.)
— Совершенно верно.
— Потом вас назначили старшим офицером на «Ангару»… О! я хорошо понимаю, как вы сердились!.. Конечно, так?
— Разумеется! — ответил я, чувствуя приближение критического момента.
— И вот… извините, но это так странно, что с «Ангары» вы попали на «Суворов»!.. При капитуляции Порт-Артура вас не было ни в списках пленных, ни в списках больных и раненых, эвакуированных в Россию на «честное слово»… Где же вы были? Как попали на вторую эскадру?
(«Глумится, что ли? — мелькало у меня в голове. — Не знает разве, что я на «Ангаре» пробыл всего три недели?»)
Однако же я взял себя в руки и ответил спокойно, почти небрежно:
— Согласитесь, что, если бы вы были на моем месте, вы на такие вопросы промолчали бы? Мало ли что делается во время войны? А ведь война еще не кончилась… Нельзя же раскрывать хотя бы самые незначительные ее секреты…
— Да нет! да нет! — торопливо заговорил японец. — Я вас по-приятельски, из простого любопытства спросил: как это вы с «Ангары» попали на «Суворов»? Нам это непонятно!
Последнюю фразу он резко подчеркнул и тотчас же начал прощаться, желая скорейшего выздоровления и приговаривая: «Все это хорошо. Знаете, все это будет хорошо…» Теперь мне думается (может быть, я ошибаюсь), что японец, вспомнив старую «хлеб-соль», слегка… покривил душой, отнесясь к делу чисто формально, ограничившись моим ответом, не расспросив обо мне не только раненых нижних чинов, которые по наивности наверно стали бы хвастать похождениями «артурца», но и ни с кем из офицеров, из числа которых многие могли бы случайно проболтаться, не заводя разговора обо мне.
Теперь я знаю, чем обязан этому следователю и почему он мог, не рискуя ответственностью, отнестись ко мне подобным образом, но тогда я недоумевал и волновался.
«Тогда» я и не подозревал о существовании чисто канцелярской ошибки нашего Главного штаба, благодаря которой старый знакомый мог, не нарушая данного ему предписания, формально исполнив возложенное на него поручение, избавить от японского военного суда человека, беспомощно распластанного на госпитальной койке.
Дело в том, что (по какой-то случайности) мое назначение старшим офицером на «Диану» не было опубликовано в Высочайших приказах по морскому ведомству, почему и в списках адмиралов и штаб-офицеров (официальное издание Главного морского штаба), исправленных по 1 июля 1904 года, я все еще значился старшим офицером транспорта «Ангара», а в тех же списках, исправленных по 1 января 1905 года, числился уже состоящим «при штабе командующего 2-й эскадрой флота Тихого океана».
Надо заметить, что японцы, у которых дело разведки поставлено идеально, тщательно следили за движением личного состава нашей армии и флота на основании официальных документов, конечно, не допуская и мысли о возможности в них каких-либо ошибок или пропусков.
Рассказывали, что при переписи сдавшихся в Порт-Артуре произошел такой забавный случай:
— Полковник Ирман!
— Вы ошибаетесь, такого полковника нет! — заявляет японский офицер.
— Как нет? Да это — я сам!
— Простите, но должен вас поправить — вы генерал-майор… Произведены одним из последних приказов, который, вероятно, не дошел до вас. Поспешу сообщить вам, от какого числа и за каким номером. Сейчас, к сожалению, нет под руками.
В моем положении эта осведомленность японского Главного штаба послужила мне на пользу. Для них я был старшим офицером транспорта «Ангара», ухитрившимся как-то сбежать из Порт-Артура ранее его сдачи и попасть на вторую эскадру.
Несомненно, что полный список офицеров, пришедших на «Диане» в Сайгон, напечатанный тогда же в местных газетах, имелся в штабе, но ведь Семёновых в России много, а официальных данных для того, чтобы меня, старшего офицера «Ангары», отождествлять со старшим офицером «Дианы», не было.
В то время я обо всех этих подробностях не подозревал и считал свое дело конченым…
Если бы меня прямо спросили: «До «Суворова» вы были старшим офицером на «Диане»?» — я не стал бы отпираться, считая это и недостойным, и бесполезным, и, конечно, ответил бы утвердительно.
Но… допрос был веден в такой форме, что этого не случилось…
Теперь мне ясен смысл и резко подчеркнутой фразы — «нам это непонятно», — и ободрение, заключавшееся в прощальных словах: «Всё это хорошо. Знаете, всё это будет хорошо!» — но «тогда» я был как в потемках и томился неизвестностью…
Все мне казалось подозрительным — и особое внимание, которое мне оказывали, и дружеские беседы фельдшера, который (по его словам) был при осаде Порт-Артура, и заботы главного доктора, так спешившего «поставить меня на костыли» в то время, как другим он сурово приказывал «не шевелиться»…
Возможно, что это было результатом возбуждения, мнительности, что никто меня не выслеживал, не старался поймать на слове, но тем не менее это не могло не отозваться на ходе ран. Вновь разыгралась лихорадка, а в ночь на 13 июня совершенно неожиданно возобновилось обильное кровотечение — промокла не только повязка, но даже и на простынях оказались кровавые пятна. Эхо — через месяц после получения ран!..
В дневнике записано:
«Сегодня Ивасаки сказал… — ему не нравится. Чистил «ложечкой», расковырял… заткнули йодоформенной марлей… — 14 июня. Сегодня четыре недели, что лежу в госпитале, а ходить еще и думать нельзя. Конечно, хорошо, что кость цела и седалищного нерва не перебило… 16 июня. Сделал несколько шагов на обеих ногах (на костылях). Одолевают комары и переменная погода. — То жарко, то холодный сквозняк. Часто простужаешься, и тогда совсем скверно».
Конечно, дело было не в простуде (по ночам и то температура наружного воздуха редко опускалась ниже 18°R.), и эти жалобы на недомогание являлись просто результатом общего упадка сил.
18 июня записано: «Нога, видимо, энергично пошла на поправку. Хожу с костылями в… Беспокоит большой палец на левой ноге… Рана и разрез (сделанный при операции) зажили, но он очень чувствителен, и не знаю, как можно будет надеть сапог».
* * *
С этого дня (с 18 июня) мой дневник приобретает свой обычный вид. Всякое, хотя бы мелкое, событие в жизни моей и окружающих меня отмечается в нем кратко, но достаточно точно, чтобы воссоздать в памяти не только общее впечатление, но и подробности.
Правда, многое писалось полу словами, намеками из боязни, что прочтут японцы, неутомимо следившие за каждым нашим словом, за каждым нашим движением.
Этот неусыпный надзор, эта подозрительность действовали угнетающе… Тем более что их вряд ли возможно было оправдать «военной необходимостью». По поводу этого режима «арестантского лазарета», который практиковался по отношению к нам, мне хочется сказать несколько слов.
В течение войны японские и в особенности японофильствующие журналы создали целую легенду о рыцарском отношении наших врагов к военнопленным (не говоря уже о раненых), а потому надеюсь, что читатели не посетуют на меня за небольшое отступление, в котором я попытаюсь дать правдивую картину пережитого.
Верный правилу — строго руководствоваться только своими заметками, говорить только о том, что сам видел, сам перечувствовал и тогда же записал, не стану пересказывать всего слышанного о «рыцарском» отношении японцев к военнопленным, сдавшимся в добром здоровье. Они сами, если захотят, могут поведать о всем, ими претерпенном, и, конечно, окажутся красноречивее меня. Я буду говорить только о режиме, господствовавшем в госпитале Сасебо, куда я был доставлен после боя и откуда был выписан уже после фактического заключения мира, в период, назначенный для ратификации договора. В это время по отношению к пленным были допущены многие послабления, и, таким образом, настоящего «полонного претерпения» мне испытать не довелось; о том же, каково приходилось раненым, пусть судят сами читатели на основании моего правдивого рассказа.
5 штаб-офицеров, 12 обер-офицеров, 1 юнкер и два кондуктора — всего 20 человек — были помещены в общую палату, обычно предназначенную для нижних чинов (японцев), хотя госпиталь отнюдь не был переполнен. Не говоря уже про отдельные комнаты, предназначенные для тяжелораненых, пустовали целые так называемые «офицерские» палаты, где койка от койки отделялась раздвижной стенкой, освещалась каждая своим окном, где вообще было значительно больше комфорта, нежели в «матросских».
У нас койки стояли не больше как на аршин одна от другой.
По ночам не давали покоя стоны тяжелораненых, несвязный лепет и выкрики бредивших; днем лихорадочная болтовня «легких» мешала «тяжелым», только что принесенным с операционного стола, задремать, хоть ненадолго…
Многие из этих последних вынуждены были все свои естественные потребности выполнять тут же, на глазах у всех… Администрация госпиталя не хотела отпустить даже ширм, а уж чего другого, но этого добра в Японии можно найти в любом, самом бедном, доме…
— Отчего ж не просили, не жаловались? — скажут мне.
— Да потому, что заранее предчувствовался отказ в просьбе и… даже хуже — злорадное веселье в этом отказе, глумление над беспомощными людьми, которые «вздумали жаловаться»…
В Средние века, во времена расцвета рыцарства, несмываемым позором считалось всякое насилие, всякое оскорбление, причиненное пленному, взятому в честном бою. Само это название «честный бой» обозначало собой столкновение противников, исповедующих тот же догмат воинской чести, готовых биться насмерть, но уважающих друг друга.
В Японии — не существовало этого догмата.
В Японии — шпионство, от которого с презрением отворачивался самый захудалый ландскнехт, искони почиталось величайшей доблестью.
Целью войны была не только победа, но порабощение.
Для европейца — чем мужественнее сопротивлялся враг, тем большего он заслуживал уважения.
Для японца — чем больше упорства проявлял противник, тем ужаснее были те истязания, которым его надлежало подвергнуть.
Ричард Львиное Сердце считал Саладина «братом по оружию», а Хидейоси (японский Наполеон, как его называют) из своего похода в Корею привез 40 000 корейских ушей и носов, над которыми воздвиг памятник.
Разве эти «носы и уши» не возбуждают отвращения? Разве они не во сто крат хуже пирамид из человеческих голов, складывавшихся Тамерланом, которые возбуждают только ужас?..
Долгие века истории, полной крови, полной жестокости, проникнутой единым девизом: «Горе побежденным!» — не могли не наложить на душу всего народа той печати варварства," смыть которую были не в силах какие-то тридцать-сорок лет общения с европейской цивилизацией.
— Начальство приказало обращаться с военнопленными согласно европейским обычаям, так как без этого Япония не может вступить в круг великих держав. Это необходимо. Поняли?
— Для блага Родины мы готовы на все, даже на отказ от нашего священного права потешиться над этими презренными, попавшими в наши руки, заслуживающими самой лютой казни…
Да! смело скажу! — к нам относились как к преступникам, которых по каким-то высшим соображениям начальство не только казнить не позволяет, но даже приказывает за ними ухаживать…
По внешности это приказание исполнялось, но, казалось, сам воздух госпиталя был насыщен недоброжелательством. Оно сказывалось в бесчисленных мелких уколах самолюбия, в мелочных придирках, стеснениях, отравлявших существование…
В стране «этикета» по преимуществу, какой является Япония, в стране изысканной, веками выработанной вежливости, где в разговоре двух лиц, равных по происхождению, воспитанию и общественному положению, не употребляют местоимений, но, говоря о «высоком доме» или «высокочтимой даме», подразумевают жилище и жену собеседника, а говоря о «гнусной лачуге» или «ничтожной женщине» — свой дом или свою жену, в этой стране, где сохранился культ «церемоний», служебный персонал госпиталя, обращаясь к нам, называл нас просто по фамилиям, не добавляя к ней ни чина, ни даже слово «сан» (т. е. господин), без которого в Японии не зовут по имени даже лакея…
Надо было видеть этих приставленных к нам переводчиков, говоривших по-русски (и до войны проживавших во Владивостоке и в Порт-Артуре, исполняя обязанности приказчиков, поваров, рассыльных, прислуги в публичных домах)… Надо было видеть, с каким наслаждением они появлялись в палате с несколькими письмами в руках и выкрикивали:
— Бардин! — (матрос-вестовой) — Письмо!
— Филипповский! — (полковник) — Письмо!
Причем последнему это письмо тыкалось особенно пренебрежительно…
По поводу писем… Ну что мы с койки госпиталя могли бы сообщить в Россию такого, что имело бы военное значение? А между тем не только все наши письма шли через цензуру, но даже и в размере их мы были ограничены: две «открытки» в неделю.
Письма, газеты и журналы, присылавшиеся из России, цензуровались так тщательно, что на это требовалось от одного до полутора месяцев.
Мало того. Газеты, издававшиеся в самой Японии (на английском языке) и то не все разрешались к выписке, а разрешенные — опять-таки просматривались начальством, и… многие номера конфисковывались или приходили с большим опозданием.
Разве это не режим арестантского лазарета?..
Добавьте к этому, что для прогулок (многие с самого начала могли двигаться и нуждались в движении) были назначены определенные часы и отведена небольшая площадка перед бараком.
Еще одна черта, ярко характеризующая окружавшее нас недоброжелательство: все палаты обслуживались сестрами милосердия, кроме нашей палаты. У нас были санитары, да и то — чуть только начальство замечало, что какой-нибудь фельдшер, даже санитар привыкает к раненому, начинает ухаживать за ним больше, чем это требуется по закону, — его немедленно убирали. За три месяца в нашей палате их переменилось более трех комплектов. В других палатах этого не было.
Вспоминая все пережитое, я глубоко уверен, что если нам не только не резали ни носов, ни ушей, но даже лечили, то просто по расчету, а вовсе не из рыцарских чувств, которых напрасно было бы искать в боевом прошлом Японии.
Конечно, все вышесказанное относится к японцам pur sang. Такие друзья человечества, как доктора Ивасаки и Оки, такие товарищи по оружию, как навещавшие нас моряки Номото, Танака и др. — не в счет. Эти — долгие годы проведя в культурных центрах Европы, — получили там не только образование, но и сумели на общей почве культа мужества и самоотвержения слить в душе своей идеалы «самурая» с заветами нашего «рыцарства».
Для отдельных лиц такая метаморфоза, конечно, возможна… Но ведь исключения только подтверждают правило.
Об отношении японцев к военнопленным мне еще придется поговорить в дальнейшем повествовании, а пока — к делу.
Глава IV Пробуждение к сознанию. — Тревоги и сомнения. — Газеты из России; общее негодование. — Адмиралу благополучно сделали операцию. — Громкие телеграммы и бездействие Линевича. — Сдача Сахалина. — Тайфун
До сих пор я ни разу не упомянул о впечатлении, которое произвело на нас (раненых) вообще и на меня в частности известие о сдаче Небогатова с четырьмя кораблями, — и не по каким-либо особым соображениям, а единственно из желания быть строго документальным.
Несомненно, что эта новость и мне, и другим стала известна на следующий же день, но за весь первый месяц пребывания в госпитале ни слова по этому поводу в моем дневнике не записано, а если память не изменяет, то первоначально я отнесся к известию с полным равнодушием. Слишком был занят насущным вопросом: как обойдутся со мной на следующей перевязке…
День 20 июня был днем радости. «Сегодня мылся под краном, стоя». Это значило, что сам добрался до уборной и управился там без посторонней помощи.
Но… из окна уборной был виден уголок рейда, и мне показали… «Николай I», выходящий из дока…
«…Под своей машиной пошел куда-то… (записал я в своем дневнике). До слез обидно… Японский флаг. «Ики». Боже, какой позор! Тут же «Апраксин»… Идет на пробу (машин)…»
Вот когда ударило по сердцу!.. До того все заслонялось вопросом: будут сегодня резать или нет?..
21 июня записано: «Без перемен (относительно здоровья). Тоска, тоска… Что делать, вернувшись? Возрождение флота, живой дух в обучении, живые люди вместо чиновников, исполнение долга вместо отбывания номера… Хорошие слова… А кто это сделает? Творцы тины, в которой мы утонули, крепко, плотно сидят в своих креслах… Война их не тронула… Нет. Ничего не выйдет… Уйти бы куда-нибудь, зарыться…»
Тяжело было…
В дневнике опять только отрывочные фразы.
«25 июня. — Третьего дня вечером поднимался к адмиралу (во второй этаж) и просидел у него часа два. Сидячее положение для меня, по-видимому, неблагоприятно. Ночью и вчера, весь день, в глубине раны сильно дергало. Верно — седалищный нерв. Валяюсь на койке».
Должно быть, самочувствие было неважно, но тем не менее я не утерпел, чтобы не повидать адмирала еще раз. Не я один, но все мы — офицерская палата и палаты нижних чинов — все подбодряли себя мыслью, что «он» поправится и, вернувшись в Россию, «сделает»… Что «сделает» — вряд ли кто мог бы точно формулировать, но все понимали друг друга, все жили этой надеждой, хорошо зная, какая разница была между тем блестящим «свитским» адмиралом, который уходил из Либавы, и тем начальником эскадры, который во главе её шел на смерть при Цусиме…
Ведь «он» жутче и полнее любого из нас пережил эту страду — от Либавы до Цусимы… Ведь это «он» вел нас в бой, об исходе которого еще пять месяцев тому назад доносил с солдатской прямотой, что «не имеет надежды на успех»…
— Помните первую телеграмму Государя? — горячилась молодежь. — А дальнейшие? Эти запросы об его будущей работоспособности? Кому другому все порядки пришлось вынести на своей шее? — Камня на камне под «шпицем» не оставит, когда вернется! — Только бы выжил…
И как наивны были не только эти мичмана, но и все мы, более опытные, видавшие виды, но забывавшие старую пословицу. «Жалует Царь, да не жалует псарь»…
Все-таки 25 июня вечером я опять (через силу) навестил адмирала и радовался, что «настроение у него хорошее; раны протекают правильно; температура нормальная».
Путешествия во второй этаж не прошли даром. Следующее довелось предпринять только 1 июля, а в промежутке было довольно плохо, судя по краткости и отрывочности записей в дневнике.
«4 июля. — Большая рана разделилась перемычками на четыре части… Очень болезненно»…
«5 июля. — Ночью было развлечение. Задул свежий Ost (должно быть, южнее идет тайфун), и повалило леса строящегося барака1. Больно дотронуться. Бывало, после перевязки блаженствуешь, а теперь приходится лежать, не шевеля ногой. Свежо. Почти шторм. Дождь. Теперь если бы в море, на хорошем корабле! — зюйдвестка, дождевик, резиновые сапоги… льет сверху; поддает из-за борта; мотает — едва устоять… Но корабль держится хорошо; место известно; курс точен, полная уверенность, и… — свисти, ветер, хлещи, волна, — я сильнее! Приду, куда хочу!.. Какие это были минуты горделивого сознания своей силы!.. Повторятся ли они?., и когда?.. — В плену!..»
Да простят мне читатели, если эти дословные выдержки нелитературны, но ведь это было записано на койке госпиталя…
«6 июля. — Вчера — весь день шторм… от погоды, что ли, нога не давала покоя. Перевязка очень болезненна… Ходить, сидеть — нельзя. Даже лежа, и то нехорошо… Черт возьми! Ведь неделю тому назад… казалось, совсем идет на поправку…»
«9 июля. — Даже Ивасаки (он всегда подбодряет) сказал: «no good». Что такое? — ничего не понимаю. Лежу. Передвигаюсь (куда необходимо) на костылях».
Рядом с нашим, перед самыми окнами.
* * *
Не один я испытывал это резкое ухудшение в течении ран. Казалось, поветрие какое-то. Многие из тех, что уж давно бродили по палате и даже ходили на прогулку — слегли опять. Во всех сказывалась какая-то особая нервность и раздражительность. Надоедали прислуге, ссорились между собой…
Виной тому, как справедливо угадал Ивасаки, была впервые полученная пачка номеров «Нового Времени», в которых г. Кладо на основании каких-то отрывочных и в большинстве неверных сведений развертывал перед русской публикой фантастическую картину боя и выяснял причины нашего поражения.
Что это было!..
Люди более уравновешенные пытались успокоить товарищей, указывая, что ведь есть оговорка, что во вступительных фразах сам г. Кладо признает имеющиеся у него сведения отрывочными и даже малодостоверными, предостерегает от слишком поспешных выводов и суждений…
— А сам выводит и судит! — возражали им. — Эта оговорка — только лазейка, путь для благородной ретирады, припасенный на всякий случай! Ведь читатели понимают, что если «ученый-моряк», основываясь на телеграммах каких-то американских корреспондентов, пишет целый ряд статей, то ясно, что сам-то он, этот «ученый-моряк», верит им и оговорка в предисловии поставлена только для приличия. А если «он» верит, то как же не поверить людям, мало или вовсе не сведущим в морском деле? Ведь это «он» писал и научно доказывал всего четыре месяца тому назад, что эскадра, находившаяся на Мадагаскаре, и после падения Порт-Артура «имеет надежду на успех», а если подкрепить ее разным хламом (небогатовский отряд), то получится уже не надежда, а «уверенность» в успехе! Вот он и дает теперь логическое разъяснение причин небывалого в истории разгрома, когда одна сторона истреблена, а другая понесла потери до смешного ничтожные. И причинами этими он выставляет бездарность, грубое невежество и недостаток воинской доблести тех, кто шел умирать…
Представьте себе такое положение: где-нибудь на краю света (скажем — в Аргентине) вы попали под автомобиль, жестоко изувечены и лечитесь в госпитале, а тем временем в Петербурге, в кругу ваших добрых знакомых, человек, пользующийся общим доверием и уважением, рассказывает, что, «конечно», это могут быть только сплетни, но ходит слух, что N вовсе не попадал под автомобиль, а, уличенный в шулерстве, был жестоко избит и спущен с лестницы… Дальше же следует длинный ряд суждений на тему о всем безобразии такого поведения, о том, что вы покрыли себя несмываемым позором, призыв к устранению из своей среды недостойных, и т. д., и. т. д. Что же осталось от оговорки, предпосланной этой проповеди? Ровно ничего. Дело сделано… Добавьте к этому, что в силу особых условий ваши протесты, ваши опровержения вы могли бы представить лишь в отдаленном будущем, когда, выздоровев, вернетесь на Родину, где вам придется бороться с прочно сложившимся мнением большинства, пытаться переубедить людей, которые брезгливо от вас отворачиваются, которые не хотят вас слушать…
А в данном случае положение было именно таково.
«Calomniez, calomnoez! il en restera toujours quelquie chose!» — говорят французы, и здесь этому правилу открывалось тем более широкое поприще, что оклеветанные могли иметь надежду поднять свой голос против клеветников лишь через много (они сами тогда не знали — через сколько) месяцев спустя…
Вот почему, к неудовольствию главного доктора и даже «Живоглота», наша палата в первой половине июля представляла собой картину, мало чем отличающуюся от второй половины мая.
* * *
«10 июля. — Вчера весь день лежал… Верно, необходимо спокойствие… На перевязке здорово мучили… Сейчас (2 часа спустя) — хоть кричи! В пот бросает… — 4 часа дня. Уставши от этого удовольствия, заснул совершенно неожиданно и так крепко, что едва разбудили к концу завтрака. Если лежать смирно — не болит».
«12 июля. — На перевязке не особенно притесняли, но после прижигания хлористым цинком так жжет, что, прямо, верчусь на постели… — 2 1/2 часа дня. Слава Богу! Адмиралу сделали операцию (до сих пор боялись, что не выдержит), вынули кусок кости, подсунувшийся под край пробитого черепа. — Вечером. Адмирал чувствует себя прекрасно (так рассказывали) — ни болей, ни лихорадки, ни слабости… Прямо праздник! Все время сверлила мысль — вдруг не выдержит? Тогда не лучше ли было ему погибнуть в бою, чем умирать в госпитале?..»
«13 июля. — На перевязке больно ковыряли… Ивасаки говорит: «Сам не понимаю, в чем дело; очень странно: одни дырки зарастают, другие открываются». Нога болит. Погода скверная — дождь, ветер… Уныло. Точно осень… И на душе — тоже… О России в газетах пишут такую дрянь. Дай Бог, чтобы не все было правдой… Иной раз подымаются разговоры о будущем. Безотрадные разговоры… Петра Великого нужно! Героические меры!.. Кто наверху решится круто повернуть? Удалить от дел тех, кто достигли высокого положения благодаря свойству, родству и тому, что берегли свое здоровье, когда другие работали? Ведь не сами же они признают себя подлежащими упразднению…»
«14 июля. — Бедная Россия… Даже англичане («Nagasaki Press»), несмотря на все злорадство, поражаются и восклицают: «Если когда-нибудь можно было вообразить себе нацию, решившуюся похоронить себя под собственными развалинами, то этот спектакль дает Россия»…
«19 июля. — Вчера вечером опять рискнул подняться по лестнице, чтобы навестить адмирала».
(Дневник полон записей о подробностях перевязок, о ходе ран. Пропускаю их, как неинтересные.)
«23 июля. — Все хорошо… Хорошие вести из России, т. е., вернее, не из России, а о ней. В «Nagasaki Press» пишут, что мира не будет, так как Государь телеграфировал Линевичу, что «ни уступки территории, ни контрибуции», а японцы уж карту отпечатали, по которой к ним отходит Маньчжурия, Корея, Сахалин и вся Приморская область, включая Камчатку, да еще мечтают о сдаче им всех судов, интернированных в нейтральных портах, и о пяти миллиардах контрибуции. Слава Богу! Все подбодрились. Хоть и тяжело сидеть в плену, но… хоть умереть в неволе, лишь бы Россия добилась почетного мира».
«24 июля. — Все хорошо. Обещают скорую поправку. Особенно томительно ввиду предстоящих мирных переговоров. Хотелось бы заснуть недельки на три… Главное — ничего достоверного. Нельзя же верить всему, что пишут?»
* * *
Надо заметить, что все мы искренне верили (или хотели верить) телеграмме Линевича о готовности перейти в наступление, и радовались, что перемирия не будет, что, может быть, во время самых переговоров он будет иметь удачное дело и даст хотя какой-нибудь козырь в руки нашим дипломатам… Дальнейшие известия, которых мы ждали с лихорадочным нетерпением, не оправдали наших надежд. Линевич бездействовал; Мищенко в своем набеге потерпел неудачу… А Сахалин?.. Вот что записал я в своем дневнике по поводу Сахалина, резюмируя общее мнение всего населения палаты: «Новый срам. Если решили не защищать Сахалина вовсе, то надо было его очистить. Если же войска там были, то они должны были драться. Сами японцы признают, что при бездорожье и пересеченной местности Ляпунов с его силами, ведя партизанскую войну, мог бы наделать им много хлопот».
* * *
26 июля имело место происшествие, внесшее некоторое разнообразие в наше монотонное существование. Надвинулся тайфун, центр которого прошел немного севернее Сасебо. С утра задул свежий Ost. В 3 ч. 30 мин. пополудни рухнул двухэтажный барак, строившийся рядом с нашим, леса для которого (как я писал уже) впервые повалило три недели тому назад. Теперь он уже был выведен под крышу (японцы строят деревянный остов дома, накрывают его тяжелой крышей, а затем уже забирают стены). Падение было грандиозное. Я дремал на койке, как вдруг услышал треск и голос мичмана Д.: «Валится!» Обернулся, глянул в большое (можно бы сказать — венецианское) окно, у которого стояла моя койка, и вижу — махина действительно валится прямо на нас… Забыл про раны и с легкостью серны отлетел к противоположной стене… Обошлось благополучно. В наш барак ударили только отдельные обломки. — В 5 ч. 20 мин. ветер отошел почти к S, все свежея. Изрядные деревья выворачивались с корнем. Черепицы с крыш срывались и неслись по воздуху, как стаи галок. В центральном (двухэтажном) здании напором ветра вдавило стену; прибежали толпы рабочих и занялись ее подкреплением. В 6 ч. вечера явилось опасение, как бы не рухнул двухэтажный барак, во втором этаже которого была комната адмирала. Его принесли к нам на носилках, растрепанного ветром, изрядно вымокшего под дождем. Наибольшей силы шторм достиг около 7 ч. вечера. К 10 час. ветер перешел к SW и начал ослабевать. В результате все двухэтажные дома были сильно повреждены, а с трех бараков вовсе снесены крыши».
27 июля моя большая рана окончательно выполнилась и покрылась струпом. «Слава Богу! — записал я в своем дневнике. Давно пора! Ведь уж 74 дня прошло со времени ее получения».
«4 августа. — Не хочется ничего писать. Идут мирные переговоры. В газетах все как-то смутно и непонятно… Чего же хвастал Линевич?.. Тоска!..»
«6 августа. — Гулял. Однако ходил не скоро и недолго (всего 1/2 часа), а здорово устал».
Глава V В период выздоровления. — Я — революционер… — Наша молодежь. — Мир. — Тяжелые дни. — От Сасебо до Ниносима
Только тот, кому довелось в жизни благополучно перенести опасную, тяжелую и мучительную болезнь, поймет то, что я испытывал в течение ближайших недель. Я чувствовал (по крайней мере, мне так казалось), как с каждым часом я крепну, как прибывают силы. И как старательно исполнял я все предписания доктора относительно постепенного увеличения срока прогулок, как внимательно следил за своей ногой, приучая ее повиноваться моей воле — не «загребать», не давать «вольтов» в сторону (седалищный нерв был-таки затронут)! Последнее время из всего населения палаты нас было только трое с еще не закрывшимися ранами; теперь осталось двое… Сознаюсь откровенно, когда эти двое отправлялись в операционную, я никогда не мог удержаться, чтобы не подумать: «А мне уж больше не нужно!» — и эта мысль делала меня счастливым. Пусть это была грубая, животная радость — что делать! — я обещал писать всю правду.
Одновременно с этим мысль, до того всецело сосредоточивавшаяся на ходе раны, словно вырвалась из-под гнета и заработала необычайно ярко. В несколько дней я собрал в одно целое отрывочные заметки, которые набрасывал, лежа на койке, и уже 9 августа представил адмиралу обширную докладную записку, в которой были подробно исследованы и… названы своими именами те условия, которые в течение многих лет подготовляли наше поражение. После всего пережитого я считал себя не только вправе, но и обязанным высказаться с полной откровенностью. Адмирал никогда не говорил со мной об этой записке, зато в Петербурге, где с его разрешения она была отпечатана и разослана всем высшим чинам морского ведомства, она имела несомненный успех, восстановив против меня все тесно сплоченное население здания адмиралтейства.
Однако же возвращаюсь к моему дневнику. Читая его, кажется, что в авторстве участвовали два человека: один — полный бодрости, горячо верящий, что не он только, но весь флот возрождается к новой жизни, что гроза, принесшая разрушение, не может не очистить атмосферы; и другой — на основании опыта прошлого и кое-каких признаков в настоящем, не верящий в обновление, глубоко убежденный, что никакая гроза не освежит спертого воздуха бесчисленных канцелярий морского ведомства…
* * *
«9 августа. — Что делать дальше, вернувшись в Россию? Используют ли горький опыт? Сумеют ли создать настоящий флот, или только построят новые кузова, а закваска останется старая?.. Тогда нельзя служить, невозможно работать для подготовки новой Цусимы!.. Грустное, обидное сознание, что жизнь прожита зря, что лучшие годы отданы на службу учреждению, которое привело Россию к позору… Вместо грозной силы они соорудили грубо намалеванную декорацию, а мы, как дети, дались в обман и, опоясавшись бутафорским мечом, шли поражать врагов Родины!.. Вот и сидим в Сасебо… А они? Они все там же, где и были, на своих мягких креслах, да еще, чего доброго, они же нас и судить будут…»
10 и 11 августа записаны разные мелочи госпитальной жизни, которые я и в дальнейшем изложении буду пропускать.
«12 августа. — …и разве я изменил себе, выступив с резкой критикой? Я всегда знал то, что говорю теперь, а при случае и высказывал, и не за спиной, а в глаза моим начальникам (бывали и неприятности). Но только в общем, я подавлял в себе эти протесты. Я сам себя старался уверить, что все добросовестно исполняют свой долг. Я не допускал мысли, чтобы вопросы, приходящие в голову мне, сравнительно молодому офицеру, не беспокоили людей много старше и опытнее меня, и если не все делалось так, как мне казалось нужным, то, несомненно, потому, что делалось наилучшим способом, и иначе нельзя. Чудовищно было бы думать, что люди, стоящие у власти, больше заботятся о себе и своих интересах, нежели о пользе дела, к которому приставлены, о безопасности и чести Родины, вверенных их попечениям, что для них неудовольствие нужных или приятных «особ» быть может страшнее ответственности перед судом истории… Да! в этом я ошибался… Но когда они с высоты своего величия вещали: «Нам лучше знать. Исполняйте, что вам приказано, — и все будет хорошо. Начнете умничать — только напортите», — как было им не верить? Ведь в их руках были сосредоточены все средства, все данные… Можно ли было подозревать, что груды «материалов» только обременяют шкафы канцелярий, а требования, вызываемые опытом, оставляются без внимания?.. Но как это въелось! До какой степени священны традиции! Например, свежий человек, прочтя мою докладную записку, сказал бы: «Да ведь это прописные истины! чего тут доказывать?» А вот NN, который читал ее, находит высказанные в ней взгляды революционными… И это — после Цусимы!..»
«13 августа. — Проснулся рано — только пробило 5 ч. Вышел на крыльцо. Дождь перестал: на небе редкие, разорванные тучки; запад еще темный; на востоке полнеба охвачено слабым белесоватым светом, а понизу стелется багровый отблеск. Предрассветный туман стоит в неподвижном воздухе; бухта и склоны гор задернуты легкой дымкой. Лист не шелохнется. Тишина… такая тишина, что сквозь закрытую дверь явственно слышно всхрапывание людей, спящих в бараке. Какая красота! как глубоко, как привольно дышится! как легко, как бодро себя чувствуешь! полететь бы птицей!.. И вдруг — все померкло, поблекло… ужасное, роковое слово: «в плену»…
«14 августа. — Ожесточенные дебаты по поводу манифеста 6 августа. — Боже мой! какое полное отсутствие сведений о формах народного представительства в других государствах! Если бы еще все эти нелепости говорили только молодые мичмана, которым в корпусе, конечно, не читали государственного права (хотя и в среде мичманов были один инженер и один лицеист, окончившие курс и поступившие во флот юнкерами), но такое же невежество проявляли и люди, изрядно послужившие, дожившие даже до седых волос.
О порядке выборов в различных государствах, разумеется, никто не имел ни малейшего представления; большинство, впрочем, слышало, что в Англии существуют палата лордов и палата общин, которые иногда пререкаются между собой, но как разрешаются эти пререкания — не были осведомлены; сенату во Франции приписывали роль нашего сената; о верхней палате в Австрии и Германии, о сенате в Италии и пр. вовсе ничего не знали. В результате: одни ликовали, представляя себе Думу состоящей из депутатов, избранных всеобщей подачей голосов, решения которых непосредственно поступают на утверждение верховной власти; другие же, опасаясь такого крутого перелома, восставали против всякого народного представительства. — Было бы смешно, когда бы не было грустно».
«15 августа. — Горькие мысли о нашем флоте приходят в голову. Не только сверху надо основательно почистить, — необходимо и снизу перевоспитать. А перевоспитывать — это труднее, чем просто воспитывать… Пишу под впечатлением разыгравшегося в палате горячего спора. — Из Киото, где содержится большая часть пленных моряков, кем-то было получено письмо, в котором сообщалось, что там для офицеров организованы лекции по штурманскому, артиллерийскому и минному делу, по механике и кораблестроению, а также ведется военно-морская игра — вообще стараются с пользой употребить время вынужденного бездействия. Кто-то шутя стал поддразнивать молодежь, что по выписке из госпиталя им придется засесть за книги, посещать лекции, а потом, чего доброго, и экзамен сдавать… Все смеялись, но один из мичманов принял дело всерьез и категорически заявил, что ни на какие лекции не пойдет. — Пойдете, если будет приказано! — Никто не может мне приказать! — А начальство? — Здесь нет никакого начальства, кроме японцев! К большому моему удивлению, все его товарищи энергично поддержали это заявление. Шуточные пререкания превратились в принципиальный спор. Ни разъяснение смысла служебных отношений, ни ссылка на статьи морского устава — ничто не помогало! Причем аргумент протестующих был прост до грубости: «Пусть сам адмирал скажет мне: «Ступайте»! — а я не пойду! Ну, как он может меня принудить?» — Выходило так, что исполнение приказания обязательно лишь в том случае, когда за ослушание грозит немедленное возмездие. Не имеешь возможности наказать — значит, не можешь и приказывать, Печальное credo».
«16 августа. — После долгого ненастья установилась чудная погода. Вчера после обеда гулял по двору больше часа. Оказалось не по силам. Здорово устал; всего разломило; в глубине раны тупая боль — должно быть, клочья мускула срослись не совсем правильно; когда возвращался, нога подвертывалась — слаба и в бедре, и в колене».
«В японских газетах пишут, что мирные переговоры будут продолжаться, так как за хорошее вознаграждение они согласны очистить Сахалин. То есть желают, кроме железной дороги, Артура, Дальнего, Ю. Маньчжурии и Кореи, получить контрибуцию?.. Что же Линевич, который еще два месяца тому назад рвался в бой? Хоть бы на шаг потеснил их, и стали бы сговорчивее! Видно… слова только…»
«17 августа. — «Пересвет» вышел из дока и пошел куда-то… Больно глядеть… а тут еще музыка играет сегодня на площадке у нашего барака и все такие знакомые мотивы-марши: «Двуглавый Орел» и «Кронштадт — Тулон». Тяжело слушать — в голову так и лезет назойливая мысль: не с наших ли судов взяты эти ноты?.. Тоска…
Около 9 ч. вечера принесли отпечатанную на особом листке телеграмму: «Только что договорились о мире». Все всколыхнулось. Первое движение — конечно, радость. Мир! — Да, но какой ценой?.. — и лица нахмурились».
«18 августа. — Всю ночь проворочался на койке. Мир за ключён. Перед Россией две дороги: новая, чуть намечающаяся — путь обновления, и старая, наезженная — среди родных болот и дремучих лесов. Хватит ли решимости, хватит ли силы выбиться из глубокой, веками проложенной колеи?.. Вспомнились полные горькой иронии стихи А. Толстого: «Ой, кабы Волга-матушка да вспять побежала! — кабы можно, братцы, начать жить сначала!..» Под утро задремал, но скоро опять проснулся. Заря на небе. И как ярко горит… Для кого? Неужели-только для японцев? О, для этих она давно взошла, а сегодня каждый японец встает с постели, полный надежды и веры в будущее, с глубоким сознанием, что принесенные жертвы были не бесплодны. Славный мир завершил победоносную войну, и Великая Япония прочно заняла свое место среди мировых держав.
А ты, далекая, любимая Родина? Ты, как Иван-Царевич, стоишь на роковом перекрестке… Помоги тебе Бог избрать верный путь, добыть и мертвой воды, чтобы срастить разбросанные по полю части русского великана, — и живой, чтобы пробудить его от смертного сна… Горько за тебя, разбитую и униженную, и без слов рвется сердце служить и работать для твоего счастья… Сколько тьмы, горя осталось позади… Что-то Бог даст в будущем?.. И плакать хочется, и молиться…»
«19 августа. — В японских газетах пишут, что мы уступили половину Сахалина и обязались уплатить за содержание пленных 200 миллионов. Замаскированная контрибуция. Плачевный мир…»
«20 августа. — Японцы, видимо, недовольны условиями мира (чего бы, кажется?). К нам не пропускают никаких газет».
«21 августа. — Газет все нет, но фельдшер рассказывал, что отовсюду идут выражения негодования; подаются петиции с просьбой не заключать мира; Комуре грозят, предупреждают, чтобы лучше не возвращался в Японию».
«22 августа. — После долгих требований и обращений по всем инстанциям начальства наконец-то получили газеты. Понятно, почему их прятали. По всей Японии страшное недовольство условиями, на которых заключен мир. Причина та, что японскому правительству словно мало было действительных побед, и оно (для поддержания бодрости духа, что ли?) еще преувеличило их. Естественно, что народ считал Россию окончательно разгромленной, лежащей у ног Японии и молящей пощады. Теперь наступило отрезвление и разочарование. Нигде никаких празднеств. Ни одного флага, развешивать которые японцы так любят. Наоборот — обещают при возвращении уполномоченных из Америки приспустить все флаги до половины. Газеты печатают условия мирного договора в траурных рамках».
«23 августа. — Нога все еще плохо действует, особенно по утрам, пока не расходится. Струп еще не сошел и очень болезнен при малейшем давлении. Боюсь, не открылась бы рана снова. Беспокоит и большой палец на левой ноге».
«24 августа. — Кругом только и разговоров, что о близком отъезде. Японцы суетятся. Порт (госпиталь), видимо, хочет как можно скорее сдать нас главному управлению военнопленных, хотя, казалось бы, чего проще освободить прямо отсюда, тем более что многие еще требуют лечения, а у двоих (не считая адмирала) даже раны не закрылись.
Сегодня опять запрос из Петербурга о состоянии здоровья адмирала, об его работоспособности в будущем и т. д. — Флаг-капитан не решился отвечать своими словами, но просил главного доктора написать все подробно, ничего не скрывая».
«25 августа. — Сегодня уже начались сборы. После завтра едем в Киото. — Тяжелое, смутное время, словно стоишь не то на распутье, не то перед запертой дверью, которая вот-вот должна открыться, а что за ней? — неизвестно. Страстно хочется скорее вернуться в Россию, но само возвращение пугает. Все-таки — из плена, разбитые… Когда еще разберутся, кто действительные виновники разгрома!.. Единственное, что придает бодрости, — это телеграммы, которые получал адмирал в первые дни после боя. Но с тех пор много воды утекло; многое могло измениться, да, судя по газетам, так и есть; господа из-под «шпица» приняли свои меры, чтобы сухими из воды выйти И с больной головы свалить на здоровую…»
«26 августа. — Дождь; пасмурно. От погоды, что ли, разболелись раны. Ночью была лихорадка. Не то во сне, не то наяву так ярко вспоминались наиболее тяжелые из пережитых моментов… особенно один… Ведь я же, как только услышал, выведенный из забытья, о появившихся дымках, сейчас посоветовал разводить пары, давать полный ход, бороться до последней возможности, и флаг-капитан согласился со мной и пошел наверх распорядиться. Это все помнят, все подтверждают. Виноват ли я, что снова впал в забытье, что не пополз за ним наверх, что поверил его решимости?.. Можно ли этого требовать от человека, ослабевшего от потери крови, лежащего в лихорадке, раненного в обе ноги, которому каждый шаг стоит огромных усилий и страданий? Требовать, конечно, нельзя, и никто не осудит… Но я сам?.. Нет — ошибка была! Я должен был просить снести меня на мостик! Положение было слишком серьезно, а ведь я знал его характер, его способность поддаваться уговорам, менять решения… Понадеялся на других? — здоровых, бодрых, не раненых, только наблюдавших за боем? Они, мол, распорядятся? Теперь их черед? Вздор! Ни на кого не имел права полагаться! Поддался физической слабости и не оценил важности момента! — вот моя вина…
Газеты принесли известия о беспорядках в Токио. Толпа хотела разнести здание Министерства иностранных дел, вступила в схватку с полицией, сожгла несколько полицейских домов. 2 полицеймейстера, 5 приставов и 60 городовых ранено; из толпы — 5 убито и 200 ранено. Вызваны войска. Объявлено военное положение и временные правила о печати».
«27 августа. — Отъезд не состоялся, как слышно, из-за того, что не успели прислать одежду для наших матросов; а между тем многие были спасены почти нагишом».
«28 августа. — Проснулся в шестом часу утра, когда весь госпиталь еще спал, и заторопился последний раз сделать мою предрассветную прогулку, проститься с убогой лужайкой перед бараком, по которой я сделал мои первые, неверные шаги без костылей, опираясь на палку, где «учился ходить». Дивное утро. Редкие, нежные тучки ползут по небу, цепляясь за вершины гор. Даль затуманена. Все залито ровным белесоватым светом. Не разберешь — взошло уже солнце за горами или нет. Стебли высокой жесткой травы стоят, не шелохнутся, осыпанные каплями росы, и я стою неподвижно на потемневшей сырой дорожке и слушаю тишину. В порту, в городе, кругом — ни звука… Но вот — одна, другая, третья — и по кустам, по траве, будто сотни колокольчиков и бубенчиков, зазвенели цикады. Где-то близко прокричал петух. Неожиданно слева, из-за барака, взметнулась с хриплым карканьем ворона и, грузно взмахивая крыльями, низко-низко перелетела через мою дорогу невдалеке от меня. За ней другая. Любопытно, что предсказали бы авгуры по такому полету… Впрочем, и у нас есть на этот счет какая-то народная примета.
День прошел в суете и сборах.
В 4 ч. 45 мин. пополудни тронулись из госпиталя. Адмирала везли на дженрикше; двоих несли на носилках; мне рекомендовали взять, на всякий случай, костыли, но я расхрабрился и пошел, опираясь на палку, так как до пристани было совсем недалеко. У пристани ожидал портовый паровой катер, доставивший нас на пароход «Genkai-Maru», бывший пассажирский и, по-видимому, до войны обслуживавший линию, излюбленную туристами, так как салон и каюты первого класса были совсем на европейский лад и даже роскошно отделаны. Разместились весьма комфортабельно. Провожать приехал начальник штаба порта, контр-адмирал Сакамото, наговорил массу любезностей, желал счастливого пути и т. д., и т. д.
В 5 ч. 30 мин. снялись с якоря. Тут всех нас пригласили в салон, закрыли двери и спустили жалюзи. Это — чтобы мы не видели выхода из порта и не могли запомнить расположения защищающих его фортов. В 6 ч. 40 мин., когда были уже в море и ничего секретного подглядеть не могли, — получили свободу. — Невольно вспомнились добрые порядки отечественных военных портов, где для любого наблюдателя все — как на ладони.
Прощание в госпитале вышло довольно сухое. Да и трудно было ожидать, чтобы расстались «sans rancune». В ком встретили мы сердечное к нам отношение? По пальцам сосчитать можно: доктора Оки и Ивасаки, смотритель госпиталя, фельдшер Мацуно, санитар Мияге (из числа санитаров бывали и другие, но их сейчас же убирали). Все прочие, видимо, лишь во исполнение воли начальства не слишком третировали нас, но в душе крепко держались старого правила, что военнопленный — это раб, собственность победителя.
При закате солнца погода испортилась. Небо задернулось тучами; море свинцового цвета; откуда-то пошла зыбь. Совсем наша осень… Но не прошло и нескольких часов, как опять разъяснило и наступила дивная лунная ночь, какие бывают только в Японии в конце августа и начале сентября. Стою на юте. Постукивает винт. Белая струя ложится за кормой. Тихо. Через ровные промежутки раздается глухой, отрывистый звонок механического лага. Временами слабо погромыхивает цепной штуртрос. Идем Большим Хирадским проливом. В 10 ч. вечера взяли курс ONO на Симоносаки. Ориентируюсь по луне и по берегу. К югу, на фоне неба, посеребренного луной, темнеют горы Киу-Сиу. Между нами и берегом по поверхности моря рассеяны сотни огней. Это японские рыбаки. Они спокойно ловят рыбу у своих берегов, как ловили ее и во время войны… Они спокойны. Их флот владеет морем… Владел, владеет и будет владеть… Долго ли еще? Не знаю, что это болит — душа или сердце? или то и другое?.. Горе побежденным!.. Так больно, так горько… И зачем доктор тогда помешал мне?.. Заснуть, скорее бы заснуть…
Не могу спать — мимо окна прошел часовой… Случайно посмотрел в зеркало, и оттуда глянуло на меня какое-то совсем чужое, почерневшее, усталое лицо… Да и в самом деле — эти последние дни с их неотвязными, мучительными думами — я так устал…»
«29 августа. — Около 6 ч. утра останавливались у карантина, а в начале 8-го подошли к Дайри, где высадили шедших на том же пароходе нижних чинов, одновременно с нами выписанных из госпиталя. Они отправляются в Кумамото. — Около 9 ч. вышли из пролива (Симоносаки) в Средиземное море и легли курсом в 80 четверть. — Неожиданно вспомнил, что в 1898 году «Владимир Мономах» под командой князя Ухтомского, идя этим курсом, в тумане вскочил на мель, но благополучно снялся своими средствами. Теперь «Мономах» покоится на дне Корейского пролива, а его бывший командир — в плену…
Из Сасебо нас сопровождают доктор Тадзуки и капитан-лейтенант Кимура.
Маленькое замечание. Вчера, ложась спать, подумал, что провалился, — так отвык от порядочной койки. В самом деле: 3 1/2 месяца на жестком соломенном матрасе, а под головой — маленькая, купленная в госпитальной лавочке надувная резиновая подушка, так как от госпиталя вместо подушки полагался парусинный валик, набитый песком. Помню, первое время, пока я не знал, что можно послать санитара купить подушку, как он меня мучил! Лихорадка, вынужденное лежание в одном и том же положении (навзничь); шея затекает; голова болит, и проклятый валик, кажется, упирается не в череп, а в самый мозг…
Жарко. С утра чуть тянул слабый SO, а после полудня совсем заштилело. Все море усеяно парусами каботажников. Им, прямо, числа нет. Вот откуда комплектуется японский флот настоящими моряками, и вот где неистощимый резерв его личного состава!
В 6 ч. 45 мин. вечера стали на якорь у карантина, расположенного на островке Ниносима, где будем сданы на попечение военного ведомства».
Глава VI Ночь в карантине. — Японские «армейцы». — Удзина. — Хиросима. — Генерал Манабэ и его история. — Голод и комары. — Breakfast и lunch захватным правом. — Прибытие в Киото
Вчера тотчас по постановке на якорь на пароход прибыли комендант острова (полковник) и карантинный врач. Они долго о чем-то перекорялись с нашими спутниками, Кимура и Тедзуки. По словам этих последних, полковник, несмотря на то, что мы прибыли прямо из Сасебо, где три с половиной месяца провели в госпитале под надзором врачей, непременно хотел проделать над нами все манипуляции, положенные для прибывающих с театра военных действий — полную дезинфекцию, прививку оспы и т. д. Насилу его убедили.
(Позже, в Киото, мы узнали от других пленных, как выполнялись эти манипуляции, и благодарили Бога, что чаша сия миновала нас.)
«Убедить полковника, не признававшего ничего на свете, кроме своей инструкции, было, по-видимому, нелегко. Кимура даже вспотел.
В 7 1/2 час. съехали на берег. Целый городок дощатых бараков. В ближайшем ко входу поместили адмирала и трех штаб-офицеров, причем адмирала кровать была поставлена особо и отделялась от наших занавеской, а наши три стояли почти вплотную одна к другой под общим мустикэром. Меблировка — небольшой стол и простые табуретки по числу кроватей. Кровати — грубо сколоченные из едва отесанных брусьев и досок. На кровати — изрядно слежавшийся, жесткий соломенный матрас, вместо подушки валик с песком да три грубых шерстяных одеяла. Никакого признака белья, а между тем и матрасы, и валики — далеко не первой свежести.
Адмирал, обозрев отведенное ему помещение, не сказал ни слова, но сел на его пороге и замер в неподвижности.
Кимура, сопровождавший нас на берег, видимо, чувствовал себя отвратительно, все извинялся и утешал, что ведь это только одна ночь. «Да неужели нельзя достать хоть пару простынь для адмирала?» — говорили ему. «Этого здесь наверное нет!» — «А у полковника?» — Кимура даже засмеялся: «Я думаю, он и не знает, что это такое! Теперь все на войне, а здесь, в Японии, да еще на нестроевом месте, самые… самые, которые ничего не понимают по-европейски. Впрочем, я попробую сделать что-нибудь!» — В результате он добыл новый, еще не бывший в употреблении чехол соломенного тюфяка, который и был предложен адмиралу в качестве постельного белья. Затем оба, Кимура и Тедзуки, откланялись, пожелали покойной ночи (какая ирония!) и поспешили вернуться на пароход.
Адмирал всю ночь не спал, да и мы не слишком благодушествовали. Барак помещался саженях в 3–4 от берега, а между ним и берегом были воздвигнуты будочки с удобствами, устроенными самым примитивным способом. После полуночи ветерок потянул с моря, и, несмотря на закрытые окна, барак наполнился ароматом рисовых полей!.. Поднялись чуть свет. Для умывания принесли ведро воды с деревянным ковшом и небольшой цинковый таз, до такой степени заросший грязью, что пользоваться им никто не решился. Предпочли мыться прямо на дворе, подавая друг другу воду из ковша. Когда полковник в сопровождении переводчика явился приветствовать адмирала с добрым утром и спросить, всем ли он доволен, то получил в ответ заверение, что, несомненно, породистые свиньи в Европе пользуются большими удобствами, чем мы здесь…
Полковник смутился, стал бормотать какие-то извинения, затем исчез, и до самого отъезда мы его больше не видели. Переводчик, как и Кимура, пояснял, что это «совсем японский» человек, что он очень старался все устроить так, как европейцы привыкли, но только не умеет. Плохо верилось таким объяснениям.
В госпитале нас кормили не роскошно, но сытно. Не всегда было вкусно, но всегда по меньшей мере съедобно. Зато здесь… Начну с того, что ни скатерти, ни салфеток не полагалось. Ножи, ложки — покрыты грязью, а между зубьями вилок скопились целые залежи ее. Но это дело поправимое — отмыли и очистили. С тарелками было хуже, так как пища приносилась уже положенной на них, а судя по захватанным краям, и донышки не должны были отличаться чистотой. На breakfast дали овсянку с сахаром (причем сахар был уже насыпан в тарелку) и рис, политый соусом кэрри. Думали, что придется поддерживать питание чаем с хлебом, когда, к общей нашей радости, появился маркитант, у которого приобрели американские консервы — ветчину, какую-то замазку под названием «паштет из дичи», калифорнийские фрукты и кофе со сливками. В полдень опять угостили. Бульон (грязная вода) и желто-серый омлет с репчатым луком. В 12 ч. 50 мин. дня, когда мы еще сидели за столом, барак закачался и заскрипел; посуда запрыгала по столу. Так продолжалось 10 секунд. Через три минуты — второй удар, слабее первого и продолжительностью 5 секунд. В 4 часа дня снова принесли пищу — опять овсянка с сахаром и какая-то отвратительная слизь с мелко накрошенными кусочками мяса и сала. (Брезгливый человек не выдержал бы одного взгляда на это крошево.) Справились — почему это вздумали кормить в неурочный час? Переводчик пояснил, что вскоре мы выезжаем; ужинать будет негде, и поесть придется только завтра утром, а потому надо подкрепиться. Бросились к маркитанту, но, увы, почти все запасы его уже были раскуплены, а съездить в город за новыми у него не хватало времени. (Надо заметить, что в нашей партии, кроме адмирала, было 3 штаб-офицера, 5 обер-офицеров, 2 кондуктора и 1 юнкер.)
Все эти злоключения имели и свою хорошую сторону. Когда их не было (как например — последние дни в госпитале, а в особенности на пароходе, в знакомой обстановке, среди полного комфорта), оставалось слишком много времени для того, чтобы думать, вспоминать прошлое, гадать о будущем… А думы всегда были одна безотраднее другой… Бывали моменты такой тоски, что… хоть за борт броситься! Проверяя, вспоминая ощущения, пережитые на пароходе, скажу: случись в то время какое-нибудь несчастье — налети пароход на блуждающую мину, столкнись с другим, я бы пальцем не шевельнул для своего спасения — такое чувствовалось угнетенное состояние, так хотелось конца… Теперь же, когда приходится всячески изворачиваться, чтобы не остаться голодным, сооружать подушку из пиджака, завернутого в полотенце, собственноручно чистить ножи и вилки и мыть посуду — весь отдаешься этим мелким заботам, и никакие мысли не лезут в голову. — Однако зовут. Пора ехать.
В 4 1/2 часа дня на портовом пароходике отвалили от карантинной пристани, а через полчаса высадились в местечке Удзина. До железнодорожной станции дошли пешком (кроме адмирала и двух мичманов с еще не закрывшимися ранами, — те ехали на дженерикшах). На улицах было много народу, но на нас, по-видимому, не обращали никакого внимания. Было ли так приказано, или просто население местечка давно присмотрелось? Ведь через Удзина прошло несколько десятков тысяч наших!.. Конвоя, конечно, никакого не было. С нами (пешком) шел переводчик, молодой чиновник, а сзади адмирала (тоже на дженерикше) ехал полковник. (Этот последний, несомненно, уже донес о реприманде, полученном утром, — у японцев на этот счет строго — и уже успел получить соответственные инструкции.) Почтительно держался в стороне, но не спускал глаз с адмирала и старался догадываться о всяком его желании: поспешно зажигал спичку, когда тот вынимал папиросу, сам побежал и принес стул, когда адмирал присел на перила платформы, осведомлялся — не угодно ли чаю, содовой воды или пива и т. п. При этом краснел, но не берусь сказать — отчего: от смущения или от злости за навязанную ему роль…
Ждать поезда пришлось довольно долго. В дальнейший путь тронулись только в 5 ч. 40 мин. пополудни. Вагон дали не особенно комфортабельный. Два отделения — одно первого, другое второго класса. Между ними — уборная. В первом классе — три дивана: два по боковым стенкам, один — у задней. Каждый диван на три человека. Сюда посадили адмирала, троих штаб-офицеров, а также сели полковник и переводчик (чиновник). В отделении второго класса было только два продольных дивана, каждый на четыре места, а посадили туда всех остальных наших (8 человек) да еще, девятым, переводчика (не имеющего чина). Теснота у них была страшная. Надеялись, что это лишь временно, что когда приедем в Хиросиму, то нас пересадят в большой вагон, какие ходят по магистральной линии (от Хиросимы на Удзина — ветка). Надежды не сбылись: переводчик пояснил, что уж больше никаких беспокойств (?) не будет — в этом вагоне доедем до Киото.
Около 6 ч. вечера пришли в Хиросиму. При первой же остановке адмирала встретили и представились ему комендант крепости, его адъютант, вице-губернатор (губернатор был в Токио) и правитель канцелярии. Все при орденах и знаках отличия. Затем наш вагон некоторое время передвигали по разным путям, а когда его подвели к главному вокзалу и прицепили к поезду, отходящему в Киото, то здесь адмирала приветствовал командующий войсками генерал-лейтенант Манабэ, явившийся в сопровождении своего штаба.
Среднего роста, коренастый мужчина. Умное, породистое лицо. Больше похож на провансальца, чем на японца. Держится с достоинством, совсем по-европейски. На шее — орден «Сокола» (соответствует нашему Георгию), на правом боку — звезда «Восходящего Солнца», на левом — наша Станиславская, с мечами. Хорошо знакомый с японскими взглядами, я удивился (про себя, конечно), что такой боевой генерал не на войне. Для него это должно было быть большой обидой.
(Впоследствии французский морской агент, лейтенант Martini, разъяснил мне эту загадку. По его словам, генерал сделался жертвой интриги, в которой была замешана женщина. Дело в том, что в Японии широко распространены так называемые «женские патриотические кружки», членами которых состоят дамы высшего общества. Это не совсем сестры милосердия, потому что они не живут в госпиталях, но и не наши дамы-патронессы, которые заглядывают в палаты лишь ненадолго, наподобие солнечного луча, полагая, что и этим уже «ces pauvres diables» достаточно осчастливлены. Японские дамы самолично ухаживают за ранеными, заботятся о них, уделяют им почти все свое время. Так вот, пока генерал отличался под стенами Пекина, жена его делала свое дело и положительно очаровала больных и раненых французов, оказавшихся на ее попечении. В результате ей была пожалована medaille d'honneur, но при этом представители французского правительства сделали чудовищный gaffe: дав медаль г-же Манабэ, члену кружка, они ничего не дали его председательнице. С японской точки зрения это было величайшим оскорблением, и председательница, жена генерал-губернатора, решила отомстить. Только что генерал, украшенный орденами за боевые заслуги, вернулся к домашнему очагу, как нагрянули судебные власти с предписанием произвести обыск. Вскрывали полы, разбирали стены, перекопали весь сад и двор. Оказывается, генерал-губернатор донес, что, по имеющимся у него сведениям, генерал Манабэ вывез из Китая и прячет у себя ценные вещи, похищенные в одном из пекинских дворцов, находившихся под охраной его же солдат. — В таких случаях японцы не шутят, считая, что затронута честь нации, и, право, взгляд этот не мешало бы усвоить многим европейцам. Каковы были результаты обыска — Martini в точности не был осведомлен, но только с этой поры звезда генерала померкла, и на войну с Россией его не взяли… Прошу извинить за отступление и возвращаюсь к дневнику.)
Не допустив адмирала беспокоиться выходом на платформу, генерал сам еще на ходу вскочил в вагон. Взаимное представление чинов штаба с той и с другой стороны. Несколько любезных фраз о переменчивости военного счастья: сегодня — неудача, завтра — победа, и наоборот. Потом все сели. Был подан чай (по-европейски), и тут разыгралась маленькая комедия, очевидно, заранее инсценированная.
Манабэ осведомился: все ли было должным образом устроено в Ниносиме, и не терпел ли адмирал каких-нибудь неудобств? Адмирал ответил, хотя и в мягкой форме, но с полной откровенностью. Генерал изобразил на своем лице горестное изумление и скороговоркой начал отчитывать полковника, который стоял навытяжку, держа руку под козырек, красный как рак и обливаясь потом. Дальше следовали извинения и даже ссылка на некорректность госпиталя в Сасебо, который экстренно, никого не предупредив, эвакуировал раненых; иначе генерал почел бы долгом лично встретить почетного гостя в Ниносиме и самому за всем присмотреть. (Ой, врет! — подумал я.) Так или иначе инцидент был исчерпан. Еще несколько минут непринужденной беседы, причем генерал заявил, что звезда Станислава с мечами — это наибольшая его гордость, так как в китайской кампании только четверо ее получили, а теперь, за смертью маршала Ямала, в живых осталось трое, и он самый младший. Распрощались, и в 7 ч. вечера поезд тронулся.
Часа через два всем захотелось есть. Да как еще! Я даже ноги подогнул, чтоб не так «подводило»… На станциях и помину не было о буфетах. В десятом часу вечера — большая остановка. Появились дамы местного патриотического кружка (поезд, к которому нас прицепили, был санитарный — с больными и ранеными). Нашим дамам-патронессам было бы на что поглядеть и чему поучиться! Шелестя дорогими шелковыми «кимоно» и постукивая деревянными «гэта» («Гэта» — род высоких деревянных сандалий для ходьбы по уличной грязи), они проворно, но без суеты обходили вагоны, с улыбкой и поклонами угощая чаем и каким-то печеньем, тут же собственноручно мыли посуду, бегали за кипятком…
Мы освидетельствовали наши запасы провизии. Оказалось — негусто. Небольшая коробка ветчины, шесть кусков хлеба и полфунта шоколада… Адмирал предложил было потерпеть еще, так как ведь это — последнее… но говорил как-то неуверенно. Видимо, и его мучил голод. Решили съесть ветчину и по одному куску хлеба, а два куска оставить про запас, на случай, когда придется питаться шоколадом. В банке ветчины оказалось пять тоненьких ломтиков. Каждый получил по 1 1/4- Хлеб съели весь, надеясь, что уж если придется перейти на шоколад, так где-нибудь достанем к нему вареного риса.
Ночь провели сидя — лечь было негде — на каждом трёхместном диване было по двое. С вечера пытались было уговорить адмирала взять один диван в полное его распоряжение, но он категорически отказался, а мы хорошо знали, что в подобных случаях спорить с ним бесполезно.
Ночь была лунная; окрестности поразительно красивые, но никто ими не любовался. Комаров — туча. Какие-то особенные: держатся понизу и кусают за ноги, как собаки, свободно проникая жалом через белье. Кто-то уверял даже, что слышит, как они чавкают. После полуночи в подкрепление к этим кусакам появились полчища других, мелких, вроде москитов, которые повели атаку налицо, шею и руки. Словно ворочаешься в крапиве.
Есть такая французская пословица: «Qui dort — done» — но так как мы вовсе не спали, то к 4 ч. утра опять начали изнывать от голода. Даже адмирал не стерпел, разбудил наших конвоиров и потребовал решительного ответа: когда и где можно будет достать пищи? Полковник (через переводчика) объяснил, что в одиннадцатом часу утра на станции Симедзи будет завтрак «по-европейски». Адмирал вскипел: «Ведь нас не кормили с парохода! Нельзя же было есть ту дрянь, которую давали в карантине! Сейчас же телеграфируйте на следующую большую станцию, чтобы приготовили на 12 человек (Четверо — в нашем отделении и восемь во II классе) по пяти яиц вкрутую на каждого, хлеба и чаю!» — С полковником чуть не приключилось удара. Он клялся, что завтрак будет «по-европейски», что все обдумано, что маршрут и расписание часов еды утверждены высшим начальством, что сам он не имеет права распоряжаться… Но адмирал не слушал его, совал ему в руки несколько японских кредиток и твердил: «Скорей! скорей! посылайте телеграмму, пока поезд не тронулся!» (Это происходило во время остановки на какой-то маленькой станции.) Ваше превосходительство! — взывал переводчик, — он не может этого сделать без разрешения на то от правительства, а взять ваши деньги тоже совсем не может! — «Не может?..» — И скомканные бумажки полетели в окно. Переводчик кинулся за ними…
В 6-м часу утра 31 августа пришли на станцию Окаяма и здесь (о, радость!) получили адмиральский заказ. В первый момент изрядная корзинка с яйцами и еще большая с хлебом вызвали шутливые замечания, что тут на целую роту хватит, но опустели они с изумительной быстротой. Запивали чаем, которым угощали дамы, несмотря на ранний час явившиеся к поезду. Мы не отказывались и от японского (зеленого) чая, но здесь с их стороны было проявлено особое внимание: подали китайский чай, с сахаром, в чашках европейского образца, с блюдечками и даже ложечками. Хозяйничала какая-то особа почтенных лет, как говорили — сама председательница местного кружка. Поевши, пришли в благодушное настроение, стали позевывать. Комары с наступлением дня куда-то скрылись. Кое-как приткнувшись по углам диванов, заснули.
Около 11 ч. прибыли в Симедзи, где состоялся завтрак «по-европейски», о котором так много говорил полковник. Европейского в нем было… ножи и вилки. Каждому подали коробочку белого дерева, в которой лежали небольшой, тоненький кусок мяса, зажаренного в сухарях, три кусочка (лепесточка) копченого языка и маленькая картофелина. Все холодное. Дамы угощали не только чаем, но и содовой водой и пивом. После такого завтрака адмирал с решительным видом дал переводчику денег и поручил ему телеграфировать в Кобэ, чтобы там, на станции, нам приготовили по хорошему бифштексу с картофелем. Переводчик замялся было, обратился к полковнику, но тот только рукой махнул: семь бед — один ответ.
В 1 ч. 20 мин. пополудни мы сидели за столом, накрытым чистой скатертью! У каждого была салфетка!.. Как все было хорошо! И как вкусно приготовлено!
В 3 ч. 20 мин., прибыв в Осака, довольно равнодушно поглядели на японскую стряпню a la europienne, которой нас собирались угостить, но из вежливости посидели за столом. Здесь добыли газеты и прочли, что как раз в ночь после нашего отъезда из Сасебо произошел пожар на «Миказа», закончившийся взрывом и потоплением броненосца. Адмирал послал Того телеграмму с выражением соболезнования.
В 5 ч. 40 мин. вечера без особых приключений прибыли в Киото. На станции нас встретили начальник гарнизона генерал-майор Окамэ, майор, заведующий военнопленными в Киото, поручик, заведующий тем храмом, где предстояло жить адмиралу, и переводчик, да кое-кто из наших офицеров, ранее сюда прибывших. Здесь же мы распрощались с нашим полковником, который, видимо, был в восторге. Радость его была мне вполне понятна.
В экипажах (не на рикшах) поехали: адмирал и штабные чины — в храм Чидзякуин, а прочие — в храм Хонкокудзи».
Глава VII Первые впечатления в Киото. — Начальник гарнизона, генерал-майор Окамэ, и его нравоучения. — Дружественная беседа. — Вопросы продовольствия. — Мелочи жизни. — Небогатое
Первое сентября. Адмиралу и старшим чинам его штаба отведено отдельное здание (можно бы сказать — флигель), соединяющееся с главным корпусом храма горбатым деревянным мостиком, перекинутым через узкий проток пруда, имеющего форму «покоя». Это здание чисто японского устройства предназначено для жительства высоких гостей, на случай их посещения, и состоит из двух частей: в одной три комнаты, или, вернее, одна, разгороженная на три подвижными щитами, которые можно сдвинуть и даже вовсе убрать, — здесь поместили адмирала; в другой, отделенной от первой широким коридором, две комнаты для свиты, комната для прислуги, кладовая и проч. Мне было назначено поселиться в третьей комнате, где уже жили двое, ранее прибывшие, люди малознакомые и, откровенно сказать, мало мне симпатичные. По счастью, адмирал, обладавший способностью сразу подмечать всякую мелочь, узнав, как и с кем меня поместили, приказал мне перебраться в третью комнату своего домика. Я слабо протестовал, но, как уже было сказано по поводу дивана в вагоне, спорить с ним в таких случаях было бесполезно. «Эта комната — ваша. Живите тут или не живите — я ею пользоваться не буду. Пусть стоит пустая». Все это разыгралось еще вчера вечером. Адмиралу поставлена простая железная кровать с матрасом и подушками; у всех прочих — кровати деревянные, такого же образца, как в Ниносиме; жесткий соломенный тюфяк и под голову валик, набитый песком.
После двух бессонных ночей спал как убитый. Проснувшись утром, долго не мог сообразить: где я и что со мной?
В 9 ч. утра прибыл генерал Окамэ со штабом.
(Подробности этого посещения, тогда же мною записанные, как нельзя лучше характеризуют японцев, ставших в уровень с европейцами.)
Всех новоприбывших (от адмирала до юнкера, прикомандированного к его штабу) пригласили в одну комнату, посреди которой стояли стол и несколько стульев. Когда мы собрались, в дверях появился Окамэ, сопровождаемый адъютантами. Вместо всякого приветствия он (через переводчика) заявил: «Сегодня я здесь как начальник гарнизона и заведующий военнопленными». Затем, взяв поданную ему бумагу, прочел (по-японски) речь и, окончив чтение, замер в неподвижности. Следом за ним переводчик, тоже по писанному, прочел перевод речи на русский язык. Привожу этот перевод дословно, как он списан с бумаги, бывшей в руках переводчика.
«Я, начальник гарнизона Фусими, генерал-майор Окамэ-Масансеро, объявляю вам, господам морским офицерам, как военнопленным, недавно прибывшим и помещенным в этом гарнизоне: — Господа офицеры! Вы, покинув еще в прошлом году свою отчизну, переплывя далекий стотысячемильный бурный путь, перенеся всякие лишения, бедствия и непогоды, вполне исполнили свой долг службы отечеству, твердо стоявши своею грудью и сражавшись в бою с патриотической энергией и храбростью до тех пор, пока вас не постигла несчастная роковая судьба, принудившая вас попасть в плен. А потому, принимая во внимание ваше положение, выражаю вам мое сочувствие и душевно разделяю ваше горе».
(До сих пор речь была вполне уместна и благопристойна; курьезные обороты и шероховатость выражений, очевидно, следовало отнести на счет переводчика, который старался быть дословным. — Дальше пошли пункты.)
«1. Во время нахождения в плену вы должны строго соблюдать все постановления и правила, установленные Японским Императорским Правительством, и отнюдь не должны уклоняться от исполнения их. Соблюдение воинской дисциплины и благочиния есть самая важная потребность воинов, которая, как вам известно, соблюдается в державах всего света; поэтому желательно, чтобы вы, господа офицеры, обращали особое внимание, чтобы не было нарушения дисциплины и законов.
2. Распоряжения начальника гарнизона, даваемые через надлежащих чиновников комитета, исходят от Японской Императорской Власти и требуют точного исполнения.
Находясь здесь, вы должны дружески относиться друг к другу и воздерживаться в поведении, так как примерное поведение возвышает достоинство воинов, помня, что соблюдение этого пленными есть услуга отечеству, а пока следует терпеливо ждать заключения мира.
Я, имея должность заведовать вами, лично даю вам слово наставления при первом свидании с вами. Желаю вам быть уверенными и спокойными».
* * *
Во время чтения я украдкой поглядывал на адмирала. Он стоял, заложив руки за спину, слегка наклонив голову, как бы внимательно слушая, и только хорошо всем нам знакомое, нервное движение скуловых мускулов выдавало внутренние его ощущения.
Бесспорно, это «слово наставления» было бы допустимо в обращении к молодежи; штаб-офицерам, дожившим на службе до седых волос, и то неловко было его слушать — но что же сказать про генерал-адъютанта, вице-адмирала, который, стоя рядом с юнкером, получал от генерал-майора советы, как ему следует «воздерживаться в поведении»?!
Хотелось бы верить, что церемонии этого рода японцы устраивали просто по… недоумию, не уловив самой сути европейских правил вежливости и приличия. С трудом верилось… Что другое, но «это» должно было быть наиболее доступно их пониманию. Ведь ни в одной стране этикет, т. е. внешняя форма взаимоотношений отдельных лиц (даже в кругу семьи), не разработан так, как в Японии…
Во всяком случае, ясно видно было, что Окамэ наслаждается выполнением доставшейся ему роли… Когда переводчик закончил чтение, он торжественным наклонением головы и движением руки пригласил всех садиться и сел сам. Затем (через переводчика) имела место такая беседа:
«Переводчик. — Генерал еще раз выражает уважение понесенным вами трудам и высокой доблести. Он надеется, что здешние доктора не хуже, чем в Сасебо, а климат лучше, и тяжелая рана на голове здесь скоро совсем залечится.
Адмирал. — Скажите ему, что я благодарю.
Переводчик. — Он очень беспокоился о ходе ваших ран и беспокоился о вашем здоровье, видя, что день вашего приезда, давно назначенный, все отдаляется, но теперь радуется, что он настал.
Адмирал. — Благодарю.
Переводчик. — Конечно, здесь нет тех удобств, к которым привыкли все европейцы, но он со своей стороны готов сделать все, что в его власти.
Адмирал. — Благодарю.
Переводчик. — Он интересуется узнать: не устали ли вы после дороги и как себя чувствуете.
Адмирал. — Очень хорошо.
Переводчик. — Дела службы не позволяют ему продолжать приятного разговора. Он должен уйти, пожелав всего хорошего.
Адмирал. — До свиданья».
* * *
Вскоре после отъезда Окамэ возвратился сопровождавший его майор и привез уже готовые листы, которые надо подписать, чтобы получить право «свободного выхода за ворота с 8 ч. утра до 6 ч. вечера». Подписавший такой лист обещается не пытаться бежать, во время прогулки не посылать ни писем, ни телеграмм, ограничиваться указанным районом города, не вступать в сношения с пленными, помещенными в других местах, не заходить в частные квартиры (?) и т. д… Курьезный документ начинается словами: «Обещаюсь под честным словом воина, как русский офицер, и клянусь Всемогущим Богом…» Адмирал на предложение майора ответил кратко, но выразительно: «Не нужно» — и ушел в другую комнату.
Так как мирный договор подписан уполномоченными уже две недели тому назад и ждет только ратификации, то, конечно, строить планы бегства было бы бесцельно и даже глупо, но раз японцы находили уместным разыгрывать такую комедию, — я тоже решил посмеяться и с благородной откровенностью заявил майору, что никогда не давался на слово, а взят в плен раненым и твердо намерен бежать при первом удобном случае. Флаг-капитан и флаг-офицер, прибывшие с адмиралом из Сасебо, также последовали его примеру и отказались дать подписку. Для меня лично это не представляло особого лишения: ведь просидел же я на «Суворове» с 1 октября 1904 г. до 14 мая 1905 г., съехав на берег только три раза — один раз в Виго и два раза в Нозибе — да и то по делам службы и сроком не более как на час. А храм с садом много просторнее броненосца. Ничего! посидим и еще! Зато никаких обязательств и никаких милостей со стороны победителей».
«2 сентября. — Остаток вчерашнего дня прошел в хозяйственных хлопотах — приобретали предметы первой необходимости. В храме имеется лавочка, хозяин которой (японец, довольно бойко говорящий по-русски) является в то же время и комиссионером, доставляя из города все, что потребуют (конечно, наживает здорово).
Кроме адмирала и его штаба (всего 8 человек), в главном корпусе храма содержатся: с «Ушакова» — 1, с «Осляби» — 1, с «Мономаха» — 1, с «Сысоя» — 1 и с «Урала» — 1, затем с небогатовского отряда — 22 или 24. Последние держатся как-то своей компанией, не признавая не только воинской дисциплины, о которой проповедовал Окамэ, но часто и общепринятых правил приличия… Тон задают многочисленные прапорщики запаса и юноши того особого типа, который за последние годы успешно культивировался в морском корпусе. Правда, они не составляют большинства, но они всего заметнее. Люди серьезные, сдержанные, дающие себе отчет в совершившемся и верно оценивающие свое положение, не лезут вперед, не шумят и потому незаметны.
Здесь мы узнали, какого удовольствия счастливо избегли в Ниносиме благодаря энергичному заявлению доктора Тедзука, от имени главного врача госпиталя в Сасебо свидетельствовавшего, что мы не несем с собой никакой заразы и не подлежим содержанию в карантине. Вот как поступали с прочими. Партию пленных, без различия чинов и возраста, собирали в приемном бараке; каждому предлагали раздеться догола и уложить свои вещи в парусинный мешок за номером; медное кольцо с тем же номером надевалось на палец владельца вещей. Затем толпу голых людей «гнали» в соседний барак, где помещались ванны — деревянные ящики, наполненные водой, сдобренной каким-то дезинфицирующим составом; в ящики «загоняли» по нескольку человек, причем санитары наблюдали, чтобы все окунались с головой; кто сопротивлялся — обливали из ведра. После ванны в следующем помещении всем прививали оспу. Здесь в костюме Адама сидели в ожидании, пока прививка подсохнет; предъявив кольцо, получали мешок с вещами, уже дезинфицированными, и наконец водворялись в изоляционных бараках на срок двух недель. Все это было вполне рационально в смысле предупреждения заноса внутрь страны различных заразных болезней, так как о санитарном состоянии пленных японцы никаких определенных сведений не имели, но способ применения этих мер и манера обращения, конечно, могли бы быть иными. Мой собеседник особенно подчеркивал слова «гнали», «загоняли» и при одном воспоминании о пережитом волновался, то бледнел, то краснел… Чувствовалось, что тут японцы не смогли отказать себе в невинном удовольствии третировать европейцев, как скот, пригнанный из области, охваченной эпизоотией».
«3 сентября. — Сегодня проснулся рано — в 6-м часу утра. Солнце еще не взошло. Здания храма с причудливыми крышами, горбатыми мостиками и крытыми переходами, сад с его прудами, путаной листвой искусно подобранных декоративных деревьев и кустарников были удивительно красивы. Кругом веяло ароматной свежестью, а в себе я чувствовал такой прилив бодрости и силы… Говорят, все выздоравливающие после тяжелой болезни испытывают это ощущение. Бродя по галереям, через раздвинутые стенные щиты случайно увидел — сидят и играют в карты, видимо, со вчерашнего дня; усталые, возбужденные лица, хриплые голоса… Пожалел их…
Какие удивительные мастера японцы в деле создания миниатюр! Ходишь и удивляешься, как ухитрился художник (нельзя сказать — садовник) на таком маленьком клочке земли создать такую иллюзию старого, запущенного парка? Каждый пригорок, каждая ложбинка, каждая складка почвы использована. Идешь по крутому склону, но кажется, что это не нарочно построенная лестница, а случайное нагромождение камней, среди которых нога человека, выбирая удобнейший путь, протоптала след; среди густой заросли замечаешь чуть видную тропинку, раздвигаешь кусты и оказываешься на маленькой лужайке, в центре которой — крошечная кумирня, поросшая мхом. От скалы отломилась длинная, не толстая глыба и упала поперек узкого протока, соединяющего две части пруда, образовав мост; оглядевшись, можно даже найти место, откуда она откололась, но надо ли пояснять, что это не игра природы, а дело искусных рук…»
«4 сентября. — По-видимому, наш отказ от принятия каких-либо обязательств удивил и озаботил японцев. Сегодня утром приходили: к адмиралу — майор, а к нам — поручик. Убеждали, что после долгого пребывания в госпитале крайне полезно несколько развлечься, а гулять — прямо необходимо. Успеха не имели. — Вечером опять прибежал поручик и просил уговорить адмирала подписать «присягу», так как ведь это пустая формальность. Только посмеялись».
«5 сентября. — Вчера за вечерним чаем у адмирала много говорили о разнице между службой и тем отбыванием «номеров», которое у нас принято, о морском корпусе, который не имеет ничего общего с настоящим флотом. Адмирал оживился, говорил о необходимости коренных реформ как в деле боевой подготовки личного состава, так и в организации центральных и портовых учреждений. Между прочим, высказал мысль, что если мы до настоящего времени были на ложном пути, тихо дремали под припев «все обстоит благополучно», то все же прошлое может оправдываться нашим неведением, нашим чистосердечным заблуждением — «виновны, но заслуживаем снисхождения», — а теперь, когда война открыла нам глаза, не использовать этот кровавый опыт, пройти мимо него старой дорогой будет уже сознательным преступлением без всяких смягчающих вину обстоятельств. — Я не записал вчера подлинных его выражений, но мысль была именно такая».
«6 сентября. — Сегодня приезжал из Осака начальник дивизии, генерал-лейтенант Ибараки, чтобы сделать смотр новоприбывшим пленным. Предполагался такой же парад, с адмиралом во главе, как в первый день, и даже еще торжественнее — в большой столовой, потому что Ибараки был начальником Окамэ. Однако в последний момент вышла отмена. (Может быть, побоялись, что адмирал откажется выйти из своего помещения?) Во всяком случае, Ибараки повел себя совсем не похоже на Окамэ. Приехав в храм, послал к адмиралу своего адъютанта справиться: может ли он его видеть? — и, получив утвердительный ответ, пришел в его помещение как бы с визитом. Конечно, по такой манере и принят был соответственно. Просидел около четверти часа. При уходе адмирал проводил его до порога своего домика и любезно прощался (на Окамэ смотрел, как на пустое место). Мы официально представлялись генералу в большой столовой. Даже и нам никаких глупых наставлений он не читал, а просто выразил свое глубокое сочувствие и обнадежил скорым освобождением».
«7 сентября. — Уже третий день стоит упорное ненастье. По утрам белье, платье — совсем сырое. От некрашеных стен — запах мокрого дерева. Кормят отвратительно, но это не в укор заведующему хозяйством и поварам. В хищении их обвинить нельзя. Судите сами: можно ли кормить хорошо, если на 60 коп. в день надо дать: утренний чай с хлебом, завтрак и обед? И это при условии, что мясо стоит 45 коп. фунт… Такова норма офицерского продовольствия. Кроме довольствия натурой, каждому пленному офицеру выдается на руки
6 рублей в месяц на ремонт одежды и обуви, покупку мыла и прочей мелочи. На продовольствие нижних чинов шло (как слышал) 23 коп. в день. Руководствуясь этими цифрами и сведениями о числе военнопленных генералов, офицеров и нижних чинов, печатавшимися в японских газетах, досужие математики (а досуга было достаточно) пытались вычислить, во что обойдется Японии содержание пленных, если считать, что в ноябре эвакуация закончится? Итоги получались различные, так как вычислители не знали точно сроков прибытия отдельных партий и их численности, но в общем колебались между 5 и 6 миллионами. Может быть, в счет содержания ставились также перевозка, приспособление зданий, лечение в госпиталях? Пусть так. Но много ли это составит? Возьмем на круг по сто рублей на человека. Это — за глаза. Значит — еще
7 миллионов. Округлим цифру, сказав: за все про все — 15 миллионов. Больше никак не наскребешь. Откуда же, по какой аптекарской таксе японцы насчитали 200 миллионов? Невольно создавалось убеждение, что согласие на такое требование есть не что иное, как замаскированная контрибуция. И так становилось обидно…
Нечего и говорить, что жить на казенном пайке можно только впроголодь. Почти все население храма (все пользовавшиеся «правом свободной прогулки») ходит завтракать в «Miako Hotel» и там наедается на целые сутки. Мы оказались в худшем положении, так как приносить пищу из ресторана разрешено только для адмирала, и то после больших пререканий. По правилам это не дозволено: боятся, что в судках будут передавать какие-нибудь секретные сведения. Вошли в соглашение с поваром, который за особую плату (и вовсе не грабительскую) готовит нам дополнение к убогому столу. Репертуар у него небогатый: бифштекс и яичница. Иногда покупаем окорок. Приобретаем у маркитанта разные консервы. Завели приспособления для варки чая, кофе и какао.
Выписал себе «Ниппон-кай тай кайсен» — описание боя при Цусиме в донесениях японских флагманов и капитанов и в рассказах участников и очевидцев (на японском языке в двух томах) и, пользуясь избытком свободного времени, взялся за перевод. Кстати повторяю китайские иероглифы, которых прежде знал более 2 1/2 тысячи. Оказывается, в течение шести лет за отсутствием практики многое перезабылось, но вспоминается легко.
Из прочего населения храма очень немногие читают и занимаются. Есть два-три человека, работающие совместно над розыгрышем (по правилам военно-морской игры) цусимского боя при различных комбинациях. Результат для нас всегда получается один и тот же — полный разгром. Огромное большинство решительно ничего не делает. Днем бродят по городу (или, вернее, сидят в ресторанах, барах и чайных домах), а вечером и ночью играют в карты. Не без попоек, не без историй».
«8 сентября. — После ненастья завернули холода. По утрам в комнате 12 градусов R и все мокрое, так как туман стоит такой же, как на дворе. Еще бы! у меня три стены — наружные, причем две из тонкой прозрачной бумаги, а одна из картона. Воображаю, каково было бы тут оставаться на зиму!»
«9 сентября. — Ночью простудился, лежа в собственной постели, — кашель, насморк и головная боль».
«10 сентября. — Приезжал французский вице-консул из Кобэ. Зачем? — неизвестно. Надо полагать — для исполнения номера, чтобы донести по начальству: «Навестил и осведомился о нуждах». Стал было говорить ему о невозможной пище, но он руками замахал, говорит: «Это они по неумению приспособиться к европейским вкусам».
Сегодня же приезжал Танака, недавно произведенный в капитаны 2-го ранга. Прислан от имени морского министра и начальника главного морского штаба справиться о здоровье адмирала. Привез посылку международного комитета Красного Креста — 5 ящиков египетских папирос и 5 ящиков шампанского. Пресимпатичный тип, вроде моего старого приятеля Номото. Посылку адмирал передал в общее пользование обитателей храма».
«11 сентября. — Словно опять настало лето. Чудный теплый вечер».
«12 сентября. — Небогатое уже два раза был у адмирала и подолгу сидел, но я с ним не виделся. Японское правительство, осведомившись официально, что он и его командиры исключены из службы, т. е. перестали быть военными, немедленно их освободило. Завтра они уезжают. Небогатов приходил прощаться. Случайно встретились на веранде. Он меня задержал и разговорился… Я поколебался в моем первоначальном суждении, которого держался до сих пор. (С офицерами его отряда я никогда не заговаривал о сдаче. Зачем бередить раны? — и так тяжело.) В самом деле, положение было отчаянное: японцы, командуя дистанцией, держались на 50–60 кабельтовых и расстреливали их, как на учении, в полной безопасности… Какой ужас! И вот в чем позор!.. Он сообщил, что торопится в Россию для того, чтобы просить суда. Пусть все знают, в чем именно он виноват. Он не имел возможности нанести никакого вреда неприятелю; оставалось — потопить корабли и спасать команду. Он был уверен, что при этом погибнет не менее 75 %, и не решился собственным сигналом потопить полторы тысячи своих подчиненных. «Духу не хватило! в этом виноват… Не за себя же я беспокоился? Для меня, для адмирала, нашлись бы спасательные средства!.. Нарочно захотел бы топиться, и то бы спасли… Да и японцы первого бы подобрали как трофей… Не за себя! за них!.. Сердце не выдержало… За это пусть и судят!» Да, это был единственный аргумент для его оправдания, но аргумент веский. За себя лично ему, конечно, бояться было нечего; значит, если он сдал корабли, а не уничтожил их, то не ради спасения собственной жизни».
«13 сентября. — Тепло, но дождь».
«14 сентября. — Утром приехали французский посланник Armand и морской агент, лейтенант Martini, в сопровождении Окамэ и майора. Адмирал по обычаю смотрел на Окамэ, как на пустое место, и даже объяснил Арману, что поступает так намеренно, ибо этот генерал-майор позволил себе читать ему наставления о воинской дисциплине и благонравии. Вечером Armand давал нам обед в «Miako Hotel». Были и японцы».
«15 сентября. — День без приключений». «16 сентября. — В 10 ч. 20 мин. утра легкое землетрясение».
«17 и 18 сентября. — Холодно и тоскливо».
Глава VIII Жизнь и обычаи военнопленных. ― Японская система булавочных уколов. ― Наши крайние правые и крайние левые
Девятнадцатого сентября. ― Очень беспокоит большой палец на левой ноге. Недели через две после операции он совсем было зажил, и вскоре же вместо срезанного начал расти новый ноготь. Тут-то и пошли неприятности. Без всякой видимой причины палец делался болезненным, багровел, воспалялся. Доктора пожимали плечами и говорили, что это виноват шрам, из-за которого новый ноготь не может расти нормально. Приказали по три раза в день размачивать его в горячей воде. На время это помогало; потом боли возобновлялись. Путешествие из Сасебо в Киото я совершил в просторных туфлях. В Киото доктор тоже все свалил на ноготь и предписал, пока он не вырастет, держать палец в согревающем компрессе. Не смею не верить, но сильно озабочен вопросом: как надену сапоги при отъезде? Правая нога медленно, но верно крепнет и становится послушной, хотя все еще, когда идешь задумавшись и не наблюдаешь за ней, вдруг начинает загребать. Болит только при перемене погоды».
«20 сентября. ― Утром в моей комнате +10 '/2 °R».
«21 сентября. ― Живем как в тюрьме. Разница только та, что много света и воздуха. Последнего, да еще холодного и сырого, даже в избытке».
«22 сентября. ― Сегодня мирный договор прибыл в Японию на ратификацию.
Откуда-то достали Апухтина и устроили литературный вечер. Д. недурно читает. Как резко чувствуется, что Апухтин писал не ради заработка и даже не ради славы, а просто потому, что в известный момент хотелось писать. Он не «сочинял», не искал сюжетов, они сами выплывали со дна души, давая верную картину настроения, которое владело им в данный момент… Как удивительно типично это прощальное письмо самоубийцы к прокурору, этот небрежно-шутливый тон, за которым прячется такое безысходное отчаяние, такая нестерпимая боль от сознания, что все ― в прошлом, и ничего―в будущем…
Где ты, мой грозный бич, каравший так жестоко? Где ты, мой светлый луч, ласкавший так тепло?..
После стихов пошла проза. «Дневник Павлика Дольского» навел меня на странные мысли. Да. Вот что думает (что должен думать) зауряд человек нашего века и нашего общества, спохватившись, что подошла старость, что жизнь прожита и прожита ― зря… Ничего путного не было сделано… Но разве исключительно по вине самого Павлика?.. Невольно вспомнился почему-то другой, тоже бездетный, бессемейный человек, живший 25 веков тому назад и умерший 49 лет от роду, т. е. приблизительно в том же возрасте, в котором Павлик сам себе писал некролог. Когда друзья Эпаминонда жалели, что он умирает, не оставив потомства, он ответил им, полный счастья и гордости: «Я оставляю Греции двух бессмертных дочерей ― Левктру и Мантинею». ― Ну, а мы?..»
«23 сентября. ― Я попросту стараюсь не иметь с японцами никаких сношений, а потому мне лично жаловаться не на что. Зато другие, пользующиеся правом «свободной прогулки», очень недовольны. По их словам, японцы словно особенно стараются использовать последние дни своей власти, чтобы отравлять жизнь мелкими придирками. Вчера лейтенант Б. опоздал на 5 минут ― вернулся из города не в 6 ч. вечера, а в 6 ч. 5 мин. ― и от него отобрали билет на право выхода за ворота. Обиднее всего то, что de facto подобные распоряжения ― право наказать или помиловать ― исходят не от кого другого, как от жандармского унтер-офицера, говорящего по-русски и состоящего в распоряжении поручика, заведующего нашим храмом. И это не случай, а система, которая в нашем положении болезненно чувствуется. ― Приказания передаются пленным всегда лицом, стоящим значительно ниже их по своему служебному положению. К адмиралу приходит майор, к штаб-офицерам ― поручик, к обер-офицерам ― унтер-офицер».
«24 сентября. ― Ясный, теплый осенний день».
«25 сентября. ― Сегодня привезли в Киото англичан (офицеров и матросов) с эскадры, прибывшей в Кобэ. Чествуют союзников. Нашим рекомендовали воздержаться от прогулок во избежание возможных недоразумений».
«26 сентября. ― Судя по газетам, мирный договор уже ратификован, но мы все еще под караулом».
«27 сентября. ― Ничего нового».
«28 сентября. ― Вчера прочел в «Страннике» (присылают из духовной миссии) разговор с Л. Н. Толстым на вечную тему о жизни и смерти. Л.Н. считает смерть пробуждением, а жизнь ― сном другой жизни, более широкой, более действительной, нежели окружающая нас земная действительность. ― Почему заснул? ― этот вопрос он оставляет открытым, а дальше проводит чрезвычайно заманчивую параллель. ― Спит крепко, видит сны и считает их действительностью, не сознавая, что спит: такой человек живет чисто животной жизнью. ― Спит чутко, чувствует, хотя и смутно, что это лишь сон: такой человек ищет решения вопросов высшего порядка, не удовлетворен (старается вспомнить). ― Тихая, спокойная смерть от старости: выспался, больше спать не хочет. ― Ранняя смерть: пробуждение от внешних причин. ― Самоубийство: отчаянное усилие, с которым пробуждаются от кошмара. ― Стройная, красивая гипотеза. Жаль только, что нет опыта, который бы подтвердил ее справедливость… Например ― те друзья и товарищи (не говорю о тысячах незнакомых людей), которые были «внезапно разбужены» при Цусиме? Неужели все они так крепко спали, что вовсе забыли свой сон, и никто из них не наведался ни ко мне, ни к кому другому? Странно… Одно скажу: судя по тому, что слышно о нашем Морском министерстве, и по тому, что вижу кругом себя, ― мало надежды, чтобы впереди явилась возможность не «номера отбывать», а действительно служить и работать с пользой для дела… И если так, то по толстовской теории я уже выспался, и по справедливости следовало бы меня разбудить… Или же это кошмар, и надо… самому?..
Нервы так расходились, настроение такое мрачное, что за вечерним чаем у адмирала «лютой тигрой» набросился на X. и отчитал его здорово. Вот типичный транзундец, который уже предвкушает блаженство возвращения под родную сень и заранее заряжается непогрешимостью. О том, что и как делали японцы под Артуром, ― ему известно лучше, чем мне, так как у «них» (в Транзунде) все это было проверено научно поставленными опытами!.. Ах, губители флота!..»
«29 сентября. ― Martini (французский морской агент) прислал письмо на четырех страницах. Суть та, что во французской миссии ничего не знают, когда и при каких условиях последует наше освобождение. Им сообщено (из Парижа), что для приема военнопленных прибудет особая русская комиссия, которая будет снабжена необходимыми инструкциями и полномочиями и которой они должны оказывать всякое содействие.
В газетах печатают известия из России, до такой степени противоречивые и несуразные, что читать тошно. Впрочем, ведь это ― местные газеты…
Как в первые дни нашего прибытия сюда ― те же ясные ночи, полная луна и зачарованный сад… И все это ― и природа, и климат ― все им!.. За что?.. Может быть, за то, что у нас много охотников всю жизнь посвятить Родине, а они просто всегда готовы с восторгом умереть за нее… Может быть, это только справедливость?..»
«30 сентября. ― Судя по газетам, договор ратифицирован 27-го, а у нас строгости пуще прежнего. По-моему, тешась таким манером, японцы поступают глупо. Из плена вернется много людей, сделавшихся врагами Японии, а ранее бывших ее друзьями. Повторяю, что я лично никаких сношений с ними не имею, но не могу не видеть и не слышать. И вот я, который всегда был убежденным сторонником идеи союза с Японией (и даже напечатал несколько статей в 1900 ― 1901 гг., в которых доказывал, что мы отлично можем полюбовно размежеваться с нашей соседкой), которому японцы, как народ, всегда были симпатичны, ― теперь клянусь, что если с Японией будет новая война, то я непременно приму в ней участие! Если за негодностью буду уже в отставке и не возьмут на службу ― буду проситься пассажиром (корреспондентом, что ли). Откажут ― наймусь ресторатором!.. Хочу еще раз «дорваться»! Хоть поглядеть, как будут стрелять в них наши пушки!..»
«1 октября. ― Покров. Ровно год тому назад в дождливый, серенький день эскадра выходила из либавского аванпорта… Служили напутственный молебен, и суворовский иеромонах о. Назарий провозглашал: «Болярину Зиновию и дружине его здравия и спасения и во всем благого поспешения, на врагиже победы и одоления…» Каким все это кажется далеким, далеким!..
У нас в большой столовой, где поставлена походная церковь, служил обедню православный священник (японец, о. Симеон Мия) по-русски.
Маленький эпизод, ярко характеризующий манеру японцев держать себя по отношению к военнопленным: согласно правилам, при богослужении должен присутствовать японский жандарм, чтобы следить… (Черт его знает, за чем он должен был следить! Может быть, опасались, что священнику будут подсовывать письма и телеграммы, помимо цензуры?) Раздвижные щиты, составлявшие наружную стену столовой, были вовсе убраны, так что она отделялась от веранды только редкими столбами. Так вот, этот жандарм принес стул, поставил его на веранде как раз против дверей алтаря, уселся на нем, заложил ногу на ногу, сдвинул фуражку на затылок и закурил папиросу.
Старший из присутствующих (адмирала не было ― он еще не может стоять подолгу на ногах) указал жандарму на несоответствие его поведения с обычаями, но получил в ответ, что «он здесь при исполнении служебных обязанностей». Флаг-капитан по просьбе присутствовавших подал о происшествии рапорт начальнику гарнизона. Любопытно, что из этого выйдет (Вышло то, что «во избежание недоразумений» приказано было впредь вовсе не совершать богослужения в походной церкви)».
«2, 3 и 4 октября». ― Эти страницы моего дневника я позволю себе пропустить и сказать лишь несколько слов по поводу событий, в них отмеченных.
Известия о том, что происходит в России, не могли не найти отголоска в среде военнопленных. Известия эти черпались из японских газет (хотя бы даже издававшихся на английском языке, но под японской цензурой) и, конечно, представляли положение вещей в самом мрачном свете. Как водится, при том политическом невежестве, которое я отметил еще в Сасебо (по поводу манифеста 6 августа) ― население храма (не только нашего, но и других) разделилось на партии самого крайнего направления. Не было не только центра, но даже умеренных правых или левых. Сказать одним, что вы искренне радуетесь учреждению Государственной Думы и находите желательным расширение ее законодательных прав, ― значило заслужить аттестацию потрясателя основ, революционера, даже анархиста. Заикнуться другим о пользе Государственного Совета, реформированного по образцу существующих верхних палат, ― и от вас с негодованием отворачивались, клеймили кличкой черносотенца.
Особенное негодование с обеих сторон вызывало заявление, что армия и флот должны быть вне партий, вне политики, что это правило повсеместно признано, так как нигде военные не имеют права голоса на выборах. Мне не раз приходилось вступать в споры по этому поводу. Я указывал на пример Польши, где шляхта составляла войско и в то же время занималась политикой, составляла конфедерации и привела государство к гибели; другой пример ― Испания и государства, возникшие на развалинах ее колоний, с их «пронунциаменто», провозглашавшимися военными кружками…
— Каково же, по вашему мнению, должно быть credo военного человека? ― поставил однажды вопрос ребром некий ярый сторонник Учредительного Собрания.
— Да! это было бы любопытно услышать! ― поддержал другой, не признававший ничего, кроме «самодержавия, православия и народности».
— Мне кажется, что это credo блестяще формулировано более полутора веков тому назад одним не военным, но и не глупым человеком…
— Кем это?
— Остерманом. ― Помните, как его разбудили ночью и предложили роковой вопрос: «Какому императору вы служите?» ― а он с глубоким убеждением ответил: «Ныне благополучно царствующему».
С той поры в глазах представителей обоих течений я был одинаково… (право, затрудняюсь подобрать слово помягче, а записанное в дневнике приводить неудобно).
— И вы, забывая долг перед Родиной, готовы служить старому режиму? Защищать правительство, приведшее Россию к позору? ― восклицали одни.
— Так, значит, если при возвращении в Петербург окажется, что там заседает Конвент, вы и Конвенту служить готовы? ― возмущались другие.
Старая, чисто русская повадка. Совсем как во времена раскола, когда никто и никому не задавал основного вопроса: «Веруешь ли в силу крестного знамения?» ― но предавали друг друга анафеме и даже на кострах жгли за то, «как» кто крестится ― двумя перстами или тремя…
Впрочем, все это было… временное, преходящее, ― угар новизны, от которого большинство скоро опамятовалось, и по возвращении в Россию былые революционеры оставили мечту об Учредительном Собрании, а ярые черносотенцы вполне примирились с наличием Государственной Думы. В иных случаях метаморфоза пошла даже так далеко (опять-таки свойство нашей натуры), что вчерашние красные превратились в охранителей, а бывшие абсолютисты мечтают о министерстве, ответственном перед Государственной Думой… И все ― служат…
Я счел себя вправе пропустить эти страницы, чтобы не ставить в несколько неловкое положение тех, чьи тогдашние мнения и отзывы были мною тогда же записаны.
Было нечто другое, несравненно более серьезное, тревожное и даже обидное, о чем умолчать не могу, но об этом речь впереди.
Глава IX После ратификации мирного договора. — Наши японофилы. — Несостоявшийся обед. — Генерал Данилов и члены его комиссии. — Холода. — Последний день в плену. — Освобождение. — Вновь открывшаяся рана на левой ноге
Пятого октября. — Сегодня в газетах официально объявлено о состоявшейся ратификации мирного договора. Нам сообщено, что отныне караул при храме остается лишь для охраны «бывших» военнопленных от возможных покушений со стороны невежественных масс, недовольных условиями мира, что мы совершенно свободны, но в случае какой-нибудь дальней поездки (за город) просят предупреждать, чтобы администрация, ответственная за нашу безопасность, могла принять необходимые меры. Наш (японский) поручик явился ко мне с ликующим видом и вручил кусочек картона (вроде визитной карточки большого формата), на котором было по японски написано, что такому-то (мое имя и звание) предоставляется посещать все места, какие ему заблагорассудится; дальше следовали — подпись и печать. Словом — нечто вроде удостоверения личности. Поблагодарил и в тот же день хотел воспользоваться своим правом, но тотчас убедился, что высшее начальство (намеренно или ненамеренно — не знаю) в чем-то недораспорядилось. Оказалось, что карточку, с таким торжеством поднесенную мне поручиком, нужно при уходе предъявлять жандармскому унтер-офицеру и ему же сообщать, в котором часу вы вернетесь. Если час этот был после захода солнца, то следовало получить разрешение, якобы от начальника гарнизона, на деле же, конечно, не от него, а по передоверию от майора, поручика и в результате — от того же жандармского унтер-офицера, который пускался в расспросы: почему вы желаете вернуться в таком-то часу, где вы намерены проводить время и т. д.
Разумеется, от предположенной прогулки я отказался, вызвал поручика и возвратил ему карточку, пояснив, что по нашим обычаям штаб-офицеру непристойно испрашивать у нижнего чина разрешения возвратиться в желаемый срок с риском получить отказ в зависимости от его усмотрения. Подобные случаи действительно имели место в тот же день: «Вы почему хотите вернуться в 10 часов?» — спрашивает жандарм. «Собираюсь пообедать в отеле, сыграть на бильярде…» — отвечает необидчивый россиянин. «Успеете и до 9 часов! Я так и запишу!»
«6 октября. — Какими способами вытравлено из этих людей — не скажу, чувство собственного достоинства, это слишком высоко, а просто — самолюбие! Кажется, все забыли и готовы брататься с японцами… Гадость!.. В самом деле, возьмем живой, наглядный пример (это — в объяснение «гадости»). Не говоря уже про первое время после франко-прусской войны, но даже теперь, 35 лет спустя, француз (особенно военный) только по нужде заглянет в Германию. Ему неловко. Он боится, что любой встречный может взглянуть на него и подумать: «Вот побежденный…» И как он может реагировать на это?.. А наши?.. Нет! видимо, я родился либо слишком рано, либо слишком поздно…
С милостивого соизволения японского жандарма наши бегают по городу и по возвращении домой с восторгом рассказывают, как мальчишки (такие бойкие) показывали им языки и кричали: «Сей-ио-дзин!» (западный человек), как в японском ресторане (конечно, за деньги) их принимали и учили есть палочками, как они (превозмогая отвращение) ели сырую рыбу, чтобы не шокировать сотрапезников, находивших её восхитительной… Они как будто забыли (а может быть, и никогда не сознавали?), что поражение — это обида, которую можно смыть только победой! Забыли святую месть, которую должны были бы носить в сердце, в жажде которой надо воспитать грядущее поколение! Забыли позорный разгром Родины, а может быть… и ее — Родину?.. — Россия!.. — неужели это слово утратило для них свой смысл?..
«С нами Бог!» Да вправе ли мы еще носить этот гордый девиз? Не скажет ли всякий европеец, увидев русского офицера, ласкающегося к японцу: «Бог с вами!»
Рухнула веками сложившаяся слава о непобедимости России… И как воскресить ее?.. Ведь катаклизм нужен! — не война, а уничтожение царств и народов, — чтобы восстановить утраченное обаяние!..»
«7 октября. — Сегодня был Окамэ и в торжественной речи сообщил о ратификации мирного договора. Подозреваю, что хотя свои речи он читает по бумажке, но сочиняет их сам. На заказ было бы лучше.
Дождь как из ведра. Уже три дня, как наступил праздник «принесения в храм первых спелых колосьев», но рис стоит зеленый, о жатве и думать нечего. — Все-таки утешение. (Не стыжусь злорадства.)»
«8 октября. — Не могу оторваться от старой темы. Вчера Z ездил в Осака и вернулся ночью, не имея на то разрешения (уехал случайно, с компанией). Сегодня утром, когда над ним подтрунивали, пугая возмездием, очень храбрился, говорил, что мир заключен, что он свободный человек и в случае чего сумеет постоять за себя, а в одиннадцать часов утра, узнав, что, несмотря на дружбу с жандармами, его позднее возвращение занесено в книгу, прямо… пресмыкался перед японским поручиком! Гулял с ним под ручку, звал куда-то обедать… Тот поначалу ломался, но потом дал себя уговорить и обещал не доносить».
«9 октября. — Ночью в моей комнате было 8 градусов R. Это, положительно, не много».
«10 октября. — Французский посланник телеграфирует, что вчера генерал Данилов, председатель комиссии для приема военнопленных, вышел из Владивостока в Нагасаки (на «Богатыре»)».
«12 октября. — Последние дни в плену — самые томительные. Холод. К черту всякие записи!»
«14 октября. — Сегодня приходил к адмиралу майор с высокодипломатическим поручением: сообщил, что начальник дивизии и прочие начальствующие лица предполагают устроить нам («бывшим» военнопленным) прощальный обед. Адмирал, конечно, благодарил, но по существу ответил, что подобное приглашение делается, несомненно, с ведома и одобрения высшего японского начальства, между тем как мы лишены возможности своевременно получить санкцию нашего правительства на его принятие, а потому лучше было бы этого вопроса не возбуждать вовсе. Отказ, но в такой форме, что майору оставалось только благодарить.
Опять ставлю аналогию: после франко-прусской войны мог бы затеять нечто подобное какой-нибудь немецкий генерал, стерегший французских военнопленных? — Нет! — Ведь немцы не могли не относиться с уважением к своим врагам! Они побоялись бы подобным предложением поставить в неловкое положение и себя, и французов… Почему же рискнули японцы? По наивности? Ну, это вряд ли… Просто потому, что они нас не уважают… И не без оснований! Сами даем тому достаточно поводов! Уж я не говорю про Z или X, которые готовы восхищаться простым поленом, единственно потому, что оно — «настоящее японское»… Это — психопаты!.. Но вот сегодня (недавно) прохожу мимо канцелярии и вижу такую сценку: три японских солдата (один из них унтер-офицер, говорящий по-русски) и русский штаб-офицер сидят за столом, курят и дружно беседуют о достопримечательностях Киото, которые стоит посмотреть…
Пожалуй, что японцы вправе нас третировать…»
«15 октября. — Сегодня утром +7 градусов R!»
«16 октября. — Адмирал получил от французского посланника телеграмму, что флагманам с их штабами и капитанам кораблей разрешено возвращаться «по способности».
«17 октября. — Адмирал решительно не хочет возвращаться кружным путем на иностранном пароходе. На Стесселя не похож. Телеграфировал Данилову свою просьбу: разрешить ему отправиться во Владивосток на «Воронеже», который выйдет из Японии одним из первых. Я его вполне понимаю.
(Характерная черта: генерал Данилов не только не навестил адмирала проездом через Киото, не только не прислал кого-нибудь из многочисленных членов своей комиссии лично переговорить с ним, но даже не удостоил его ни одним словом ни почтой, ни телеграфом.)
'Не хочется верить газетам: так скверно пишут о положении дел в России».
«18 октября. — Убедил NN, как старшего (не считая адмирала) из обитателей храма, вступиться перед японским начальством за нашу молодежь, над которой японские жандармы «на отдачу» прямо-таки глумятся».
19 и 20 октября — те страницы, которые я решил пропускать.
«21 октября. — Видимо, японцы, несмотря на вежливое, но категорическое предупреждение со стороны адмирала, все же решили попробовать устроить обед. И не без оснований. Правда, большинство (не только у нас, но и в других местах заключения) ответило благодарностью и учтивым отказом, мотивированным соображениями, уже ранее высказанными адмиралом; но нашлись и такие, которые его приняли… И знаете почему? Чтобы засвидетельствовать свое свободомыслие, показать, что они «не идут в поводу» у адмирала! На этих можно было хоть сердиться, но зато по адресу наших психопатов-японофилов оставалось только развести руками: они чуть не плакали при мысли, что может расстроиться «настоящий» японский обед с гейшами!.. От души злорадствовал (и до сих пор не раскаиваюсь в этом чувстве), когда получено было уведомление, что за малым числом лиц, принявших приглашение, обед, к величайшему прискорбию начальника гарнизона, состояться не может».
«22 октября. — Тоска. Ничего и ниоткуда. Уныло шумит осенний ветер; блеклые листья кружатся в воздухе и бьются о бумажные стены; нелепо мотаются полуобнаженные деревья; пруд — мусорный, грязный… не пруд, а лужа… рыбы попрятались в глубину… А на душе так скверно… Кабы тоже спрятаться куда-нибудь… да поглубже! с головой спрятаться!..»
«23 октября. — В 8 ч. утра +6 градусов R. Руки мерзнут. Вернулся из Токио мичман, князь Г., которого снаряжали туда на разведку. Рассказывает такие анекдоты, что не решаешься верить. Почему-то (пути Божий неисповедимы) председателем комиссии для приема военнопленных назначили бравого генерала Данилова, прямо с позиции, откуда он грозил врагу. Генерал осведомился: что ему делать в Японии? Ответили: французский посланник вас научит, а вы первым делом выберите себе шесть штаб-офицеров в качестве членов комиссии, адъютанта, письмоводителя и штат писарей. Сказано — сделано. Сели на «Богатырь» и поехали. На всякий случай начальство зачислило в комиссию и командира «Богатыря», но он оказался бойкотированным, так как был склонен «миндальничать» и прямо надоел разговорами о том, что и как «принято» в международных сношениях. По прибытии в Нагасаки его там и оставили (под благовидным предлогом), а сами проследовали в Токио. В Токио — новое затруднение: и сам генерал, и его адъютант, и члены комиссии знали на иностранных языках только «комнатные и закусочные слова», и когда японцы пытались вступить с ними в сношения на французском или английском диалекте, то они категорически утверждали, что «по-японски» не понимают… Даже для переписки с французским посланником пришлось нанять… японца-переводчика!.. За завтраком во французской миссии, на который попал наш мичман, он оказался в роли драгомана и даже не мог не слышать, как генерал подбадривал своего адъютанта, приказывая ему не упускать случая и «через своего» выспросить все, что нужно… Armand писал адмиралу, что ожидает прибытия комиссии, председатель которой будет снабжен необходимыми инструкциями и полномочиями, а этот председатель спрашивает его же, «где и сколько пленных? как их будут эвакуировать? сообщите мне инструкции…» В результате японцы взяли инициативу на себя, а бравому генералу приходилось стараться только об одном: как бы суметь выполнить их предписания… При «безъязычии» и это не всегда удавалось…
О, милая Родина! узнаю тебя из моего печального далека. Неужто нельзя было найти одного генерала и десяток штаб-офицеров, говорящих на иностранных языках? Ведь сколько их было в действующей армии! Кому нужен был этот водевиль? Какая путаница, какая растерянность, какое отсутствие не только организации, но даже способности к организации! А ведь какой-то большой военный (не помню кто) сказал: «Организация есть мать победы».
От злости ложусь спать в 7-м часу вечера.
Черта с два! Немного проспишь при 4 градусов R! Проснулся от холода и пошел пить чай к адмиралу…»
«24 октября. — В 8 ч. утра +2 градуса R! Руки — как крюки (по пословице). Едва царапаю эти строки. Прошелся по храму. Картины вроде: «Французы после отступления из Москвы» или «Русские на Шипке». Скорчившись, завернувшись в одеяла, прикрывшись, чем можно, жмутся к хибачам (жаровни с горящими угольями).
Сегодня был Вирен. Почему-то — моя симпатия, хотя в Артуре он энергично настаивал, что, перебравшись со своими пушками на берег, мы принесем наибольшую пользу делу. Вспоминая бой при Шантунге (28 июля 1904 г.), я теперь, пожалуй, готов с ним согласиться… Разве настоящие моряки могли бы так проморгать выигранное сражение из-за того, что убит начальник эскадры, что флагманский броненосец вышел из строя?.. А если нет моряков, то разве можно надеяться на успешные действия в море?..
Адмирал, уже получивший «довольно хладное» разрешение Данилова идти во Владивосток на «Воронеже», — пригласил с собой Вирена. Тот, конечно, обрадовался, так как тоже вовсе не склонен быть в течение двух месяцев мишенью для кодаков и перьев досужих корреспондентов.
Полночь. — Холод собачий. В целях отопления сжег на сковороде целую бутылку спирта. Безуспешно».
«25 октября. — Проснулся в 7-м часу утра. Температура + 1,2 градуса R».
«26 октября. — Завел себе гигантский «хибач» (жаровню). Греет. Но насморк неистовый, и голова тяжелая. Какой-нибудь уголь, а все дает угар».
«27 октября. — Сегодня перепились вестовые и устроили скандал, завершившийся дракой. Действовать на них можно только словом убеждения, которое немногого стоит в их глазах, а японцы… они словно подчеркивают, что спиртные напитки «одинаково дозволены к употреблению всем живущим в храме, и если гг. офицеры…»
28 октября — пропускаю.
«29 октября. — Получено официальное уведомление, что в понедельник 31 октября (13 ноября) нас освобождают. Приезжал капитан «Воронежа» (старый знакомый), доложил адмиралу, что ждет его прибытия».
«30 октября. — Последний день в плену. Суета, сборы. Много народа приходило к адмиралу пожелать доброго пути. Были депутации от кают-компаний разных кораблей… «За совесть» или «за страх»? Дай Бог, чтобы первое.
Дорогая Родина! Тебе — привет!.. Как много пережито, передумано… Надо ли повторять?.. Ну, не смогли, даже не сумели… Что ж?.. Разве не хотели?., разве побоялись?., не пошли?.. А если только не сумели, то разве не заплатили за то своей кровью?.. Прими нас, чудом спасенных от верной гибели, и верь, что Тебе принадлежит каждое биение этого случайно не остановившегося сердца!.. Ведь это не я! не моя воля! — сама судьба сберегла меня, не дала мне погибнуть, как я мечтал… Не зря же?.. Для чего? Для службы Тебе! Нет у меня никакой другой мысли, никакого другого желания… Клятву, страшную клятву даю: Тебе — весь остаток моей жизни, все силы, всю кровь… Тебе — все!..
Во французской книжонке (для железнодорожного чтения) случайно наткнулся на фразу: «Mon Dieu! si je ne suis bon a rien, que je meurs!» — Вот справедливое желание, которого нельзя бы не уважить, если высшая справедливость вообще существует!.. А вот я — уцелел!.. В то время, как в башнях, в боевой рубке люди валились, как мухи, я, бродивший по палубе и мостикам, оставался невредимым… Три раза уничтожались те пожарные партии, которые работали под моим руководством, а меня — только ранило… Попался в плен — могли судить, казнить, как беглого с «Дианы» — сошло с рук… Неужели зря?.. Все — случай?..»
«31 октября. — Пришлось встать на заре. «Заря освобождения». И какая холодная! Все собрано и уложено. Поезд пойдет в 9 ч. 38 мин. утра.
Окамэ приходил прощаться и пожелать всякого благополучия. Затем еще раз прощался на станции, где собрались все начальствующие лица, до старшего бонзы и православного священника включительно. Поезд тронулся. По знаку генерала все японцы замахали фуражками и закричали: «ура!» Слава Богу! — кончилось! В Осака «исполнили приятный долг пожелать счастливого пути» начальник дивизии, генерал Ибараки, со штабом. — Мимо! Мимо! — В Кобэ, на станции, усмотрели генерала Данилова с его адъютантом (в чине капитана — фамилии не помню) и командира «Воронежа», явно руководившего действиями наших воителей, которые в японской толпе чувствовали себя как в лесу.
Не могу не отметить, что, как выяснилось, только вмешательство командира избавило нас от весьма неприятной процедуры. Генерал, всецело отдавшийся инициативе японцев, у которых «все так удивительно расписано», собирался «принимать» адмирала с его штабом так же, как нижних чинов, т. е. на пристани «счетом», при посадке на шлюпку, на глазах любопытной толпы. Командир «Воронежа» не без труда убедил его, что парад такого рода и неуместен, и даже не нужен, так как японцы вовсе на нем не настаивают…
* * *
«Слава Богу! Наконец-то снова на русской территории, под русским флагом! Хоть на коммерческом пароходе этого и не полагается («Добровольцы» носят коммерческий флаг), но все, вступая с трапа на палубу, снимали шляпы, как на военном корабле…»
«1 ноября. — Вчера вечером принял ванну. Спал, не боясь холода. Едва разбудили в 9 ч. утра. За день переезда (хотя ходьбы почти не было) большой палец на левой ноге сильно разболелся. Только что приехал на пароход, поспешил скинуть сапоги и надеть туфли. Сегодня по особому заказу привезли с берега ботинки на шнурках, так называемого американского образца, такого размера и с такими носами, что палец в согревающем компрессе помещается словно в особой каюте. Не жмет, и тепло.
Вечером. — Не могу не повторить старого замечания: в Киото, среди грязи и мелких притеснений, в холоде и голоде — было легче, чем здесь… Множество маленьких неприятностей там заслоняли главное… Теперь, когда схлынула радость первого момента освобождения и кругом так хорошо, так уютно, — опять зашевелились гнетущие мысли… Тяжело…
Хотя все пассажирские каюты битком набиты, пришлось принять еще одного пассажира — генерал-майора С. Приехал — и прямо к адмиралу: «Ради Бога, возьмите с собой, а то при даниловской комиссии не знаю, когда дождусь очереди!» — Адмирал ответил, что он здесь не хозяин, но так как командир уступил ему свою каюту, в которой, кроме койки, есть еще и диван, то он просит располагать им. До такого самопожертвования его, однако же, не допустили. Капитану пришла блестящая идея: он предложил мне переселиться в ординарную каюту, при обычных рейсах занимаемую горничной, а на мое место в двойной каюте водворить генерала. Я с радостью согласился. Правда, вместо шикарной кровати в моем новом обиталище была узенькая и очень короткая койка (должно быть, в «Д. Ф.» горничных выбирают исключительно малорослых), а в самой каюте с трудом можно было повернуться, но зато я был один. Огромное преимущество. Рана на левой ноге вскрылась и гноится. Пароходный доктор осмотрел и решил, что там есть что-нибудь лишнее — либо мелкий осколок снаряда, либо кусочек кости, которых недосмотрели. Резать теперь, в путевой обстановке, не советовал. Рекомендовал не утруждать, по два раза в день менять перевязку, «авось довезете до Петербурга, а там это — плевое дело». — Я, разумеется, согласился — уж очень было бы обидно с русского парохода снова отправиться в японский госпиталь».
«2 ноября. — Сегодня садились последние эшелоны команды и прибыли последние пассажиры — контр-адмирал Вирен со своим флаг-офицером.
В 3 ч. 30 мин. дня приехавший из Киото православный священник Симеон Мия (японец) служил напутственный молебен.
Приезжали проститься Martini (французский морской агент), французский консул в Кобэ и (даже!) генерал Д. со своим адъютантом.
Адмирал выглядит бодро, хотя от неудобств и неприятностей (за последнее время в Киото) сильно осунулся. Кожа да кости. Доктор говорит, что это — пустяки. Нервы железные. Ими так держится, что всех нас переживёт. Только бы они не сдали. Я с ним согласен. Если в Петербурге пустят к делу — оживёт и нарастит мяса. Сдадут в архив — не выдержит».
Глава X На «Воронеже». — Первые признаки брожения в эшелоне. — Вместо Владивостока — в Нагасаки. — Пропаганда среди военнопленных. — Беспорядки на пароходе. — Быстрое успокоение. — На «Якуте». -В виду родных берегов
Третьего ноября. — В поход собирались еще вчера вечером, но задержались из-за перепутавшихся якорных канатов. Ждал, ждал — не дождался, когда распутают, и пошел спать. Плохая примета. В 2 ч. 15 мин. по полуночи проснулся от шума винтов, выглянул в иллюминатор: разворачиваемся. В 2 ч. 20 мин. дали ход вперед, легли на курс. Дай Бог, в добрый час! Погода — тихо; яркая луна; слабая облачность.
Вечером. — Идем хорошо. Днем дул довольно свежий N0. Было холодновато. Теперь стихло и потеплело. Едим и спим, как давно уже не приходилось.
Во время ужина среди эшелона — шум по поводу недоброкачественной пищи. Кто-то, взобравшись на крышку фор-люка, держал зажигательную речь. Тема: «господа» только и делают, что обворовывают мужика, пот и кровь которого ценятся дешевле… (опускаю выражения, неудобные в печати). С истинным удовлетворением считаю долгом отметить, что капитан «Воронежа» оказался на высоте положения. Прямо пошел в толпу, просил не кричать всех разом, а сказать толком, в чем дело. Говорят: — Каша затхлая! — Но ведь принимали ее ваши же, выборные артельщики? Чего ж они не смотрели? — Пока не сварена, сырую-то не унюхаешь! — Ну, если уж артельщики не могли унюхать, так я-то как же бы догадался? Вареную пробовал и вижу, что затхлая, не годится. Сварим новый ужин. А зачем же скандал устраивать? На мне еще меньше ответа, чем на артельщиках. — Дальше следовали пояснения, глубоко убедительные для нижних чинов, но малопонятные для читателей, незнакомых с морским жаргоном.
«Так! Правильно! Вот так загнул!» — слышались кругом одобрительные восклицания.
На первый раз — сорвалось. Спокойствие восстановилось. Надолго ли?..
Вожаки не считают своего дела проигранным. Унтер-офицер какого-то железнодорожного батальона, пришедший на мостик в качестве уполномоченного, поговорить с капитаном от лица «всех» не только о событиях текущего момента, но и «вообще», среди разных вопросов поставил такой: «На содержание солдата в год полагается 600 рублей, а тратят на него всего 50. Кто же крадет остальные 550?» Видимо, повторяет что-то хорошо заученное, сам не давая себе отчета в том, что говорит, приняв на веру. Я не утерпел и вмешался. Спросил: знает ли он арифметику? — Даже обиделся. — Ну, так вот: мирный состав армии у нас больше миллиона, а значит, если на одно содержание солдата положено 600 рублей в год, то уж это составит 600 миллионов. А крепости? казармы? лошади? боевые припасы? Не меньше этого. Всего выйдет миллиарда полтора! Разве же столько расходует Военное министерство? Знаешь бюджет его? — Унтер-офицер несколько смутился, поспешил кончить разговор и уйти, но не сдался. Я слышал, как, спускаясь по трапу к ожидавшей его группе товарищей, он громко ворчал: «Знаем мы эти цифры! ими как хочешь играть можно!..»
«В 9 ч. 5 мин. вечера стали на якорь при входе в Симоносекский пролив. Лоцман не брался вести ночью.
Полночь. — По внешности все тихо. Говорят, что в трюмах происходят митинги, выносятся резолюции. У капитанской каюты (где поселился адмирал) устроили вахту из наших, «суворовских» матросов. К сожалению — безоружные. На пароходе — 56 офицеров, но на всех только 5 револьверов. Немногие (в том числе я) воспользовались правом приобрести их в момент официального освобождения из плена. Так приятно нащупывать в кармане, хоть плохенький, «Смит и Вессон» и сознавать, что в случае чего… ни палкой не пришибут, ни за борт не выбросят, попросту взявши за шиворот…
В пароходную кают-компанию подкинуто письмо: «Дайте выйти в море — все начальство будет за бортом» и т. д… Конечно, глупо. Такими вещами не грозят, а прямо их делают. Однако не слишком приятно в смысле характеристики настроения».
«4 ноября. — Около 3 ч. ночи (вахтенный недоглядел или просто заснул) в каюту к адмиралу ворвался пьяный солдат, требовавший, чтобы немедленно было приказано выдать им водки. «Мы кровь проливали (так-вас-растак). Должны чувствовать и уважать! Опять же — свобода!..» Адмирал лежал перед ним на койке, совершенно беззащитный. По счастью, вахтенный услышал шум; прибежали люди, нахала вывели, но… арестовать его не могли: он немедленно скрылся в полупьяной толпе, поджидавшей его на баке.
Утром, только начали сниматься с якоря, подошел японский военный катер и передал капитану секретное распоряжение: задержать пароход, так как во Владивостоке военный бунт… В 10 ч. утра перешли в Модзи и здесь стали, подняв карантинный флаг. Официальной причиной задержки объявлена «неблагополучность по чуме порта нашего отбытия». Действительно, в Осака было два, а в Кобэ — один случай чумы, занесенной из Гонконга. Однако же благодаря сношениям с берегом (через торговцев, приезжавших на шлюпках) массы очень быстро осведомились об истине. Брожение увеличивается.
В 1 ч. дня. «Ярославль» (вышедший из Кобэ немного раньше нас и здесь же задержанный) ушел в Нагасаки.
Около 4 ч. «Воронеж» пошел туда же».
Вынужден сказать несколько слов по поводу отдельных заметок, разбросанных в моем дневнике. Дело касается всячески покровительствовавшейся японцами революционной пропаганды в среде военнопленных нижних чинов. Насколько была затруднена и обставлена массой формальностей частная их корреспонденция и вообще всякие непосредственные сношения с Родиной, с ближайшими начальниками (находившимися часто в том же городе) и даже с нижними чинами, содержавшимися в соседнем лагере, настолько широко открыты были двери бараков для ввоза брошюр и книг, издававшихся разными «комитетами» в Америке и в самой Японии, а проповедники революционных (правильнее было бы сказать — анархических) идей не нуждались ни в содействии французской миссии, ни в особых разрешениях Военного министерства для свободного входа в лагери военнопленных. И литература, и сами проповедники были для японцев желанными гостями. Кое-какие из этих книг и брошюр мне пришлось держать в руках: «Организация масс при народных восстаниях», «Бой на улицах», «Типы баррикад против наступления пехоты и кавалерии», «Как действовать, если тираны имеют в своем распоряжении артиллерию» и т. д. Позже (во Владивостоке) мы увидели на живом примере, как толковались серым массам принципы, изложенные в манифесте 17 октября.
Деятельность японцев в этом направлении (вернее, — их открытое покровительство проповедникам анархии) сказывалась так ярко, что даже французский посланник, несмотря на всю нелюбовь дипломатов к «историям», счел себя вынужденным «войти с известными представлениями»… Ответ, им полученный (напечатанный в японских газетах), был неподражаем по своей откровенности, чтобы не сказать — цинизму: «Наше правило — вреди врагу, чем можешь». Так выразился военный министр Японии…
* * *
В составе эшелона оказалось несколько музыкантов, сорганизовавшихся в оркестр (конечно, не Бог весть какой). Этот оркестр в первые дни принял за обычай разыгрывать свои марши, польки, вальсы и галопы под окнами капитанской рубки в то время, как там завтракали. Адмирал благодарил их за доброхотный труд и приказывал (за свой личный счет) выставлять угощение. Артисты принимали не без гордости, как должное. Неожиданно возникла агитация: музыкантов упрекали, что они «рады подачке», что их «холопское» прислужничество — измена «свободному пролетариату» и т. п. В результате сегодня музыки за завтраком не было, а по окончании его оркестр собрался на носу парохода и в течение двух часов играл «Марсельезу» и «Карманьолу».
Что-то будет дальше?..
Невольно вспомнилось, как я спорил с нашим (суворовским) иеромонахом, о. Назарием, доказывая, что на военном корабле нельзя возглашать прошения о «христианской кончине живота нашего безболезненной, непостыдной, мирной», что для людей, идущих на смерть, из всех трех слов надо оставить только одно — «непостыдной»… А вот теперь — чего уж постыднее?., если от своих же!..»
«5 ноября. — Судовая команда (надежный народ) стоит повахтенно (на две смены). В помощь им организовали свою вахту: два офицера и один матрос («суворовский»: остальные — кто им в душу влезет?) держат караул около рубки, занимаемой адмиралом. Еще четыре офицера распределены по верхней палубе… Револьверы передают из рук в руки. На пароходе имеются упакованные в ящик 13 винтовок и патроны к ним, да на беду хранятся они в помещении, куда ход через жилой трюм. Попытка достать их может вызвать взрыв. В 3 часа ночи вступил в свою очередь на вахту. Хорошо знакомые места. Капитан держит почти вплотную к островам и скалам, чтобы в случае открытого бунта тотчас выброситься на берег. Правильно. Чтобы показать себя «на высоте», японцы преступников не помилуют, хотя бы и сами были провокаторами. Вступив на вахту, узнал, что около 2 ч. ночи в первом кормовом трюме состоялся митинг. Около 3 ч. ночи начали расходиться. Отдельные кучки бродили на палубе. Видимо, заметили, что на полуюте, спардеке и полубаке — нечто вроде караула. Как будто смутились, стали прятаться. (Очевидно, не подозревают, что мы почти безоружны.)
Около 6 ч. утра пришли в Нагасаки. — Приехал командир «Богатыря». Рассказал мало хорошего. Во Владивостоке — бессмысленный, пьяный бунт. Тут же, на рейде — «Монголия» и какой-то норвежский пароход, доставившие беглецов, спасающихся от пугачевщины…
Судовая команда сообщает, что на пароходе бережно хранится красное знамя, которому сбитые с толку люди присягали в Хамадере…
5 ч. вечера. — Положение все обостряется. Утром старший механик, пользуясь стоянкой, хотел послать на завод для исправления поршень так называемой «санитарной» помпы (помпа для прокачивания резервуаров необходимых удобств). Ему этого не позволили раньше, чем не осмотрит и не даст своего заключения «распорядительный комитет». Опасались, не отсылает ли он на завод такую часть машины, без которой нельзя будет выйти в море. Посмотрели и разрешили. В составе эшелона имеется 30 казаков (кажется, Забайкальского войска), взятых вместе с их офицером С.-М. От них он получил предупреждение, что сегодня на сходке (в 12 ч. дня) решено: если завтра до вечера не выйдем из Нагасаки, то выбросить за борт обоих адмиралов и всех, кто заодно с ними, овладеть пароходом, а дальше — видно будет…
Только что предъявлено и прямое требование, через «исполнительный комитет»: «Завтра же идти во Владивосток! Не то — пойдут сами!»
Казаки не решаются выступать с открытым протестом. Говорят, что их слишком мало. Курьезное предложение со стороны шести осетин (из дагестанской бригады): просят купить им японские кинжалы и обещают «много народу башка рез-бить и кишки пускать, раньше чем адмирал кончал». — Стоит ли? Велико ли подкрепление — шесть человек — против толпы в 2 1/2 тысячи, из которой (по сведениям тех же казаков) около сотни с револьверами, а добрая половина вооружена охотничьими ножами?
9 ч. вечера. — После ужина, несмотря на темноту и ненастную погоду (сыплет мелкий дождь), верхняя палуба полна народу. На баке оркестр без перерыва играет «Марсельезу»; ораторы держат речи. На шканцах довольно стройный, большой хор поет: «Вставай, подымайся, рабочий народ…» В нашем владении спардек и полуют, соединенные продольным мостиком (полубак пришлось очистить, чтобы не разбрасывать сил). Судовая команда с нами. Их обвиняют в том, что они показали себя «холопами тиранов», и грозят одинаковой с нами участью. У меня (от ненастья, что ли?) жестоко разболелась нога. Впрочем, гулять много не приходится. — Чего они ждут, если решились? — Между тем капитан дал знать на берег о происходящем на пароходе. — Только что прибыл полицеймейстер. Сообщил, что в Нагасаки войск нет. Губернатор спешно вызвал их из лагеря. Прибудут завтра к 10 ч. утра. В Сасебо телеграфировано о присылке военного судна. Пока что мобилизована вся полиция, скоро прибудет двумя эшелонами. — «Много ли?» — осведомился адмирал. «Около 70 человек, которые займут спардек, и в рубку (к месту, где сосредоточено все управление пароходом) мятежники пройдут только через их трупы!» — категорически заявил японец.
В 11-м часу вечера полицейские прибыли и как-то незаметно, без шума, не привлекая ничьего внимания, оказались хозяевами спардека. По-видимому, наши, понаслушавшись всякого вздора в Хамадере, полагали, что японские власти не только не примут меры против них, но даже готовы будут оказать им содействие, и вдруг — такой неожиданный оборот… Эффект получился чрезвычайный. Музыка, песни — мгновенно прекратились; верхняя палуба опустела; судовая команда не встречала ни малейшего препятствия в исполнении своих обязанностей. (До того — машинисты были выгнаны из машины, и даже на станции электрического освещения были поставлены «свои».) Передавали, однако же, что в трюмах, куда японцы при своей малочисленности проникнуть не решались, идут горячие дебаты и призыв к оружию, но… безуспешно».
«6 ноября. — Около 1 ч. 30 мин. пополуночи пришел флаг-капитан, сильно взволнованный, и пригласил пройти на полуют, обещая показать нечто весьма интересное. Действительно, любопытно. С кормы спущены в воду три конца, а неподалеку держатся японские шлюпки (яличники). Флаг-капитан утверждает, что видел, как спускали концы и подзывали шлюпки наши офицеры… Какой вздор! Теперь, когда «бунтовщики» попрятались в трюмы при виде нескольких десятков вооруженных полицейских, когда можно спать вполне спокойно! Неужели?.. Но нет, этому я не хочу верить.
Ночь прошла в полном спокойствии, а утром — пятерых недосчитались… Досадно записывать, но «из песни слова не выкинешь»… В 11 V2 ч. утра пришли из Сасебо четыре японских миноносца и с откинутыми крышками минных аппаратов начали крейсировать кругом парохода. Эшелон совсем присмирел. Стали появляться уполномоченные, заверявшие капитана, что все это «по глупости», из-за кучки «отчаянных, которые чего-чего не болтали»… Вообще пошла гадость, от участия в которой я благодаря Бога был избавлен».
«7 ноября. — Хоть и записано довольно много, но вспоминать не стоит».
«8 ноября. — В 10 '/2 ч. утра прибыл на пароход генерал Д. и чуть было не испортил всей обедни. Вызвал по одному человеку от каждой части, входившей в состав эшелона, уединился с ними на полуют, увещевал их в течение четырех часов и под конец предложил поклясться, что они больше бунтовать не будут. Предложил также выдать зачинщиков, но получил стереотипный ответ: «Зачинщиков нет. Сообща действовали». — Решив, что своей четырехчасовой беседой вполне переубедил людей, которые в течение одиннадцати месяцев находились под влиянием опытных агитаторов, генерал объявил, что теперь все благополучно и можно идти во Владивосток, но наткнулся на протест судового состава. Капитан парохода почтительнейше доложил ему, что не только он и его офицеры, но и команда отказываются идти в море с эшелоном, грозившим выбросить их за борт, так как помешать осуществлению такого намерения они средств не имеют. — Гром и молния! — И под суд, и отрешить от командования, и телеграмма в Петербург, и еще что-то!.. Насилу-то командиру «Богатыря» удалось ему разъяснить, что на «Воронеже» личный состав служит по вольному найму, а бунт эшелона при отсутствии средств к его подавлению — это force majeure, дающая право нарушить всякий контракт. — В результате решили этот эшелон раскассировать на «Тамбов» и на «Киев», а «Воронежу» дать другой. Тут генеральская мысль дала новый оборот. Выходило (и это было высказано достаточно недвусмысленно), что все беспорядки произошли от присутствия на пароходе двух адмиралов, почему им и было предложено, во избежание дальнейших недоразумений, идти на транспорте «Якут», который послезавтра уходит во Владивосток. (Это был первый случай, когда со стороны представителей официальной России мы встретили такое, почти враждебное, отношение. Должно быть, здесь были хорошо осведомлены, какой ветер дует в Петербурге.)»
«9 ноября. — Заканчивали пересадку эшелона на «Киев» и на «Тамбов».
«10 ноября. — Перебрались на «Якут» — оба адмирала, штаб и не покидающий нас генерал С. Про этого можно сказать, что свою боевую карьеру он закончил быстро. Прибыл в армию перед самым Мукденом, назначенный командиром бригады, но, не успев вступить в командование ею и даже не видав ее, попал в плен.
В полдень снялись с якоря.
Вышли из Нагасаки при великолепной погоде, но к вечеру задул N; «Якут» (всего 730 тонн) начал изрядно поклевывать».
«11 ноября. — К утру засвежело. Из-за перебоя пришлось убавить число оборотов. Весь день ползли по пяти узлов. Качка отвратительная. Удары в подзор, словно пушечные выстрелы. В кают-компании сидеть невозможно: сбрасывает с дивана. К ночи — легче».
«12 ноября. — Погода поправилась. Прибавили ходу. Даже генерал, лежавший пластом, воскрес, бодр, весел, острит… Странное дело: ведь вот он нисколько не угнетен тем, что возвращается из плена, и всецело занят догадками — найдется ли для него вакантная бригада, или придется ждать очереди? Почему же меня так мучит неотвязная мысль…
К вечеру вовсе стихло. Даже зыбь улеглась. Д. сел за пианино. Старый, расстроенный и совсем разбитый инструмент, но как отрадно звучат эти давно не слышанные мотивы любимых опер… Словно лед тает на сердце… А хорошо было бы умереть под такую тихую, нежную музыку… заснуть и не проснуться больше…»
«13 ноября. — Чуть рассвело — увидели вершину Туманной горы. Пасмурно. Временами моросит дождь.
Сегодня воскресенье. Была обедница. Должно быть, все молились от сердца — так выглядели после… И радостно, и как-то жутко… Слева и по носу русский берег… Еще несколько десятков миль — русский порт…
12 ч. 20 мин. дня. — Все знакомые места: налево чернеет мыс Брюса, направо — острова Дурново, Гильдебрандта… Привет тебе, Родина! Привет тебе, Россия!..»
Глава XI Во Владивостоке. — Рассказы очевидцев о беспорядках. — Настроение при встрече. — Отъезд. — У Линевича и Куропаткина. — Манифестация со стороны эвакуируемых раненых. — Забайкальская дорога накануне забастовки. — Чита. — Кругом Байкала. — Иркутские впечатления
Четырнадцатое ноября. — Вчера в 4 ч. дня стали на якорь в бухте Золотой Рог. На рейде — «Жемчуг», «Алеут», «Терек», несколько миноносцев и несколько каких-то незнакомых пароходов под военным флагом… все, что осталось от русского флота… На берегу — обгорелые здания офицерских флигелей, закопченные колонны печных труб на месте морского собрания (а какая там была библиотека!) — развалины, пожарища…
На транспорте «Алеут» держит свой флаг контр-адмирал Греве (командир порта). Оттуда поздравить с благополучным приходом приехал капитан 2-го ранга А. — «Командир флагманского корабля — c'est moil» — попробовал сострить он, суетливо здороваясь и торопясь пройти к адмиралу. Но шутка не вышла, и всем (да и ему, кажется) стало как-то жутко… Потом приехал Греве, наскоро выполнил церемониал и обоих адмиралов увез к себе на берег.
Сегодня, с утра — туман, как молоко. Кое-кто заезжал на транспорт. Рассказывали о недавних событиях. Старательно оценивая и сравнивая между собой эти повествования, я пришел к заключению, что, собственно, «бунта» в первые дни погрома и пожаров не было, а был лишь пьяный разгул, который растерявшееся и плохо осведомленное начальство не сумело прекратить вовремя, дало ему разрастись до лозунгов: «Море по колено» и «Пропадай, моя телега, все четыре колеса!..» Чего-то ждали, чего-то опасались. Выслали войска для охраны казенных зданий и учреждений, но со строгим наказом: «Только охранять». Вот картина с натуры. Стоит полурота и охраняет дом военного губернатора. На улице — толпа так называемого «портового сброда». Напротив — двухэтажный дом, в нижнем этаже которого — гастрономический магазин и винный погреб, а в верхнем — ресторан и кондитерская. Толпа бурлит, но, видимо, не решается предпринять что-либо. Всякое движение в сторону губернаторского дома само собой падает, даже не добегает до серой стены людей, у которых в сумках боевые патроны. А в другую сторону — как будто вовсе свободно… Впрочем, может быть… Чего им? они сами казенные! А если попробовать? — Тяжелый булыжник летит в зеркальное окно магазина, и в тот же момент вся толпа кидается врассыпную… но серая стена стоит, не шелохнется, только смущенно переговариваются между собой офицеры, и куда-то (верно, к телефону) бегают рассыльные… Рассеявшаяся толпа вновь собирается. Она еще не верит, что «можно». Второе окно разбито — тоже никакой помехи. Еще и еще… «Вали, ребята!» Восторг разрушения овладевает массой. Бьют стекла, режутся об них, ломясь в окна, хотя давно уже выломаны двери и входы открыты… грабят… не столько грабят, сколько уничтожают… Откуда-то повалил дым, блеснули языки пламени… Еще неудержимее становится напор «снаружи» тех, кто еще не успел «дорваться» и боится, как бы не опоздать… Два течения сталкиваются; происходит свалка; есть уже изувеченные, обгоревшие… А серая стена все стоит, не шелохнется… Пьяные (не столько от вина, сколько от атмосферы безудержного грабежа) плотнее и плотнее придвигаются к этой стене… Бутылки, вытащенные из погребов, дорогие закуски — дружелюбно суются в молчаливые ряды, и правильность их нарушается… Вот один, вот другой, словно нечаянно, увлекаются бушующей толпой… Грозная сила тает, колеблется… Но тщетно офицер просит (по телефону) разрешения: либо прекратить безобразие, либо увести своих людей, от которых скоро останется ничтожная горсть. Ему приказывают… «в-точности следовать полученным инструкциям»… Так мне рассказывали. Сам я этого не видел. Рассказывали даже, что на Алеутской улице один подпоручик со взводом солдат не допустил грабежа, превысив полномочия, и его тотчас же убрали с поста, чуть ли не под арест… К вечеру город горел во многих местах, а пьяная толпа, с которой смешалась масса солдат и матросов, жгла и громила часто стихийно, потому что «разошлась рука»… Местные жители (из числа не поддавшихся панике) категорически утверждали, что, конечно, не какие-то несколько сот казаков, вступив в город на третий день беспорядков, водворили спокойствие, а просто — сами опомнились: первый день — перепились, на второй — опохмелялись остатками, а потом — проспались. Настоящее «брожение» в гарнизоне проявилось позже, именно при воспоминании о том, как можно «погулять», как можно «прижать начальство». Именно на этой почве и могли затеять свой нелепый, но «настоящий» бунт артурцы, вернувшиеся из плена достаточно распропагандированными. Если первая вспышка во Владивостоке была не случайной, но возникла под чьим-нибудь руководством, то руководителям нельзя отказать в патенте на… несообразительность. Им следовало бы обождать прибытия из Японии «Ярославля», «Воронежа», «Киева» и «Тамбова» с несколькими тысячами людей, искренне веровавших в возможность создания Уссурийской республики».
«15 ноября. — Ездил на берег: необходимо закупить что-нибудь теплое на дорогу. Странное зрелище: пожарища, разгромленные магазины, но город полон жизни. Общее впечатление такое, словно не хотят замечать следов недавнего… дебоша. И впрямь — очень уж было глупо: есть чего стыдиться».
«16 ноября. — Дует холодный NW (по здешнему — Суй-фун), а на сердце — потеплело. Здесь, во Владивостоке, много артурцев, которые избежали плена, прорвавшись (перед сдачей крепости) в Чифу. Здешние — сами себе ждали артурской участи, если война затянется. Отношение к нам совсем не то, что со стороны Д. и его свиты. Прямо не говорят (неловко было бы), но чувствуется по их радушию, по сдержанному участию, с которым расспрашивают о пережитом… Особенно я понял и оценил это настроение, когда один старый приятель, товарищ по выпуску, едва не сокрушив меня в своих объятиях (ему еще в морском училище говорили: «Серега! не доказывай своих чувств!»), заявил: «Что, брат, нарвался?.. Занесло в Сайгон — и сидел бы! Попёр-таки! Да, что говорить, я бы, может, таким же дураком оказался, как ты!..»
И все с одинаковым интересом, почти назойливо допрашивают: «Что адмирал? Как адмирал?» Скажу без преувеличения — все полны надеждой, что «он», единственный из всего списка адмиралов, во всей полноте видевший и переживший крестный путь нашей эскадры от Либавы до Цусимы, чудом спасен с погибшего «Суворова» для того лишь, чтобы смелой рукой человека, все переиспытавшего, возродить наш флот. Не бутафорию, которую мы считали флотом, но флот, настоящий флот… И не только «наши» так думают, но и сухопутные…»
«17 ноября. — В 10 ч. 45 мин. утра выехали из Владивостока. Несмотря на полное отсутствие какой-либо официальности, была толпа провожающих. Пришли, не заботясь о форме одежды; просто узнали, что «он уезжает», и заторопились. Вышло очень сердечно. Моряки, сухопутные, штатские… Чувствовалось «настроение».
«18 ноября. — Сегодня удалось пообедать в Хайчендзы. Бутылка прескверного кахетинского — 4 р. 50 к.! Похвалили, что дрянь, ибо вчетвером одной не допили, а то можно бы разориться.
Ночью — мороз до 10, но в вагоне тепло».
«19 ноября. — В 7 ч. 30 мин. утра пришли в Харбин. С нами едет возвращающийся с войны морской врач Лисицын. Во Владивостоке его приспособили к адмиралу. — Он при адмирале скорее доедет до дому — и адмиралу есть к кому обратиться (рана на голове требует ежедневной перевязки). Конечно, и я воспользовался случаем. Получил совет тот же, что на «Воронеже», — везти палец в согревающем компрессе до Петербурга, а там видно будет. Ковыляю, но бодр духом. Адмирал еще из Владивостока снесся с Линевичем. Решили повидаться. В Харбине нас отцепили от поезда. За время стоянки наши бродили по станции и ее окрестностям. Я смотрел из окна. Сплошная толпа. Много пьяных. Одеяния самые фантастические — солдата от рабочего не отличишь. Кое-где следы пожаров. (И тут был «пьяный» бунт.) Мало похоже на военную организацию. Те же впечатления у тех, что ходили «побродить».
В 8 ч. 10 мин. утра нас повезли на юг. Резко заметно, что чем ближе к передовым позициям, тем больше порядка. Идут войсковые части, а не бредут какие-то толпы. Даже обозы, и те движутся в порядке. Нет того развала, той орды, что можно было видеть в тылу (в Харбине и близ него)».
«20 ноября. — Вчера, около полдня, пришли на станцию Лоушагоу, где стоит Линевич. У него завтракали и обедали. Почти все время между завтраком и обедом адмирал просидел наедине с ним. О чем говорили — неизвестно. Вечером (после обеда) меня полонили штабные, требуя рассказов о разных подробностях плавания и боя. Изрядно засиделись. Сегодня в 7 ч. 30 мин. утра пошли на север.
Не утерпел — спросил адмирала: — Что ж телеграмма Линевича? Почему не воспользовался тем, что перемирия не было? Почему не перешел в наступление? Теперь ведь кричат, что мир позорный, что у него был миллион войск, а у японцев много меньше… — Адмирал сначала отмалчивался, а потом резко ответил: — Какой там миллион? От Самары до Лоушагоу! А здесь у него, сам он сказал, едва 370 тысяч!..
Ну, тогда — действительно…
В 10 ч. утра пришли на станцию (ни от кого не мог добиться настоящего названия — все говорят по-разному), где стоит поезд Куропаткина. Здесь завтракали. Адмирал с Куропаткиным отдельно (очевидно, для интимной беседы), а мы — со штабом. Этот штаб мне больше понравился. Как-то проще и серьезнее. «Там» очень уж висели в воздухе разговоры о наградах и знаках отличия… Адмирал (я его знаю) был сильно взволнован беседой с Куропаткиным. «Там» этого я не заметил. Куропаткин проводил на станцию и (видно, еще не наговорился) просидел с адмиралом в его купе, запершись, добрую четверть часа. Мое купе — рядом, и, когда дверь открылась, я невольно слышал последние фразы, которые он говорил, прощаясь: «…на вас только и была надежда… Да вот и теперь, хоть бы в будущем, чтобы не так… И опять на вас вся надежда — в том, что приедете, скажете правду, всю правду… если послушают…»
В Харбине простояли больше двух часов. Не понимали, в чем дело. Адмирал сердился, вызывал к себе и начальника движения, и коменданта станции, но те не решались сказать ему правды (которую мы узнали позже) и приводили какие-то отговорки. По существу же, дело шло о возможности (фактической) пропустить экстренный поезд, «приказанный» Линевичем, но еще не получивший разрешения от забастовочного комитета».
«21 ноября. — В 12 ч. 45 мин. дня прошли Хинганский туннель. К северу (вернее, к NW) от Хингана — совсем зима. Снег. Сани.
В 2 ч. 30 мин. дня на станции (?) — манифестация. Толпа рабочих и солдат собралась у вагона. Начальство попряталось. Прибежал кондуктор — бледный как полотно, — говорит: «Ломятся!» Оказалось — ничего страшного: депутация из трех человек. Справляются о здоровье адмирала. Говорю: — Ничего себе, слава Богу, хотя еще не совсем оправился; раны были тяжелые. — Удовлетворились. Просят, однако же, если можно, не подойдет ли «сам» к окну, потому что «народ, прослышавши, собрался». Доложил адмиралу, и он, как был — в тужурке, вышел на площадку вагона. Старший из депутатов (артиллерист, унтер-офицер) стал было говорить речь, что «в таких годах, себя не пожалев, кровь свою проливал, а потому они… всякое пожелание… и дай Бог…», но тут окончательно спутался, а кругом закричали: «ура» — и все полезли вперед. Воспользовавшись мгновением затишья, адмирал крикнул: «Спасибо вам на добром слове! Это — ваш выборный?» и, наклонившись к солдату, стоявшему на подножке, обнял его и поцеловал… Рев поднялся в толпе… Я с недоумением смотрел на депутата и на слезы, сбегавшие по его широкой черной бороде… сам словно не чувствовал, что и у меня что-то подступает к горлу… так вышло… неожиданно… — «Это все больше раненые, которые эвакуируются», — пояснил мне кондуктор, уже оправившийся от перепуга. — Да… Теперь стало понятно… — «Эти», конечно, знали «цену крови»!.. — Поезд медленно тронулся, а они бежали рядом с ним; гремело «ура»; летели вверх картузы и папахи…»
«22 ноября. — В полночь пришли на станцию Маньчжурия и — застряли. Дорога — накануне забастовки. «Комитет» уже проявляет свою деятельность. Экстренные поезда не признаются. Адмирал телеграфировал Линевичу, но, кажется, телеграммы не шли дальше ближайшей станции.
В 2 1/2 ч. ночи и в 6 1/2 утра просыпались от толчков со счастливой мыслью, что поехали. Грустное разочарование — переводят с одного запасного пути на другой…
9 ч. утра. — Ничего нового. Морозное, ясное утро — 15 градусов R. По слухам, будут пропускаться только воинские поезда с запасными, увольняемыми на родину. Около 11 ч. утра получилась разрешительная телеграмма. От кого? — от Линевича или от «комитета»? — не мог узнать толком. В полдень тронулись дальше.
Что-то лишнее, позабытое докторами в ране на левой ноге, по-видимому, не выдерживает согревающего компресса и собирается вылезать, но не через главную дыру, а сбоку сверлит свой собственный ход. Все равно, только бы вылезло и не задержало в пути. Жестоко простужен. Бронхит вовсю. Глотаю хинин, фенацетин, согреваюсь горячим чаем с красным вином, кутаюсь, во что могу. Очень тяжело ногам — мерзнут. Сегодня добрые люди нашли в лавочке при станции теплые калоши, купили для меня. Полегчало.
6 ч. вечера. — Неожиданное открытие: к нашему поезду прицеплен еще один вагон, в котором два путейца. Один из них — помощник начальника движения. Адмиралу он сообщил, что «прицепился» с целью улаживать недоразумения в пути и содействовать беспрепятственному следованию; нам же в дружеской беседе давал несколько иные объяснения, а именно — что воспользовался «разрешением» на пропуск экстренного поезда (адмирала «приказано» не задерживать и никаких неприятностей ему не чинить) для осмотра линии. Собранные сведения весьма неутешительны: 2/3 паровозов умышленно поломаны; работает не более 30 % всего подвижного состава; сейчас второй перегон (120 верст) идем с тем же паровозом и с тем же машинистом, так как в депо смены не оказалось.
Какой безотрадный пейзаж! Пологие холмы, обширные низины (путейцы говорят — солончаковые), и на сотни верст ни кустика, ни деревца, ни признака человеческого жилья… Чахлая травка, на которой и овце не прокормиться, чуть торчит из-под тонкого слоя снега жесткими, растрепанными кустиками. — Пустыня».
«23 ноября. — Ночью. — Холмы стали выше и сгрудились. Мы то ныряем в глубокие выемки, то бежим по высоким насыпям. И все то же безлюдье. Да, в сравнении с этой частью Забайкалья даже Северная Маньчжурия — чистый рай…
На станции Оловянной застряли. Впереди, верстах в двадцати, воинский поезд потерпел крушение. Разбито три «теплушки». Около двадцати человек раненых и обожженных. Адмирал немедленно командировал туда нашего доктора с добровольцами на нашем же паровозе. Пользуясь долгой стоянкой, я набрался храбрости и проковылял в буфет, где съел жареного рябчика и семь штук забрал в запас (очень уж надоели ветчина и консервы — наше обычное питание).
В 6-м часу утра тронулись дальше. Вернувшийся доктор сообщил, что крушение обошлось сравнительно благополучно — нет не только убитых, но даже и раненных более или менее серьезно.
Появился кустарник, стада коров и табуны лошадей. Местами видны бурятские поселки.
Начиная со станции Бурятской (после 8 ч. утра) пошел лес, правда, еще жиденький. Чаще и чаще видны деревни.
Изумительно красив перевал через водораздел между Агой и Ингодой. Прошлый раз (по пути в Артур) проезжал это место ночью и не мог полюбоваться. Ясно, тихо, мороз — 18°R.
На станции Чита-город — задержка. Помощник начальника движения объяснил, что по полотну движется толпа манифестантов, тысяч около трех, направляясь к городу. — Опасно дать ход, пойти навстречу. Могут принять за противодействие и устроить крушение. Лучше пропустить. В 1 ч. 50 м. дня процессия прошла мимо нас. Два красных знамени и за ними, в полном порядке, два военных оркестра: один казачий (желтые погоны), а другой — не знаю какой (красные погоны) (Узнал позже, что железнодорожного батальона). Издалека слышна была «Марсельеза», но когда шли мимо поезда, оркестры не играли, а пел большой, довольно стройный хор, которому подтягивала вся толпа. Что-то вроде — «Пора рабочему народу добыть себе свободу…». В толпе много на вид интеллигентной публики (мужчин и женщин), чиновников различных ведомств (в форме), даже офицеров и масса солдат…
В 2 ч. 5 мин. дня путь очистился. Дали ход. Курьезная подробность: на станции у поезда задержалось, отстав от процессии, изрядное количество серых папах, которые столпились на платформе у адмиральского вагона. Увидев адмирала в окне, кричали «ура!», устроили овацию. Вот тут и пойми что-нибудь!..
На следующей станции от путейцев, справившихся по телеграфу, узнали, что в Чите все обошлось благополучно. Губернатор (ген. Холщевников) принял манифестантов и с балкона держал им речь. Уступая просьбам, освободил с гауптвахты офицеров, арестованных за участие в митингах, и согласился на учреждение совета выборных от всех сословий, в котором сам был председателем. Шутя, говорили: «Президент Читинской республики». — Умно поступил. Если бы его ухлопали и власть перешла бы в руки какого-нибудь «комитета» — армия Линевича была бы отрезана от России».
«24 ноября. — Идем без особых приключений и довольно бойко (в среднем сорок верст в час). Около 1 ч. дня пришли на станцию Мысовая, где имели случай пообедать «в настоящую» — великолепные щи и гусь. В разгар пиршества явился едущий с нами помощник начальника движения и сообщил, что с 2 ч. дня начинается забастовка. Пойдут только поезда с запасными. — «Хотя адмирала, кажется, разрешено пропустить, — добавил он конфиденциальным тоном, — скоро убедимся: подадут паровоз — значит, поедем».
Сведения его оказались верными. В 2 ч. 20 мин. дня нам подали паровоз. — Далеко ли уедем? Как долго будем пользоваться этим любезным отношением? Забастовка — всероссийская. Требование — помилование инженера Соколова, приговоренного в Кушке к смертной казни.
7 ч. вечера. — Помощник начальника движения говорит, что не застряли единственно благодаря присутствию адмирала. Наш поезд объявлен «воинским». Все прочие задержаны. Бог даст, под той же фирмой пойдем и дальше.
9 ч. вечера. — На Кругобайкальской дороге. Небо разъяснило. Чудная лунная ночь. Дорога не просто красива, а прямо пугает своей красотой. Порой, когда слева — стена гор, а справа — невидимый из окна обрыв, и, скренившись на закруглении, словно заглядывая в бездну, поезд мчится над зеркальной поверхностью озера — жутко…
На станции (?) у южной оконечности Байкала достали петербургские газеты от 10 и 11 ноября. Давно их не видели. Читаешь — и глазам не веришь… Что там поезд! Кажется, сама Россия мчится куда-то, скренившись над бездной… Лопни ось, подломись шпала — и все рухнет!..
На той же станции меняли паровоз и бригаду. К нам сел (застрявший здесь) ревизор движения. Довелось быть свидетелем любопытной сценки:
Ревизор движения (направляясь к вагону и обращаясь к группе служащих и рабочих). — Ну, что? доеду до места? жив буду?
Голоса (дружественно и ободрительно). — Поезжайте, Александр Александрович! Пока что, будьте спокойны! «Такого» распоряжения еще не получено…
В 11 ч. 25 мин. пришли на станцию Байкал. Последние три часа, не отрываясь, простоял у окна, любуясь дорогой.
25 ноября. — Вчера на станции Байкал вполне оценили то обстоятельство, что железнодорожная забастовка не распространяется на буфеты… Правда, вместо зала первого класса — какой-то грязный сарай, но какие закуски! Два года не видел ничего подобного (Возможно, что этот восторг объясняется именно двумя годами на пище, преимущественно консервированной).
Придя в вагон, заснул, как удав. Не слышал ни прихода в Иркутск, ни свистков и толчков при переводе нашего вагона с одних путей на другие.
С забастовкой ничего не разберешь. Не то есть, не то нет. Во всяком случае, правильное движение прекратилось, хотя обещают, что завтра пойдет последний (?) экспресс и наш вагон прицепят к нему.
Публика разбежалась — посмотреть город, узнать новости, а главное (так я думаю) — хорошо позавтракать и пообедать. В вагоне остались только увечные. Попытка добыть пищу из станционного буфета через проводника успехом не увенчалась. Вокзал буквально набит пассажирами и их багажом. Порядок должен был бы поддерживаться воинским караулом, но большинство часовых — сильно «поддавши»; начальства не видно вовсе. Посланному сказали: «Не до тебя тут! Пусть сами приходят!» — Пришлось двинуться в поход (неблизкий и нелегкий). Вид у меня был самый «товарищеский» — мерлушковая шапка, купленная во Владивостоке, изумительного покроя пальто-сак, сшитое японцем в Сасебо, а на ногах — теплые калоши, похожие на водолазные башмаки; к тому же, более месяца не стрижен; бреду с трудом, опираясь на палку. Удачно проник не только в зал, но даже за стойку буфета. Хозяин, видимо, принял меня за «услужающего». Быстро сговорились, даже совместно составили меню, а когда я (в ожидании будущего) выпил рюмку водки, закусил балыком и хотел заплатить, то буфетчик дружески хлопнул меня по плечу и сказал: «Что за счеты!» — Не стал спорить.
Под вечер (уже стемнело) приезжала жена губернатора (генерал-майора Кайгородова) и долго что-то рассказывала адмиралу. Видимо, сильно взволнована. О чем говорили — не знаю».
«26 ноября. — Наши рассказывают какие-то анекдоты о вчерашних впечатлениях. В городе никто не знает, что будет завтра, и даже нельзя дать себе отчета, где находишься — в Российской Империи, или в штате Всероссийской Федерации, или в совершенно самостоятельной Иркутской республике?
Адмиралу (опять-таки, когда стемнело) прислали экипаж (вероятно, результат вчерашнего визита), и он поехал к Кутайсову (генерал-губернатору) и к Кайгородову (губернатору). Вернувшись, рассказал кое-что: оба совершенно лишены всякой власти. Единственная их опора — батальон (не знаю, какого полка — синие погоны и цифра 36), присланный Линевичем, — волнуется. Офицеры принимают участие в митингах. Нижние чины неохотно несут охранную службу. Заявили, что если 30-го их не отправят дальше, на родину, то они за порядок не ручаются. О местных войсках — говорить нечего. Телеграммы идут через цензуру забастовочного комитета. Власти совершенно отрезаны и от Петербурга, и от Линевича. Веселенькое положение…
Сегодня — праздник Св. Иннокентия, патрона Иркутска.
Еще вчера вся водка была раскуплена. Предстоит великое пьянство. Опасаются, не разыгрался бы на этой почве всеобщий погром.
В 8 ч. 32 мин. вечера благополучно поехали дальше».
Глава XII Воинские поезда с запасными. — По сю сторону Урала. — Неожиданный оборот дел. — Под флагом адмирала. — Петербург. — С больной головы на здоровую. — Попытка бороться. — На отдыхе. — Письмо приятеля. — Цена крови
Двадцать седьмого ноября. — В 2 ч. дня на станции Тулун опять собралась около поезда толпа солдат и рабочих. Прислали депутатов просить, чтобы адмирал, хоть в окне, им показался. Он (несмотря на мороз —18) вышел на площадку. Спрашивали его: правда ли, что из России не хотели посылать ему подкреплений? правда ли, что небогатовский отряд в бою вовсе не участвовал, а держался далеко сзади? — Адмирал отвечал коротко и определенно. — «Измены-то не было?» — выкрикнул вдруг чей-то пронзительный голос… И чувствовалось, что для всей толпы этот вопрос — самый мучительный… — «Не было измены! Сила не взяла, да Бог счастья не дал!» — решительно отозвался адмирал и, поклонившись, пошел к себе. Вслед ему неслись сочувственные крики: «Дай Бог здоровья! Век прожить! Старик, а кровь проливал! Не то, что наши! У вас иначе — сам в первую голову!» — Поезд тронулся, сопровождаемый громовым «ура».
«28 ноября. — В первом часу дня пришли в Каинск. Ясно. Мороз —22.
Около 5 ч. вечера на разъезде Уярск догнали буйствующий эшелон запасных, которые не пустили нас вперед, объявив, что им «нужнее». Станционное начальство терроризовано. Рассказывали, что вчера было еще хуже. У эшелона повредился паровоз. Потребовали отобрать паровоз от нагнавшего их почтового поезда, потому что «нас тут больше тысячи — все разнесем».
В 6 ч. 45 мин. вечера пошли дальше».
«29 ноября. — Плетемся в хвосте поездов с запасными со скоростью 18 верст в час».
«30 ноября. — За ночь обманным образом на глухих разъездах обогнали несколько эшелонов; зато, удирая таким способом, едва не засели в открытой степи из-за недостатка воды. Занятное путешествие!
В 12 ч. 30 мин. дня прошли мост через Обь. На правом берегу реки близ станции вырос целый город — собор, правильно разбитые улицы, извозчики с номерами, — а помню, как я проезжал тут десять лет тому назад на почтовых: была пустыня».
«1 декабря. — В Омске (в 9 ч. утра) добыли кое-какие газеты. Только и читаешь про военные бунты. Впрочем, сведущие люди предупредили, что все телеграммы идут через цензуру «комитетов», искажаются, а часто и просто фабрикуются. Утешительная поправка, без которой можно было бы подумать, что на Руси живого места не осталось, а между тем мы едем и, кроме буйства запасных, ничего еще на себе не испытали».
«2 декабря. — Увлекшись газетными известиями и толками по поводу них, забыл переменить компресс. Ночью он высох. Проснулся под утро от боли. Пришлось отмачивать, отдирать… Сегодня едва брожу. Главное — довезти бы до Петербурга, не слечь в дороге.
11 ч. утра. Челябинск. По внешности — все спокойно».
«3 декабря. — 9 ч. утра — Уфа.
7 ч. вечера. — Уже около ста верст плетемся позади воинского поезда с запасными. Не пускают вперед. Таких «боевых» эшелонов впереди — целая серия. Один удалось обогнать благодаря хитрости дежурного по станции, но бедняга за это жестоко поплатился (сообщили вдогонку по телеграфу) — был избит почти насмерть. Становится все занимательнее».
«4 декабря. — Ночью долго стояли на станции Кинель. Станционное начальство получило по телеграфу угрозу, что будет сожжено живьем, если не пропустит вперед нас три эшелона (те самые, что мы обогнали с такими ухищрениями).
В 12-м часу дня прибыли в Самару. Положение — безнадежное. Путь — в полной власти запасных. Путейцы на вопрос: «Когда же приблизительно доберемся до Москвы?» — только рукой машут. Полная анархия. Комендант станции чуть не плакал, рассказывая о своем полном бессилии…
Вдруг — чудо. Узнали откуда-то, что в поезде адмирал Рожественский (наш вагон был прицеплен к «последнему» экспрессу). Собралась толпа; устроили овацию. Адмиралу трижды пришлось выходить на площадку и раскланиваться. Путь открыт. В 12 ч. 30 мин. дали полный ход.
Около двух часов дня подходили к какому-то полустанку, имея предупреждение, что здесь стоят целых два «боевых» эшелона. Уменьшили ход, опасаясь — не задержат ли (переводом стрелки на запасный путь). Прибежал начальник поезда, бледный, взволнованный… говорит, что у станции по обе стороны — сплошная толпа, и лучше остановиться добром… Чуть движемся… Но стрелки стоят правильно — дорога свободна… Неожиданно справа и слева несется «ура!»… Более 2000 человек громоздятся по насыпи, спотыкаясь, бегут за поездом, кричат, бросают кверху папахи… Оказывается — самарские эшелоны телеграфировали товарищам, что с экспрессом едет адмирал, а потому впереди нам уж нечего опасаться задержек… Трогательно и лестно, но странно…»
«5 декабря. — Бойко бежим, как полагается экспрессу. — 6 ч. вечера — Тула. 11 ч. 15 мин. — Москва».
«6 декабря. — Наш вагон прицепили к пассажирскому поезду, ив 12 ч. 15 мин. ночи мы тронулись в последний перегон.
«В 5 ч. 30 мин. дня прошли Любань. Подходим к Петербургу… Эх! не так думалось возвращаться… Тяжело на душе…»
* * *
В дальнейшем мои заметки не представляют такого общественного интереса, чтобы стоило приводить их дословно, изо дня в день; но для полноты грустной повести, здесь рассказанной, мне кажется необходимым в кратких, общих чертах передать содержание моего дневника и за последующие шесть месяцев.
С прибытием в Петербург стало очевидным, что истинными выразителями настроения, господствовавшего в «приемных», были генерал Д. и его спутники, а отнюдь не представители владивостокского гарнизона и действующей армии (не говоря уже о серой массе запасных), знавшие «цену крови» и встречавшие нас так сочувственно.
В Петербурге нас встретили враги тем более опасные, что большинство первоначально разыгрывало роль самых преданных друзей… А когда выяснилось, что адмирал не только хочет, но и в силах работать, причем повторение прошлого считает за «сознательное преступление» и собирается камня на камне не оставить, — тогда создалась против него могучая коалиция из членов того сословия, которое издревле считало морское ведомство своей «жалованной вотчиной, данной на кормление».
В ближайшие же дни по прибытии в Петербург адмирал представил свое последнее донесение — о плавании эскадры Китайским морем в Корейский пролив, о первом соприкосновении с неприятелем, об обстоятельствах, предшествовавших бою при Цусиме, и о развитии последнего до того момента, когда он (Рожественский) выбыл из строя и потерял способность давать себе отчет в совершавшихся событиях. В непродолжительном времени было представлено им и дополнительное донесение, являвшееся сводкой взаимно проверенных рапортов командиров и офицеров, уцелевших в разгроме, и план маневрирования наших и неприятельских сил. Ни один из этих документов (равно как и все донесения адмирала Рожественского с пути) не были опубликованы (Ни тогда, ни доныне). Зато газеты были переполнены апокрифическими рассказами о различных моментах и эпизодах боя, записанных якобы со слов очевидцев.
Говоря «якобы», не хочу быть голословным: в моих руках имеется документ, свидетельствующий, что газета «Новое Время», получив для оглашения в печати несколько писем погибшего на «Суворове» лейтенанта Вырубова, не только не напечатала все полученные письма, но и в напечатанных позволила себе делать пропуски, «редактировать» их так, чтобы они служили определенным целям. Глубоко убежден, что и письма корабельного инженера Политовского, которого я лично знал и всегда считал за человека высокопорядочного, изданные отдельной книгой под заглавием: «От Либавы до Цусимы», — были тоже «редактированы» в этом же смысле.
Да не подумают читатели, что я хочу выставить людей, руководивших клеветнической газетной кампанией против адмирала Рожественского, какими-то мелодраматическими злодеями. Вовсе нет! Это были господа, отнюдь не исповедовавшие идеи: «зло для зла», как «искусство для искусства». Цели их были чисто практические, «шкурные». Надо было во что бы то ни стало сохранить в общественном сознании ту картину боя, которая была наспех в первые же дни создана патентованными стратегами, опиравшимися в своих суждениях на заведомо не заслуживающие доверия телеграммы американских корреспондентов.
Ведь если бы тогда, в конце 1905 года (вспомните это время!), были опубликованы донесения адмирала, в которых он с солдатской прямотой говорил, что ни с теми силами, какими он сейчас располагает, ни с «обузой», которую ему собираются навязать (небогатовский отряд), он «не имеет надежды на успех»?.. Если бы выяснилось, что не отсутствие таланта и тем более мужества и самоотвержения, а полная негодность оружия, с которым люди, верные долгу, были посланы не в бой, а на бойню, — были причиной неслыханного разгрома? Если бы каждому до очевидности ясно стало, что виноваты не те, что «не все погибли», а пославшие их на бесславную гибель? Что бы случилось? Что могло бы случиться? Какими последствиями могло бы грозить такое просветление общественного сознания для господ, мирно проживающих под шпицем Адмиралтейства и даже вне его?..
Для меня, с моими еще не закрывшимися ранами, полубольного, полного горечи вынужденного безмолвия, невозможности гласно ответить клеветникам, орудовавшим в печати, дальнейшее молчание являлось непереносимым! Я выступил с целым рядом статей, в которых цифрами, документально доказывал (и, смею думать, доказал), что творцы третьей (небогатовской) эскадры, задерживая Рожественского на Мадагаскаре, обманывая общество подсчетом мифических «боевых коэффициентов» судов, которые могут быть посланы для увеличения сил второй эскадры, — совершали преступление перед Россией!.. Покончив с этим вопросом, я обещал читателям в следующих статьях дать правдивое описание самого боя и обстоятельств, ему предшествовавших, но тут… был вызван к морскому министру, адмиралу Бирилёву, который отдал мне категорическое приказание: без цензуры начальства не писать ничего о минувшей войне. При этом мне было указано, что такое запрещение, конечно, легко обойти, найдя подставного автора, который «писал бы с моих слов», но министр вполне доверяется моему слову (конечно, если я согласен дать таковое). В качестве мотива указывалось, что для расследования всех подробностей постигшего нас несчастья уже назначена особая комиссия (Комиссия эта трудилась два года с лишним. Результаты трудов ее еще и доныне не опубликованы, но, судя по тому, что членами ее состояли исключительно люди, не принимавшие фактического участия в минувшей войне (а были и такие, что никогда не только не командовали, но даже и не плавали на судах линейного флота), — заключение легко может быть предсказано) и преждевременные выступления отдельных лиц имели бы неблаговидный характер попыток повлиять на общественное мнение, что недопустимо с точки зрения служебной корректности и т. д. Тогда я еще был на службе, а потому, получив приказание, в точности его исполнил и (уж конечно) не нарушил доверия, оказанного моему слову.
Надо ли пояснять, что этим способом воздействия рот был заткнут только мне, а «нововременские» рыцари «без страха и упрека» заголосили еще пуще…
Как раз в это время доктора решительно заявили, что если я не уеду куда-нибудь в теплые страны для климатического лечения, а в особенности для отдыха, вне омута раздражающих и волнующих меня сплетен, то, по всей вероятности, дожить до торжества правды мне не придется. Составили и требуемое законом медицинское свидетельство. (Забыл упомянуть, что из большого пальца левой ноги был без труда извлечен, почти сам вышел, осколок кости, и рана начала быстро заживать.)
По делу о сдаче миноносца «Бедовый» была уже назначена особая следственная комиссия. (Почему-то отдельно от комиссии по сдаче судов вообще.) Я явился к ее председателю и просил допросить меня поскорее, так как я могу показать немного, да и это немногое не заслуживает особого доверия в качестве показания тяжело раненного, у которого бред и действительность, виденное лично и слышанное впоследствии легко могли перепутаться в воображении. Цену таким «воспоминаниям» я хорошо знал из личного опыта, когда убеждался, что «собственноручно и тогда же сделанные» и затем позабытые заметки оказывались в противоречии с яркой картиной, создавшейся, очевидно, много позже под впечатлением рассказов окружающих.
Меня допросили и отпустили на все четыре стороны.
Еще несколько дней — и я, поселившись в отеле «Сар Martin» (между Ментоной и Монте-Карло), на берегу лазурного моря, в роще альпийских сосен, отрешился от мира.
Русских газет и журналов здесь не получалось вовсе. «Figaro» и «Galois» давали о наших делах два-три десятка строчек, да и на те я старался не обращать внимания.
Единственная работа, за которую я взялся и решил, хоть через силу, закончить, была «Бой при Цусиме».
Согласно данному слову — не печатать ничего помимо цензуры начальства, я всячески устранялся в своем повествовании от малейших суждений по вопросам стратегическим и тактическим, от всякого «разбора» операции, но с тем большим увлечением отдавался фотографически точному воспроизведению деталей, беспощадно отбрасывая все, что могло бы во мне самом возбудить хоть тень сомнения, как не отмеченное в записной книжке или не подтвержденное живыми свидетелями. Странно, какой утомительной оказывалась такая работа! — Два-три часа, результатом которых были две-три странички почтовой бумаги, укладывали меня на диван, и я засыпал тяжелым, беспокойным сном… Отчасти понятно — ведь я принуждал себя заново переживать все пережитое… И так — больше месяца…
Слава Богу! — кончил и сдал на почту, адресовав (для верности, чтобы не задержали толстого пакета на границе) самому Рожественскому с просьбой передать моему брату, который озаботится и цензурой, и печатанием.
«Исполнив долг, завещанный от Бога», я собирался предаться чисто растительной жизни, как вдруг получил письмо от старого приятеля, который вообще не проявлял склонности выражать нежные чувства, а в корреспонденции со мной не состоял вовсе, но в данном случае поступил истинно по-дружески.
Позволю себе привести из этого письма дословные выдержки: «…господа, которых ты собирался изобличать, а частью уже и вывел на свежую воду, орудуют вовсю. Уверенно говорят, что ты «бежал» за границу и в Россию не вернешься, потому что ты — главный виновник сдачи «Бедового» и тебе грозит расстрел. Это — для примера, чтобы показать, до чего доходят. Следствие — официально — тайна. Но это лишь способствует успеху клеветников, которые намекают, что для них завеса над тайной приподнята. Вполне возможно (по их положению) и тем легче им поверить, а между тем они врут бесстыдно. Убедился лично. С общественным мнением теперь считаются, а потому и здесь идет подготовка. На верхах тебя расписывают ярко-красным, потрясателем основ, а в противоположном лагере (есть и на то верные люди) изображают бешеным черносотенцем, способным на все, до предательства включительно. Говорят, что Рожественский для поддержания дисциплины вешал людей десятками, а ты в этом деле был его правой рукой, но об этих казнях «приказано» молчать (Надо ли говорить, что за все время существования второй эскадры на ней не было ни одной смертной казни, а сам адмирал был принципиальным ее противником). Словом — ничем не брезгуют. Приготовься, что хамить будут с обеих сторон. Цель — опорочить тебя лично по суду или вопреки суду, чтобы дискредитировать всякое твое свидетельство. Пишу, чтобы ты не был в неведении. Это — глупее всего. Пожалуй, приезжай поскорее (хоть легенда о бегстве разрушится). Можешь и побрыкаться, но, думаю, ничего не выйдет. Предрешено посадить тебя на скамью подсудимых. Однако попробуй — чем черт не шутит…»
Через четыре дня после получения этого письма я был уже в Петербурге.
Характеристика положения оказалась и меткой, и глубоко правдивой.
Попробовал «брыкаться», но действительно ничего не вышло. Отчасти сам виноват: не мог допустить мысли, чтобы почтенный председатель комиссии в вопросах жизни и чести мог подчиняться каким бы то ни было внушениям. Но не буду говорить о нем: судьба достаточно жестоко его покарала… и всего через три месяца после того, как он сдался на роль неправедного судьи… Что бы ни толковали вольтерьянцы — не могу видеть здесь простого случая, совпадения обстоятельств…
Попытка сослаться на Высочайший приказ по Военному министерству, согласно которому «офицеры, взятые в плен ранеными», прямо возвращались в свои части — была безуспешной. Хуже того — я встретил явное недоверие, когда говорил о моих ранах, и встретил его со стороны комиссии, которая ни у одного из вызванных ею лиц не нашла нужным осведомиться о том, в каком положении я находился. Фельдшер, подавший мне первую помощь, и доктор, перевязывавший меня на «Бедовом», вовсе еще не были опрошены, а решение — уже принято… Всего этого я в то время не знал, так как следствие — тайна (от лиц, в нем заинтересованных), был полон недоумений и мучился вопросами: «Неужели они забыли? неужели ничего не могли сказать?» — А их… — просто, не спрашивали…
Я указывал на пример следственной комиссии по делу о сдаче отряда Небогатова, где, несмотря на состоявшийся уже Высочайший приказ о предании суду всех офицеров, председатель настоял на выделении из числа обвиняемых не только тяжело, а хотя бы серьезно раненных. — Но… то был другой председатель.
Я просил медицинской экспертизы, основанной на показаниях фельдшера, доктора и других лиц. Экспертиза была дана. Был вызван лейб-хирург Муринов, но в руках его не оказалось никаких данных, кроме непосредственного освидетельствования шрамов, оставшихся на моем теле, и он дал… весьма уклончивое заключение, умолчав о том, что дает его без всяких оснований. Ведь я-то и мысли не мог допустить, чтобы при назначении экспертизы комиссия не исполнила моего основного требования — опроса свидетелей (повторяю, что следственное дело было для меня тайной); но как он, доктор медицины, призванный для решения вопроса, затрагивающего больше, чем жизнь, мог пренебречь этим обстоятельством?.. После этой, с позволения сказать, экспертизы мне стало очевидно, что в первой стадии дело мое предрешено, и «брыкаться» — бесполезно. К тому же «друзья» из-под «шпица» (а как было разобрать, кто из них предатель, кто нет?) усиленно внушали, что «гласный суд — наилучшая реабилитация», что недаром сам Рожественский требует, чтобы и его тоже судили…
Для руководства следствием и составления обвинительного акта по этому делу наличных сил прокуратуры морского ведомства оказалось недостаточно. 9 января 1906 года их пополнили переводом (из Министерства юстиции) А. И. Вогака, с переименованием его в генерал-майоры. Он-то и выступил в роли обвинителя.
8 апреля 1906 года состоялось заседание комиссии для решения «предрешенного» вопроса, а затем, вскоре же, последовал приказ по морскому ведомству, согласно которому все мы от командира, который, будучи в здравом уме и твердой памяти, не раненный и не контуженный, сдал свой вполне исправный миноносец неприятелю, не сделав никакой попытки к сопротивлению, и до адмирала Рожественского, лежавшего в тот момент без сознания, в борьбе между жизнью и смертью, — должны были занять места на скамье подсудимых…
Относительно приговора я был совершенно спокоен. Никакой суд не мог вынести решения, явно противоречащего очевидности. Никакие уловки и хитрости обвинения не могли ни создать фактов, которых не было, ни опровергнуть свидетельских показаний, данных под присягой, ни сгладить на моем теле почетных шрамов от ран, полученных в бою…
Сам факт «предания суду» казался мне чудовищным!.. Вспоминались первые дни, проведенные в госпитале, ожидание, что вот-вот японцы потащат в суд… Это было бы жестоко, но ведь японцы были бы вправе… Вспоминались мои сомнения — прилично ли будет просить победителей о милости — о замене веревки пулей?.. Представлялась в воображении и такая картина. Суд, русский суд, уже состоялся, но год тому назад, и на окровавленных носилках нас вносят в зал заседания и укладывают на скамье подсудимых… Хватит ли духу у дежурного офицера сказать, обращаясь к нам: «Суд идет! Прошу встать» — или, наоборот, председатель смущенно заявит: «Господа судьи! Почтите их вставанием!..» Много странных, много несвязных мыслей… вплоть до упрека доктору, который «тогда» помешал…
И вдруг — одна, яркая… не мысль, а крик:
«Это ли — цена крови? За это ли мы ее проливали?»
И сразу все остальное погасло, показалось таким мелким, ничтожным, бессильным проникнуть в сердце…
«Сердце захлопнулось» — вспомнилась где-то и когда-то вычитанная фраза…
Со спокойствием, самого меня поразившим (до того момента я весь кипел негодованием), достал я свой дневник, поискал и нашел нужную страницу: «30 октября. — Последний день в плену… Дорогая Родина! Тебе — привет!.. Судьба сберегла… Для чего? — Для службы Тебе!.. Клятву, страшную клятву даю: — Тебе весь остаток моей жизни, все силы, всю кровь!.. Тебе — все!..» Прочел, усмехнулся наивности изложения, хотел вырвать, смять и бросить в корзину, но… раздумал. Только зачеркнул и написал поперек: «Родине — да. А с вами — в расчете».
Даты жизни Владимира Семёнова
1867 — родился в Петербурге.
1880–1887 — учеба в Морском корпусе.
1888–1892, 1895–1901 — плавания в Балтике и в Тихом океане на крейсерах. Среди этих кораблей — будущие герои морских сражений войны с Японией — «Владимир Мономах», «Дмитрий Донской», «Россия», «Рюрик».
1893 — участие в Енисейской полярной экспедиции на «Малыгине». Производство в лейтенанты.
1894–1895 — учеба в Николаевской морской академии.
1900 — участие в подавлении боксерского восстания в Китае. Награжден орденом Анны 4-й степени за взятие фортов Таку.
1901–1903 — служба адъютантом штаба Кронштадтского порта. Командование по совместительству миноноской № 29.
1903 — публикация двухтомника стихотворений.
Январь 1904 — назначение в Порт-Артурскую эскадру Тихоокеанского флота.
Февраль 1904 — командование «Решительным». Перевод старшим офицером на «Ангару».
Март 1904 — производство в капитаны 2-го ранга. Назначение старшим офицером на «Диану».
Март — июнь — участие в ночных боях на рейде и в дневных операциях у побережья Квантуна. Работа переводчиком в штабе эскадры.
Июнь 1904 — письменное обращение к командующему эскадрой с предложением прорываться во Владивосток.
Июль 1904 — участие в Шантунгском сражении. Прорыв подбитого крейсера на юг, переход к берегам Индокитая и разоружение корабля.
Август — сентябрь 1904 — отъезд из Сайгона. Присоединение ко 2-й Тихоокеанской эскадре в Либаве в качестве пассажира.
2 октября — отплытие на борту «Князя Суворова» из Либавы в Тихий океан.
Ноябрь — назначение одним из четырех флагманских штурманов эскадры.
Февраль 1905 — назначение начальником военно-морского отдела эскадры.
14 мая 1905 — участие в Цусимском сражении. Ранение. Гибель «Суворова». Пересадка на миноносец.
15 мая — пленение вместе с Рожественским и другими офицерами на миноносце «Бедовый».
Май — октябрь 1905 — пребывание в плену; лечение в Сасебо и его окрестностях.
Ноябрь — декабрь 1905 — возвращение в Россию через Владивосток и Сибирь.
Июль — август 1906 — вместе с Рожественским и группой офицеров предан суду по обвинению в сдаче «Бедового» неприятелю. Оправдан.
1906 — публикация выполненного Семёновым перевода японского издания «Великое сражение Японского моря» — первого развёрнутого анализа Цусимского сражения.
1906–1909 — публикация газетного, а затем книжного издания «Расплаты».
1907 — выход в свет брошюры «Степан Осипович Макаров».
Январь 1907 — прошение об отставке на высочайшее имя. Увольнение со службы в звании капитана 1-го ранга с мундиром и пенсией.
1909 — публикация заметок «Флот и морское ведомство до Цусимы ипосле» и сказки «Заседание адмиралтейств-коллегий».
1910 — последняя статья — «Похороны адмирала Рожественского». Апрель 1910 — смерть от последствий ранения.


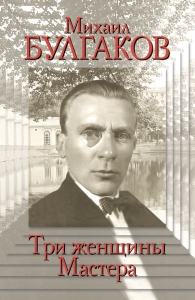

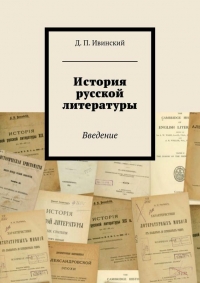
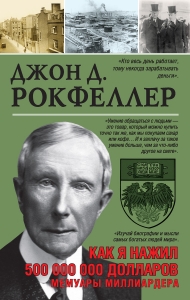

Комментарии к книге «Трагедия Цусимы», Владимир Иванович Семенов
Всего 0 комментариев