Печатается по тексту издания «Детская литература», М., 1969 г.
Часть первая
Казачье гнездо
Когда Ермак пришел с Дона отвоевать Сибирь у татарского хана Кучума, в его войске был есаул, по фамилии Суриков.
Казаки осели в Сибири. Кругом были охотничьи туземные племена, с юга приходили киргизы, с востока вершили набеги буряты, а с дальнего востока — жестокие монголы. От них надо было обороняться. И встали на сибирских реках маленькие крепостцы-остроги: Сургут на Оби, Тобольск на Иртыше, Енисейск на Енисее, Томск на Томи.
Триста с лишним лет назад встал на Енисее острог Красноярск, окруженный рвом, обнесенный надежной бревенчатой стеной. Стена была о пяти башнях с воротами. Внутри стоял двор воеводы, амбары, склады с военными припасами, приказная изба и деревянная церквушка.
Внизу, под острогом, катил могучие воды грозный Енисей. К югу тянулась непроломная тайга. К северу — горы, глинистые, розово-красные, целиком из порфира и яшмы. В лесах полно медведей, в реках — саженные осетры, а подальше в горы уйти, так там золото и руда.
И начал расти город-Красноярск вокруг небольшого острога, вбирая и первых поселенцев-казаков, и пашенных крестьян, и ссыльных уголовников с семьями, и участников стрелецких и крестьянских бунтов, что сосланы были в Сибирь на вечное поселение.
Казачий род Суриковых испокон веков нес караульную службу при набегах инородцев: едва приближался враг, на Караульном бугре зажигали огонь. Сыну Петра Сурикова, Петру Петровичу, в одной из таких стычек татары выбили глаз стрелою из лука. С той поры прозвали его Петром Кривым. Дом он себе поставил на Качинской улице, что сбегала к реке Каче, впадавшей в Енисей. В этом доме вырастил есаул Петр Кривой сына Ивана и внука Василия. У этого Василия Сурикова был опять же сын Иван и опять — внук Василий, которому суждено было стать художником.
По особому, старинному укладу жили казаки Торгошины. Было их, братьев, много, но жили они неделенной семьей, все вместе. Держали извоз, водили огромные табуны коней. По ним все село прозывалось Торгошиным, и лежало оно против Красноярска, на крутом берегу Енисея.
Торгошинский двор мощен был тесаными бревнами, а в старом доме с резными крылечками, крытыми галерейками, слюдяными окошками двенадцать двоюродных сестер, сибирских красавиц, вышивали гарусом в пяльцах, распевали тонкими, чистыми голосами старинные песни. Грамоте девушек не обучали.
И в праздник любили братья Торгошины нарядиться в шелковые бухарские халаты и в обнимку пройти по широкой улице с песней. «Не белы-то снега», — заводил высоко старший брат, песенник Иван. Любили на святках удалую езду на тройках со звонками, а на масленой неделе — исконную сибирскую игру: ладили снежную крепость и по очереди верхом на конях налетали на «снежный городок», показывая удаль да молодечество.
Вот в этой-то семье родилась и воспитывалась казачка Прасковья Федоровна Торгошина — мать будущего художника.
Уже Красноярск вырос в настоящий город. На месте сгоревшего дотла древнего бревенчатого острога, посреди базарной площади, высился белостенный собор, а вокруг встали каменные здания городского управления, казенной палаты, казначейства.
Появилась главная, Воскресенская улица. На ней красовались особняки: губернатора, протоиерея, чиновников покрупнее, купцов и золотопромышленников.
Открылось народное училище.
Уже проложен был через Красноярск Московский тракт, соединивший Москву с Забайкальем. И этим трактом, гремя кандалами, проследовала на каторгу первая партия осужденных декабристов: братья Бобрищевы-Пушкины, Краснокутский, Якубович и друг поэта Пушкина — Василий Львович Давыдов. Эти люди принесли сюда, в Енисейский край, неугасимый свет своих знаний и убеждений.
Отбыв каторгу, эти декабристы со своими семьями были навечно поселены в Енисейской губернии.
Декабрист Давыдов остался жить в Красноярске и дожил там до своей кончины. На городском кладбище и по сей день сохраняется белый мраморный памятник на его могиле.
В то время, о котором идет речь, декабриста Давыдова и его друга Бобрищева-Пушкина часто видела в городском соборе жена губернского регистратора Ивана Васильевича Сурикова, Прасковья Федоровна. Она рассказывала, что декабристы стояли впереди всех молящихся, накинув шинель на одно плечо, и никогда не крестились. Во время провозглашения многолетия царю декабристы демонстративно выходили из храма, чтобы вернуться лишь к концу обедни.
Прасковья Федоровна с интересом наблюдала за ними и, вернувшись домой от обедни, рассказывала мужу об этих необыкновенных и достойных людях…
Прасковья Федоровна была второй женой у Ивана Васильевича. Первая умерла, оставив ему дочку Лизу.
Времена сторожевой казачьей службы давно канули в прошлое, и Иван Васильевич служил регистратором в суде. Жили тихо, обособленно. Вечерами в домашнем кругу Иван Васильевич любил петь старинные казачьи песни, аккомпанируя себе на гитаре. Играл он хорошо, голос у него был звучный и красивый.
Прасковья Федоровна грамоте не была обучена, но она обладала богатой фантазией, сама придумывала узоры для вышивки ковров и шалей и часто вплетала в узор увиденные в природе мотивы трав и цветов. Она умела вязать кружева и была хорошей хозяйкой. Характера она была неразговорчивого, даже сурового. Вина не пила, только на свадьбе своей пригубила от чарки.
Вскоре после замужества родилась у нее дочь Екатерина.
Дом, в котором теперь жили Суриковы, был построен самим Иваном Васильевичем. Старый дом-Петра Кривого на. Качинской сгорел во время пожара. Новый двухэтажный рубленый дом одной стеной выходил на Благовещенскую улицу. Вход был через крылечко, со двора, обнесенного глухим забором. При доме было хозяйство: баня, конюшня, сарай для саней и тарантасов, огород.
В низеньких светлых комнатах все было чинно, все дышало спокойствием и суровой сдержанностью.
Здесь в январе 1848 года и родился мальчик Василий, здесь провел он первые пять лет своей жизни.
Подле матери Прасковьи Федоровны жилось интересно. В ее сундуке лежали пестрые сарафаны, расшитые шугаи, узорчатые дорогие шали, телогрейки на меху, парчовые повойники. А в подполье дома, как реликвии, хранились синие мундиры и кивера с помпонами — казачья амуниция екатерининского времени. Там же сберегались старинные седла, ружья, пистоли, ятаганы, шашки.
А еще там было множество старых книг в кожаных переплетах, с пожелтевшими страницами. Вася любил листать эти книги, разглядывать картинки, рыться в груде диковинного оружия — какие-то тяжелые пищали, изъеденные ржавчиной шашки. Нравилось ему примерять амуницию, она приковывала его воображение к славе далеких предков.
Еще совсем маленьким Вася неизменно становился у окна, если казачий полк, в котором служил его отец и двое дядей, проезжал по Благовещенской улице. Они оборачивались к окну и шутя грозили ему пальцем. А мальчик стоял, сияя от счастья и гордости.
Дедов по многочисленной родне у Васи было много. Об одном из них, полковом атамане Александре Степановиче Сурикове, с лицом «темным, как голенище», о его силе непомерной ходили легенды. Рассказывали, что однажды в непогоду, заметив, как оторвался на Енисее плот, он успел схватить конец каната и по колени в землю ушел, но удержал плот возле берега, пока не подоспели товарищи.
Как-то Александр Степанович приказал сшить для Васи шинельку по казачьему образцу.
— Я, — говорит, — его с собой на парады буду брать. Шинельку сшили, и Вася садился позади деда на дрожки с
высоченными колесами и ехал с ним в поле смотреть, как проводили казаки маневры нападения с пикой.
Однажды во время маневра заехала в поле баба на телеге. Баба растерялась — не знает, куда поворачивать, а дед Александр Степанович хохочет, кричит ей:
— Эй, кума, кума! Куда заехала?
То-то казаки потешались, а Вася, глядя на испуганную бабу, покатывался со смеху.
Был еще у Васи дед — Василий Матвеевич, по прозванию «Синий ус», — он писал стихи. Василий Матвеевич был человеком необузданного, крутого нрава. Когда на полковом смотру командир чем-то оскорбил его, он недолго думая сорвал с плечей своих круглые эполеты, «ватрушки», и отхлестал ими своего командира по лицу, за что был примерно наказан.
Родной дед Васи, Василий Иванович, страстный охотник, любил целиться, положив ствол ружья между ушей своего любимого коня — Карки. Василий Иванович был метким стрелком, никогда не давал промашки.
Однажды уже семидесятилетний Василий Иванович решил тряхнуть стариной: оседлал Карку и поехал охотиться в тайгу. Приметил Василий Иванович птицу, приложился к ружью, а конь возьми да поведи ухом! Тут в первый раз в жизни Василий Иванович промахнулся и так рассвирепел, что откусил коню край уха. Так конь Карка и доживал век без уха, и пользовался он всякими поблажками: в сусек влезет и весь в муке вымажется, в огород забредет, в сени за хлебом вломится — все ему прощалось.
…Были еще у Васи двое любимых дядей — отцовы братья. Один, по имени Марк, а другой, как и Васин отец, — Иван. В старину при крещении ребенка поп часто сам давал имя новорожденному, не спрашивая родных, и потому в семьях случалось по два Ивана, Петра или Степана.
Дядя Иван Васильевич жизнь прожил интересно. Довелось ему сопровождать одного декабриста: из Сибири на Кавказ. Вернулся он с Кавказа с подарком от декабриста — дорогой шашкой — и полный восхищенья Лермонтовым, с которым там встретился.
С тех пор дядя Иван изучил все стихи и прозу Лермонтова и вдохновенно читал их Васе. За Лермонтовым последовал Пушкин, а потом читали даже Мильтона; перевод «Потерянного рая».
Марк Васильевич тоже, стремился к культуре, выписывал журналы «Современник» и «Новоселье». Он знал обо всем в мире искусства: рассказывал; что из Рима вернулась картина Иванова «Явление Христа народу» или что в Литере открыли Исаакиевский собор; показывал Васе снимки ассирийских памятников, которые приводили Васю в восторг.
Но оба они — Марк и Иван Васильевич — умерли молодыми от чахотки: застудились на параде, стоя в сорокаградусный мороз в одних мундирчиках.
Уже совсем больным, в своей невысокой комнатке ори свете сальной свечи дядя Марк вслух читал Васе первую для него большую книжку — «Юрий Милославский» Загоскина. Вася слушал затаив дыхание, тесно прижавшись к локтю больного дядьки.
Марк Васильевич умер. Вася увидел его в гробу и, улучив минутку, когда никого не было рядом, закрутил своему мертвому дядьке усы по-казачьи, книзу, чтоб у него и в гробу был достойный вид.
Хоронили дядю Марка всем полком и за гробом вели его оседланного коня.
Видно, в роду Суриковых была склонность к «грудной болезни». В 1854 году Иван Васильевич почувствовал себя больным и для поправки здоровья попросился на службу в село.
Просьбу его приняли во внимание и перевели в село Сухой Бузим, за шестьдесят верст от Красноярска.
Село лежало в степи, к северо-востоку от Красноярска, при слиянии двух речек — Большого и Малого Бузима. Опоясав село, оба притока соединялись и уже вместе бежали дальше— в Енисей. Степное приволье перемежалось осиновыми, березовыми перелесками, зарослями боярышника и черемухи. В лесочках по осени появлялась тьма-тьмущая рыжиков и опят. В Большой Бузим заплывали из Енисея окунь да хариус. А Малый Бузим так пересыхал за лето, что его в любом месте можно было вброд перейти, потому и прозвали село Сухим.
Дома в селе стояли рубленые, двухэтажные, как крепости, огороженные высокими глухими заборами. В степи под селом паслись стада рогатого скота и табуны коней. Земля была плодородная, хлеб родился щедро, покосы были богатые.
Дом, который снял для своей семьи Суриков, стоял, как фонарь, на юру и отовсюду хорошо был виден. Под самыми окнами протекала река.
Иван Васильевич все подготовил для переезда своих. Помогал ему работник Семен. Несколько дней подряд Иван Васильевич выходил на дорогу встречать семью. Наконец Прасковья Федоровна, уложив последнее и заперев дом на Благовещенской улице, выехала из Красноярска.
Через двадцать с лишним лет, уже будучи художником, Василий Иванович писал матери из Москвы:
«Сижу сегодня вечером и вспоминаю мое детство. Помнишь ли, мамаша, как мы в первый раз поехали в Бузим, мне тогда пять лет было. Когда мы выехали из Красноярска, то шел какой-то странник, сделает два шага да перевернется на одной ноге. Помните или нет? Я ужасно живо все помню! Как потом папа встретил нас, за Погорельской поскотиной. Как он каждый день ходил встречать нас. Приехавши в Бузим, мы остановились у Матониных. Как старуха пекла калачи на поду и говорила: «Кушай, кушай, Вася, пощё не ешь?» И многое, многое иногда припоминаю!..»
Медведи
По субботам во всем селе топили бани. Дымки в морозном воздухе стояли столбиками. Бузимовцы парились вениками в жарко натопленных баньках, выскакивали на мороз, валялись в снегу и обратно — в пар.
Через двор, по расчищенной меж сугробами дорожке, хорошо было в субботний вечер бежать за матерью из дома к бане. В черном небе стояла луна, и две легкие тени скользили рядом по сугробам. Вася смотрел на луну, и ему казалось, что у этой круглой рожи есть глаза и рот.
Однажды они оба до смерти напугались. Вышла, как всегда, Прасковья Федоровна с Васей из бани, глядит — забор меж дворами повален, а на столбе, весь черный при луне, сидит на задних лапах медведь. Сосед, казак Шерлев, держал его на цепи у себя во дворе. Видать, мишка с цепи сорвался, повалил забор и уселся на столб. Сидит, не шевелится.
Прасковья Федоровна, как увидела косолапого, прижала к себе сына и помчалась, не чуя земли под ногами. Уже в сенях еле отдышалась…
Второй раз довелось повстречаться с медведем на воле. Пошел Вася с бузимовскими ребятами в лес по ягоды. Незаметно забрели в глушь. Вдруг слышат мальчишки — хрустит что-то. Смотрят, а из-за деревьев медведь идет-переваливается прямо на них. Перепугались ребята, побросали лукошки— и наутек! А медведь — за ними. Бежит, не отстает. Добежали до опушки, через луг — к реке, да прямо с обрыва — в воду. Переплыли на другой берег, притаились в кустах и сидят.
И тут Вася увидел, как медведь с обрыва съезжал. Он, видно, пить захотел: сел на задние ноги, передние вытянул и как на салазках съехал по песчаному откосу к воде. И как ни страшно было, все равно ребята до слез хохотали, притаясь в прибрежных зарослях.
В Сибири человеку с медведем встретиться было не в диковину. Медведи сами часто выходили из тайги на тракт. Едет, бывало, почтовая тройка или путники на перекладных в дорожном тарантасе, вдруг лошади захрапят, замечутся, глядишь — это медведь на дорогу вышел. Лошади промчатся мимо, а медведь стоит, смотрит им вслед, потом потянет, потянет носом воздух, повернется и побредет домой — в тайгу.
Мальчишеские забавы
Семь лет было Васе, когда он сел верхом на Солового. Сел по-казачьи, как сидели в седле отец и дяди, ему хотелось походить на них.
Как-то вырядился Вася в новую шубку, подпоясался кушаком, попросил оседлать коня. Вскарабкался на седло и выехал за ворота. Гонит он коня, дергает уздечку, толкает ногами в бока, а конь знай домой заворачивает. А пора была весенняя: наледь и лужи. Поскользнулся Соловый, упал и сбросил Васю прямо в лужу. Стыдно было казаку возвращаться в намокшей шубе, — он пошел к соседям, обсушился, а уж тогда только вернулся домой.
А в другой раз решил Вася перескочить на Соловом через плетень. Очень хотелось ему научиться брать препятствия. Конь на лету и задень за плетень копытом. От толчка Вася перелетел через голову, перевернулся в воздухе и встал прямо на ноги лицом к коню. Соловый от удивления даже присел на задние ноги!
Как умели нырять и плавать бузимовские мальчишки! И столбиком, и на спинке, и саженками, не боялись с плотины в бурный поток кинуться, чтоб достать со дна горсть речного песка. Вася у них все перенял. Самое опасное и интересное было — нырять под плоты.
Однажды он нырнул, да не рассчитал и вынырнул раньше срока. Вода поволокла его под балками. Балки были склизкими, и между ними в щелях сияло небо. Здесь, под водой, мелькая в прорезях, оно казалось намного синее… Вася едва выкарабкался из-под плота и вылез на берег. Маленький, скуластый, с прилипшими ко лбу волосами, бледный, дрожа от страха и боли, в синяках и ссадинах от шершавых балок, он попрыгал на одной ножке (в левом ухе булькала вода), потом улегся на песок и закрыл глаза в изнеможении. Все казалось, что вода мчит его под балками и небо, как синими лезвиями, режет, режет его по телу… Ох, страшно!..
Вася вздохнул, открыл глаза. Над ним опрокинулось чистое небо, только сейчас оно было куда светлее! Он вскочил, натянул порточки и рубашку, подпоясался кушаком и пустился догонять товарищей…
Еще была радость — ходить с отцом на охоту. В первый же раз, как только получил ружье, удалось ему так метко при: целиться, что он снял глухаря с ветки. С тех пор отец часто брал его с собой в тайгу.
Однажды он намеренно отбился от отца и, заплутавшись, весь день пробродил в тайге один. Дичи настрелял уйму, но домой выбрался только к вечеру.
Солнце садилось. Еще издали Вася увидел на плотине отца и мать, в отчаянии карауливших его. Два тревожных силуэта на оранжевом фоне заката повергли Васю в смятение и страх. Он помедлил, хотел было спрятаться за стога, чуя расправу, но его заметили, закричали, замахали руками. Тогда, опустив голову, Вася быстро пошел навстречу. За плечами у него было ружьишко, в руке — груда связанных за лапки тетерок и рябчиков.
Разъяренный отец схватил сына за ноги, чтоб разложить его и высечь, а плачущая от счастья мать схватила за плечи и потащила к себе, чтоб защитить от побоев. Чуть не разорвали мальчишку! Мать отстояла, простив ему в эту минуту все свое отчаяние, все тревоги, пережитые за несколько часов. А тревожиться было о чем — ведь мог и медведь задрать в лесу, и лихой человек обидеть, отнимая ружье. Кругом на дорогах и в тайге было полно ссыльных, беглых, бродяг-«варнаков», как называли их в Сибири.
Варнаки
— Что это словно по ногам очень дует? Ваня, а Ваня!
Прасковья Федоровна разбудила мужа. В открытую дверь спальни задувал сильный ветер.
Вся семья Суриковых спала на одной огромной кровати. Вася — всегда «на руке» у отца, сестра Катя и недавно родившийся брат Саша — по сторонам возле матери, а старшая — падчерица Лиза — спала поперек кровати, в ногах. И как это случилось? Уснули так крепко, ничего не слыхали. Д дверь взломана, раскрыта настежь. Сундук с материнским приданым открыт, и все как есть украдено. Тогда сестра Лиза вдруг припомнила, что кто-то словно по ногам/ ее толкал. Хорошо, что никто не проснулся, а то, пожалуй никому бы в живых не остаться.
А утром нашли на заборах вышитые платки и полотенца, да венчальное платье Прасковьи Федоровны пузырем всплыло на реке, прибитое к берегу. Вот они, варнаки-то! Уж как крепко на все засовы, на все болты замыкали Суриковы двери и ставни на ночь, а все равно не убереглись от разбойников!
А однажды пришлось Васе с варнаком на большой дороге повстречаться. Ехали они тогда с матерью и сестрой Катей в Красноярск. Дорогой забила Васю лихорадка, видно, застудился где-то. Уложила его Прасковья Федоровна в тарантасе, укрыла кошмой потеплее, он и заснул.
Той порой проезжали место, где тайга близко подходила к дороге, и вдруг вышел на тракт человек — кудлатый, бледный, в красной рубахе. Он молча остановил лошадей, подсел на облучок и, взяв у перепуганного ямщика вожжи из рук, свернул с дороги в лес. Слышит Прасковья Федоровна, как разбойник говорит ямщику:
— Что ж, до вечера управимся с ними?
Поняла она, что попала в беду, затряслась вся, вскочила. Тут Вася открыл глаза, очнулся от лихорадки и видит, что мать одной рукой разбойнику деньги сует, а другой детей загораживает и плачет:
— Что хотите берите, только не убивайте! Дети ведь малые!..
Выручил их священник, что случайно по тракту со своим работником проезжал. Разбойник услышал, что едут, соскочил с облучка и скрылся в лесу, только красная рубаха замелькала в зелени… На всю жизнь запомнил Вася бледное чернобородое разбойничье лицо с бегающими глазами и дырявую кумачовую рубаху.
Черемуха
Сибирская черемуха — ягода особая. Крупная, черно-коричневая и терпко-сладкая. Собирают ее созревшую и сушат в печи, на поду, до шелеста. Потом толкут в порошок. Из толченой черемухи, распаренной с сахаром, делают знаменитые сибирские шаньги — треугольные и круглые ватрушки, смазанные сверху сметаной.
Прелесть какие шанежки пекла Прасковья Федоровна! Она начиняла их черникой, и черной смородиной, и черемухой. А каких только лепешечек из лесных ягод не заготавливалось на зиму! Их сушили и вялили на листьях в протопленных печах на поду, как сушат грибы, коренья и травы. Вася туесами приносил из тайги грибы и ягоды для зимних заготовок. И эта любовь к душистым, терпким ягодным яствам осталась у него на всю жизнь.
Двадцать пять лет спустя, работая над картиной «Утро стрелецкой казни», Василий Иванович просил прислать ему из Сибири какую-то шапку для стрельца. В этом же письме он писал: «Сегодня утром стою и смотрю на ту сторону, где наша Сибирь и Красноярск. Так бы и полетел к вам. Ну, бог даст, увидимся… Вот что, мама: пришлите мне сушеной черемухи. Тут есть и апельсины, и ананасы, груши, сливы, а черемухи родной нету…»
В Торгошине
Укутанный до глаз, прижавшись к матери, сидел Вася в сибирской кошеве, широкой и высокой, как горница. Ехали через Енисей в Торгошино. Ледяные буруны Енисея громоздились глыбами. Дорога была тряская — ледяные волны не укатаешь!
Васе хотелось высунуться, рассмотреть все получше. Но Прасковья Федоровна крепко держала его за плечи, пока не переехали Енисей и не выбрались на ровную, накатанную полозьями дорогу. Лошади резво бежали, и серебряные валдайские колокольцы под дугой вели чистый перезвон в сухом морозном воздухе. Жгучий мороз щипал за нос и за щеки, норовил пролезть под кошму, но отец положил сверху старую свою доху из козули. Под ней не озябнешь.
А в Торгошине их ждали жарко натопленные горницы. Их ждало угощенье за столом с большим медным самоваром и, уж конечно, миска с дымящимися пельменями, румяные шанежки и ароматное варенье…
Деревянной ложкой Вася уплетает пельмени, поглядывая на сидящую вокруг многочисленную родню. Больше всех он любил маленькую Таню — дочку Степана Федоровича и Авдотьи Васильевны. Таня сидит напротив — приветливая, с такими же карими глазами, как у Васи, поминутно улыбается ему и подмигивает: «Ешь, мол, пельмешки, голодный ведь с дороги!»
Прасковья Федоровна ест неторопливо, словно нехотя, и рассказывает городские новости. Братья и невестки слушают, расспрашивают.
После чая раскрасневшаяся гостья сбросила шаль с плеч, улыбнулась и говорит:
— А спойте-ка нам, сестрицы, давно мы песен ваших не слышали!
Сестры переглянулись, пошептались, и вдруг одна из них затянула ровным низким голосом: «Свила птаха гнездышко». Три голоса подхватили песню, потом влились еще три высоких и чистых, как ручьи, и потекла песня рекой, то перехваченная одним альтом запевалы, то вновь вбирая высокие голоса и разливаясь в многоголосии….
Вася слушал, слушал, и ресницы его стали слипаться от усталости, горячего чая и радушного тепла торгошинских печей.
— Эй, казак! Уснул, что ли? — тормошит Васю дядя Гаврила Федорович,
Все смеются: мать, дядя Степан, худая бледная жена его — тетка Авдотья, а звонче всех — шестилетняя Танечка.
— А ты, Авдотья, еще похудела? — вглядываясь в лицо невестки, говорит Прасковья Федоровна.
— К расколу ее тянет. В скит все ездит, — отвечает за жену Степан Федорович, поглаживая свою черную, как уголь, бороду.
— Дяденька, а что такое раскол? — отваживается спросить Вася, искоса поглядывая на тетку Авдотью.
— Раскол-то? А это ты у своей крестной, у Ольги Матвеевны, спроси. Она вон тоже по скитам все ездит.
Ольга Матвеевна, стройная, высокая казачка с широко расставленными серыми глазами, подходит к Васе:
— Пойдем, крестник, я тебя спать уложу. Гляди, какой сонный, будто зимний карась.
Вася встал из-за стола, но сон вдруг улетучился.
— А про раскол расскажешь? — спрашивает он.
— Ладно, ладно, пойдем, там видно будет.
И вот лежит Вася, уже раздетый, на большой кровати с перинами и подушками, в гостевой горнице. Прохладная холщовая простыня щекочет пятки и саднит шею, ежели вертеть головой. Бревенчатые стены горницы потемнели от времени, низенькие оконца закинуты ставнями на болтах.
Ольга Матвеевна сидит рядом на скамеечке. Масляная лампа неярко освещает ее руки, проворно вяжущие рукавицу.
— Ну расскажи про раскол-то, обещала ведь! — Вася приподнимает с подушки кудлатую голову.
— Раскол — дело давнее. Это лет двести тому назад, при царе Алексее случилось. Был тогда главный поп — патриарх Никон, и вздумал он проверить, как в церквах служат. Пошел по церквам московским, видит — во всех попы по-разному молитву творят.
— А почему так? — удивляется Вася.
— Всё из-за книг; Книг-то печатных тогда не было, монахи их от руки переписывали, вот каждый и писал молитвы как ему вздумается. И приказал тогда Никон во всех церквах по одному молитвеннику служить — по греческому.
По греческому потому, что вера-то православная к нам оттуда пришла. Ну, тут одни попы согласились по-новому службу править, а другие отказались: «Мы, говорят, только по-старому молиться будем». Вот они и стали прозываться старообрядцами. Отсюда и пошел раскол. Никонианцы стали креститься трехперстным знамением — щепотью, а старообрядцы-раскольники смеялись над ними, говорили, что щепотью только табак нюхают да кашу солят, а крёстное знамение надо класть двуперстное.
— А я знаю, вот так!.. — Вася сложил руку, вытянув второй и третий пальцы кверху, точь-в-точь как на иконе, что у них в столовой висела. А кто же в раскол-то пошел? — Вася глядит на тетку темными немигающими глазами.
— Народ, все больше бедный. Крестьянские мужики, ремесленники да купцы, что победнее. А богатые да знатные, те ближе к царю были, не с руки им было против царя да Никона идти. Но была, Вася, одна боярыня. Звали ее Федосья Прокопьевна Морозова. Богатая была барыня… Вот она-то пошла в раскол. И сестру свою — княгиню Урусову — на старую веру переманила.
— А где она жила?
— В Москве, Васенька. У нее был богатый двор, и к тому двору все старообрядцы тянулись, всем она помогала. Все свои богатства эта боярыня раскольникам раздала. И так она была упорна, что ни царь, ни патриарх не могли заставить ее отречься от старой веры. Мучили ее, батогами били, пытали, на дыбу поднимали, руки выворачивали, и все требовали: «Отрекись!» А она знай кричит: «Огнем спалит меня на костре, смерть в огне приму, как избавление! Праведницей стану, мученицей, в радости и ликовании!»
— Ну и что, спалили ее? — спросил Вася шепотом.
— Нет, побоялись, что народ ее святой посчитает, бунтарку-то непокорную. И отвезли ее вместе с сестрой в город Боровск в монастырь, посадили в яму и стали голодом и холодом морить. Сидят они в яме, цепями прикованные, а возле ямы страж ходит. Вот боярыня и говорит: «Миленький, дай хоть корочку, не мне — сестре, видишь, умирает!» А сама смотрит на него из ямы. Щеки ввалились, лицом бледная-бледная, как воск прозрачная, а глаза горят, так и светятся из темноты. Страж смотрит на нее, сам плачет, а корку дать боится — не приказано. «Не могу, говорит, боярыня, голубушка»! А боярыня посмотрела на него и засмеялась так страшно: «Спасибо тебе, что терпение мое укрепляешь!..» Тут они обе вскорости и померли. Схоронили их там, плиту каменную над могилой положили. С той поры к плите этой все раскольники на поклон ходят, свято место для них…
Ольга Матвеевна замолкла. Вася сомкнул отяжелевшие веки и засопел. Со скрипом отворилась дверь, вошла Прасковья Федоровна. Ольга Матвеевна прижала палец к губам и бесшумно поднялась со скамьи.
Они стояли над мальчуганом, ни сном ни духом не ведая, во что претворится для него незатейливый теткин рассказ.
Девятая верста
Васе исполнилось восемь лет — пора учиться, а в Бузиме школы не было. Решили отвезти его в Красноярск.
Дом на Благовещенской пустовал, и Прасковья Федоровна привезла Васю к крестной матери — Ольге Матвеевне Дурандиной. Та с радостью приняла крестника, отвела ему комнатку, где он должен был жить всю зиму, до летних каникул.
В те времена в школах с учениками не церемонились. Учителя были грубы и безжалостны. За малейшую провинность хлестали ученика линейкой, угощали зуботычинами, ставили на коленки на «дресву» — щебень, чтобы больнее было.
Вася сначала попал в старший подготовительный класс. Мальчики учились там по второму году, а он ничего не знал.
Вот и начали мальчишки изводить новенького, а учителя — браниться.
Мать, погостив несколько дней у Дурандиных, оставила Васе рубль пятаками и собралась ехать домой, закупи в Красноярске все необходимое для дома. Вася в это утро собрал в: сумку книжки и тетради, простился с матерью и пошел в школу. И так вдруг не захотелось ему входить в это противное, казенное здание, встречаться с этими злыми учителями и чужими мальчишками, что он подумал-подумал да и свернул в сторону. Вышел задворками на Енисейский тракт и решил бежать домой — в Бузим. Надвинув на лоб свою маленькую черную скуфейку, закинув за плечо сумку с книжками, он зашагал по обочине. Так дошел он до девятой версты. Тут почудилось ему, словно вдали кто-то едет. Лег на дорогу, совсем как путник в книжке «Юрий Милославскии», приложил ухо к земле, стал слушать. Земля отдавала глухим топотом копыт.
Только успел он вскочить на ноги, глядит — нагоняет его знакомый тарантас: Соловый и Рыжий в упряжке, а на козлах — Семен. Вася кинулся в поле, к стогам. Но Прасковья Федоровна тут же заприметила Васину скуфейку:
— Стой-ка, Семен! Никак, наш Вася?
Лошадей остановили. Прасковья Федоровна выбралась из тарантаса и окликнула сына. Вася молчал. Потом вдруг с плачем перебежал поле и бросился матери на шею. Так они и стояли на дороге обнявшись, и оба плакали. Прасковья Федоровна принялась ласково корить сына:
— Что же ты, Васенька, наделал? Неучем хочешь остаться? Ведь папа рассердится, если я привезу тебя обратно… Садись-ка лучше, я сама тебя отвезу в школу, и никому не скажем.
Вася молча влез в тарантас и поехал с матерью обратно. Прасковья Федоровна попросила в школе перевести сына в младший класс. Когда дверь за Васей закрылась, она долго еще караулила его, сидя в тарантасе возле школы, не решаясь пуститься в обратный путь. А потом выехала из города, не заезжая к Дурандиным. Так и остался этот побег в тайне от отца и от Ольги Матвеевны.
С той поры Вася стал учиться вместе со сверстниками. Он боялся унизительных наказаний и потому старался изо всех сил. К новому году он стал одним из первых в классе…
Но девятую версту запомнил на всю жизнь. Много лет спустя, приезжая из Москвы, на вопрос брата: «Ну, куда поедем погулять?» — Василий Иванович отвечал:
— Давай-ка на девятую версту. Люблю это место!
Первые рисунки
— Ты что ж это делаешь, непутевый мальчишка? Опять стул испакостил? Ну скажи на милость, где-то гвоздь раздобыл! — сердилась Прасковья Федоровна, застав Васю на месте преступления.
Гвоздь отнимали. Васю сажали в угол, а иногда и шлепали. Но проходило время, и он снова не мог удержаться, чтоб не нацарапать гвоздем рыбку или домик на сафьяновом сиденье стула, к которому он подходил словно к столу. Было Васе тогда четыре года.
Потом он начал рисовать угольком или карандашом на бумаге. Хотелось нарисовать самое любимое — лошадь! Но Васе никак не удавались ноги — они либо вовсе не гнулись, или подгибались все сразу. Первый, кто показал Васе, как скреплена лошадиная нога суставами, был работник Семен. У него очень ловко все выходило: у шагающей — передняя нога выбрасывала копыто вперед, у скачущей — ноги распластывались в воздухе, у стоящей на дыбах — задние крепко упирались в землю, а передние сгибались в коленках легко и грациозно. Вася скоро сообразил, как расчленяются движения лошадиных ног, и свободно рисовал лошадей во всех видах.
Потом захотелось попробовать рисовать в цвете. В доме висела гравюра — портрет Петра Первого. Вася срисовал ее угольком, а потом раскрасил: мундир — синькой, густо разведенной, а отвороты — красным, давленой брусникой… Но все это было, пока в школе Вася не начал заниматься рисованием. Арифметика и алгебра — науки не трудные, если только не прозеваешь правила и запомнишь с самой первой страницы учебника. История — совсем легкий предмет, заучить надо только хронологию, а события сами запоминаются, стоит лишь хорошенько представить себе, как все это было. География. Ох уж этот учебник географии! Как сухой горох лущишь. Карты, таблицы, широты, границы!.. На севере — тундра, мох, лишайник, чахлая растительность… Ничего не понятно и совсем не интересно! А стоит пойти в воскресенье на большой базар, непременно встретишь людей из тундры. Тут и увидишь, во что они одеты, на чем приехали, что привезли, что увезут, — все узнаешь! А чего не поймешь — расспросишь у бывалых людей, вот тебе и география!
Но самый любимый урок — рисование. К нему Вася готовился заранее: оттачивал карандаши, запасался резинками, красками, альбомами.
Учитель рисования Николай Васильевич Гребнев совсем не похож на всех других. Человек спокойный, тихий, никогда не кричит, не хлопает линейкой по пальцам, не бранится.
Вася знал, что Николай Васильевич окончил в Москве Училище живописи и ваяния и все-таки не остался там, а приехал в такую даль, чтобы поделиться с ними, со школьниками, всем, чего достиг сам. Он учил наблюдать, думать и, самое главное, видеть и любить красоту. Он мог часами рассказывать ученикам о картинах Иванова, Брюллова, Боровиковского, Федотова, Айвазовского…
Что знал о них Вася раньше? Ничего! В Красноярске не было ни музеев, ни выставок. Единственные картины, которые ему случалось видеть, были бузимовские лубки в домах, да у казаков Атаманских висели три картины: на одной из них изображен умирающий рыцарь в латах и дама, зажимающая ему рану платком, да еще два портрета каких-то генерал-губернаторов. Правда, дядя Марк Васильевич очень ловко копировал картинки из журналов, среди них попадались репродукции настоящих художников. Да был еще у Суриковых свойственник — иконописец Хозяинов. Его картинки, религиозного содержания, украшали дом Дурандиных. Вот и все, что ему было известно о живописи.
Когда Николай Васильевич впервые показал одиннадцатилетнему Васе репродукции знаменитых итальянских и русских художников, для него открылся новый, полностью захвативший его мир.
Гребнев заставлял его копировать гравюры с картин Брюллова, Боровиковского, Неффа, Рафаэля и Тициана.
Сначала у Васи ничего не получалось, он просто плакал от огорчения, и тогда сестра Катя утешала его:
— Ничего! Выйдет, не плачь!..
И Вася снова принимался рисовать, пока не добивался своего. Потом он пробовал раскрашивать эти рисунки, и получалось очень хорошо, хотя он даже не представлял себе, какими были цвета в оригинале. Тут он угадывал — помогало собственное чутье.
С Гребневым Вася крепко подружился. Вместе они ходили на Часовенную гору, писали акварелью Красноярск, что раскинулся под ними. Вместе ездили на Енисей, к горным кряжам — Столбам, в тайгу. И понемногу приучался Вася рисовать с натуры.
Пробовал он рисовать и в доме. Комнаты были низкие, и фигуры ему казались огромными, поэтому он всегда старался либо горизонт опустить пониже, либо фон сделать поменьше, чтобы предметы и фигуры казались больше. А дело было в том, что сам-то Вася был невысокого роста и просто еще мал!
Вася умел во все вглядываться. Смотрит в лицо человеку, примечает, как глаза расставлены, уши посажены, нос и ноздри лепятся на лице. Зажгут свечу — он смотрит, как колышется пламя и колеблются тени на стене. Покроется мать платком, а он глядит, как ложатся складки возле лица. Во дворе и на улице присматривался, как выгнуты полозья у саней или колесо сидит на оси. Встретили на базаре остяков — с интересом разглядывает расшитые бисером вставки на груди и плечах их оленьих малиц и какие на них меховые сапоги — унты, украшенные бисером и цветной лосиной кожей. На масленичном гулянье примечал раскрашенные дуги и резные передки у саней, запоминал узор на тюменском ковре, которым крыта чья-нибудь кошева.
Ничего не ускользало от Васиного жадного глаза, и все откладывалось в благодарной памяти, чтобы потом, когда придет время, ожить на холстах под кистью мастера.
Без отца
Пятый год жили Суриковы в Сухом Бузиме. Вася каждое лето приезжал туда на каникулы. Прасковья Федоровна не могла, бывало, дождаться того часа, когда сядет в тарантас и отправится в Красноярск за своим дорогим Васенькой.
Но в этом, 1859 году не суждено было Васе провести лето в Бузиме. В феврале Ивану Васильевичу стало совсем худо, и 17-го числа он скончался. В жизни Суриковых все перевернулось, словно покатилось под откос.
Прасковья Федоровна, от горя высохшая в комочек, похоронила мужа на сельском кладбище. Она больше ничего не ждала, ничего не хотела. И так-то неразговорчива, а уж тут и совсем примолкла. Через месяц вместе с Васей приехал за ней брат Гаврила Федорович.
В весенний день великого поста поехали они — Прасковья Федоровна с братом, Вася, Катя и трехлетний Саша — на могилу Ивана Васильевича. Снег еще не стаял. Мать бросилась потемневшим лицом на могильный холмик, прямо в сугроб, и запричитала в голос.
В смятении и растерянности слушали дети этот надрывный, высокий голос, горький, безутешный плач. Дядя Гаврила стоял безмолвно, терпеливо, все понимая…
Наконец Вася с Катей, настрадавшись и наплакавшись, насилу оторвали мать от могилы и почти на руках отнесли, надломленную и притихшую, в сани. Еле увезли с кладбища. Вася все оборачивался на могилу отца, пока она не скрылась из глаз.
Через несколько дней Суриковы навсегда распрощались с Сухим Бузимом, где были прожиты последние счастливые годы и пережито первое тяжкое горе.
Гаврила Федорович помог сестре собраться и переехать в Красноярск. Поселились на Благовещенской, в первом этаже дома, выстроенного Иваном Васильевичем. Падчерица Лиза осталась в Бузиме, — она уже два года как вышла замуж.
После степной глуши Красноярск показался чуть не столичным городом, хоть его немощеные улицы по весне и осени утопали в непролазной грязи. А по ночам город погружался в непроглядный мрак: уличных фонарей и в помине не было, а про водопровод и говорить не приходилось. А дворы!.. Глухие высокие заборы, за которыми жили большими семьями, засветло запирая от лихих людей двери и ставни на болты! Близкое золото в горах накладывало свою печать на быт сибиряков. Рядом со скудостью и нищетой — несметные богатства золотопромышленников. Вроде бы и каждый мог найти «золотишко», только не каждому доступно было искательство… Неохотно общались друг с другом сибирские семьи, разве что родня. А уж приезжих да пришлых и вовсе чуждались. Жили уединенно, изредка навещала Суриковых торгошинская родня. Сами в Торгошино уже не ездили и коней продали.
По смерти мужа назначили Прасковье Федоровне крохотную пенсию — три рубля в месяц. Пришлось сдать верхний этаж жильцам. Снял его командир енисейского казачьего полка Иван Иванович Корх, женатый на дочери красноярского губернатора Замятнина.
Корх платил за верх десять рублей в месяц. Вместе с пенсией это составляло те тринадцать рублей, на которые предстояло существовать всей семье. Прасковья Федоровна с Катей стали брать заказы на вышивку и плетение кружев.
Вставали в доме до света. Перед уходом в школу Васе полагалось наколоть дров и натаскать воды из колодца. Мать держала детей в строгости — ничего нельзя было сделать и никуда пойти без ее разрешения.
По вечерам Катя с матерью вышивали при свечах в пяльцах, а Вася, покончив с уроками, играл на отцовской гитаре или рисовал. Этого любимого дела он не оставлял и по-преж1 нему крепко дружил с Гребневым.
Пришла весна 1861 года. Вася с отличными отметками закончил школу. Минуло ему тринадцать лет. Осенью он должен был перейти в красноярское приходское училище. В день окончания школы заместителю губернатора Родикову была преподнесена акварель, изображавшая букет живых цветов.
Старик надел очки и долго, с интересом рассматривал рисунок, потом спросил:
— Кто рисовал?
К нему подвели Васю Сурикова. Старик поглядел на него поверх очков и сказал:
— Ты будешь художником.
Николай Васильевич Гребнев расцвел от удовольствия и гордости за своего любимца, которого перед тем долго уговаривал написать эти цветы. Вася стоял молча, но все в нем горело. Ему страшно, хотелось поверить в это предсказание.
Как в тумане шагал он домой по. деревянным тротуарам и в мозгу и сердце нес слова-старого Родикова. Долго потом он не мог освободиться от этого полного надежд и тревоги-ощущения.
Эшафот
Наверное, все мальчишки во всем мире и во все времена любили зрелище. Редкий мальчишка не остановится там, где собралась толпа.
В картинах Сурикова главное действующее лицо — народ, а где народ, там непременно мальчишки.
Везут боярыню Морозову в Кремль на допрос — мальчишки тут как тут! Те, что порасторопнее, протискиваются вперед, оказываются участниками события. А те, что побоязливее, лезут на забор, цепляются за церковный ставень, подтягиваясь кверху, чтобы влезть повыше, ведь за взрослыми ничего не увидишь…
Или вот картина. Туманное утро на Красной площади. Царь Петр судит стрельцов. На Лобном месте, откуда обычно царские дьяки объявляли приказы, полно народу, и, уж конечно, там толкутся мальчишки. Один даже старается влезть на столб, к которому прибита «позорная доска» с именами бунтарей. Еще какой-то паренек виден со спины, он взбирается на круглую ограду Лобного места…
А вот «Взятие снежного городка». Ну, тут уж мальчишкам раздолье! Они машут хворостинами, кричат во все горло и принимают самое горячее участие в старинном народном игрище.
Суриков с детства знал этих отчаянных сибирских мальчишек, они сидели с ним рядом за партой в училище. Красноярское училище помещалось вблизи городской площади, на которой в те времена возвышался эшафот для казней и публичных наказаний за всякие провинности. Нравы в ту пору были жестокие, — царское правительство тяжко наказывало провинившихся.
Из окон класса, где учился Вася, видны были площадь и черный эшафот, на котором палач в красной рубахе и широких черных портах высоко над толпой похаживает с плетью. Школьникам была слышна барабанная дробь, которой сопровождались экзекуции, видна свистящая в воздухе плеть, но редко, сквозь барабанную дробь, слышны были вопли наказуемого, — кричать считалось позором, надо было терпеть молча. Красноярские мальчишки не боялись палачей, они знали их даже по именам: палач Сашка, палач Мишка.
Вася все воспринимал по-своему, необычно, и к эшафоту он относился словно к какой-то суровой исторической необходимости. Но иногда все, что там происходило, вызывало в его воображении сильные поэтические образы, он вдруг вспоминал строчки из лермонтовского «Купца Калашникова»:
По высокому месту Лобному Во рубахе красной с яркой запонкой, С большим топором навостренными, Руки голые потираючи, Палач весело похаживает…Дважды Васе довелось увидеть смертную казнь. Один раз казнили мужиков за поджог. Двое молодых, один старик. Все трое в белых рубахах. Их везли к месту казни в телеге, и рядом с телегой, в голос причитая, бежали их жены и матери. Приговоренных поставили на помост. Солдаты взвели курки. Раздался залп. Белые рубахи пошли красными пятнами. Все трое упали, но Вася, оцепенев от ужаса, увидел, как один молодой поднялся и встал. Снова грянул залп и опрокинул преступника, и снова он медленно начал подниматься. Тогда подошел офицер и уложил его из револьвера.
Вася стоял сам не свой, он не мог опомниться от страшного зрелища, когда человека не могут заставить умереть. Долго перед ним маячила белая рубаха в багровых разводах.
Второй раз Вася видел казнь политического — поляка Флерковского. Его везли на телеге за город, и Вася с толпой сверстников пошел за телегой. Перед расстрелом Флерковский крикнул: «Делайте то же, что я!» Потом не спеша поправил на себе рубаху. Вася подумал: «Как же это может быть, что человеку умирать, а он еще рубаху на себе поправляет!» Тут раздался залп, и у Васи земля поплыла под ногами, так поразил его этот неистовый поляк.
Жизнь сибиряков всегда проходила бок о бок с каторжниками, беглыми людьми. Поджоги, грабежи, разбой на дорогах — все это было обычным явлением. И потому неудивительно, что красноярские мальчишки смотрели из окон школы на эшафот как на самое обычное явление в жизни города. А сколько ссыльных гнали по Московскому тракту! Их было видно издали: серое облако пыли клубилось над горизонтом. Потом слух улавливал мерное звяканье цепей: трын-трын-трын… Оно было неумолимо и заставляло сжиматься сердце. Арестанты шли рядами. Серые халаты, серые круглые шапки, серые от пыли бороды, серые от голода лица.
Впереди шли «уголовники», за ними «политические», в конце ехали телеги с больными, с матерями, женами и детьми семейных каторжников. А по бокам конвой — солдаты в белых рубахах, при винтовках со штыками и саблями наголо… Среди этих серых халатов — среди «политических» — было много врачей, учителей, адвокатов, литераторов… Сколько светлых умов, лучших людей России!.. А сколько их погибало на каторжных работах в рудниках, умирало на пересыльных пунктах от тифа, чахотки, холеры… И все же многие добирались до проклятого места вечного поселения, чтобы начать жизнь, полную геройских усилий в неравной битве за счастье народа и торжество истины…
Кулачные бои
Еще с древности не переводились на Руси кулачные бои. На льду Москвы-реки слобода шла на слободу: кузнецы на бочаров, медники на суконщиков, мясники на гончаров. Начинали словно бы для потехи, а кончали кровопролитием и тяжкими увечьями. В Сибири этот обычай держался особенно долго.
Красноярские мальчишки часто дрались на улицах. Бывало, ученики духовного училища, семинаристы, шли стеной на гимназистов. Стычки эти происходили где-нибудь на широкой улице, зимой — на Енисее. С ожесточением тузили друг друга кулаками, но если кто падал, оставляли в покое: лежачего не бьют, это был закон.
Вася был непременным участником кулачных боев.
Если семинаристам случалось попасть в казацкую слободу, то тут уж дело миром не кончалось. Казаки начинали задирать семинаристов, а те отряжали гонца за подмогой к гимназистам. Гимназисты без промедления прибегали на зов, и тогда начинался такой бой, что к утру в больницу нередко привозили потерпевших с вывихами и переломами, а то и насмерть забитых.
Однажды Васе пришлось участвовать в рукопашном бою, где казаки быстро взяли верх. Гимназисты с семинаристами, оплошав, кинулись врассыпную. Вася очутился один в темном, узком переулке. Шесть человек кинулись за ним в погоню. Что тут делать? Вася летел, едва касаясь земли ногами. Видит — переулок заворачивает вправо, а за поворотом приоткрытая калитка. Вася скользнул в нее, набросил щеколду и, привалившись к калитке всем телом, стал выжидать. Преследователи промчались мимо, потом, потеряв его след, кинулись назад. Вася стоял ни жив ни мертв — а ну догадаются? Но погоня вновь проскочила мимо, не подозревая, что их жертва в двух шагах за частоколом. Вася прислушивался к удаляющемуся топоту, и вдруг перед ним отчетливо всплыла картина. «Вот, верно, так же, — думал он, — прятался от стрельцов за дверью боярин Артамон Матвеев, когда поднялась дворцовая междоусобица между Нарышкиными и Милославскими. И так же слышал он движение тел, топот ног и тяжелое дыхание бегущих мимо преследователей…»
Казаки долго еще колобродили где-то поблизости. Наконец все затихло. Уже светало, когда Вася приоткрыл калитку: нигде никого! Он дошел до перекрестка и в отдалении увидел казаков, взбирающихся на крутой обрыв. На фоне предутреннего серого неба один за другим возникали темные силуэты.
Домой Вася вернулся под утро. Прасковья Федоровна со свечой в руках встретила его, сурово насупившись. В душе она была счастлива, что Васенька пришел невредимым, но поняла: власть над сыном кончилась. В нем забродила старая закваска, пробудилась удаль предков — казачьих атаманов и есаулов. Больше сына не удержишь возле материнской юбки. Наступила буйная юность, когда крепнут мужество, выдержка, умение устоять самому и отстоять товарищей.
Товарищей было много, но двух, любимых, Вася потерял. Красавец, всеобщий баловень, семнадцатилетний Митя Бур- дин трагически погиб в одной из схваток с казаками… Бой уже кончился, ребята расходились по домам. Вдруг кто-то крикнул:
— Стой, не беги! Митю убили! Вася похолодел:
— Где?
— Да вон там, у ворот лежит.
Оба кинулись обратно, забыв об опасности. Раскинув руки, Митя лежал у чьих-то ворот на порозовевшем от зари снегу. На голове его зияла свежая рана. Белое неподвижное лицо было по-новому красиво и сурово. Медленно подходили к нему возвращавшиеся друзья и вставали вокруг него, сняв шапки. Вася смотрел на Бурдина. Но весь его ужас, всю жалость и все потрясение заслоняла мысль: «Вот так же, наверно, лежал царевич Дмитрий, убитый в Угличе по наущению Бориса Годунова…»
Утром дома Вася пытался зарисовать эту страшную сцену, но ничего не выходило. В памяти все было ярче и сильнее, чем под карандашом на бумаге.
Второй друг был Петя Чернов. Оба они с Васей любили пофрантить. Носили шелковые шаровары, вышитые рубашки, подвязанные шнуром с кистями. Поверх носили суконные поддевки, на головах ямские шапочки, на ногах до блеска начищенные высокие сапоги. У обоих из-под шапок выбивался лихой казачий чуб. По праздникам оба любили пройтись по улице с гитарой или гармонью. Пели песни, которые им сочинял один из друзей — Алексей Мельницкий.
Однажды на пасху Петя позвал Васю ловить рыбу в проруби. Лед еще не тронулся. Но Васе не хотелось уходить из дому в первый день праздника. Петя пошел один. Как же горевал потом Вася, что отпустил друга одного: пойди они вместе, может, ничего бы и не случилось… Через несколько часов узнал он, что Петя с кем-то поссорился, началась драка, кто-то ударил его по голове бутылкой, а потом его спустили под лед и убежали.
Так потерял Вася двух лучших друзей своей юности.
Икона
Сестра Катя вышла замуж. Высватал ее казак Сергей Васильевич Виноградов. После свадьбы молодые уехали в село Тесь, где служил Виноградов.
Прасковья Федоровна осталась с двумя сыновьями. После Катиного отъезда дом на Благовещенской как-то сразу поскучнел и притих, словно Катя вместе с девичьим смехом, с шуршаньем пышных юбок, со стуком каблучков унесла часть его души и молодости. Вася и Саша всячески старались развлечь Прасковью Федоровну и были всегда заботливы.
Пришлось Васе бросить училище — надо было зарабатывать на хлеб. Он устроился в губернский совет на должность писца.
Единственная радость осталась — рисование! Рисовал Вася все свободное время. Старался больше работать с натуры. Рисовал своих сослуживцев и дарил им портреты, чем расположил к себе всю канцелярию. Рисовал красноярских девушек, крестьян, казаков, писал окрестные пейзажи. Иногда удавалось подработать — на пасху разрисовывал яйца по три рубля за сотню.
Однажды в летнее погожее утро сидел Вася в переулочке, рисовал акварелью противоположную сторону с освещенными домами. Какой-то мужчина проезжал мимо верхом на великолепной лошади. Всадник поравнялся с Васей и остановился. Вася загляделся на лошадь.
— А икону можешь написать? — вдруг спросил проезжий.
— Конечно, могу, — пошутил Вася. Проезжий поверил.
— А где живешь?
— Да на Благовещенской, в доме Суриковых.
На следующий день незнакомец принес Васе огромную деревянную доску, разграфленную на квадраты.
— Вот. Надо написать «Богородичные праздники», в каждом окне по празднику. Понял?
— Понял. А краски где?
— Краски вот тебе.
Он достал из карманов поддевки четыре банки красок: черную, белую, красную и синюю.
Тут Вася догадался, что незнакомец от кого-то принял заказ на икону, а писать-то и не умеет…
Через два дня заказ был выполнен. Вася так хорошо написал «Богородичные праздники», что мужик, который уже с утра забежал к нему на Благовещенскую, ахнул и тут же утащил икону, заплатив художнику рубль серебром.
— Завтра святить в соборе будем! — крикнул он с порога. Назавтра у Васи так разболелся зуб, что мочи не было. И все же он не усидел, отправился к обедне в собор. Пришел, а икону уже освятили, несут из собора на руках, и народ под нее так и ныряет — думает, чудотворная! Рядом с попом идет купец — владелец иконы, что принес ее освещать в собор. И вдруг слышит Вася, как поп спрашивает купца:
— А кто же эту икону-то написал?
Тут Вася не удержался, подошел к ним и говорит:
— Я!
Поп посмотрел на него в изумлении, а потом рассердился: какой-то мальчишка смеет иконы писать! Побагровел весь и злобно прошипел:
— Ну так впредь икон не пиши!..
Муха
Канцелярская работа сушила Васину душу, он изнывал от тоски, ему хотелось писать, хотелось учиться, но ничего впереди не предвиделось. И вдруг повезло. Помогла… муха!
На какой-то деловой бумаге нарисовал Вася муху, и так точно, что столоначальник решил сыграть шутку и подложил эту бумагу на стол губернатору Павлу Николаевичу Замятнину.
Губернатор, выслушав доклад столоначальника, принялся обдумывать дела, шагая по кабинету. Проходя мимо стола, он заметил на бумаге муху и машинально смахнул ее рукой. Возвращаясь обратно, снова увидел муху на том же самом месте. Опять взмахнул рукой, а муха — сидит! Тут губернатор заметил, что муха нарисованная. Павел Николаевич вызвал столоначальника.
— Это кто сделал? — спросил он, указывая на рисунок.
— Писец Суриков из нашей канцелярии. Очень хорошо рисует, ваше превосходительство! — отвечал столоначальник, довольный своей хитростью.
Тут вспомнил губернатор, что его дочка, Варвара Павловна Корх, говорила, что сын Прасковьи Федоровны Суриковой, у которой они с мужем снимают верх дома, превосходно рисует.
— Так, так!.. А ну-ка позовите сюда этого Сурикова. Васю вызвали в кабинет губернатора. Сослуживцы переполошились — что теперь бедняге будет?
— Это ты рисовал? — спросил губернатор Васю.
— Я, ваше превосходительство.
— А еще у тебя рисунки есть?
— Есть, ваше превосходительство.
— Завтра принеси мне.
На следующий день Вася принес губернатору папку со своими рисунками; среди них был акварельный портрет самого Замятнина. Павел Николаевич внимательно разглядывал рисунки. Нашел свой портрет и спросил:
— А почему вы меня таким красным нарисовали?
— А у вас такой цвет лица, — ответил Вася, нимало не смущаясь.
Замятнин улыбнулся и вдруг предложил Васе давать уроки рисования своей младшей дочери. С этого времени Павел Николаевич всерьез заинтересовался судьбой молодого художника.
У Замятнина был еще один знакомый молодой художник — Шалин. Однажды Павел Николаевич попросил обоих художников принести ему свои рисунки. Вася принес копии с Боровиковского, Неффа, Тициана, Мурильо, кое-что из рисунков с натуры. Все это Замятнин отослал в Петербург, в Академию художеств.
Через несколько месяцев пришел ответ. Вице-президент Академии князь Гагарин сообщил Замятнину, что в Академии: согласны взять в число учеников двух этих способных молодых людей, но на содержание их, на дорогу средств отпустить, они не могут.
Павел Николаевич сообщил Васе о полученном известии. Васиной радости и удивлению не было конца. Но откуда же взять средства?
Начались мучительные поиски выхода. Вася весь горел, он плакал ночами. Он решил идти в Питер пешком. «Пойду с обозами, — думал он. — С лошадьми я обращаться умею, могу запрячь, отпрячь… Буду помогать в дороге. Буду коней и кладь караулить, вот и прокормлюсь как-нибудь. Ведь ехал же когда-то Ломоносов с обозом!..»
Но судьба решила иначе.
Сибирские меценаты
В доме Павла Николаевича Замятнина на званый обед собрались гости. Гости не случайные — самые именитые купцы города, и в их числе городской голова, золотопромышленник Петр Иванович Кузнецов.
После обеда Павел Николаевич приступил к важному разговору, ради которого все было затеяно. Видно, судьба молодого Сурикова не на шутку интересовала его, если он обратился к гостям с предложением собрать деньги по подписке и помочь молодому художнику выйти на широкий путь.
Купцы, которые ровным счетом ничего не смыслили в рисовании, глядели на хозяина осоловевшими после сытного обеда глазами и никак не могли взять в толк, чего ради губернатор так ревностно хлопочет за какого-то писаря. Только один городской голова Кузнецов сразу оценил намерения Замятнина.
Кузнецов был богат. Сам сибиряк, он владел приисками под Красноярском. В Красноярске у него был дом — и едва ли не самый роскошный во всей губернии. Петр Иванович обладал отменным вкусом, много ездил по европейским странам, прекрасно знал живопись, музыку, литературу. Дети его — три сына и четыре дочери — постоянно жили в Петербурге, каждое лето проводили месяц-два за границей, знали иностранные языки и были воспитаны по-столичному.
В доме у Петра Ивановича были полированные полы, дорогие ковры, огромные зеркала; тропические растения цвели в зимнем саду. Редкие коллекции фарфора и бронзы украшали гостиную, там же стоял прекрасный рояль, заваленный нотами, — дочери Кузнецова любили музыку. На стенах висели картины известных художников, и среди них был портрет деда Кузнецова работы Брюллова. Петр Иванович очень гордился этим портретом и показывал его гостям как самую большую ценность в своем доме…
Кузнецов отклонил предложение о подписке в складчину. Зная, что «именитые» не доросли еще до «потребности в изобразительном искусстве», он предложил взять на себя все расходы по содержанию и на дорогу в Петербург. Его — золотопромышленника — такая затрата не обездолила бы. Он предпочитал вложить частицу своего капитала скорее в будущий талант, чем в постройку еще одного храма, доходы от которого пойдут в глубокий карман поповской рясы. А вдруг и в самом деле из этого малого выйдет незаурядный живописец, который прославит Сибирь?
Через несколько дней к Ивану Ивановичу Корху, который по-прежнему жил у Суриковых, приехали Замятнин с Кузнецовым. Варвара Павловна послала вниз за Васей. Замятнин представил молодого художника Кузнецову и объявил о намерениях Петра Ивановича предоставить ему стипендию на первые годы обучения.
— Ну что ж, Суриков, поезжайте учиться в Петербург, ваше дарование стоит того!.. А вот как матушка? Согласится ли на ваш отъезд? — спросил Петр Иванович.
— Да я ведь ничего определенного ей не говорил, — пролепетал Вася, не смея верить случившемуся.
— Тогда, пожалуй, надо бы пригласить ее сюда, — сказал Замятнин.
Вася кинулся вниз за матерью. Прасковья Федоровна наскоро достала из сундука лучшее свое платье, канифасовое, повязала голову шелковым платочком и поднялась к квартирантам.
За вечерним чаем сидели у Варвары Павловны губернатор и городской голова. В полной растерянности Прасковья Федоровна молча поклонилась и села рядом с хозяйкой.
— Вот что, Прасковья Федоровна, — обратился к ней Замятнин. — Согласны ли вы, чтобы сын ваш стал художником?
Прасковья Федоровна вспыхнула и замахала обеими руками:
— Да что вы, что вы! Да как можно? Средств у нас для того нет никаких!..
После долгих выяснений и уговоров наконец удалось убедить Прасковью Федоровну в том, что у сына ее большой талант и что надо его непременно отправить в Петербург, в Академию, что там из него человек выйдет и что Петр Иванович поможет им. Прасковья Федоровна смягчилась, расплакалась и дала согласие на отъезд сына.
Поздно вечером гости собрались домой. С волнением поблагодарили Суриковы Кузнецова и Замятнина. Поклонившись по-старинному в пояс, Прасковья Федоровна взяла Васю под руку и спустилась к себе. Там ждал их истерзанный волнением брат Саша.
— Ну что? — спросил он у Васи, подпрыгнув от нетерпения.
— Все, Сашка, все! Еду в Питер! — кричал Вася, обняв брата так, что у того хрустнули кости.
В эту ночь Вася не мог заснуть от навалившейся на него радости. Казалось, весь мир перевернулся. Вася чувствовал прилив сил, он был полон надежд и какого-то сумасшедшего ликования. Он готов был каждую минуту петь, плясать и смеяться без причины.
Целый месяц жил он, опьяненный мыслью о предстоящем отъезде. Все казалось ему волшебно-прекрасным. Он приходил в канцелярию и ревностно брался за ненавистные ему ранее бумаги, доклады и приказы. Вся его скучная жизнь писаря озарялась теперь мечтой о будущем.
В Питер!
Морозная ночь стояла накануне отъезда Васи в Петербург. Ледяной ветер мел по Благовещенской улице поземку. В доме Суриковых далеко за полночь в окнах нижнего этажа горел свет, от окна к окну двигалась тень: Прасковья Федоровна собирала сына в дальний путь.
Вася, набегавшийся перед отъездом, богатырски спал, прикорнув на сундуке за печкой, и, наверное, видел беспечные юношеские сны — последние в родительском доме. Только перед рассветом мать прилегла отдохнуть. Но когда сыновья встали, уже в столовой кипел самовар, пахло свежеиспеченным хлебом; под полотенцем остывали румяные шанежки и пирожки на дорогу, были сварены яйца. А Прасковья Федоровна укладывала в мешочек заранее приготовленные и замороженные пельмени, они гремели в мешке, словно камушки. Эти пельмени бросали в кипяток на постоялом дворе, и через десять минут путешественникам был готов обед.
В корзину для провианта Прасковья Федоровна уложила куски вяленого на солнце оленьего мяса, которое сибиряки называли «пропастинкой», уложила любимого чая и горшочек свежесбитого масла. Баул с бельем и теплыми вещами был уже уложен. Саша помогал матери, изредка смахивая непрошеную слезу. Он страстно любил брата и втайне горевал о близкой разлуке. Он знал, что Вася едет не один, а со старым архитектором с кузнецовских приисков — Хейном, которого Петр Иванович посылает в Петербург на лечение. Он знал, что до Москвы едет с Васей молодой семинарист Дмитрий Лавров, способный художник, которого направляют в Троицкую лавру, в школу иконописи. И все-таки Саша беспокоился, уже тосковал и почти ждал писем с дороги, которая еще не началась.
Вася держался бодро, хоть забота подстерегала его словно озноб: как тут проживут без него мама и Саша? Прасковья Федоровна, то покрываясь багровыми пятнами, то вдруг бледнея, суетилась по дому — не забыть бы чего! Во внутренний карман Васиной поддевки она положила последние тридцать рублей, разменяв их на рублевые ассигнации, и для верности заколола карман большой булавкой.
Вася, как во сне, еще раз прошел по всем комнатам, втягивая всем существом дорогое тепло от печей, где в раскрытых дверцах по раскаленным углям гулял синеватый пламень. На столе в столовой стоял медный самовар, остывая; он еще тоненько пищал, словно скуля и прощаясь с молодым хозяином, который с детства привык глядеться в его медные начищенные бока, смеясь искаженному отражению. А в блюдце с недопитым Прасковьей Федоровной чаем гляделась зажженная перед образом лампада и колебался язычок пламени…
Неслышно ступал Вася валенками по домотканым половикам, и хотелось ему поклониться каждому кустику в цветочном горшке, и посидеть на каждом креслице, — к ним он когда-то подходил с гвоздем, чтобы оставить на них свои первые «творческие порывы» в виде незамысловатых рыбок и домиков. Все, все было до боли в сердце дорогим и близким…
За примороженными окнами послышался скрип полозьев и звон бубенцов. Приехали… Приехали за ним!..
— Васенька! — Прасковья Федоровна стояла в дверях с тулупом и шапкой.
Вошел запыхавшийся Саша, одетый в полушубок.
— Присядем! — сказал он.
Все присели в зальце, молча, как полагается, глядя друг на друга. Через минуту поднялись. Вася накинул тулуп, крепко обнял мать и брата. Решительно нахлобучил на свои черные как смоль вихры смушковую шапку, схватил баул и заторопился к выходу. За ним, с корзиной, вышел Саша. Прасковья Федоровна, не попадая в рукава, кое-как натянула шубу, закуталась в шаль и поспешила за сыновьями.
У ворот стояли две кошевы, запряженные тройками. От лошадей валил на морозе пар, они перебирали копытами, мотали головами с заиндевевшими челками. В кошевах сидели Васины попутчики. Он поздоровался, легко вскочил в первую кошеву и оказался рядом с Лавровым, закутанным в доху. Во второй кошеве сидел старичок Хейн. Саша подал Васе баул и корзину. Вася уселся на кошму, под кошмой было сено, под сеном два больших замороженных осетра, которых Петр Иванович Кузнецов посылал своей семье в Петербург.
У ворот дома сиротливо маячила темная фигурка Прасковьи Федоровны. Она пыталась ободряюще махать сыну рукавицей, но глаза ее из-под нависшей теплой шали, совершенно сухие, горели такой тревогой и тоской, что Вася рванулся к ней и вдруг завопил не своим голосом на всю Благовещенскую:
— Ма-амынька-а-а-а!..
Ямщик хлестнул лошадей. Васин вопль потонул в визге полозьев и в первом всплеске поддужных звонков. Пристяжные отвернулись от коренников, и обе тройки понеслись, далеко отбрасывая копытами комья мерзлого снега.
По Московскому тракту
«Томск, 15 декабря 1868
Милые мамаша и Саша!
Вчера, 14-го числа, я приехал с Лавровым в Томск, и остановились в великолепной гостинице. Ехали мы очень хорошо и без всяких приключений и не мерзли, потому что в первые дни холод был не очень сильный и я укутывался в месте с Лавровым дохою и кошмами, а приехавши в город Мариинск, мы купили с ним еще доху, в которой я теперь еду до самого Питера; доха эта очень теплая, ноги не мерзнут, потому что укутываем их кошмами. Кормят нас дорогою очень хорошо. Есть мадера, ром и водка; есть чем погреться на станциях. С нами едет в другой повозке старичок архитектор, очень добрый и милый человек. Ехать нам очень весело с Лавровым, — все хохочем, он за мной ходит, как нянька: укутывает дорогой, разливает чай, ну, словом, добрый и славный малый. Сегодня катались по Томску, были в церкви и видели очень много хорошего. Томск мне очень нравится. Завтра выезжаем отсюда. Кошева у нас большая, и едем тройкой и четверкой. Лавров кланяется вам и всем, кто будет о нем спрашивать… Я вот все забочусь, как вы-то живете. Будут деньги, так я пошлю из Петербурга; я бы и теперь послал вам те деньги, которые вы дали на дорогу, да не знаю, может, попадет на дороге что-нибудь порядочное, так и хочу употребить их на это. Более писать нечего покуда. Остаюсь жив, здоров.
Ваш сын Василий Суриков».
Никогда еще Вася не видывал таких больших каменных домов — шутка ли, в четыре этажа! Не видел таких шумных трактиров и богатых магазинов с огромными витринами, где все, что продавалось, выставлено напоказ прохожим. Ему, не выезжавшему дальше Сухого Бузима да Торгошина, все здесь, в Томске, было в диковинку.
Два дня пролетели, как два часа. На третий день, укутавшись в доху по самые глаза, мчался Вася на тройке, тесно прижавшись к своему новому приятелю. Впереди маячила спина ямщика в овчинном тулупе. Позади, не отставая, рысили кони Хейна, иногда нагоняя переднюю кошеву. И тогда Вася чувствовал затылком конское дыхание и пофыркивание. Поддужные звонки второй кошевы вели веселый разговор со звонками первой. А по обеим сторонам тракта тайга начинала отступать и редеть, уступая место полянам.
Вот и остановка — постоялый двор. Ворота настежь — заезжай! Мороз и ветер, обжигавший лицо, сменяются ароматными испарениями от стаканов чая с ромом. И как чудесно в теплой избе уписывать деревянной ложкой маменькины пельмени, сваренные в мясном отваре, приправленном лавровым листом и черным перцем!
Васе все интересно: ямщики, пропахшие конским потом; пьющие возле десятиведерного самовара чай с блюдечка; установленного на заскорузлую пятерню; синевато-кристальные куски колотого сахара, отлетающие от сахарной головы, обернутой в синюю бумагу; и грузная, обмякшая фигура проезжего купца, отдыхающего после сытного обеда на засаленном диване под дорогой бобровой шубой; и розовые, с голубыми тенями под ресницами, как весенние зори, лица молодок, что пересмеиваются у колодца. Сухо тарахтят на морозе пустые ведра. Вода, обрызгивая шубейки, тут же примерзает к ним гирляндами стеклянных бусинок…
Однако пора в путь. Старый Хейн, отерев влажное лицо большим полотняным платком, неусыпно следит, чтобы Вася и Митя не выскакивали в мороз нараспашку.
— Застегнитесь, застегнитесь, молодые люди! После чая можно застудиться!
С шутками и хохотом, подталкивая друг друга, приятели одевались и выходили во двор.
Лошади запряжены. Вещи уложены. Ворота на запоре. Путники усаживаются и тепло укрываются дохами и кошмами. Хозяин постоялого двора, довольный прибылью, стоит у створки ворот, у другой стоит молодая сибирячка — его дочь.
— Готово! — кричит ямщик.
Ворота мгновенно распахиваются.
— Ну, родные!..
И тройки, одна за другой, как птицы, рывком вылетают за ворота, под гиканье ямщиков, цоканье копыт и веселую россыпь звонков.
Дорога, дорога, дорога!..
Вася глядит из-под заиндевевших бровей, ресницы еле разлипаются от инея, волосы и шапка от дыхания покрылись белой бахромой. А кругом уже степь — снежная пустыня без конца и края.
Зимний тракт хорош для дальнего пути! Не то что весной или осенью, когда на тракте глубокие ухабы, полные жидкой грязи. Застрянешь в таком ухабе — и колес не вытянешь! Да и летом не лучше — жара, пылища, ямщики гонят лошадей, не глядя на несчастных путников, которых то и дело подкидывает под самый верх тарантаса и швыряет из стороны в сторону…
То ли дело зимой! Дорога укатанная. Едешь, как в люльке покачиваясь. Далеко впереди черные точки на тракте: то обозы везут в Россию сибирские товары — меха, мороженую рыбу, строевой лес. Огромные мягкие тюки на санях похожи на дома. Обозы идут медленно — человечьим шагом. А иной раз поравняешься с ними и видишь при дороге обозчиков, греющихся возле котелка, подвешенного над костром.
Особенно под вечер заманчивы придорожные костры… Темные глыбы возов, бородатые лица возчиков, освещенные красным пламенем. И небо в тучах нависло над снежной равниной, белой даже в глухую ночь…
Однажды случилось необычное. На склоне дня подъезжали к большому селу, что лежало под горой, на берегу реки. В избах уже зажигались огни. Наезженная полозьями, обледеневшая дорога круто спускалась вниз, и тут кони понесли, ямщик не мог их удержать.
Тогда Вася с Митей схватили вожжи пристяжных, а ямщик из последних сил тянул коренника. Да куда там! Разлетелись с горы так, что, ворвавшись в село, посыпались из кошевы в разные стороны. При дороге стояла изба с окном, затянутым бычьим пузырем вместо стекла. Вася, вылетев из кошевы, угодил головой прямо в окно, прорвав пузырь. Не будь этого пузыря, разбился бы насмерть.
К счастью, никто не пострадал. Собрали вещи, уложили обратно в кошеву кузнецовских осетров, вышвырнутых толчком, уселись и поехали к постоялому двору. Вторая кошева, с обезумевшим от беспокойства за спутников Хейном, миновала спуск благополучно. Но Вася и Митя еще долго потом не могли успокоиться и хохотали до упаду, вспоминая приключение.
Так ехали двадцать дней. Проехали Новониколаевск, Омск, Тюмень. За степью начался Урал.
30 декабря под вечер красноярцы прикатили в Екатеринбург [1]. Когда кошевы остановились возле большой освещенной гостиницы, Вася с Митей, разминая затекшие ноги, вылезли и подошли к Хейну. Старый архитектор лежал под кошмой с закрытыми глазами, словно и не собирался вылезать. Его бил озноб: Хейн заболел.
От Урала до «чугунки»
Вот уж никогда не думали Вася с Митей, что Хейн, такой осторожный, так следивший за ними, сам свалился на три недели в тяжелой простуде. Пришлось отпустить ямщиков. Осетров выгрузили, упаковали в рогожи и сдали на хранение в погреба при гостинице. Поместились в двух номерах: в одном жил старый Хейн, в другом Вася с Митей. Поручив больного опытному врачу и сиделке, молодые красноярцы принялись изучать Екатеринбург.
Тут они впервые познакомились с архитектурой. Старинные усадьбы и особняки с великолепными парками, с чудесными оградами чугунного литья. Все эти здания в стиле русского классицизма поражали молодых художников своей легкостью, дивными пропорциями и благородным вкусом. Где только не побывали друзья! В музее, в обсерватории, в библиотеках. Посмотрели несколько спектаклей в драматическом театре.
Вася в своей шелковой рубашке и поддевке, с чубом, с веселым блеском карих глаз и казачьей выправкой пользовался большим успехом у екатеринбургских девиц. Он лихо отплясывал мазурки и кружился в вальсах на балах и маскарадах, куда их наперебой приглашали. Вася держался непринужденно, любил и умел выпить в холостяцкой компании студентов-горняков. Горное ведомство подчинялось военному начальству, и потому в городе было много офицеров, с которыми наши художники соперничали в танцах.
Конечно, маменькины тридцать рублей очень быстро истаяли. Истратил все свои сбережения и Митя Лавров. На последние деньги красноярцы решили сняться у модного фотографа и отослали карточки родным.
Наконец старый архитектор окончательно выздоровел, и 25 января наши путешественники распрощались с уральской столицей и отправились дальше. На этот раз Хейну пришлось взять на себя все путевые расходы, о которых предусмотрительно позаботился Петр Иванович Кузнецов. У молодых спутников не было ни гроша!
И вот опять началась дорога на перекладных, от станции до станции, с чаепитием, со случайными встречами, с ночевками на диванах. Ехали теперь уже в одном большом возке. Проехали Пермь, Ижевск и прибыли в Казань.
Васю заинтересовала Казань, особенно памятники ее исторического прошлого, хорошо ему знакомого. Четыре дня молодые люди осматривали город, восхищались древними постройками, башней ханши Суюмбеки… На пятый день снова сели в возок и, перебравшись через Волгу, двинулись правым берегом до Нижнего.
Они проезжали множество сел, деревень и городков, и Васю поражала заметная перемена в пейзаже, в постройках, в одежде и в самих типах людей. И все-то здесь совсем другое, непохожее на Сибирь. Там, в селах, дома-крепости, за высоким частоколом, с прочными запорами, вокруг суровая тайга и суровые люди. А здесь, на Волге, села многолюдные, избы разряжены в искусную резьбу кружевных наличников, карнизов, коньков на крышах и крылечках. Там люди неразговорчивые, подозрительные, грубоватые и честные. Здесь — разговорчивые, приветливые, с «окающим» выговором, разбитные и плутоватые. И воздух-то здесь совсем другой, влажный, мягкий; в дохе стало жарко — придется ее в Нижнем продать.
Миновали Чебоксары, и вот конец санному пути, конец постоялым дворам! В первых числах февраля наши красноярцы прибыли в Нижний. Отсюда уже в Москву и Петербург вела железная дорога, которую в те времена народ называл «чугункой».
По «чугунке»
Так вот какой она была, эта самая «чугунка»! Суриков и Лавров попали в вагон второго класса, Хейн ехал в первом. В очередном письме Василий писал домой в Красноярск.
«Сильно бежит поезд, только ужасно стучит, как будто бы громадный какой конь. На станциях этой дороги останавливались и обедали, ужинали, пили чай, только это делалось с поспешностью, так как самая большая остановка была на четверть часа, а то и на три, четыре и пять минут… Из окон вагона все видно мелькающим. Иногда поезд летит над громадной бездной, и когда глядишь туда, то ужас берет. Дорога шириною не более аршина, и вагон шириною в сажень; колеса находятся как раз посредине вагона снизу; стало быть, края вагона свешиваются над пропастью и летят будто по воздуху, так дороги под тобой не видно. Перед тем, когда поезд отходит, то раздается такой свист пронзительный, что хоть уши затыкай. Сначала поезд тихонько подвигается, а потом расходится все сильнее и сильнее и, наконец, летит как стрела. Во втором классе очень хорошо убрано, как в комнате, и стоят диваны один против другого с двух сторон, где помещаются и дамы и кавалеры; очень весело бывает ехать, потому что идет оживленная беседа далеко за полночь, наконец, все утихает, а шумит только один поезд…»
В примороженное по краям окно Суриков с интересом следил за быстро меняющимся пейзажем, бегущими назад полями и лесами, которые ему после тайги казались жидкими. На вторые сутки подъехали к Москве…
И вот, среди вокзальной сутолоки, под выкрики носильщиков, плач ребят и людской гомон, трое сибиряков отошли в сторонку, чтобы попрощаться. Лавров покидал их, ему предстояло перебраться на Ярославский вокзал, чтобы попасть в Троице-Сергиеву лавру. Они крепко обнялись с Василием, оба радуясь встрече и новой дружбе и оба горюя о разлуке. Кто знает, когда-то доведется встретиться вновь? Лавров простился Хейном, влился в людской поток и исчез в нем.
У Сурикова с Хейном еще была забота: надо было отправить на Николаевский вокзал кузнецовских осетров, которые путешествовали в багажном вагоне. Наконец все было сделано, и они вышли на вокзальную площадь. Извозчики наперебой предлагали:
— Пожалуйте, господа хорошие! Куда отвезти?
— Эх, прокачу за пятиалтынный!
Хейн с Суриковым сняли небольшой дешевый номер в гостинице — «меблирашке» — на Садовой-Черногрядской. Хейн занялся делами в Москве, и Суриков был предоставлен самому себе.
В Москве
Это было замечательно! Три дня Василий бродил по Москве пешком. После красноярских московские улицы казались ему широкими, как реки, дома — громадными, рынки — необъятное море голов! Тут же, на рынке, проголодавшись, можно было пообедать горячими пирожками с мясом, съесть густого варенца, покрытого румяной корочкой, похлебать щей с бараниной или выпить чаю с бубликами.
Недалеко от гостиницы стояли Красные ворота, те самые, построенные в середине восемнадцатого столетия московскими купцами к приезду императрицы Елизаветы Петровны. Вася подошел к воротам поближе. Они стояли на площади немного вкось по отношению к перекрестку и были выкрашены в красный цвет с белыми лепными украшениями. Колонны, медальоны, венки, гирлянды, статуи на карнизах, золотой ангел на самом верху купола — все это было роскошно и тяжеловесно.
Вася дважды обошел ворота вокруг, потом расспросил прохожего, как пройти в центр, и направился по Мясницкой улице [2]. Скучная улица с бесчисленными конторами, деловыми, дворами вывела его на оживленную Лубянскую площадь с водоразборным фонтаном, возле которого толпились ломовые извозчики, поя лошадей, и водовозы с бочками, развозившие воду по домам, где еще не было водопроводов. Перед ним были старые Владимирские ворота Китай-города, он прошел под них, и Никольская улица вывела его на Красную площадь.
Вот она, площадь, видевшая столько событий! Вот она, бывшая многие века сердцем земли русской!
Суриков осмотрел памятник Минину и Пожарскому, Лобное место, постоял возле храма Василия Блаженного, любуясь его росписью. Пересчитал и разглядел его главы, все разной величины, все витые и чешуйчатые.
Справа от храма спускалась к реке старая, замшелая кремлевская стена с набатной башенкой. Сколько же ты видела, древняя стена? Сколько ты могла бы повидать? Здесь под тобой стоял помост, с которого перед казнью Степан Разин поклонился на три стороны православному народу и тебе — кремлевской стене.
По обычаю москвичей, Вася снял шапку, пошел в Спасские ворота и очутился в Кремле. Мимо него проезжали через Ивановскую площадь извозчики, спешили прохожие, гурьбой шли студенты, смеясь и кидаясь снежками. Две няньки провезли коляски с младенцами и уселись поболтать на скамейке под Царь-колоколом. Царь-колокол! Царь-пушка! Вот бы посмотрел на них брат Саша, который всегда о них песню поет!.. Вася вспомнил мелодию этой песни и вдруг представил себе — страшно далеко, за четыре с половиной тысячи верст отсюда, — дорогой ему городок Красноярск и маленький дом на Благовещенской.
На Спасской башне часы с перезвоном пробили три часа. «А у нас в Красноярске уже семь вечера, — подумал он. — Наверное, мама с Сашей ужинать сели». Он постоял возле Царь-пушки и пошел к колокольне Ивана Великого. Крутая лесенка привела Василия в верхний ярус колокольни. Оттуда было видно всю Москву. Какой же огромной она ему показалась — в зимней дымке ей конца-краю не было. Осмотрел он Успенский и Архангельский соборы, а выходил через Боровицкие ворота, открытые для проезда. Вдоль ограды Александровского сада он дошел до Манежа. Здесь, на углу Воздвиженки, стояла в 1812 году усадьба, из которой последние защитники Москвы обстреливали конницу Мюрата, первой вошедшую в город.
Суриков видел в детстве гравюру расстрела этих смельчаков наполеоновскими солдатами, и сейчас, возле Манежа, он вспомнил ее и постарался представить себе, стоя возле башни Кутафьи, как все это произошло.
Уже совсем стемнело, когда он подошел к Охотному ряду. Фонарщики с длинными шестами зажигали фонари на улицах. Медленно начал падать густой снег. В Охотном ряду затихла Дневная суета, и лишь псы и кошки шныряли между ларьками в поисках требухи и костей.
А напротив, через дорогу, к ярко освещенному Дворянскому собранию подъезжала нарядная публика — здесь, в Колонном зале, шел какой-то благотворительный концерт. Театры на площади ярко освещенными подъездами приглашали москвичей на представление в этот вечерний час.
Суриков пересек площадь. Возле водоразборного фонтана с обледеневшими купидонами толпились извозчики, приплясывая на снегу, похлопывая в ожидании седоков рукавицами. Он сел в узенькие высокие санки на железных полозьях и поехал домой в гостиницу.
Хейн ждал, обеспокоенный его долгим отсутствием. На столе в номере стоял остывший самовар и холодный ужин. Архитектор укладывал вещи — завтра в Петербург.
Письмо из Петербуга
«23 февраля 1869
Милые мамаша и Саша!
Вот четыре дня, как я в Петербурге и смотрю на его веселую жизнь… Мы остановились с А. Ф. Хейном на Невском проспекте, в гостинице «Москва». Из окон ее видно все…»
Он писал за столом у окна, из которого был виден Невский проспект и одна из четырех конных статуй Клодта на Аничковом мосту. Упершись коленом в гранит, юноша натягивал повод, пригибая голову коня. Обнаженные бронзовые мускулы его были припорошены февральским снежком. На спине коня лежала снежная попона, на кудрях юноши — снежная шапка. Суриков впивался в это чудо мастерства, застывшее под свинцово-фиолетовыми отсветами зимнего петербургского неба.
По тротуару сновали прохожие, опережая друг друга, заходя в лавки. По мостовой, понукая лошаденок, ехали извозчики с седоками попроще, их обгоняли роскошные сани; запряженные рысаками. Под медвежьей полостью сидел какой-нибудь важный сановник с дамой в меховой ротонде и крошечной шапочке на высоко взбитой прическе. Кучер, держа вожжи на вытянутых руках, с пренебрежением покрикивал на извозчиков: «Пади!» — и те шарахались в сторону, уступая ему дорогу.
«…Народ и в будни и в праздники одинаково движется. Я несколько раз гулял и катался по Невскому. Как только я приехал, то на другой день отправился осматривать все замечательное нашей великолепной столицы… Был и в Эрмитаже и видел все знаменитые картины…»
Суриков положил перо. В душе его неотвязно теснились и сменялись одно другим впечатления. Какого праздничного великолепия и гармонии были исполнены прославленные дворцы Невской столицы!
Зимний, весь в кружевах белых наличников, масках, двухъярусных колонках между окнами, статуях и вазах на кровле, сияющий вечером тысячами огней, Зимний, созданный гениальным итальянцем Растрелли «для одной славы всероссийской», как писал он сам…
Шереметевский «Фонтанный дом», отделенный от реки прихотливым узором чугунной ограды… Воронцовский — напоминающий роскошную барскую усадьбу в центре города… Строгановский — на углу Невского и Мойки… Львиная голова, ощерившаяся над аркой ворот.
А вчера, гуляя по городу, Вася забрел на чудесный горбатый мостик с крылатыми львами-грифонами. Оттуда прошел к Летнему саду. Над высокой легкой решеткой огромные столетние липы раскинули ветви, сплошь покрытые хрустальной изморозью. Сказочная красота!..
Побродил Вася и возле самого заветного для него места — Академии художеств. Постоял на гранитной набережной, где два сфинкса с каменными, равнодушными лицами навечно улеглись перед входом, словно охраняя спуск к воде. А напротив, через окованную ледяным покровом Неву, виднелся Исаакий в золотом шлеме…
Василий взялся за перо.
«…Адмиралтейская площадь, где теперь устроены катушки, качели, карусели, балаганы, где дают различные уморительные представления на потеху публике, которая хохочет от этого до упаду. Тут же продают чай, сбитень, разные конфеты, яблоки и всякую съедобную всячину. По площади тоже катаются кругом мимо Зимнего дворца, Адмиралтейства и всей публики, которая приваливает и отваливает тысячами. Это еще не полный разгар праздника, а начало, что-то еще впереди будет!»
Суриков писал торопясь и стараясь вложить в это письмо теперь далеким, но единственно близким людям все то, что навалилось на него драгоценным грузом новых чувств и впечатлений.
Он бы мог написать еще и о том, как было грустно расставаться с новым другом Лавровым, исчезнувшим в сутолоке московского вокзала.
Он бы мог написать, что, оставшись со старым Хейном в плохо протопленном номере с высоченным потолком, он вдруг почувствовал свое одиночество и долго не мог уснуть на жесткой постели, под сыроватой простыней и тонким стеганым одеялом, хранящим постоянный и всем чужой запах. Он мог бы написать о тревожной, щемящей сердце мысли: «А вдруг не примут в Академию?» Но всем этим он не хотел тревожить маму и преданного ему брата Сашу, они и без того изнывают от тоски и беспокойства, перебиваясь на гроши, оставшиеся после его отъезда. И потому он старался писать повеселей и полегче, словно отряхивая с плеч своих новые заботы и удрученность человека, всецело зависящего от чьей-то хоть и доброй, да чужой воли.
«Много я очень видел хорошего в Петербурге, всего не перескажешь… — писал Василий. — Теперь поговорю о себе. Петр Иванович Кузнецов хлопочет о помещении меня в Академию… Может быть, примут… и с моим свидетельством из уездного училища… Теперь живу, покуда ничего не делая, так как на дворе масленица. Начну учиться, бог даст, с первой недели поста, тогда опять напишу немедленно об этом. Я здоров. Каково Саша учится? Напишите поскорей, мамаша… Целую вас всех.
Василий Суриков».
Он встал, одернул свой кургузый пиджачок, сшитый в Красноярске, натянул тулупчик и пошел на почту.
Вороны и волки
Академия художеств не случайно называлась императорской: президентом ее неизменно назначался кто-нибудь из царской фамилии.
К середине XIX века Академия утратила свой прогрессивный характер, который выражался в классических, огромных по размеру произведениях. Профессора, сами воспитанные в духе придворного вкуса, требовали от учеников умения рисовать с точностью и гладко-зализанно писать маслом.
Темы для экзаменационных работ предлагались только на библейские или мифологические сюжеты, далекие от живой природы и от народа. Искусство, близкое народу, называлось в аристократических кругах «мужицким искусством». Жизнь не в силах была пробиться в наглухо замкнутые двери Академии. Казенная атмосфера преграждала путь всему живому и новому, в основе лежало желание угодить вкусам придворной знати. Если воспевались герои, то из античной мифологии, если писались портреты, то в большинстве лица царствующей фамилии или придворной знати: оплачивались работы художников и скульпторов только богатыми заказчиками либо самой Академией. Руководителями Академии были такие художники, как Брунй, Шамшин, Вёниг, Нефф, Иордан. Они всячески поддерживали в стенах Академии холодный, ложноклассический дух чинопочитания и угодничества.
Вот в это именно время и приехал молодой Суриков учиться в Петербург.
Экзамены для вновь поступающих были назначены на апрель. Накануне Суриков зашел в Академию, чтобы разыскать свои рисунки и уточнить день экзамена. Его принял в своем кабинете инспектор Шрейнцер. Сухой немец в зеленом мундире с ярко начищенными пуговицами осмотрел Сурикова с головы до ног и процедил:
— Где же ваши рисунки, господин Суриков?
— Они давно уже у вас, господин инспектор. Их послали из Красноярска еще в прошлом- году.
Шрейнцер поджал губы, с сомнением покачал головой и, порывшись в громадном шкафу, нашел среди других нужную папку. Красноярец хмуро смотрел в презрительное лицо инспектора.
— И это рисунки? — Шрейнцер пожал плечами.
Из-под его сухих белых пальцев ложились на стол пейзажи— давно оставленные степные просторы, енисейские прибрежные камни. Часовенная гора, домик на Благовещенской. Сестра Катя за вышиванием. Потом пошли копии с Тициана, Мурильо…
— Да за эти рисунки вам надо запретить даже ходить мимо Академии, — едко заметил инспектор и, захлопнув папку, бросил ее обратно в шкаф.
Однако запретить Сурикову экзаменоваться он не имел права. Упершись ладонями в массивный письменный стол и чуть склонив голову набок, он едва процедил день, назначенный для экзаменов.
Удрученный, Суриков вышел из кабинета. В коридоре, возле объявления об условиях приема, стоял франтоватый белокурый юноша в черном бархатном пиджаке и темно-серых брюках — очевидно, тоже вновь поступающий.
Суриков остановился. Разговорившись, познакомились. Студент назвался Зайцевым.
— Вы не огорчайтесь, ведь Шрейнцер со всеми так разговаривает. Все они побаиваются нас, молодых.
Выйдя из здания Академии, Суриков с Зайцевым не спеша побрели по набережной.
— Вы знаете, — рассказывал Зайцев, — ведь это после «бунта четырнадцати» в Академии стали так строго отбирать учеников.
Суриков уже слышал, что шесть лет назад четырнадцать учеников: Крамской, Корзухин, Журавлев, Лемох, Дмитриев-Оренбургский (фамилии других он не помнил) — потребовали у совета Академии свободного выбора сюжетов для экзаменационных работ на золотую медаль. Совет Академии отказал. Тогда все четырнадцать человек, не приняв предложенной Академией темы, ушли совсем и основали самостоятельную «Артель свободных художников», впоследствии выросшую в Товарищество передвижников.
— А какую тему предложила Академия этим студентам? — спросил Суриков.
— «Пир в Валгалле», скандинавский эпос. — Как петербуржец, Зайцев был отлично осведомлен обо всем, что творилось в мире художников.
— Что это за Валгалла?
— О-о! — с воодушевлением воскликнул Зайцев. — Это такая тяжеловесная белиберда! В скандинавской мифологии есть такая священная гора — Валгалла. На этой горе бог Один встречается с духами погибших рыцарей и устраивает им пир. Причем бог Один сидит на троне, а у него на плечах два черных ворона, а возле ног — два волка. Сквозь арки дворца должна быть видна луна, за которой по небу гонятся волки!..
Суриков вдруг громко и весело расхохотался:
— Вороны на плечах? Волки у ног? Что за чепуха! Зачем же это русским художникам, когда у нас своих сказок и легенд видимо-невидимо!
Он хохотал так заразительно, что Зайцев тоже начал смеяться.
— Что же, значит, отказались наотрез и ушли? Это интересно… Смелые люди! — сказал Суриков, внезапно став серьезным.
— Ушли, представьте! Ведь раньше они жили в академических мастерских, на стипендии. Многие из них жили вместе с семьями. А когда объявили бунт, пришлось все бросить, снять огромную квартиру на общих началах. У них всего-то имущества было два стула да один трехногий стол. Ну, а потом артель начала брать заказы, и дела поправились. На лето разъезжались кто куда, привозили картины, продавали. Тридцать процентов от продажи давали в общую кассу. А в Академии с той поры совсем отменили жанровые темы. Если раньше хоть что-нибудь и допускали, то теперь все перешло на греческую классику, мифологию да библейские сюжеты…
Они брели весенней набережной. Нева вскрылась, лед прошел, последние льдины стремительно неслись по вздувшейся темной воде. Свежий ветер дул им в лицо, и казалось, что на таком ветру ослепительные солнечные лучи ничуть не греют.
— Да-а, — задумчиво протянул Василий, — придется нам с вами, видно, пройти через эти академические уставы. — Помолчав, он спросил: — А вы тоже живописью хотите заниматься?
— Нет, архитектурой.
У моста через Неву они распрощались.
— Ну что же, встретимся на экзамене?..
Крепкое рукопожатие убедило их обоих во взаимном расположении.
Суриков перешел мост и, не замечая ни оживленной нарядной публики, ни по-весеннему умытых улиц, дошел по Невскому до Садовой, где квартировал у какой-то одинокой петербургской старушки. Комната у него была большая, темноватая — окна выходили во двор, узкий как колодец. Но в этой комнате стоял рояль, к которому Василий пристрастился, — хозяйка давала ему уроки «игры на фортепьянах».
Дома он нашел письмо из Красноярска. Из конверта выпала семейная, снятая перед его отъездом — фотография. Вася долго смотрел на нее, невольно улыбаясь и вспоминая свой дом — родной и далекий.
Экзамен
«Рисунок — основа всего, фундамент, кто не понижает его или не признает, — тот без почвы…»
П. П. ЧистяковВ назначенный день в огромном экзаменационном зале к девяти часам утра собрались все поступающие в Академию. В зале были приготовлены столы, подставки, доски для подвешивания натуры. На столах разложены гипсовые слепки классических форм — руки, ноги, торсы, части лица. Розданы всем листы бумаги, пришпиленные к доскам, карандаши и резинки. Каждый выбирал для рисования любую гипсовую модель.
Суриков сел рядом с Зайцевым. Перед ними на подставке лежала античная кисть руки. На рисунок давалось полтора часа времени. Никогда еще Сурикову не приходилось рисовать «гипсов». Внимательно приглядываясь, он начал…
Через полтора часа прозвенел звонок, и работы экзаменующихся были отправлены в зал заседаний совета Академии. Там решалась их судьба.
Вызывали всех по очереди в алфавитном порядке. Ждали молча, волнуясь, некоторые, не усидев, подходили к высоким арочным окнам, перед которыми катилась Нева, и глядели на нее ничего не видящими глазами. А день был яркий, погожий!
— Суриков! — выкрикнул служащий в ливрее, распахнув дверь зала.
Он быстро прошел по коридору, куда ему скупым движением указал ливрейный рукав с галунами.
Первое, что Сурикову бросилось в глаза, была мраморная статуя Екатерины Второй. Высоко в нише сидела она на троне, облаченная в античную тогу, увенчанная римским венцом; она держала в протянутой руке свиток папируса и была чистейшим олицетворением самой Академии — эта старая, обрюзгшая, с тройным подбородком немка, в римской тоге, на русской земле! И под ее мраморной ногой, обутой в сандалию и выставленной вперед, за овальным столом, покрытым зеленым сукном, собирался синклит чиновников в мундирах при орденах и лентах. Один из них медленно поднялся и протянул Василию его рисунок. Это был академик Федор Антонович Бруни.
— Вы не приняты. Ваш рисунок не годится, не умеете рисовать…
Суриков помертвел. С лицом, белым как скатерть, он подошел, взял свой рисунок, поглядел на него и вышел прочь. Спустился в раздевальню, оделся и пошел по набережной так. быстро, словно за ним кто-нибудь гнался. В руке его был злосчастный рисунок, а кругом все сияло ярко и радостно. Он еще раз взглянул на свою неудачную работу.
— Да ведь этому же можно выучиться! — вслух подумал Суриков. — Можно выучиться, да еще как ловко! — И, медленно разорвав рисунок, бросил его в воду.
Обрывки бумаги завертелись и поплыли. Нева понесла их: на своих свинцовых волнах. Он вспомнил «Валгаллу» и рассмеялся: «Вороны и волки! Ну ладно, посмотрим еще, как я не умею рисовать! Я им покажу!»
И вдруг ему стало легко дышать, глазам стало просторно, а душе весело.
«Краснояры сердцем яры!»
Верная сибирская поговорка! Как бы мог вынести всю горечь провала на экзамене и всю тяжесть ложного положения неопытный юноша, приехавший на чужие средства за пять тысяч верст из глухого городка в неприветливую, холодную столицу, если бы не эта «ярость сердца», не упорство и не постоянное внутреннее горение.
Суриков знал, что преодолеет все трудности. Он поступил в школу рисования при Обществе поощрения художеств. Это общество, основанное еще в пушкинские времена, ставило своей целью всячески помогать процветанию искусств, а с 1839 года при нем была открыта школа рисования. И это была единственная в Петербурге школа, где человек, имеющий' дарование, мог выучиться профессионально рисовать, мог подготовиться для поступления в Академию. Через эту школу прошли многие знаменитые русские живописцы — Крамской, Репин, Верещагин.
Школа находилась на Стрелке, в великолепном здании: Биржи. В ней было семь классов, причем были классы и для учениц, тогда как в Академию женщин не принимали. Директором школы был высокий строгий старик с белой бородой и светлыми блестящими глазами. Звали его Михаил Васильевич Дьяконов. Его-то и увековечил Илья Репин в своей летописи: «Я не слыхал ни одного слова, им произнесенного. Он только величественно, упорно ступая, проходил иногда из своей директорской комнаты куда-то через все классы, не останавливаясь. Лицо его было так серьезно, что все замирало в семи классах и глядело на него. Одет он был во все черное, очень чисто и богато…»
Суриков начал работать с упорством и неутомимостью. Он без устали штудировал анатомию и теперь, рисуя руку, отчетливо представлял себе все четырнадцать сочленений в пальцах руки и их точные размеры и соотношения. Он изучал разницу расстояния между своим глазом и предметом и закон перспективы: чем больше расстояние, тем меньше предмет. Он подробно изучал и законы ракурса, его интересовало даже это слово, происходящее от французского глагола «гассоиг-Б1 г», что значит — «укорачивать». Стало быть, предмет в ракурсе будет для глаза укороченный и глаз должен точно определять, насколько меньше кажется предмет, уходя в перспективу. И часто на улице Суриков, задрав голову, рассматривал снизу какую-нибудь кариатиду на здании, изучая положение предмета относительно горизонтальных и вертикальных линий. Ему важно было научиться «правильно смотреть» и видеть не одну точку в изображаемом предмете, не часть контура, а весь его объем, чтобы сразу определить, какое место занимает его изображение на листе бумаги. Погружаясь в работу, он отрешался от всего, словно от точности рисунка зависела вся его жизнь, все его существование, а оно было посвящено преодолениям трудностей — и так каждый день.
Совсем один
Петр Иванович Кузнецов уехал в Красноярск. Дети его вместе с матерью на все лето отправились за границу.
Суриков остался в Петербурге совсем один. Вечерами он играл на рояле и так пристрастился к музыке, что писал матери в Красноярск: «Вот что, мамаша: нельзя ли упаковать гитару да послать ко мне, если будет это недорого стоить? Сделать ящик сосновый копеек за 50 или 70, обложить гитару ватой или, лучше, куделей да и сдать на почту… Теперь я довольно порядочно на фортепьяно играю, на квартире, где я стою, оно есть. А вот в сентябре думаю переехать на Васильевский остров, чтоб поближе к Академии было ходить, так там, может быть, фортепьяно-то и не будет, так хотя на гитаре играть буду в свободное время».
По воскресеньям Суриков ездил на Острова или в Павловск, в Петергоф, в Новую Деревню. Он очень любил кататься на маленьком пароходике по Неве, любил ездить куда-нибудь на народ, на гулянье, где играл оркестр и по вечерам были фейерверки.
Был церковный праздник преображенья. Суриков решил пойти посмотреть на парад Преображенского полка, который устраивался каждый год на площади возле казармы, как раз напротив окон квартиры Кузнецовых. Экономка Кузнецовых охотно впустила красноярца, и он, усевшись на подоконнике, наблюдал за торжественным военным парадом под ревущий медью оркестр.
Прямо перед окном, вокруг Спасского собора, выстроились батальоны Преображенского полка. Круто выпятив грудь с пунцовыми отворотами на зелено-черных мундирах, они застыли в строю. Под солнцем сверкали белые парадные брюки. Лакированные, с медными орлами каски были украшены по случаю парада султанами из черного конского волоса. Великий князь Владимир Александрович, он же вице-президент Академии художеств, подъехал в легком, одноместном экипаже.
Высунувшись из окна, Василий наблюдал, как президент Академии вышел из экипажа и, медленно пройдя между рядами гвардейцев, направился к собору. Он был одет в мундир Преображенского полка, каска его была украшена белым султаном, и голубая муаровая лента перерезала красные отвороты мундира; на ней сверкали ордена. Горделиво неся свои плечи, украшенные золотыми, генеральскими эполетами, вице-президент поднялся на паперть, снял каску, положив ее на локоть левой руки, и, слегка наклонив напомаженную голову, вошел в собор. За ним хлынула толпа царедворцев.
Суриков следил, как размеренно выбрасывал «августейший генерал-майор» свои ноги, обтянутые белыми брюками, и думал: «Ну и вице-президент! Интересно, что смыслит он в живописи…»
После парада на площади началось гулянье. Народу было видимо-невидимо. Публика угощалась мочеными яблоками, сайками, баранками, леденцами, квасом.
Любопытно было смотреть сверху, как движется народ по площади, толпясь вокруг плясунов и акробатов. Суриков любил разглядывать толпу, слушать ее гомон, запоминать движения и лица…
Ему захотелось на улицу. Он соскочил с подоконника, поблагодарил экономку и вышел на площадь.
Жуя еще теплую сайку, он протиснулся к семейству акробатов, которые вытворяли чудеса на пыльном вытертом ковре, расстеленном на мостовой. Их было много — человек десять. Пирамидой, завершающейся маленьким мальчишкой, все они умещались на гиганте, видимо отце семейства, державшем на своих вздутых бицепсах и бычьей шее всю эту компанию. Ноги его вросли в мостовую, как арки триумфальных ворот. Суриков впился глазами в мускулы папаши, которые бугрились, натягивая малиновое шелковое трико.
— Алле-гоп! — рявкнул отец, и вся пирамида фигур, усыпанных блестками, с победным кличем распалась, перевертываясь в воздухе и подскакивая, как мячи…
Неожиданно солнце спряталось за наплывшую тучку. Собиралась гроза. Площадь мгновенно опустела, и ветер свободно гнал по ней мусор, бумажки от конфет. И куда все девались?..
Суриков добежал до остановки дилижанса, — по счастью, он не замедлил подойти. Едва тронулись лошади, как грянул гром и полил отчаянный дождь, сплошной пеленой затянувший окна дилижанса. «Странный, неприятный климат, — думалось красноярцу. — То жара невыносимая, то вдруг холод и дождь!»
А дилижанс, качаясь и трясясь, принимал на себя потоки воды с неба; две облезлые лошаденки тащили его, вздрагивая и настораживаясь при каждом ударе грома.
Гроза отгремела и ушла, оставив над Петербургом мелкий дождичек, моросивший до самого утра.
А утром Суриков уже бежал в класс. Он был полон сил, решимости и готовности постигать и добиваться своего во всю мочь, во всю ярость сердца…
В начале сентября Суриков блестяще выдержал экзамены, пройдя за три месяца трехгодичный курс обучения.
Первый снег
«Петербург, 16 сентября 1869
Здравствуйте, милые мамаша и Саша!
Пишу вам, что я нахожусь в вожделенном здравии — это раз, а во-вторых, я поступил в Академию в начале сентября и теперь каждое утро подымаюсь со своей теплой постели в 8 часов и храбро шагаю по роскошным, да только грязным по случаю сентября петербургским улицам на Васильевский остров, в Академию на утренние лекции. Приходится сделать в день верст шесть, так как еще вечером хожу в Академию в рисовальные классы, да это ничего — и не заметишь, как пролетишь их… Я с октября переезжаю на Васильевский остров на другую квартиру, чтобы было ближе ходить в Академию…
В Академии я иду успешно из наук и рисования и в октябре думаю перейти в следующий класс. Профессора одобряют мои работы. Если придется, так и Петру Ивановичу скажите об этом… Сейчас был в Академии на выставке картин. Столько превосходных картин, что я описать вам не могу… Я думаю на следующий год и сам что-нибудь выставить из своих работ. Напишите, мамаша, как вы живете, здоровы ли вы, Саша отдан ли в гимназию?.. Одним словом, обо всем, обо всем пишите.
Любящий вас сын Василий Суриков».
Вольнослушатель Академии! Посмотрели бы теперь мама и Саша на своего Васеньку, когда он рисует в огромном академическом зале, среди сотни таких же, как и он сам. Сейчас он в «головном» классе. Рисует только головы античных скульптур — Аполлона, Зевса, Афродиты и других греческих богов и богинь. В октябре он перейдет в «фигурный», там будет потруднее, придется рисовать античные статуи уже целиком. На смену ему придет «натурный» класс, где рисуют обнаженную натуру. Потом придет пора писать маслом и акварелью. Еще позднее примутся за пейзажи и портреты. А самая главная премудрость — композиции больших полотен, там уже добираешься до самых вершин искусства живописи. Кроме того, были еще классы скульптуры и архитектуры, изучались черчение и графика.
Успеваемость определялась по системе обратной нумерации: чем слабее работа, тем выше номер. В «головном» классе Суриков идет в первых номерах.
Что там ни говори, а в Академии при всей ее сухости и мертвой рутине знания даются ученикам на всю жизнь. И Суриков это хорошо понимает.
Чтобы жить поближе к Академии, Суриков вместе с товарищем по классу Владиславом Стаховским сняли две комнаты на Седьмой линии. В одной устроили спальню, а в другой, очень просторной, — мастерскую.
Отец Владислава, штабс-капитан Стаховский, служил на Кавказе. Вместе с ним жили мать и братишка — ровесник Саше Сурикову. Студентов тесно сблизила общность судьбы, тоска по родным. Они часами могли рассказывать друг другу о своем детстве, о родимых местах, о своих далеких семьях.
Комнаты они разукрасили коврами и рисунками собственной работы. Они понимали друг друга без слов, вместе ходили на лекции и в класс рисования, вместе проводили часы досуга. Оба любили музыку. Вася играл на гитаре, оба пели, а порой пускались в пляс от избытка молодости и сил.
В этом году зима была ранняя. В начале ноября выпал обильный снег. Возвращаясь из Академии, друзья увидели на проспекте тройку и решили прокатиться. По набережной доехали до Таврического дворца. Там вылезли на минутку полюбоваться прекрасным зрелищем. За чугунной решеткой шесть простых белых колонн держали легкий классический фронтон, а лад ним покоился купол, прорезанный высокими окнами, безо всяких украшений и наличников. Здание было прекрасно и значительно одними своими благородными пропорциями. Возле ограды стояла могучая ель. Ветви ее прогибались под тяжелыми снежными шапками. Снег был рыхлый и влажный, он скользил по засмоленным иглам, и когда снежный ком скатывался с ветки, она, словно вздохнув облегченно, расправлялась и долго еще покачивалась, радуясь освобождению. Суриков взглянул на качающуюся ветку и вспомнил тайгу, степь, сибирскую тройку со звонками. И так захотелось ему домой, что он сразу помрачнел и замолчал. Вспомнил друзей-красноярцев, вспомнил прелестную девушку, соседку Анюту Бабушкину, которая ему давно и тайно нравилась. Почему она никогда ничего ему не напишет? Обещала прислать свою карточку, да так и не собралась, только приветы через Прасковью Федоровну каждый раз шлет…
Он, насупившись, потребовал вдруг, чтобы кучер отвез их домой, на Седьмую линию. Владислав понял, что приятелю что-то не по себе. Расплатившись, они поднялись наверх. И Суриков тотчас сел за письмо. Он подробно описывал матери свое житье-бытье. Рассказал о новом товарище и, заканчивая, вдруг обрушился на брата Сашу:
«Отчего ты, Саша, мне и строчки не черкнешь? Разве забыл своего Васю? Не ленись, доставь мне удовольствие видеть твое письмо. Напишите, мамаша, какие новости есть в Красноярске? Берегите свое здоровье, милая мамаша. Не ходите в легких башмаках по морозу, а то я буду беспокоиться, вы ведь никогда не смотрите на себя. Пишите. Адрес мой: Петербург, на Васильевский остров, по 7-й линии, дом Шульца № 10/11, кв. № 12-й».
Задумавшись на минуту, он приписал:
«Мамаша, будьте добры, передайте Анне Дмитриевне Бабушкиной мою записку, если она придет к вам. В записке нет ничего дурного. Если не придет к вам, то иначе не отдавайте.
Любящий вас Василий Суриков».
Он написал скуповатое, короткое приветствие Анюте, в котором еще раз попросил прислать карточку. Потом все это вложил в конверт и запечатал его.
Стаховский тихонько сидел с книжкой на диване и ждал, пока Василий вызволится из своей тоски по родным. В соседней комнате, у хозяйки, часы густым басом прозвонили четыре. Василий взглянул на приятеля и, оценив его терпеливость, весело тряхнул непослушным чубом:
— Ну, пойдем, что ли, обедать?..
Академия
Это было время, когда профессорами Академии были главным образом немцы — Виллевальде, Нефф, Иордан, Вениг. Из русских профессоров были только Шамшин, Бруни да Чистяков, который уже несколько лет находился в Италии. Василий попал к нему лишь на четвертый год обучения. Каждый месяц в учебном году вел классы какой-нибудь из этих профессоров. И ни один из них, кроме Чистякова, не отдавал до конца молодому поколению ни своих знаний, ни мастерства, ни сердца.
Профессор Нефф настолько плохо говорил по-русски, что не всегда можно было понять, что лепечет этот холеный, самовлюбленный розовый старец.
Профессор Виллевальде, насквозь фальшивый чиновник, не считал нужным пускаться в обсуждение ученических работ, он только хвалил своих учеников, вежливо и равнодушно говоря им всем одно и то же.
Профессор Иордан был так стар, что почти ничего не видел и ободрял учеников одним словом: «Старайтесь!»
Профессора Вениг и Шамшин стояли на различных точках, зрения, и каждый хотел утвердить в классе свою. Шамшин требовал академической точности, сухости и четкости, а немец Вениг громко разглагольствовал о «сочности»; он говорил, что натура состоит из костей, мяса и крови и что надо, чтобы все это сочилось.
От столь разных требований у студентов был полный ералаш в голове. Но самым далеким от жизни был профессор Бруни. Он однажды советовал своему ученику Илье Репину для фона какой-то картины не писать пейзажа с натуры, а использовать уже написанный пейзаж, скопировав его у какого-нибудь знаменитого мастера. В самом деле, чего стараться, когда Никола Пуссен уже давным-давно нашел манеру писать пейзаж так, что его не переплюнешь! Точно так же он советовал, строя многофигурную композицию, нарезать из бумаги фигурок и расставлять их на нарисованном фоне. Это было чисто механическое занятие, рассчитанное на случайную удачу. Ни мышление, ни чувство ученика здесь не участвовали.
Один только Павел Петрович Чистяков — большой мастер рисунка и тонкий знаток живописи — давал своим ученикам то, чего не могли дать остальные профессора.
Были в Академии так называемые «научные» классы, где преподавались история всеобщая, история священная, история искусств, литература, анатомия, химия, физика. Все эти предметы Василий Суриков изучал тщательнейшим образом, чтобы восполнить все, чего ему не могла дать красноярская гимназия. Он не пропускал ни одного занятия. Профессоров-художников он не любил, не понимал их академического мировоззрения и не верил их вкусу, но он не отступал от требования программы, хорошо понимая, как необходимы точные знания, однако при этом внутренне подчинялся лишь собственному чутью и глазу. И единственно подлинным авторитетом среди всех педагогов был для Сурикова Чистяков.
Наступил, новый 1870 год. Суриков встретил его в семье Кузнецовых. Там ему было весело и хорошо, и особенно потому, что к ним приехало много сибиряков. Он с удовольствием танцевал, по очереди приглашая всех четырех дочек Кузнецова. Девушки ценили совсем особенный ум и характер земляка, их не отталкивала его замкнутость, внешняя суровость с малознакомыми людьми, — они знали его смешным, добрым и остроумным. Он ездил с ними в оперу, бывал на выставках, на гуляньях и крепко дружил с их братьями.
Новый год принес Васе новые удачи. Он первым перешел на второй курс по рисованию и наукам. На каникулах он занялся первой большой работой. Еще зимой он сделал несколько эскизов Исаакиевского собора в лунном освещении со стороны Медного всадника. Снизу могучий конь на скале подсвечен фонарями, бросающими на снег розоватый рефлекс. Сверху статуя залита голубым лунным светом. В глубине величавый темный собор. Эту картину Суриков задумал написать маслом. Картина удалась. На осенней выставке Академии она сразу выдвинула Сурикова в первые ряды молодых живописцев. Эта работа привела в восторг Петра Ивановича Кузнецова, он купил ее за сто рублей, что в то время считалось большими деньгами.
В это же лето 1870 года Суриков начал заниматься композицией, хотя по классу ему еще не полагалось. Задуманная им композиция была «Убийство Дмитрия Самозванца».
Однако свою первую серебряную медаль он получил за рисунок с натуры, в чем был очень силен. За первой медалью последовала вторая и несколько премий. Твердой поступью Суриков шел вперед. За три зимы он успел необычайно много. Не отступая, не сомневаясь, работал почти без отдыха, вглядываясь в окружающую жизнь верным и все вбирающим глазом подлинного художника.
Домой!
Суриков возмужал. Ему исполнилось двадцать шесть. Был он невелик ростом, с маленькими красивыми руками. Густые темные волосы разделялись над открытым лбом на две непослушные пряди. Глаза были карие, то веселые, то строгие и словно глядящие внутрь самого себя. Чуть скуластое, с короткими темными усами и бородкой лицо часто меняло выражение. Казачья выправка сказывалась даже в посадке головы — он держал ее прямо, прижимая подбородок к шее. Походка была твердая; он не спешил, но шагал энергично, словно всегда зная — зачем и куда.
Теперь он жил один на углу Академического переулка, в той самой квартире, где до него еще учениками Академии жили Репин, Семирадский и Антокольский и где весь воздух был напитан атмосферой творчества, студенческих споров, молодого, бесшабашного веселья, запахом красок и скипидара. Суриков уже мог платить за комнату сам и бесконечно этому радовался, потому что любил работать один, никому не показывая незаконченных вещей. 27 января 1873 года он писал в Красноярск:
«Простите, мамаша, что я долго не писал вам. Причиною тому были экзамены из живописи. Сообщаю вам, милая мама и Саша, что я пред рождеством получил на экзамене в награду от Академии вторую серебряную медаль за успех в живописи. По этому случаю был у меня на именинах вечер. Товарищи танцевали друг с другом, как бывало в Красноярске. Теперь мне, мама, открывается хорошая дорога в искусстве. Дай бог счастливо кончить курс наук. Теперь я буду слушать лекции по четвертому курсу… Живу я, мама, довольно весело, одно меня сильно озабочивает — это Александр наш. Я уж придумать не могу, что это с ним, что он так худо учится? Неужели ему трудно было сдать экзамен по 1-му классу гимназии? Это, мне кажется, одна лишь лень. Послушай, Саша, постарайся снова поступить в гимназию. Что же ты теперь будешь учиться в училище? Теперь ведь тебе поздно там быть. Тебе скоро 16 лет будет. И неужели для тебя достаточно училищного образования? В нынешнее время этого очень мало. Хорошо, что вот мне пришлось быть в Академии, так я там пополнил свое образование. Так и прошу тебя, Саша, как-нибудь петом позаймись да выдержи экзамен. Я до тех пор не буду спокоен. Напишите мне об этом. Если нужно будет учителя, так вы напишите, я подумаю как-нибудь это устроить. Посылаю вам, мама, немного денег. Будет — так еще пришлю. До свиданья, мама и Саша. Целую вас тысячу раз.
Ваш В. Суриков».
Так писал старший брат, горюя о нерадении младшего и еще упорнее налегая на занятия в Академии. А там, как всегда, давали конкурсные темы на библейские сюжеты. Вася честнейшим образом работал над ними, совершенствуясь в композиции. Все три темы он разрешил так блестяще, что получил за них денежные премии. А темы были такие: «Иродиаде приносят голову Иоанна Крестителя», «Изгнание торговцев из храма» и «Притча о богаче и нищем». А еще присудили Васе большую серебряную медаль за этюд с натуры. В марте он писал домой:
«6 марта 1873
Милые мама и Саша!
Пишу вам, что на экзамене 4 марта я получил награду за композицию или сочинение картины и еще большую серебряную медаль за живопись. Теперь у меня три медали. Остается получить еще большую серебряную медаль за рисунок, и я буду работать программу на золотую медаль. Петр Иванович Кузнецов, я слышал, выехал из Красноярска, скоро будет здесь… Я здоров. Целую вас, мамочка, Саша. Поклон всем знакомым.
В. Суриков».
Он писал: «Я здоров». Он всегда писал это своим в Красноярск. А между тем этой весной он вдруг стал чувствовать недомогание и сильную усталость, особенно к вечеру. Дышать становилось трудно, лихорадило, хотелось горячего. Но стоило ему выпить стакан чаю с сахаром, как весь он с головы до ног покрывался испариной, такой изнурительной, что тут же ложился в постель. «Дело дрянь! — думал Суриков. — Придется пойти к доктору».
Старик врач жил по соседству. Он осмотрел Сурикова, прослушал его, простукал сквозь свою ладонь, потом велел одеться и сказал, что недоволен его легкими.
— У вас в роду кто-нибудь болел чахоткой?
— Болели, — нехотя ответил Василий. — Отец от нее умер, два дяди… Старшая сестра погибла совсем молодой от воспаления легких.
— Надо вам, батенька, поехать на лето куда-нибудь полечиться, ну, хоть, что ли, в степь, на кумыс, подсушить легкие. А то вы здесь, в Петербурге, совсем расхвораетесь…
Удрученный, вышел Суриков от врача. «Грудная болезнь…» — думал он, шлепая черными калошами по серому мартовскому месиву. Шел мокрый снег, он забирался за воротник и таял холодными струйками. Было тоскливо до слез. Он не пошел домой, а отправился прямо к Кузнецовым, очень уж не хотелось оставаться одному.
Когда Петр Иванович узнал о Васином недуге, он разволновался и огорчился, словно тот был ему родным сыном. И тут же немедля было решено, что Вася поедет на лето в Сибирь. Он поселится у Кузнецовых в Узун-Джуле, в Минусинских степях. Будет пить кумыс, ездить верхом, дышать целебным воздухом и рисовать с натуры. Лето не пропадет даром. Это был прекрасный выход из положения!
Суриков был счастлив. Он увидится наконец со своими, полечится на приволье в родных степях да еще попишет!
В апреле, по окончании занятий в Академии, Суриков собрался в дорогу. Домой, домой — в Красноярск!
Он уложил в чемодан кое-какие подарки всем родным. На дно чемодана положил альбом для рисования. Захватил свежего белья, купленного в Гостином дворе, и летний пиджачок из белой чесучи, сшитый у хорошего портного. Приготовил этюдник с красками, кистями и холстами.
И вот в один из ярких весенних дней в вагон московского поезда вошел молодой человек столичной внешности. На нем был хороший костюм с черным бархатным воротником и цилиндр. Под белоснежным воротником рубашки завязан черный шелковый галстук. Лицо с темной бородкой было явно исхудавшим, глаза лихорадочно, но весело блестели.
Сбылась мечта — Суриков ехал в Сибирь! Теперь этот путь казался ему совсем другим. Все было гораздо проще и скорее, — то ли он стал опытнее и старше, то ли ездить стало легче. Только перебравшись через Урал, где-то между Камышловым и Екатеринбургом, он послал с почтовой тройкой короткое письмо:
«Станция Белоярская, 4 июня 1873
Милые мама и Саша!
Я здоров. В Академии кончились экзамены. Я получил последнюю большую серебряную медаль. Самое важное — еду к вам в гости на лето! Теперь я около Тюмени. Скоро увидимся. Я думаю, что приеду числу к 18 июня. Целую вас.
В. Суриков».
Пусть эта записка хоть на день опередит его приезд. Пусть она даст матери ощутить радость долгожданной встречи. И ни слова о болезни.
Все тот же, да не тот!
Опять на столе в столовой кипел самовар, как в детстве, и пестрые чашки, словно цветы, рассыпались по столу; стоял запотевший глиняный кувшин с молоком из погреба, и струйки испарины скатывались с крутых боков прямо на камчатную серую скатерть. Как прежде, на окнах цвели малиновые фонарики фуксий, и старые, обитые сафьяном креслица чинно стояли вокруг стола в зальце.
Вася ходил по комнатам. Они были привычные, родные и все же какие-то не те. Они, казалось, стали ниже, словно присели. И мама Прасковья Федоровна тоже стала будто пониже и посуше. Лицо у нее было румяное и все вдавлинками, как печеное яблоко.
А Саша вдруг стал выше Васи, и на верхней губе у него появился пушок. Он не отходил от брата и не сводил с него полных восхищения глаз.
Двор. Двор, на котором прошла половина детства! Конюшни стояли пустые — Суриковы не могли держать лошадей. Да сейчас они и не нужны были. Куда ездить? Вот кабы Василий жил дома, так без коня бы не обойтись, целыми днями ездил бы и верхом и в тарантасе на пейзажи и на охоту.
Все же он зашел в конюшню. Сухое сено, оставшееся еще от давних времен, торчало из кормушек белесыми стеблями. По стенам висела сбруя. Он потрогал хомут и ремни шлеи и подумал: «Ничего, еще пригодится». Саша ходил за братом по пятам.
Возле амбара разрослись черемухи. Под ними стояла скамья, дальше начинался огород. Отсюда был хорошо виден Караульный бугор с маленькой белой часовенкой.
Братья сели на скамью. Чуть подалее, между деревьями, была вырыта яма. Когда поспевала картошка, Саша с Васей праздновали урожай: раскладывали в яме костер и варили картошку, повесив над огнем таганок. А потом тут же уплетали ее под черемухой, сидя на скамье и поставив между собой: большую солонку- Это было у них в обычае.
Саша посмотрел на картофельное поле и сказал:
— Видишь? Дожидается наша ямка. Поспеет картошка, варить будем!
— Непременно будем, — засмеялся Василий, а сам подумал: «Ну как сказать ему, что я через два дня уеду?» Он посмотрел вверх, пряча глаза от Саши; давно отцветшая черемуха была сплошь покрыта гроздьями зеленых пуговок.
Вася наслаждался. Петербург со всеми его Неффами и Виллевальдами отошел куда-то далеко-далеко.
Саша сидел рядом с братом и все время сравнивал его с тем, которого он провожал четыре года назад, и никак не мог понять: изменился он или нет? И смеется так же, и привычки всё те же, и ходит по-прежнему, размахивая правой рукой, — как будто все тот же, да не тот!
А Вася смотрел на Сашу и втайне любовался им. Саша стал красивый. Своим сложением, изяществом, высоким ростом он напоминал дядю Марка Васильевича. В тонких чертах лица и серых, широко раскрытых глазах была юношеская чистота. Душа его была доступна каждому, кто подходил к нему с добрым словом. Не обладая ни талантами, ни знаниями, ни особенным умом, Саша покорял бескорыстием и искренностью.
Василий собрался побранить его за лень и бесхарактерность, хотел убедить его в том, в чем сам был убежден: человек может добиться всего, если захочет! Но Саша с таким увлечением и вниманием слушал брата, что Василий вдруг решил:
— Слушай, давай-ка, брат, я тебя нарисую! Надень белую рубаху и подвяжи свой галстучек.
Саша послушно кинулся в дом переодеться, и спустя десять минут они уже сидели в столовой. Саша позировал. За каких-нибудь сорок минут Вася сделал тот портрет акварелью, в котором суждено было навечно воплотиться Сашиной юности и душевной чистоте.
Под вечер братья пошли в городской сад. Вася поднялся на круглую танцевальную площадку, которая называлась «ротондой», и вспомнил, как гимназистом он отплясывал здесь на гулянье. Беседка в саду показалась Василию смешной, наивной, но очень приятной, словно любимая старая игрушка.
На второй день решили навестить всех друзей и в первую очередь побежали к Бабушкиным- Вася так ждал свидания с Анютой! Но ее в Красноярске не оказалось, еще весной уехала учиться в Казань. А он и не знал ничего! Огорченный и потерянный, вернулся Вася домой. Прасковья Федоровна, зорко скользнув выцветшим глазом по хмурому лицу сына, уронила будто невзначай:
— Да-а-а… Уехала Анюточка в Казань. Как-то она там будет одна? Легкими она давно хворает. Истаяла, однако…
Тогда Василию стало ясно все. Мать не передала Анюте ни одной из его записок. Он вдруг резко, всем корпусом повернулся к матери и, прищурившись, в упор посмотрел ей в лицо. Потом, закусив губу, повернулся на каблуках.
— Саша! — громко позвал он. — Идем к Кожуховским! — И выбежал из комнаты.
На третий день по случаю приезда Васи родня съехалась к Суриковым на обед. Давно дом на Благовещенской не видел в своих стенах такого оживления. За старшего во главе стола сидел дядя Степан Федорович Торгошин — казак с черной бородой и темным лицом. Он приехал с женой, Авдотьей Федоровной, — худенькой, белолицей, сероглазой, и с дочкой — красавицей Таней, любимой подружкой Васиного детства. «Тетка-то Авдотья вовсе как монашка из скита», — думалось Васе. Он вглядывался в эти интересные, совсем особенные лица, следил за каждым движением, вслушивался в сибирский говор и речь — скуповатую, но точную и выразительную.
В эту минуту он был далек от мысли, что дядя Степан воплотится в чернобородого стрельца в картине «Утро стрелецкой казни», а тетка Авдотья послужит прототипом для «Боярыни Морозовой»…
Дядя Гаврила Федорович, старый холостяк, так и не завел своей семьи, прижившись в семье брата Степана.
Сестра Лиза с мужем — священником Капитоном Доможиловым — тоже приехала из Бузима и привезла свою дочку Танечку, прехорошенькую, смуглолицую степную девчонку. Старый казак Иван Александрович Торгошин, двоюродный брат хозяйки, приехал со своими красавицами дочками.
Пришла и «крестнинька» — Ольга Матвеевна Дурандина, из дома которой удирал Вася на девятую версту.
И не было только одной — самой любимой и близкой сестры Кати. Она умерла на втором году замужества в селе Тесь. Муж ее, Сергей Виноградов, приехал один. Вася посадил его рядом, им не нужно было ни слов, ни сочувствия. Они сидели бок о бок, радовались встрече и молча горевали о Кате.
Дядья пили водку, закусывали туруханской сельдью, вяленной по-татарски на солнце, лакомились высушенным оленьим мясом. Паштет с курицей и рисом, запеченный на огромном оловянном блюде, занял добрую четверть стола. Василий уплетал «пашкет» и искал в нем, как в детстве, наперченных мясных катышков, положенных в фарш для пикантности. Потом пошли знаменитые пельмени, а за ними самовар, и гости принялись «гонять чаи» с вареньями, шанежками и «орешками», выпеченными из сдобного теста. Потом запели под Васину гитару. Пели вдохновенно и печальные казачьи песни, а веселые — плясовые…
Никогда еще Васе не было так хорошо и вместе с тем так тревожно на сердце. «Ну как сказать им, что я должен завтра уехать?» — думал он, перебирая лады на струнах.
А Прасковья Федоровна, сияя радостью, хлопотливо и бесшумно бегала мелкими шажками в своих мягких прюнелевых башмаках из столовой в кухню и обратно.
На рассвете торгошинские кони увозили захмелевших гостей. Дядья и тетки обнимали на прощанье племянника, гордясь своим столичным родственником, но не совсем понимая, что же, собственно, из него выйдет? Кем он будет? Иконописцем, что ли? Но то, что он ученик Академии художеств, внушало им уважение.
А утром Василий, сразу, без обиняков, как отрезал, заявил, что должен уехать в Минусинск, в Узун-Джул, чтобы писать с натуры.
Прасковья Федоровна была сражена. Она даже не нашлась, что сказать, и только сидела, опустив руки на колени, закрыв глаза и сжав губы. А Саша убежал за амбар и там рыдал как маленький.
Через час за Васей заехал кучер Кузнецова и отвез его на пристань к пароходу, отходящему в Минусинск.
Так они и не узнали — ни мама, ни Саша, — что было главной причиной столь быстрого отъезда.
В степях
Кумыс — целебное питье, кисловатое на вкус, он пенится, шипит и пьянит. Наливают его в кружку прямо из бурдюка, конского или козьего. Суриков каждый день ездил в табун к татарам пить кумыс. За два месяца испарина исчезла, покашливание прекратилось, слабости не стало. Грудную болезнь как рукой сняло.
Жил он в Узун-Джуле. На конюшне у Петра Ивановича отрядили ему гнедого конька. Он брал альбом, краски и уезжал в степь на весь день.
Увидит — сидят татары на земле, беседуют по-своему, сейчас сойдет с коня, присядет в сторонке, набросает карандашом на листе группу людей, потом закрасит.
Для Сурикова было огромным удовольствием общаться с людьми, наблюдать их движения, позы, выражения лиц.
Степь к концу июля становилась рыжей. Воздух сухой, горячий, пахнет полынью, ветер теребит выгоревшие стебли. Чуть подалее степь переходит в холмы, заплатанные квадратами посевов, а за ними лесистые отроги Саян.
Интересно подкараулить на дороге лошадь, запряженную в телегу, уговорить мужика задержаться и быстро вписать в пейзаж эту лошадь под широкой дугой, да так, чтобы ухватить движение, чтобы телега не стояла на месте, чтобы колеса катились по дороге.
Василий ездил в горы на Матур, где горная река пролегает между отрогами, шумят над головой столетние сосны и кедры, уйма зверья вокруг. Сюда уже надо брать с собой двустволку. Смотришь вверх — то и дело рыжие белки перелетают с ветки на ветку. Смотришь в сторону — желтоглазая рысь крадется в густой траве и вдруг, двумя прыжками вскарабкавшись на ствол, перебегает по толстым ветвям и мягко спрыгивает куда-то в чащу. А где-то поблизости захрустит валежником большой зверь — видно, медведь. Конь хоть и привык ко всяким таежным шорохам, а все же, похрустывая сочной лесной травой, прядет ушами и косится. Василий выбирал место, садился на какой-нибудь пенек и рисовал. Нет-нет да и ударится гулко об его альбом сосновая шишка, сорвавшись сверху. Поработав, Василий складывал свое хозяйство, приторачивал его к седлу и ехал на дачу обедать. Он загорел и поправился. А в папке накопилось множество акварелей и рисунков.
В Красноярске он побыл опять всего лишь несколько дней: пора было возвращаться в Академию. На этот раз мама и Саша скрепя сердце примирились с разлукой: Васенька знает, что делает, и мешать ему нельзя, все равно сделает по-своему и, наверное, не ошибется.
Чистяков
Сухощавый, большеголовый, с выпуклым лбом, внимательно вглядываясь в работы учеников светло-серыми блестящими глазами, он ходил между мольбертами. Крупный мясистый нос выступал над редкими темными усами.
Двигался Павел Петрович легко и быстро, перешагивая через скамью, если она стояла у него на пути. Часто шутил, улыбаясь в усы, и потому в мастерской, несмотря на полную тишину и внимание, всегда царила веселая непринужденность. Если что-нибудь ему не нравилось в рисунке ученика, он говорил: «Чемодан!» — и всем становилось — ясно, что рисунок плох.
— Вы понимаете, что значит — рисовать? — спрашивал Павел Петрович какого-нибудь незадачливого рисовальщика. — Это ведь не вести линию, не чертить. Нет! Рисовать — это значит «определить место». Вот вы поймите это выражение! Начинайте рисование человеческой фигуры с общих линий, отсекающих формы от пространства, их окружающего. Сначала наиболее крупные общие плоскости, а потом переходите к мелким деталям, их постепенно мельчите до точки.
Павел Петрович обращался к кому-нибудь одному, но все это относилось в равной степени ко всем ученикам. И потому весь класс молча слушал его.
— Когда рисуешь глаз, смотри на ухо! — говорил Чистяков для того, чтобы показать студентам соотношение частей человеческого лица. Эти слова запоминались, как афоризмы.
Столько энергии, знаний и души своей безотказно отдавал Павел Петрович молодым, что на свое собственное творчество у него уже почти ничего не оставалось. Может быть, потому так мало картин написал он за свою жизнь.
Занимался он со студентами и у себя, и на дому у молодых художников, которые постоянно его приглашали. Это вызывало крайнее раздражение у администрации. В Академии не любили сборищ студентов и не доверяли им.
А однажды Чистяков объявил в газете «Голос», что раз в неделю, по четвергам, его мастерская в Академии будет открыта для широкой публики, для всех желающих учиться рисовать. Тут в Академии не на шутку встревожились, и конференц-секретарь Исеев поспешил написать Чистякову:
«…я желал бы знать от Вас, уполномачивали ли Вы кого-нибудь на такое заявление в печати? Я полагаю, что коллективное открытие мастерских в здании учебного заведения и притом дать полуофициальное разъяснение в печати, может быть допущено не иначе, как с разрешения Его Высочества».
Вот этим безграмотным письмом был положен конец начинанию Павла Петровича.
И вообще Павел Петрович, который в своей бараньей шубе и мужицких рукавицах выходил вечером из Академии, окруженный толпой смеющихся, горланящих, спорящих учеников, не очень-то нравился начальству. Зато ученики обожали Чистякова. Все знали, что, если на лестнице или в коридоре, в музее или на выставке, в круглом дворе Академии или на набережной толпятся студенты, — это значит, Павел Петрович Чистяков ведет беседу…
Родом Павел Петрович был из крепостных Тверской губернии. Барин дал ему при рождении вольную, но учился он на медные деньги. Окончив уездное училище, пошел работать землемером. Только пытливая, страстная натура и врожденное чувство прекрасного открыли ему путь в искусство. Он поступил в петербургскую Академию и по окончании остался в ней преподавателем.
Несколько лет Чистяков провел в Италии, куда послала его Академия художеств для усовершенствования. Вернувшись на родину, он снова занялся преподаванием и через всю жизнь пронес мечту — приблизить живописные традиции любимого им Тициана к традициям национальной русской живописи.
Что-то по-детски наивное было, конечно, в этой мечте, но в основе ее лежала вера в могучую силу родного искусства, в его неисчерпаемые возможности.
Патриотической натуре Чистякова были чужды убеждения академиков-немцев, он ненавидел их сухость, их тупое, чиновничье высокомерие, и вместо отжившей отвлеченности и рутины Павел Петрович внедрял все новое, подсказанное действительностью, и передавал студентам все то, чему сам научился у мастеров Возрождения. Он один умел находить точные и чистые мысли об искусстве, но выражал их забористыми словами русского мужичка.
Интересовался Чистяков всем: физикой, философией, воздухоплаванием, спортом, театром, медициной. Интересовался не поверхностно, а старался проникнуть в глубь, в сущность.
Он любил и понимал музыку и пение. Из композиторов предпочитал Бетховена и Глинку. Часто напевал вполголоса, а иногда пел во весь голос русские песни на русский лад, как поют в деревнях, со всеми народными «вывертами», как называл он мелодические украшения…
Через руки этого великолепного педагога прошли лучшие русские живописцы: Крамской, Репин, Поленов, Васнецов, Остроухое, а позднее Серов и Врубель… Но любимым его учеником был Суриков.
Колорист
Суриков вернулся в Петербург здоровым и окрепшим, товарищи не сразу узнали его. Он поселился на Третьей линии Васильевского острова, недалеко от Академии, и, полный свежих сил и бодрости, начал ходить на занятия.
В эту зиму в мастерской у Чистякова Суриков упорно занимался рисованием обнаженного натурщика. Павел Петрович считал, что Суриков все же недоучился рисунку по классу «гипсов», и хотел, чтобы теперь хоть на живой натуре он наверстал упущенное.
Но в этюдном классе, где писали маслом, Чистяков считал Сурикова одним из лучших. Он намеренно ставил для Сурикова обнаженного натурщика на фоне белого холста, чтобы ученик почувствовал цвет человеческого тела со всеми его оттенками и тень от него на белом фоне.
Чистяков утверждал, что предметы «существуют» и «кажутся» глазу человека. То, что кажущееся, — это призрак, существующее — суть. Если художник будет рисовать только кажущееся, он не достигнет цели, говорил Чистяков, получится только кажущаяся плесень неумелого мазилы, потому что каждому кажется по-разному. Значит, сначала надо видеть суть, знать жизнь и подлинность. Эта наука — закон. Когда художник получает необходимые знания и все умеет ставить на свое место, то он уже сможет выявить свое, самобытное и этим обогатить искусство.
Огромное внимание уделял Чистяков проблемам цвета, колориту. Он считал, что сущность колорита заключается в умении угадать краски, из которых составляется нужный цвет. Он говорил, что если рисунок — дело рассуждения, разума и точности, то живопись и колорит — дело чувства и умения видеть ясно и просто. Вот два эти условия — разум и чувство — и есть основа искусства в живописи.
У Сурикова были преимущества колориста, и в живописи он изучал больше колоритную сторону. Рисунок у него не был строгим и всегда подчинялся колоритным задачам. Павел Петрович старался развить в Сурикове это мужественное, твердое и устойчивое начало — верный рисунок, тем более что Суриков от природы был с характером твердым и настойчивым. Однажды Чистяков написал в своей записной книжке:
«Суриков. Сибирь, метель, ночь и небо. Ничего нет, никаких приспособлений. Едет в Питер. Попадает, как в магазин, — все готово. В Академии учат антикам, пропускают рисунок, колорист — я развиваю — темное тело на белом. У семи нянек дитя без глазу».
В этой записи сосредоточено все его отношение к Сурикову, в которого он верил и видел всю оригинальность и глубину русского таланта. В то же время Чистяков бросал академикам, не сумевшим распознать в юноше подлинного дарования, горький упрек в небрежности и равнодушии.
Венера и Лавиния
Толстая книга в белом переплете с золотым тиснением — «Картинные галереи Европы» — лежала раскрытая перед Суриковым. Он сидел за столом, подперев голову и целиком уйдя в далекий мир гениев, живших три столетия назад, и в тоже время мир доступный, раскрывающийся каждому, кто хотел постичь его. Мир великолепного искусства, принадлежащего всему человечеству.
На странице была гравюра: репродукция портрета дочери Тициана — Лавинии. Портрет этот находился в Берлинском музее.
Гравюра, конечно, высушивала всю мощь и богатство тициановского колорита. Но Суриков представлял себе тяжелую золотистую ткань платья Лавинии, прекрасной венецианки, державшей на поднятых руках серебряное блюдо с фруктами, и лицо чудной красоты, свежее, молодое, с черными глазами, и ее белокурые, какие бывают только у северных итальянок, волосы, перевитые жемчужными нитями.
По описанию он знал, что занавес у окна, перед которым стоит Лавиния, — малиновый, и что за окном пропасть голубого воздуха, и в дымке — итальянский пейзаж с лагуной меж зеленых волнистых холмов. Он смотрел, как свободно лежит нить жемчуга на девичьей шее Лавинии, поставленной Тицианом спиной к зрителю и повернувшей к нему свое прелестное лицо. Все было в ней грацией, все было торжеством красоты и чистоты.
Суриков перелистывал книгу, перечитывал отрывки жизнеописания Тициана, и перед ним во весь рост вставала фигура великого мастера, знаменующего целую эпоху в мировом искусстве.
Когда Тициан писал в Аугсбурге портрет испанского короля Карла Первого, под властью которого находилась тогда в числе многих стран и Южная Италия, он обронил нечаянно кисть. Король, нагнувшись, поднял ее и вручил мастеру со словами: «Цезарь может поднять ту кисть, которая его обессмертила».
И все же первого колориста в мире — Тициана, создавшего новое течение в живописи после сухого, готического средневекового искусства, этого гиганта Возрождения, Микеланджело упрекал… в плохом рисунке! Он считал, что Тициану недостает твердости и определенности в контурах… Суриков вдруг вспомнил круглый зал Академии, мраморную фигуру Екатерины Второй в римской тоге, восседающую над советом чиновников в зеленых мундирах, и слова Бруни: «Вы не умеете рисовать…»
Суриков рассмеялся и подумал: «Ну уж если Микеланджело упрекал великого Тициана в плохом рисунке, так где уж нам-то!» Он закрыл книгу и вдруг решил:
«Еще часа на полтора дневного света! Успею!..» Стоял один из воскресных дней ноября, когда вдруг перед самой зимой природа расщедрилась на несколько тихих и теплых ярких дней. Прибитые осенним дождем листья устилали дорожки желтым ковром. Быстро шагая и ничего не замечая вокруг, Суриков пересек Румянцевский сад. На скамьях, обрадованные теплом, беспечно сидели васильеостровцы, подставляя лица осеннему солнцу. Он не замечал их, как не замечал молодых петербургских щеголей, что проносились наперегонки по набережной в «эгоистках» — одноместных экипажах, запряженных английскими рысаками. Суриков выбежал на набережную и вскоре достиг Дворцового моста. Нева неслась под ним неприветливая, холодная, сверкая золотым отсветом, солнце близилось к закату.
«Успею или нет? — думал Василий, щурясь на воду, похожую на расплавленный металл. — Если старик дежурит сегодня, то пустит…»
Придворные служители Эрмитажа знали Сурикова. И особенно благоволил к нему старый плешивый смотритель с бакенбардами, которые важно покоились на его шитой золотом ливрее. В воскресенье галерея закрывалась рано. К тому же дело шло к зиме, и дневной свет кончался после пяти часов пополудни.
Суриков прибежал к Эрмитажу, когда вход посетителей был уже прекращен. За стеклянными дверями стоял старик с бакенбардами. Он увидел художника и, укоризненно улыбаясь, приоткрыл дверь:
— Что же это вы нынче так поздно?
— Мне ненадолго!.. К итальянцам… Пустите! Пробегусь и тотчас обратно. Не задержу!..
— Ну… идите! Да скоренько! Уже все господа выходят.
Не снимая пальто и шапки, Суриков единым духом взлетел по мраморной лестнице. В залах уже почти никого не было. Со стен фламандского зала на Сурикова метнулись могучие полотна Снейдерса: рыботорговец копошился в грузе огромных светлобрюхих рыб с разинутыми пастями и вытаращенными глазами. Омары, крабы, устрицы, черепахи — чего только не было на этом холсте! Дальше — изобилие плодов во фруктовой лавке, потом полный прилавок битой дичи и зайцев в охотничьей…
Василий бежал, как по рыночным рядам, до того все это было живо и щедро написано.
Но даже Рембрандт, которого Суриков очень любил, не заставил его замедлить шага. В этот раз он не остановился, как обычно, в душевном волнении перед «Возвращением блудного сына», разглядывая выразительные отцовские руки, всепрощающе обхватившие плечи оборванца, в раскаянии припавшего к стопам отца…
И наконец вот он — большой зал с верхним светом, где среди гениев итальянского Возрождения — Рафаэля, Веронезе, Леонардо да Винчи — находился и Тициан. Суриков остановился перед тициановской «Венерой».
Он знал наизусть каждый мазок, каждую деталь этой картины. Венера в свете умирающего дня, падающего сверху, как бы уходила в глубь картины. Мальчишка — купидон — держал перед ней зеркало в тяжелой черной раме. Он напружил толстенькие ножки свои и уперся ступнями в полосатое покрывало кровати. В зеркале отражалась часть лица прекрасной обнаженной женщины, и отраженный зеркалом глаз был похож на огненный глаз дикой лошади. Вишневый бархат с меховой опушкой, в который завернулась красавица, уже почти погас в надвигающихся сумерках, но обнаженное тело светилось на темном фоне, и матовым блеском переливалась жемчужная серьга в ухе женщины. Дивной красоты рука Венеры, с длинными пальцами, женственно прикрывала грудь, и тускло поблескивали, обвивая пясть руки, золотые венецианские бусы…
Суриков застыл перед этим чудом живописного мастерства.
«Вот она, лучшая картина Тициана! Венера. Она, конечно, гораздо сильнее и глубже, чем Лавиния… Какой рисунок! Хоть его и не видно в контурах, а все же он чувствуется поразительно четко! Какое в ней мерцание, словно луна!..»
Суриков снял перед картиной шапку. Он, быть может, в сотый раз стоял перед ней, и каждый раз она потрясала его, как впервые. Он стоял неподвижно, и то ли от быстрой ходьбы, то ли от волнения и восхищения гулко и часто билось в нем сердце.
«Бессмертие!.. Дар бесценный!» — думал он.
День уже почти совсем угас, но Венера еще мерцала в полутьме прекрасными обнаженными плечами. Вот и зеркало с отраженным диким глазом померкло во мраке, и купидон, держащий его. Суриков надел шапку и, неслышно ступая на носках, пошел по пустынным залам к выходу, бережно унося в себе ощущение глубочайшей радости познавания.
«Пир Валтасара»
Длинные узкие коридоры Академии, такие темные в эти ноябрьские дни, освещались только пламенем печей, отапливающих классы. Топок было много, но, несмотря на то что все они были раскрыты, в коридорах стоял леденящий холод. Когда студенты в перерыв между занятиями выходили в коридор покурить и поспорить, неровное пламя топок озаряло их возбужденные лица, а черные тени от их фигур плясали и корчились на соседней стене, словно черти в аду.
В этот раз шумно обсуждалась статья в журнале «Всемирная иллюстрация» с откликами на очередную выставку ученических работ.
— Вы только послушайте, господа, что про него пишут! — кричал молодой художник в косоворотке, присев на корточки перед печью и ероша свои густые рыжие волосы. — Оказывается, он «герой нынешнего академического года, в смысле научной и практической подготовки могучего самостоятельного творчества»! Каково! Вот так Суриков!..
— Нет, нет, ты читай дальше! — перебил его другой студент, торопливо пробегая строчки журнала. — Ты читай вот это! — Он ткнул в страницу своей раскуренной трубкой.
— «…Простота концепций, — подхватил рыжий с энтузиазмом, — и сила типов, прекрасная кисть, ум, просвечивающий в общем и деталях, дают право видеть в нем надежду, не обманчивую на талант, способный принести честь народному искусству». Так и сказано — народному искусству!
Но тут резко задребезжал колокольчик, оповещавший о конце перемены, и взбудораженную толпу мигом разметало по классам.
Вся Академия была растревожена в этот день страницами журнала, выдвинувшего на первое место молодого сибиряка Сурикова.
«…Талант этот особенно ярко дает себя чувствовать в эскизе «Пир Валтасара». Не много таких страниц видели академические выставки и не между ученическими попытками создавать свое…»
Недовольно морщась, читали эти строки властители Академии, ежась от неприятного холодка, хотя в профессорских квартирах было достаточно тепло.
Это был успех! Две картины на выставке 1874 года принесли Сурикову первый успех, которого он не то чтоб ждал, но предчувствовал его и, может быть, потому не придавал ему большого значения.
На конкурс была дана полубиблейская, полуисторическая тема: «Пир Валтасара». Валтасар, последний царь Вавилона, во время пира в своем богатейшем дворце видит, как чья-то рука выводит на стене огненную надпись: «Мене, текел, фарес». Не поняв знамения, Валтасар призывает пророка Даниила, чтобы тот растолковал ему таинственные письмена. А надпись эта предрекала скорую гибель Вавилона, и строчки означали: «Отмерено, взвешено, разделено». Пророчество сбылось: в ту же ночь Валтасар был убит персами, и Вавилон пал. Сурикова больше занимали исторические подробности темы, чем философские и библейские толкования. Он чувствовал, что можно интересно скомпоновать эту фантастическую сцену. Занимался изучением исторических деталей, рылся в архивах, искал типы людей того времени на старинных гравюрах библейского содержания, изучал архитектуру, одежду, украшения и наконец принялся за работу.
Картина удалась. Небольшое по размеру полотно обладало драматизмом и значительностью крупного произведения… Сюжет, облеченный в художественную форму, был шире библейской притчи.
Суриков поставил пророка Даниила в глубину и в тень. Не Даниил был центральной фигурой картины и не Валтасар, который в противоположном углу увяз где-то в нагромождении дворцовых украшений, среди ослепительной роскоши. Центральными фигурами были люди, окружавшие царя, — народ, мечущийся между царем и пророком. Народ, который понимал, что приходит конец царству.
Гроза. Молния, раскалывающая тучи над дворцом. Рабыни, заламывающие руки в отчаянии и страхе. Невольники упавшие в смятении на колени. Музыканты, только что услаждавшие слух своего повелителя сладчайшей музыкой, оборвали звон струн. Все сдвинулось. Что-то взметнулось к небу, кто-то повергнут ниц…
Преподаватели Академии, как истые чиновники, осуждали столь вольную трактовку библейского нравоучения. Их пугала смелость решений, неистовство и темперамент художника, настойчиво пронизывающие небольшой кусок холста. А зрителю, ежегодно посещавшему выставки молодых, нравился Суриков, искавший нехоженых путей. Возле этой маленькой, но сильной картины толпился народ.
Вторая картина Сурикова — более спокойная и обычная композиция — «Милосердный самарянин» не пугала профессоров, она получила малую золотую медаль. Это притча о том, как некто был ограблен в пути разбойниками. Священник прошел мимо пострадавшего, а проезжий самарянин (человек, исповедовавший сектантское учение самарян) остановился, перевязал ему раны и отвез его на своем осле в гостиницу. Знойный колорит пустыни, выразительные движения и лица, полная равнодушия уходящая вдаль фигура священника в тусклой желтоватой дымке очень понравились Петру Ивановичу Кузнецову. Он был в восторге от новой работы своего подопечного, и Вася подарил ему эту картину, радуясь тому, что может хоть чем-нибудь отблагодарить Кузнецова за все его заботы и затраты. До конца жизни Кузнецова эта картина украшала его собрание. Но настоящий успех имел все же «Пир Валтасара». Эта маленькая картина выходила за рамки дозволенного и обусловленного духом Академии. Эта вещь возбуждала ум, пленяла глаз, будила воображение. Она обещала новые порывы и новое слово, никем еще не сказанное.
А Василий писал своим:
«20 декабря 1874
Здравствуйте, милые мама и Саша!
Пишу вам, что получил золотую медаль за картину, о которой писалось в некоторых газетах. Если хочешь, Саша, то прочти статью обо мне в «Всемирной иллюстрации», 14 ноября, № 307. Там скоро напечатают мой эскиз «Пир Валтасара». Я уже рисую его для печати. Потом вместе с медалью я получил диплом в окончании курса наук. Так что теперь я имею уже чин губернского секретаря. Потеха, да и только, как подумаешь о чине! Теперь он мне вовсе не нужен. На будущий год буду работать на большую золотую медаль — и конечно, это уже последняя медаль.
Время я провожу весело. Поработаешь, погуляешь, иногда в театр сходишь. Квартирку я занимаю очень хорошенькую, окнами на улицу. Одним словом, живу очень хорошо. Не нуждаюсь. Чтобы успокоить тебя, мама, скажу, что у ценя очень хорошая скунсовая шубка и зимняя теплая шапка. Так что твой старший сын франт. Я забочусь об вас с Сашей, есть ли у вас теплая обувь и зимнее пальто! Покуда не получу побольше денег за картину в «Иллюстрации», посылаю вам на расходы пятнадцать рублей. Потом Пришлю еще. Обо мне, бога ради, не беспокойтесь. Я живу хорошо…
О себе больше писать ничего не нахожу. Целую вас тысячу раз.
В. Суриков».
Итак, Академия закончена! В ящике стола, в папке, хранится аттестат. На хрустящей гербовой бумаге с водными знаками и императорским двуглавым орлом напечатано:
АТТЕСТАТ
Дан сей ученику Императорской Академии Художеств по живописи, Василию Сурикову в удостоверение оказанных им успехов на выпускном испытании из наук:
Истории церковной — отличные.
Истории всеобщей — очень хорошие.
Истории русской — очень хорошие.
Истории изящных искусств и археологии — очень хорошие.
Механики и математики — хорошие.
Физики — отличные.
Химии — хорошие.
Русской словесности и эстетики — очень хорошие.
Перспективы и теории теней — хорошие.
Строительного искусства, строительного законоведения, архитектуры — отличные.
Анатомии — хорошие.
Товарищ президента (подпись)
Конференц-секретарь (подпись).
Теперь осталась еще одна серьезная работа на большую золотую медаль и на звание классного художника первой степени. А вместе со званием лучшим ученикам давалась заграничная командировка.
«Болванотропы»
Конкурс на большую золотую медаль. Тема, как всегда, библейская: «Апостол Павел объясняет догматы христианства иудейскому царю Агриппе, сестре его Беренике и римскому проконсулу Фесту».
В этом году на золотую медаль претендуют четыре ученика: Творожников, Бодаревский, Загорский и Суриков.
Опять поиски новых путей. Опять Суриков тянется к исторической истине и решает композицию по-своему.
На этот раз задана не многофигурная композиция. Но Суриков не может согласиться с общепринятыми условиями, он включает в действие толпу. Римские воины и горожане-евреи с любопытством слушают проповедь Павла. Как только появился в картине народ, так сразу Сурикову стало интересно работать. Картина получилась живая и, пожалуй, слишком оригинальная. Образ Павла вышел чересчур дерзким для святого апостола. Кроме того, по законам классического построения человеческой фигуры голова должна была помещаться во всей фигуре, начиная от ступней, ровно восемь раз, а в картине Сурикова голова Павла слишком крупна и не укладывалась в положенную мерку.
Раздраженные академики мелко придирались к каждому мазку, и в письме к одному из своих учеников, Поленову, Павел Петрович Чистяков писал:
«Не пишу вам много, а так только, что необходимо. У нас допотопные болванотропы провалили самого лучшего ученика во всей Академии, Сурикова, за то, что мозоли не успел написать в картине. Не могу говорить, родной мой, об этих людях: голова сейчас заболит и чувствуется запах падали кругом. Как тяжело быть между ними…»
Итак, золотая медаль отпала, а вместе с ней и командировка за границу. Не получили золотой медали и остальные студенты. Говорили, что у вице-президента Академии, великого князя, произошла крупная растрата казенных денег, за которую поплатился конференц-секретарь Исеев, — он был отдан под суд и выслан в Сибирь. Командировки были отменены. Павел Петрович сильно горевал за своего любимца. По его просьбе вице-президент все же выхлопотал у царя, в виде исключительного случая, 800 рублей золотом на поездку Сурикова за границу, но тот отказался от царской милости. К тому же подвернулся очень выгодный заказ на роспись только что выстроенного в Москве храма Христа Спасителя: с этим заказом он получил большую материальную независимость.
Независимость, как он рвался к ней! Пора вставать на собственные ноги. Довольно пользоваться чужой помощью. И как ни любил Суриков Кузнецова и его семью, тяжелое чувство зависимости не давало ему покоя.
И вот в письме от восьмого апреля 1876 года Прасковья Федоровна прочла такие слова:
«Я, мама, уже теперь с января месяца не стал получать от П. И. Кузнецова содержания. Я сам хочу теперь самостоятельно работать. Я уже выучился хорошо рисовать. В ноябре я получил диплом на звание классного художника 1-й степени и вместе с тем чин коллежского секретаря. Конечное дело, что чин мне не особенно нужен, но все-таки же я начальство, в спину могу давать! Вот ты и возьми меня! Вот оно куда пошло!»
Бах
Француз Август Шарэ уже много лет жил в Петербурге. Он приехал сюда из Парижа и открыл небольшое предприятие. У него была лучшая в Петербурге бумага — он выписывал ее из Англии, Голландии, Дании, — и все богатые петербуржцы заказывали почтовую бумагу с вензелями только у Шарэ.
Еще в Париже он встретил русскую девушку из семьи декабриста Свистунова, эмигрировавшей во Францию, влюбился, женился на ней, хотя ему пришлось для этого переменить католическое вероисповедание на православное.
Мария Александровна уговорила мужа ехать в Россию, они перебрались в Петербург, где у нее была многочисленная родня.
Сын и четыре дочери Шарэ родились и выросли в Петербурге, но воспитаны были они на французский лад, хорошо знали французский язык. Девушки одевались как парижанки, обладая при этом скромностью, достоинством и хорошими манерами.
Шарэ снимали квартиру на Мойке. В его гостиной постоянно сидели солидные петербуржцы — заказчики. Там угощали чудесным кофе с бисквитами и отменным коньяком Готье, налитым в узенькие хрустальные рюмки. Тут же всегда присутствовал кто-нибудь из родни Марии Александровны, приехавший с визитом.
Дочерей родители вывозили в театр, в концерты, в собрания и балы, но старшая — Соня и самая младшая — Лиза очень любили слушать утреннюю мессу в католической церкви Святой Екатерины, что была на Невском. Их, православных девушек, привлекал туда орган. Обе любили хоралы Баха, исполнявшиеся во время мессы.
Девушки садились где-нибудь в сторонке и слушали музыку. Старые католички с молитвенниками, перебирая четки, в торжественные минуты опускались на колени на скамеечки, поставленные к их ногам. Тут же было множество пышно разодетых молодых дам. Господа католики снимали свои цилиндры и, положив в них перчатки, ставили их, как короба, в пролетах между рядами.
Вихрастые, коротко подстриженные мальчишки-служки, путаясь в длинных черных сутанах, поверх которых надевались белые широкие блузы с кружевами, носили тяжелые свечи за патером, совершавшим богослужение.
И вдруг вступал орган. Он рождал звуки где-то вверху, под стрельчатыми сводами. И тогда все земное переставало существовать. А там, вверху, в сводах, озаренных радужными лучами весеннего солнца, пробившегося сквозь витражи, гремели торжественные созвучия хорала, перемежаясь с легкими, быстрыми руладами в трубах верхнего регистра. Звуки, журча, ликуя, догоняли друг друга, чтобы снова слиться в общий триумф голосов, в аккорд, который еще долго перекатывался в сводах, прежде чем затихнуть совсем, замереть и вернуть сидящих внизу к земному…
Каждое воскресенье приходил в костел слушать органную музыку Баха и Суриков. Она потрясала его даже больше, чем хор митрополичьих певчих в Исаакиевском соборе.
Каждый раз он встречал здесь двух молодых девушек, которые, как и он, приходили «молиться Баху». Он настолько привык видеть между колоннами две эти фигурки, что невольно начинал искать их глазами на привычных местах.
Одна из них, младшая, тоже стала примечать молодого черноволосого человека, внешностью столь непохожего на петербургских франтов, но в то же время щеголеватого и оригинального.
И пришло то воскресенье, когда Суриков, встретив их как обычно, не стал ждать, пока одна из них уронит зонтик или потеряет платок, а просто поклонился им, как знакомым.
На одно мгновение младшая застыла и вдруг решительно кивнула ему в ответ своей прелестной головкой с тугой русой косой, уложенной венком на затылке под черной соломенной шляпкой с серебристым бантом.
Старшая с удивлением посмотрела на сестру, младшая зарделась, потом обе улыбнулись. Знакомство завязалось. В этот раз, выходя после мессы на шумный суетный Невский, Суриков намеренно поспешил за двумя девичьими фигурками в светлых платьях, с обтянутыми лифами и шуршащими юбками. Девушки шли быстро. Суриков уловил французскую речь. Боясь потерять их в толпе, он подошел к ним и громко спросил:
— Могу ли я быть вашим провожатым?
Девушки замолчали. Старшая вздернула голову и сказала строгим голосом:
— Простите! Мы незнакомы.
— О-о! Это легко поправить, — пошел он в наступление. — Разрешите представиться — Суриков Василий Иванович, художник.
Младшая вдруг оживилась, даже обрадовалась:
— Я видела вашу картину в журнале «Всемирная иллюстрация»! Это ведь ваша?
— Моя! — ответил Суриков, обрадованный удачным оборотом дела.
Она с любопытством поглядела на него. И показалось ему удивительно милым и то, как она стучала каблучками о тротуар, и то, как грациозно подтягивала рукой в длинной черной перчатке подол своего серого атласного платья…
— А вы, кажется, любите Баха? — спросил Суриков.
— Очень, очень любим! — подхватили сестры.
— А я так его люблю, что весь день бы сидел в костеле! Все трое засмеялись. Они шли в кипении воскресного дня.
Невский шумел, сверкал нарядами, блестел зеркальными витринами. Мимо с грохотом проезжали двухъярусные дилижансы, переполненные людьми, спешившими на воскресное гулянье. Экипажи, коляски, пролетки катились непрерывной чередой. Петербург воспользовался ярким майским днем, чтобы показаться в блеске и роскоши.
Когда трое свернули на Мойку и подошли к дому, где жили Шарэ, Суриков искренне огорчился, что они близко живут. Сестры расхохотались.
— Но все же, кого я имел честь провожать? — настаивал Суриков на дальнейшем знакомстве.
Девушки нехотя, смущаясь, назвались и, торопливо попрощавшись, вошли в подъезд. И только младшая на мгновение задержалась и послала Сурикову сквозь зеркальное стекло двери приветливую и полную лукавства улыбку. Это было началом.
У Пречистинских ворот
«Москва, 10 октября 1877
Здравствуйте, милые и дорогие мама и Саша! Я все еще живу в Москве и работаю в храме Спасителя. Работа моя идет успешно. Думаю в этом месяце кончить. Жизнь моя в Москве очень разнообразная — днем работаю или иногда хожу в картинные галереи. Видел картину Иванова «Явление Христа народу», о которой, я думаю, ты, Саша, немного слышал. На днях ходил на Ивана Великого, всю Москву видно, уж идешь, идешь на высоту, насилу выйдешь на площадку, далее которой не поднимаются. Тут показывают колокола в 200 пудов, и даже в 300 пудов, в 400 пудов и до 1500 пудов, а в 8000 пудов звонят только в 1-й день пасхи — такой гул, что упаси бог. Я думаю, в Красноярске услышат! Подле колокольни Ивана Великого на земле стоит колокол в 12 000 пудов. Он упал лет 100 назад с колокольни и ушел в землю по самые уши и выломился бок…»
Суриков подумал и нарисовал в письме Царь-колокол и Царь-пушку, а рядом с ними человечка.
«Вот вид колокола и рядом человек и Царь-пушка.
Потом ходил в Архангельский собор, где цари покоятся до Петра Великого… Очень много интересного. Вот если б тебя, Саша, бог привел побывать здесь. Да, может быть, и побываешь. Что, милая моя, дорогая мамочка, как поживаете? Хочется мне увидеться с вами. Есть ли чай-то у дорогой моей. Что у нее, еще побольше морщинок стало? Саша, купи маме теплые сапоги. Есть ли теплая шубка у мамы? Если нет, то я пришлю еще деньжонок. Бог даст, если хорошо кончу работу, приеду повидаться с вами. Кланяюсь всем.
Целую вас, дорогие. В. Суриков.
Адрес мой: У Пречистинских ворот, дом Осиповского, квартира № 9».
От Пречистинских ворот — два шага до храма Христа Спасителя, где Суриков ежедневно работал с самого утра.
Огромный белый храм строился почти сорок лет и стоял на берегу Москвы-реки, окруженный сквером.
Сурикову, воспитанному на прекрасных образцах петербургского зодчества, не нравилась ни архитектура этого храма, ни роспись, которую выполняли все те же академики: Нефф, Вениг, Шамшин. Она казалась ему пресной, мертвой, лишенной всякого воображения. С этими «корифеями» академического искусства должны были соревноваться три молодых обездоленных кандидата на золотую медаль: Творожников, Бодаревский и он — Суриков.
Ему было поручено написать высоко, на хорах, в полутемных нишах, четыре вселенских собора. Эскизы к ним он сделал еще в Петербурге.
Тему эту, конечно, можно было бы решить очень интересно. В начале христианства все, кто сомневался в существовании Христа как человека, равно как и те, что сомневались в его божественном происхождении, признавая только человеческое, объявлялись еретиками. Вот для борьбы с еретическими учениями и собирались четыре вселенских собора, на которых обсуждались и отвергались «ереси».
Сначала Суриков загорелся. Задумал было ввести в композицию типы еретиков — египтян, сирийцев и греков, показать разыгравшиеся страсти, но тут же ему оборвали крылья.
— Если будете так писать — нам не нужно! — объявили; Сурикову.
Начальство боялось, что суриковским типам не хватит святости.
И вот каждое утро, стоя на лесах, где-то на хорах, Суриков расписывал эти фрески, вынуждая себя смиряться и писать так, как это было угодно заказчикам, обязавшимся заплатить художнику за эту работу десять тысяч рублей.
«Вот получу деньги, стану свободным и начну свое!» — сердился он, когда на леса вскарабкивались члены комиссии и начинали придирчиво требовать, чтобы Суриков пригладил волосы проповеднику или смягчил выражение лица у какого-нибудь императора.
Так противно и скучно было выполнять этот заказ, что Суриков только и жил в чаянии поскорей отделаться.
Но Москва, которую он каждый день после работы обходил и осматривал, пленяла его все больше и больше. В Петербург тянуло только одно — там осталась Лиза Шарэ.
Он знал, что она ждет его. За это лето ему удавалось несколько раз съездить в Питер, и всегда он находил ее, Лизаньку, то в церкви, то на гулянье в Сестрорецке, то в Летнем саду. И каждый раз они встречались, оба радуясь и ожидая друг друга.
Однажды она представила его своему отцу. Суриков часто вспоминал потом, как он растерялся и оторопел, не мог слова вымолвить. Папаша, видимо, очень удивился несветскости и дикости молодого художника.
«Ну да ладно! Ничего! — думал Суриков, вдруг вспыхивая до корней волос. — Все равно я у него Лизаньку увезу! Вернусь в Питер в декабре и посватаюсь. Вот и все!»
Так он решил. Он решил еще, что жить они будут не в Петербурге. Они переедут в Москву насовсем. Только здесь можно жить и работать, возле этих древних, замшелых кремлевских стен, вдоль которых шагал Василий в это ненастное субботнее предвечерье. Стоял ноябрь. Над рекой, еще не замерзшей, но уже покрытой «салом», висел густой туман. Он поднимался все выше и выше и уже ощупывал набережные.
Суриков обогнул Беклемишевскую башню и зашагал в горку по булыжной мостовой, к церкви Василия Блаженного.
«Вот чудо! — восхищался Суриков, оглядывая храм. — Маленький, а какая красота! Дар бесценный был у этих мастеров!»
На кокошниках причудливых главок храма полукружиями сидело множество галок. «Ишь, котосаются! Видно, устраиваются на ночлег»- И вдруг под сводом шестигранной колоколенки ударил колокол. Галки разом всполошились и с тревожным граем взметнулись к небу и в стороны — кто куда.
Тут же с Ивана Великого ответил большой колокол густым, низким голосом, словно жалуясь и ноя. И все сорок сороков московских церквей принялись вразнобой звонить к вечерне. Потянулся к церковным папертям нищий сброд калек, слепых, убогих, изо дня в день кормившийся медными полушками от купеческих щедрот.
Суриков обогнул храм и вышел на людную улицу деловых кругов — Ильинку. Как-то художник Творожников хвалил ему трактир «Московский» на Ильинке. Суриков без труда нашел это заведение по извозчикам, то и дело подвозившим приезжих и завсегдатаев.
Когда швейцар в красной ливрее разверз перед ним дубовую дверь, Суриков словно сразу окунулся в испарения бараньих щей, шипенье пожарских котлет, хлопанье шампанских пробок, гула, хохота, звона бокалов. Половые в белых рубахах и портах артистически эквилибрировали серебряными подносами со снедью над головами дельцов купеческого и чиновничьего звания. К довершению всего огромная музыкальная машина ревела модные вальсы, польки и марши, без остановки переходя от одного к другому. После пронизывающего, но свежего ветра Суриков просто ужаснулся.
«Фу ты, какой вертеп! — сказал он, заглянув в прорезь красных плюшевых портьер с помпонами и увидев сквозь табачный дым и синий чад жарева скопище обжор. — Пойду-ка я лучше в свою столовую по соседству, у Пречистинских ворот», — и, нахлобучив шапку, вышел, не глядя на красного швейцара, который от презрения к несостоятельному гостю даже не качнулся, чтобы открыть ему дверь.
Когда Суриков вышел снова на площадь, было уже почти совсем темно. Тускло горели масляные фонари. Василий Блаженный светился решетчатыми оконцами, и было в этом что-то таинственное, что-то от древней Руси.
Он остановился. И вдруг его захлестнула волна острой радости, которую поднимает первая большая любовь. Перед глазами встала Лиза, ее личико за стеклянной дверью подъезда на Мойке- Он вспомнил набережную, по которой они бродили вместе, потом мысль понеслась к Адмиралтейству, к фонарям возле Исаакия, к конной статуе Петра… «Гигант на бронзовом коне!» — подумал Суриков. И сразу воображение его вернулось сюда, обратно к царской башенке на кремлевской стене, с островерхим шатром на пузатых столбиках, — она резко вырисовывалась на последнем проблеске вечерней зари. «А ведь гигант отсюда начинал! Отсюда, от Красной площади, мальчишкой!..»
Сибиряк и француженка
Как было задумано, так и сталось. В Петербург он приехал в декабре, перед святками, и остановился в дешевых номерах на Невском, близ вокзала. В этот же вечер, надев лучшую пару и подвязав новый черный галстук под белоснежный открахмаленный воротник рубашки, он пошел на Мойку.
Тридцатиградусный мороз, ударивший под рождество, был красноярцу нипочем: скунсовая шуба грела его, а еще больше подогревало его кровь волнение перед задуманным.
На его счастье, у Шарэ в этот вечер не было никого из посторонних. В гостиной, вся зардевшись, встретила его Лизанька.
Она медленно подошла к нему и подала ему обе руки сразу. Суриков, улыбаясь, крепко сжал ее руки в своих, потом вдруг, спрятав улыбку, спросил глуховато и серьезно:
— Можно мне увидеть вашего батюшку?
Лиза посмотрела на него, и румянец схлынул с ее щек. Она чуть помедлила, потом решительно подошла к двери кабинета и распахнула ее:
— Папа, к вам гость! — и тут же, не глядя на красноярца, выскользнула.
Шарэ сидел в глубоком кресле с книгой и сигарой. На круглом столике возле стояла лампа с зеленым абажуром-козырьком.
Старик встал. С конца наполовину раскуренной сигары отвалился плотный серый столбик пепла и упал на густой, пунцовый ковер кабинета. Шарэ никак не ожидал этого гостя и встретил его с радушным недоумением:
— Здравствуйте, молодой художник! Здравствуйте! Чем обязан вашему визиту?
— Я пришел просить руки вашей дочери Елизаветы Августовны! — бухнул Суриков без обиняков.
Он стоял посреди кабинета, прямой, словно готовый к контратаке, и, не мигая, смотрел в глаза французу. Шарэ почти упал обратно в кресло.
— Но… Но… Позвольте, молодой человек…
В эту минуту дверь распахнулась, и сама Елизавета Августовна, стремительно и неслышно ступая по ковру, подошла к Сурикову и просунула похолодевшую руку под его локоть.
— Я согласна, папа! — тихо и твердо вымолвила она.
Так и стояли они молча, рука об руку перед старым Шарэ, от удивления потерявшим дар речи…
Свадьба была назначена на конец января. Семья Шарэ охотно приняла Сурикова в свое лоно.
Больше всего удивляло и восхищало Августа Шарэ то, что Василий Иванович нимало не интересовался приданым своей невесты, как будто этого вопроса и не стояло никогда перед ними всеми. Правда, Шарэ и не смог бы дать за Елизаветой никакого состояния — ни движимого, ни недвижимого, дело ограничилось одним лишь сундуком с бельем и платьями. В доме были четыре дочери, и, кроме воспитания, Шарэ ничего не мог им дать.
Но Василий Иванович ни на что и не рассчитывал. Он презирал всех, кто женился на деньгах, и считал, что у него есть все возможности обеспечить свою будущую семью. Он был счастлив, любим и независим.
В январе 1878 года ему исполнилось тридцать! Его невеста была на десять лет моложе.
В эти дни, когда в корне менялась его жизнь, он писал домой еще более нежные и заботливые письма маме и Саше, но ни одного слова о помолвке! Слишком трудно было ему объяснить матери-сибирячке, что он соединяет свою судьбу с француженкой. Они были настолько разными, эти две любимые им женщины, что он не мог даже представить себе их вместе.
Лилечка — так звали дома его будущую жену, эта блестящая светская девушка, по утонченности и изяществу изысканных туалетов настоящая парижанка, веселая, умная, образованная, — и суровая старуха в повойнике, полуграмотная сибирячка, с лицом, похожим на печеное яблоко, с заскорузлыми от работы ладонями потемневших, морщинистых рук и с пристальным взглядом выцветших зрачков, похожих на зрачки степной орлицы.
Пока Василий Иванович ничего не станет писать домой. Пусть им расскажет кто-нибудь из Кузнецовых, тот, кто первый попадет в Сибирь. И он старался не думать об этом и не омрачать себе неповторимой поры жениховства.
Балы, визиты к многочисленной родне невесты, выезды, театры, святочные катанья на тройках… Василий Иванович, сам над собой посмеиваясь, старался быть любезным, и приятным обществу, в чем и преуспевал при всем своем необщительном характере.
Но поздно вечером, возвращаясь в свою неприглядную комнатушку в дешевой гостинице, он часто думал, сбрасывая новый пиджак: «Ну вот, скоро кончится вся эта свистопляска, и начнем жить по-человечески». И, едва прикоснувшись головой к твердой подушке, мгновенно засыпал без сновидений, словно окунувшись в теплое, темное безраздумье.
Венчались они 25 января во Владимирской церкви. На свадьбу явилась вся многочисленная родня Шарэ-Свистуновых. Народу было тьма. А жених пригласил только семейство сибиряков Кузнецовых, которые заменяли ему родню, да любимого учителя и друга Павла Петровича Чистякова.
Поздравляли молодых на Мойке. Пенилось шампанское в хрустале, и на столе были блюда с искусно приготовленными французскими закусками и фруктами. Молодые — сияющие, смущенные — принимали поздравления, ловя друг друга вопрошающими, счастливыми взглядами. В этот же вечер они должны были отбыть в Москву. Все приданое невесты было уже отправлено на вокзал и сдано в багаж.
Мать и сестры нет-нет да и вытрут платочком глаза, готовясь к расставанию с самой младшей и самой любимой.
И вот пришло расставание. И только когда поплыла назад платформа с провожающими, махавшими и кричавшими вслед что-то непонятное, молодожены почувствовали, что где-то там, за исчезавшими тусклыми вокзальными фонарями, остались их две жизни, прожитые врозь.
Впереди была одна — общая, огромная, неизвестная.
Шестая передвижная
Май 1878 года. Седьмое число. На Мясницкой улице, против Почтамта, в залах московского Училища живописи и ваяния, открылась эта выставка Товарищества художников. После Петербурга и Москвы она совершила путешествие по многим городам России: Воронеж, Саратов, Казань, Харьков, Киев, Одесса, Рига… В залах было развешано около семидесяти полотен виднейших русских художников: Крамского, Репина, Савицкого, Ярошенко, Мясоедова, Маковского, Куинджи, Максимова, Васнецова, Шишкина, Лемоха, Клодта. И так уж полагалось: на открытие в Петербург съезжались москвичи, а на открытие в Москву — петербуржцы.
В дни открытия вся Москва перебывала на выставке, и все газеты и журналы поместили статьи и отзывы.
— Это лучшая из всех бывших до сих пор выставок! — с энтузиазмом восклицал критик Стасов. — И какое заглавие у этих молодых людей: «Товарищество!» Как хорошо себя назвали они. Какими добрыми товарищами стоят они все рядом! — восхищался Стасов сплоченностью Артели художников.
В первый же день побывала на выставке и чета Суриковых.
Елизавете Августовне всю зиму недужилось. Лицо ее осунулось, черты заострились, рот стал большим, чуть выпуклые, всегда спокойные глаза теперь глядели тревожно и сосредоточенно: она носила ребенка. Сейчас, к весне, она почувствовала себя лучше и охотно согласилась пойти на открытие выставки. Здесь, в Москве, у них почти совсем не было друзей, замкнуто и уединенно жили они на Плющихе в доме Ахматовой.
В майский полдень Василий Иванович нанял извозчика и повез жену «в свет».
Здесь собрался весь цвет московской интеллигенции. Богатые коллекционеры, от которых во многом зависело благополучие художников, присматривались в поисках чего-нибудь интересного. Среди них выделялся худой высокий человек с темными волосами и тонким умным лицом. Его звали Павел Михайлович Третьяков. В своем доме в Лаврушинском переулке он собрал богатейшую коллекцию картин лучших русских художников.
Живой, подвижной, несмотря на полноту, Савва Иванович Мамонтов, с глазами навыкате, с темной бородкой, оживленно беседовал с петербуржцем — блестящим пианистом Сафоновым, приехавшим в Москву давать концерты. Рядом с ними стоял музыкант Альбрехт, основатель только что открывшегося в Москве Русского хорового общества. Сам скульптор и большой любитель и знаток музыки, Савва Иванович у себя в имении Абрамцево, когда-то принадлежавшем писателю Аксакову, часто устраивал встречи музыкантов, художников и писателей. Целые оперы сочиняли, разыгрывали и распевали молодые таланты…
Появились на выставке и актеры Малого театра: знаменитый трагик Ленский, с тяжелым взглядом серых усталых глаз, ходил по залу под руку с актрисой Медведевой, игравшей старух. С ними вместе приехали молодые талантливые актрисы Никулина, Федотова и только что вступившая на подмостки Малого театра актриса богатейшего дарования — Ермолова.
Кого тут только не было! Видные московские адвокаты, модные врачи, светские львы — дворянские сынки, лощеные военные и, конечно, завсегдатаи всех сборищ — московские хлыщи и франты.
Качались огромные перья на шляпах светских модниц, сверкавших драгоценностями и укутанных в дорогие меха. Эти мало что понимали в живописи, но наперебой покровительствовали талантам, заказывая свои портреты и покупая картины для своих особняков.
Студенчество собиралось кучками и, споря и волнуясь, толковало о новых картинах. Молодые курсистки, из которых добрая половина слыла «нигилистками», выглядели среди разноперой толпы загадочными «искательницами истины». Почти все в стоптанных башмаках и черных потертых жакетах, но полные нескрываемого презрения к «светским львицам», они ходили в одиночку или по двое, пытаясь разобраться в вопросах живописи.
В этот раз публика теснилась возле картины Ярошенко «Кочегар». Пожалуй, еще никогда в выставочных залах не раскрывалась так свободно и смело тема человеческого труда. — Вот уж поистине мужицкое искусство! — цедили дамы, разглядывая в лорнеты рабочего-кочегара с жилистыми, корявыми руками, озаренными огнем пылающей топки. На его жестоком, бородатом лице беспощадно вопрошали глаза: «Ну! Чего вы все встали тут, передо мною? Поди, боязно вам?»
Он был так мастерски написан и столько в нем было обличающей правды, что, наверно, не один обыватель, хоть на мгновение, почувствовал свое ничтожество перед лицом этой честной и грубой действительности. И не было человека, который бы прошел мимо: «Кочегар» притягивал зрителя.
Этой картине была посвящена статья профессора Петербургской академии А. В. Прахова. «У меня не было долгов, а тут мне все кажется, что я кому-то задолжал и не в состоянии возвратить моего долга… Ба, да это «Кочегар»! Вот он, твой кредитор, вот у кого ты в неоплатном долгу!..» Статья эта не увидела света, она была запрещена цензурой, а профессора Прахова отстранили от преподавания в академии…
Старейший художник, один из основателей Товарищества, Мясоедов на этот раз выступил с большим полотном «Молебен в засуху». Само горе-злосчастье в рваных портках и худых лаптях вышло в поле, захватив с собой попа со святой водой, испрашивать у неба дождя! Под ногами у мужиков мертвая, серая земля, трещинами, как иссохшими раскрытыми устами, просящая влаги. А небо безоблачное, жестокое, далекое — от него ли ждать помощи?..
А вот картина Савицкого — «Встреча иконы». На проселочной дороге остановилась кибитка, в ней из дальнего монастыря везут «чудотворную» икону. Крестьяне соседнего села караулят икону на дороге — «приложиться».
Савицкий удачно показал всю искреннюю веру простого народа и все равнодушие священнослужителей, возящих «Чудотворную» и интересующихся только тем, что перепадет на этом перекрестке в церковную кружку для сбора пожертвований.
Толпа посетителей гудит возле портрета Репина «Протодьякон».
— Говорят, что этот портрет не принят на выставку русских художников, которая едет в Париж?
— Ну конечно, нет! Можно ли посылать за границу такое неприкрытое издевательство над священным саном?
С холста оплывшими глазками глядит толстобрюхий протодьякон, весь в седой бороде и неряшливых космах под засаленной скуфьей. Толстенная пятерня его покоится на брюхе, а другая упирается в пастырский жезл. Ну и чудище! Ну и обжора! И подумать только, где это Репин выискал такого? А ведь писал с натуры — с чугуевского попа Ивана Угланова. Вот каков есть, таким и изображен!
Виктор Васнецов выставил своего «Витязя на распутье». Говорят, что эта картина была заказана художнику Мамонтовым, большим ценителем сказочно-русского стиля.
А вот и Шишкин. На этот раз он изменил дебрям и мхам и вышел в поле. «Рожь», с которой он расправился ничуть не хуже, чем с лесными дебрями, занимала почти всю стену. Она шумела, кивала, падала, качалась, зрея и наливаясь каждым колосом, щедрая и любимая художником. И казалось, Шишкин, этот воспеватель русской природы, любит ее безлюдной, гораздо больше, чем с пахарями и сеятелями на ее фоне…
Василий Иванович шел по залам, внимательно вглядываясь в живопись передвижников. Многое его восхищало, и он отдавал должное мастерам кисти. Снова подойдя к «Протодьякону», он долго разглядывал его.
— Написано блестяще, — говорил он Елизавете Августов- не, — однако до чего ж он противен! И с каким смаком эта противность выписана. Ну и «тулбище!» Ну и прохвост! А ручища-то, вот грязный хапуга!.. Однако написано великолепно!
Толпа стала редеть. Суриков увидел Репина, окруженного дамами, поклонниками, студентами. Он был уже знаком с Репиным. Этот невысокий, подвижной человек с рыжеватой шевелюрой был в ударе, смеялся, шутил, блестя небольшими наблюдательными глазами. Суриков подошел:
— Поздравляю вас, Илья Ефимович! Мощно вы его схватили, вашего протодьякона, хватка у вас верная, безжалостная…
— Благодарю, Василий Иванович! Польщен одобрением! — Репин хитро прищурился и крепко потряс протянутую руку.
Утичная башня
Восьмиугольная кирпичная башня уходила ввысь. Василий Иванович стоял под стеной Троице-Сергиева монастыря и, закинув голову, смотрел на венец башни. Там, резко выделяясь на глубокой синеве, сидела, как на гнезде, белая каменная утица. Вокруг нее с визгом метались стрижи.
Василий Иванович огляделся. К монастырской гостинице, что находилась поблизости, подъехали разом несколько карет. Из одних с восклицаниями и суетой вылезали тучные, разряженные купчихи, из других выходили старые, брюзжащие барыни-помещицы с приживалками, карлицами, собачками-моськами и прочим домашним обиходом. Гостиница поглощала их раскрытыми дверями, и тогда на улице снова воцарялась знойная тишина.
Василий Иванович опять посмотрел вверх на башню. «И кто туда эту птицу посадил?» — подумал он и огляделся вокруг, ища, у кого бы спросить.
Из-за горы поднималась стайка ребят. Они шли щебеча. Старший нес на плече свежесрубленную молоденькую, еще не успевшую завернуться в бересту, березку, она шелестела твердыми глянцевитыми листочками, качаясь на мальчишеском плече в прохудившейся полосатой рубашке. «Ну, эти, конечно, ничего не знают», — подумал Василий Иванович и вдруг спросил:
— Зачем же вы березку-то срубили? И не жаль?
Ребята мгновенно застыли, услышав голос чужака. Белобрысые брови старшего удивленно поползли на лоб:
— А как же! Завтра, чай троицын день. Сейчас в сени в кадку с водой поставим к празднику. Тятька приказал.
«Ах, вот что! — подумал Василий Иванович, и ему стало понятно, почему в гостинице такой наплыв барынь. — Богомолки! Значит, завтра здесь престольный праздник».
Мимо шел старый человек в суконной поддевке и картузе с лакированным козырьком — видимо, посадский.
— Скажите, пожалуйста, почтеннейший, почему тут у вас на башне утка сидит?
Старик остановился, снял картуз, вытер огромным платком лысину и, поглядев вверх, сказал:
— А это, видите ли, старинная история. Тут ведь в монастыре прятался от стрельцов-мятежников царь Петр Великий. Ну вот как стало ему поспокойнее, пришли, значит, сюда преображенцы, то стали они выжидать время. Вот царь Петр и затеял охоту. Во-о-он, видите, пруд… Ну, понятно, в те времена он глубже и больше был. Поселения-то здесь почти не было. Леса. Глухомань. Так вот Петр Алексеевич залезал на эту башню да оттуда, сверху, по уткам, что на пруду плавали, и стрелял для ради потехи и отдохновения. Очень, видно, метко целился. И уж в честь этого стрельбища и поименовали эту башню Утичной и посадили на самый верх белую утицу. Так народ рассказывает.
Старик усмехнулся в седые усы и надел картуз на голову.
— А вы знаете, в какие ворота въезжал Петр, когда прискакал из Москвы? — спросил Суриков.
Старик кивнул.
— Это в западной стене, там такая башня есть, в ней они, эти самые ворота, замурованы. Вот обойдете южную стену и как раз дойдете до этой башни. — Он снова снял картуз и указал им на выступ башни в отдалении.
Василий Иванович поблагодарил прохожего, попрощался с ним и зашагал тропкой, что змеилась вдоль стены по валу.
«Вот ведь и татары под этими стенами неистовствовали с факелами зажженными. Не раз Лавру поджигали!.. И поляки ломились сюда, — думал Суриков, оглядывая стену с узкими щелями бойниц.
Ему страшно хотелось найти следы ворот, в которые под утро восьмого августа 1689 года постучался перепуганный насмерть юноша — Петр, скакавший всю ночь верхом в одном белье, босиком. Но следов не оказалось, башню много раз штукатурили и белили.
Василий Иванович поглядел на нее и пошел в обход, к главным воротам. Во дворе монастыря шла своя, особая повседневная жизнь. Сновали монахи. Слепой и глухой инок сидел на скамеечке у входа в собор и грел на солнце свои старые кости. Порыжевшая скуфья была надвинута по самые брови, а две белые длинные пряди волос заложены за большие бескровные уши.
Подвода, запряженная сытой лошадкой, провезла мешки с мукой и зерном на складской двор, и слышно было, как голуби, свистя крыльями, ринулись вслед — иногда из прохудившегося мешка сыпалось зерно на мощенный камнем двор. Еще одна подвода провезла большие бочки с сельдями и кадушки с мочеными яблоками.
Василий Иванович подошел к обелиску, стоящему посреди двора. В одном из белых мраморных медальонов было вытиснено золотом: «Во время стрелецких мятежей Петр I, сей муж толико собою славный и толико Россию прославивший, для сохранения своей жизни двукратно находил убежище внутрь ея священныя ограды…»
Возле храма вросла в землю по самую шапку усыпальница Годуновых. «Все же не удостоили бояре эту семью чести царского захоронения в Архангельском соборе», — подумал Суриков.
Мимо него, гремя связкой ключей, прикрепленных к широкому монашескому поясу, торопливо прошел монах-кладовщик. Лицо у него было нагловатое, а аккуратно подстриженная русая бородка выдавала человека не чуждого мирской суеты. Он быстро пошел по двору, мурлыча в такт своей походке какую-то церковную мелодию. За ним следом едва поспевал худой, бледный монашек, с пальцами, перепачканными в
чернилах.
— Отец Савватий! Отец Савватий, обождите, Христом богом прошу, — сказал он, неуклюже загребая носками сапог внутрь, — я еще не проверил…
Но отец Савватий не внял его мольбе и скрылся за углом трапезной.
— Ах ты боже ж ты мой, милостивый… — стонал монашек, пытаясь догнать начальство.
«Ишь ты, тут у них тоже какие-то свои мелочи жизни», — улыбнулся Василий Иванович, наблюдая эту сцену. Он присел на большое старинное надгробие. На расколотом камне едва различалась надпись: «Думный дворянин Авраам Никитич. Лопухин. В иночестве схимник Александр. Преставился 1685 г., августа 2». «Лопухин… Лопухин… Жена, Петра была из Лопухиных, — вспоминал Василий Иванович, — но только ее звали Авдотья Федоровна. Видно, это какой-нибудь из ее дедов…»
Василий Иванович начал припоминать подробности, связанные с бегством Петра в Троицкую лавру… И вдруг средь бела дня он явственно представил себе, как здесь, на этом дворе, молодой Петр, соскочив с коня, рыдая упал на эту самую землю, смятенный, измученный. Судорога свела его лицо, перекосив дергающийся рот на сторону и уведя подбородок к левому плечу.
Монахи подняли его, отнесли в келью к настоятелю Винценту, преданно любившему этого юнца. Уложили, укрыли, напоили горячим, но долго еще он дрожал и всхлипывал, пока не уснул мертвым сном пережившего потрясение ребенка, который проснется мужчиной. А потом все свершилось по его воле, точно и твердо…
Василий Иванович посмотрел вправо и нашел между колокольней и куполом собора венец башни, на котором гнездилась белая каменная утица. На колокольне ударили ко всенощной.
Завтра здесь, в соборе, убранном березками, будет торжественное богослужение. А за стенами монастыря раскинется огромный торг. Понаедут мужики со всей губернии продавать и покупать скот, глиняную и деревянную утварь. В рядах купцы раскинут ситцы, сукна, холсты. Будут торговать сапогами, овчинами, топорами, вилами, дегтем и всем чем угодно…
Но оставаться на ночь Василий Иванович не хотел. Надо ехать домой, к Лилечке. Как-то она там одна сегодня день провела?..
До поезда оставалось полчаса. Василий Иванович спрятал блок в папку и вышел из ворот Лавры.
Ночью обещала быть гроза. Огромный малиновый шар солнца садился в серые, плотные тучи. Шар опускался быстро и был похож на груду раскаленных углей, присыпанных лилово-серым пеплом. К деревянной платформе, сотрясая ее, подошел поезд.
Василий Иванович забрался в пустой вагон, паровоз дал резкий и высокий свисток, и поезд пошел. В окне вагона замелькали вечерние огоньки полустанков и деревень.
К окнам вагона тянулись темные лапы елей, а потом поезд нырял в вечерние ароматы цветущих лугов, и плыл по ним до лесных коридоров, и снова мчался сквозь эхо и всплески ветвей.
Василий Иванович прислонился к стене вагона и забылся. И чудилось ему, что не стук колес под вагоном слышит он, а стук копыт по дороге: «Уту-ту, уту-ту, уту-ту!..» И вдруг словно филин ухнул, да так протяжно: «У-у-ух!..».
— Ваш билетик, господин! Предъявите-с!..
Василий Иванович очнулся. Перед ним стоял кондуктор» с фонарем. Он внимательно разглядел билет и торжественно прокомпостировал его машинкой, этот единственный билетик на весь вагон.
Василий Иванович достал из жилетного кармана часы и при тусклом свете фонаря посмотрел время. До Москвы оставался час езды. «Вот ведь удивительное дело, — подумал он, пряча часы, — еду поездом, и всего-то три с половиной часа от Москвы до Троицкой лавры, а Петр скакал это же расстояние верхом по дороге почти всю ночь! Вот она, техника-то!»
За окном вагона вдруг рассыпался сноп искр из паровозной трубы, они мгновенно погасли на лету. — В вагоне сильно запахло дымом. Паровозный дым — особый дым: он всегда сулит встречу.
На подступах
Он работал. Он работал непрестанно. Если не писал этюдов, не набрасывал отдельных деталей или общих планов, то бродил по базарам, затесавшись в толпу, изучая интересную старушечью физиономию, или складки юбки на коленях у сидящей на земле бабы, либо узор на дуге. Он бродил по музеям, по церквам, заходил в Кремль, в Оружейную палату, рассматривал там вороненую чеканку затворов на пищалях или старинный, поеденный молью солдатский мундир, от времени так съежившийся, что теперь он был бы впору разве что десятилетнему мальчишке.
Но для Василия Ивановича этот стрелецкий кафтан или камзол преображенца были полны значения. Он видел за одеждой застывшее мгновение целой эпохи. И ему тогда казалось, что он знал в лицо обладателя кафтана, того, кто глухой ночью, при свете факелов, под нависшими сводами дворцового подвала, давал торжественную клятву до последнего вздоха служить только одной царевне Софье… И тогда он жалел его, обманутого, попавшего в ловушку дворцовых интриг.
А из-под выцветшей треуголки преображенца на художника словно глядело бритое дерзостное лицо Петрова соратника, который вместе с «бомбардиром» от деревянных пушек потешного войска пришел к настоящим — грозным, перелитым из колоколов. И он понимал и восхищался бесстрашием и подвигами «птенцов гнезда Петрова».
Но зрительных впечатлений Сурикову было мало. Надо было изучить эпоху по документам, и часто он запирался у себя и читал: то дневник австрийца Корба, что находился при дворе царя Петра Алексеевича, то устряловский том истории петровской эпохи, то подробные описания быта русских царей и цариц Забелина. И так день за днем…
Впервые Суриков набросал композицию картины на обороте нотной тетради. Под рукой не было бумаги, он оторвал листок от нот для гитары и нарисовал фигуры сидящих в телегах.
…В маленькой квартире на Плющихе жизнь была особенная, напряженная. Красивая, кроткая Елизавета Августовна, несмотря на молодость свою, управляла этой жизнью неслышно, но твердо.
В семье было уже трое: осенью родилась девочка Ольга. Розовая, крепенькая, с круглой черноволосой головкой, лежала она в плетеной колыбели-качке, вся в накрахмаленном батисте, таращя иссиня-черные глазки. Она была так похожа на Василия Ивановича, что он, разглядывая ее, не мог удержаться от смеха: сибирячка!
Ни отцу, ни матери тогда не приходило в голову, что в этой сибирячке растут самые неожиданные сочетания суровой твердости сибирских казаков с тонкостью восприятий и деликатностью предков-французов…
Елизавета Августовна жила для них двоих, но все же материнские заботы часто подчинялись тревогам и радостям жены художника, для которого все существование, расположение духа и даже здоровье зависели от творческих удач и неудач. А уж Василий Иванович со своим горячим нравом и живым воображением воспринимал все с безудержной горячностью. Вот, не далее как вчера, заехал за ним Репин, чтобы отвезти его на Ваганьковское кладбище и познакомить с могильщиком Кузьмой, он здорово бы подошел для типа рыжего стрельца. Поехали, нашли Кузьму. Тот долго выламывался, кобенился, потом занес было ногу в сани и вдруг, увидев ухмылку на лицах остальных могильщиков, уперся:
— Не хочу! Не поеду!..
Василий Иванович вернулся домой темнее тучи. Он с такой яростью повесил свою шубу в передней, что оборвал вешалку, да так и оставил шубу на полу. Потом стал снимать боты — застрял ботинок. Василий Иванович вне себя рывком сбросил боты вместе с ботинками, в одних носках, ни на кого не глядя, прошел в спальню, снял пиджак и, не раздеваясь, лег на кровать, даже обеда не попросил. Елизавета Августовна решила не тревожить мужа. Она осторожно укрыла его теплым пледом и вышла. Искупав девочку; покончив с домашними делами, она неслышно, как добрый гений суриковского дома, так тихо улеглась на свою кровать, что муж даже не услышал.
А утром, когда Василий Иванович проснулся, ее уж не было. Постель была прибрана. А из детской слышалось гуканье Оли и спокойные, ласковые приговаривания, с которыми матери обхаживают младенцев.
Василий Иванович посмотрел на потолок и вдруг увидел там яркий зыблющийся круг, беспрестанно меняющий форму.
Он качался и переливался веселыми бликами, которые то догоняли, то убегали друг от дружки, дразнясь, смеясь и подмигивая. Василий Иванович долго следил за ними, чувствуя, как наполняется душа его молодой, хмельной радостью.
— Лилечка! — громко позвал он.
На пороге тотчас появилась жена.
— Глянь-ка за окно. Что там такое, что у нас на потолке пляшет?
Елизавета Августовна засмеялась, взглянула на потолок, потом в окно. Во дворе, возле водоразборной колонки, стояла шайка, полная воды. Мартовское солнце окунало в нее свои стрелы, а потом метало их прямо в потолок спальни.
— Да здесь просто шайка с водой… Вставай, чай пить будем!..
Она подошла к кровати и крепко обняла его, подсунув руку под упрямую казачью шею.
Чай пили в маленькой столовой, за круглым столом суетилась кухарка Паша, угрюмая, пожилая, в большом белом переднике. Она внесла фыркающий самовар, заварила свежий чай, поставила на стол плетушку с горячими сайками, отварные яйца и тонко нарезанную, влажную в своей сочности ветчину. Прихлебывая из стакана чай, Василий Иванович вдруг что-то вспомнил и нахмурился.
— Сегодня жди к обеду гостя. Купите водки, соленых огурцов и груздей или рыжиков, — сказал он.
— Опять на Ваганьково?
— А как же! Непременно!
Елизавета Августовна с сомнением покачала головой…
К трем часам Василий Иванович привез домой рыжего Кузьму — злого, взъерошенного, с пронзительными глазами.
Они ели на кухне, за кухонным столом. Василий Иванович налил могильщику стакан водки. Тот ахнул весь его без отрыва, потом крякнул, взял тремя веснушчатыми пальцами с выпуклыми, словно полированными ногтями огурец с тарелки и с хрустом принялся его жевать. Потом ели щи, потом говядину с гречневой кашей. Потом Василий Иванович повел гостя к себе в комнату, попросил его надеть шапку.
— Это что же, казнить, что ль, меня будут? — мрачно и озорно поблескивая глазами, спросил Кузьма, увидев на столе набросок стрелецкой секиры.
— Да что ты! — отмахивался Василий Иванович, и сердце его затрепетало от боязни, что Кузьма сбежит. — Посиди часок, ты отдохнешь, а я тебя порисую.
Кузьма уселся на стул и повернулся к художнику птичьим профилем, в котором хищно горел зеленоватый глаз.
Суриков начал. Мало-помалу он втянулся и четко, очень похоже нарисовал Кузьму. Нет! За этим Кузьмой ему уже виделся рыжий стрелец, связанный, оскорбленный, яростно ненавидящий, не верящий и не покорившийся новому царю…
Переезд
Суриков ходил из угла в угол по опустевшей спальне. Мебель была вывезена, оставался только сундук со старинными тканями, кафтанами, платками, душегреями. Поверх них Василий Иванович уложил свернутые в рулоны этюды, папки с рисунками и акварелями. Рядом с сундуком стояли два чемодана.
Елизавета Августовна в короткой тальмочке и шляпке примостилась на краю сундука — бочком, как амазонка.
Оленьку с няней уже перевезли на новую квартиру, а в старой, покинутой, жизнь замирала. Гулко раздавались случайные шаги в пустых комнатах, где на паркетах валялись обрывки бумаги, шпагата.
К стене был прислонен кусок картона с пришпиленным к нему, еще не просохшим этюдом. На этюде был написан бархатный кафтан, разметанный в грязи. Василий Иванович потрогал пальцем краску.
— Почти сухой, — заметил он и вдруг расхохотался, вспомнив, с каким изумлением и отчаянием смотрела на этот кафтан соседка, вышедшая на крыльцо.
Только что прошел дождь. Суриков ждал его, как манны небесной. Он выскочил во двор, бросил кафтан в грязь возле крыльца и стал притаптывать его ногами. Тут и вышла старуха соседка:
— Ах ты бессовестный! Да что же ты такую дорогую вещь пакостишь в грязи? Напасти на тебя нет!.. Ах, ах, ах! — сокрушалась старуха, качая головой и чуть не плача,
— Ничего, хозяйка, когда надо будет надеть — вычищу! — засмеялся Василий Иванович, потом сел на ступеньку крыльца, раскрыл ящик и начал писать этюд.
Так она и не поняла, пошутил сосед или сказал всерьез. Суриков говорил мало — особенно, когда работал. Елизавета Августовна знала эту черту и привыкла к ней. Вот и сейчас она уселась на краешек сундука и молча следила за мужем, покачивая ногой, обутой в башмак на пуговицах. А Суриков ходил из угла в угол по комнате — пустой и звонкой. Сердце и воображение его были сейчас далеко, с преображенцами и стрельцами.
…Кафтан сброшен… Первый стрелец идет на плаху… А ведет его преображенец. Ведет жалеючи — оба они мужики… И с юности в «потехах» научились противостоять друг другу. Стрельцы обороняли потешные крепости, а преображенцы штурмовали, поджигали их… Бомбардир Питер в этих потешных боях вырастил себе войско… А те — стрельцы… Сила в их сословии была еще со времен Грозного. В войну воевали, а в мирный час пахали, ремесленничали, торговали. Что хотели, то и делали!..
А сестра — Софья. Умная, властная, пиесы писала… Петра с детства ненавидела. Как уехал он за границу, так и начала она стрельцов подбивать на мятеж… Может быть, этот самый преображенец с этим самым стрельцом в «потешные» играли. А сейчас он должен его на плаху вести…
Василий Иванович подошел к сундуку и сел на крышку рядом с женой. Так и сидели они молча. Он вернулся к своим мыслям…
А Петр тут же на коне. Глаза вытаращены. Лицо вот-вот поведет в сторону судорогой. Он-то им обоим чужой. Они мужики, а он — царь!..
Зазвонили в парадную дверь. Оба вздрогнули, словно очнулись.
— Это за нами, Лиля, — вскочил Василий Иванович. — Давай скорее собираться. Я уже извозчика нанял. — И он выбежал в переднюю.
Два грузчика и дворник в холщовом фартуке неуверенно затопали по комнатам.
— Сюда, сюда! — звала Елизавета Августовна.
— Вот, берите сундук! — командовал Суриков. — А ты, Лиля, возьми картон с этюдом, да смотри не замарайся…
Грузчики ухватили за ручки кованый сундук.
— Ишь какой он у вас легкий! Пустой, что ли? — осклабился грузчик щербатым ртом, пахнув на хозяйку перегаром махорки и водки.
— А там у нас вороний пух да чистый воздух — рупь за фунт! — пошутил Суриков, подхватывая чемодан.
В раскрытые двери ворвался сквозняк, шурша по! паркету обрывками бумаги,
Здоровенный гнедой битюг, легко стронув подводу с сундуком и чемоданами, вывез ее за ворота. Подвода затарахтела железными ободьями о булыжную мостовую и покатилась по Плющихе, в сторону Девичьего Поля. Следом, на извозчике, отъехали Суриковы, покинув тесную квартирку, в которой совсем не было места, чтобы натянуть холст для картины «Утро стрелецкой казни».
В доме Вагнера
Суриков болел. Он болел тяжелым, затяжным воспалением легких. Елизавета Августовна выхаживала мужа, дежурила ночами, когда температура поднималась к сорока. При неверном, тоскливом свете ночника сидела она с полотенцем и, плача, утирала им то свои слезы, то крупные капли испарины, стекавшие по серому лбу к провалившимся вискам больного.
Его лицо с густо обросшими бородой, ввалившимися щеками и синими подглазьями пугало ее застылостью и равнодушием. Из полуоткрытого, твердо очерченного рта вырывалось хриплое, с присвистом дыхание. Прикрытые веками глаза были неподвижны. Он не узнавал ее…
Пять дней и пять ночей длился кризис. На шестые сутки жизнь взяла свое — температура спала. Василий Иванович так ослаб, что не мог говорить, он только шевелил пальцем, и жена понимала, что он просит воды. Вся душа ее прильнула к этому иссушенному огнем болезни, хрупкому, небольшому телу, беспомощно простертому под одеялом.
Знаменитый терапевт, профессор, которого привез Илья Ефимович Репин, в последний визит тщательно выслушал больного и проверил пульс. Потом он задержал внимание на истощенном тревогой и бессонными ночами личике жены художника.
— А вы, голубушка, так осунулись, что с первого взгляда и не поймешь, кто из вас был болен!
Елизавета Августовна зарделась. Оба рассмеялись.
— Может быть, вы выпьете кофе, профессор? — предложила хозяйка.
— Благодарствуйте, у меня сегодня еще четыре визита. — профессор поднял свою тучность, облаченную в черную визитку, с венского стула, на котором было так неудобно сидеть, и, попрощавшись, вышел.
— Индюк, — тихо произнес Суриков и закрыл глаза, утомленный пухлыми руками профессора, целый час шарившими и постукивавшими по его ребрам.
— Ничего, Васенька, ведь он же действительно превосходный врач, — уговаривала Елизавета Августовна, склонившись над мужем.
Он открыл глаза, медленно и нежно оглядел дорогое лицо ее и похудевшие плечи, закутанные в белую пуховую шальку.
— Сядь-ка сюда, профессор ты мой! — прошептал он. Она присела на край кровати и положила руку ему на лоб. Он снова закрыл глаза и через две минуты уснул, задержав в углах рта еле заметную улыбку блаженного покоя…
К весне Василий Иванович окреп настолько, что мог начать работать. Теперь он написал в Красноярск:
«Москва, 24 апреля 1880
Милые мама и Саша!
Мама, не беспокойтесь обо мне, я здоров, не заботьтесь обо мне. Все время болезни моя милая жена не отходила от меня. Это лето я думаю быть в Самаре-городе, чтобы тамошним воздухом подкрепить себя. Вот что, милая мама: когда будет ягодная пора, то приготовьте мне лепешечек из ягод; они на листиках каких-то как-то готовятся. Я ел их еще в Бузиме, у старухи какой-то. Из красной, черной смородины, особенно черники и черемухи… Лиза и Оля и я кланяемся и целуем вас.
Ваш Василий Суриков».
Василий Иванович заклеил конверт.
— Лиленька, я пойду брошу письмо и прогуляюсь немного. Вернусь к ужину.
— Оденься теплей, на улице прохладно! — озабоченно кричала жена из детской комнаты, откуда слышались всплески воды в ванночке и Олин смех.
Василий Иванович вышел из парадного, завернул за угол дома Вагнера, которым был отрезан бульвар от Зубовской площади. По проезду бульвара пара лошадей, цокая копытами о булыжник, тащила конку. Конка громыхала, визжа колесами и катясь мимо деревянных особняков с мезонинами, похожих на комоды, мимо дворянских белых домиков с колоннами, фронтонами, оградами…
В этот весенний вечер старые липы и тополя раскинули черные, голые, с набухшими почками ветки на холодном лимонном фоне неба.
Василий Иванович зашагал по бульвару. На скамейках сидели старушонки в салопах, дремал отставной генерал, щебетали курсистки, громко спорили подвыпившие мастеровые… Василий Иванович шел в какой-то рассеянной озабоченности. Он дошел до конца бульвара, до великолепного и строгого здания Провиантских складов московского интендантства, которое выходило на угол Крымской площади, постоял на углу, глядя на литую чугунную решетку здания с вензелем Николая Первого, вспомнил Петербург, потом повернулся и медленно пошел обратно. Слева, над черными силуэтами крыш, повис тоненький острый серпик молодого месяца. «Это к удаче!» — подумал Суриков и усмехнулся… Дойдя до середины бульвара, он заметил, как в доме Вагнера во втором этаже засветились два окна справа. «Свет в столовой. Лиля готовится к ужину», — подумал Василий Иванович. Через смежную дверь озарилось темное окно. Суриков глубоко втянул легкий, весенний воздух. Там, за темным окном, в небольшой комнате по диагонали был поставлен на мольберт холст «Утра стрелецкой казни». Он был расчерчен на квадраты, и в них была врисована углем вся сцена. На полу под картиной лежало несколько, тоже разбитых на квадраты, карандашных рисунков композиции картины. Там проводил Василий Иванович все свои дни.
Забравшись на стремянку, он рисовал углем купола собора, людей на Лобном месте, стену и башни Кремля. Потом соскакивал, отходил в соседнюю комнату — столовую, чтоб проверить соотношения фигур. Надобно было каждому в этой толпе найти место и верно вписать фигуру. Нередко приходилось стирать тряпкой уже сделанное и начинать все сызнова, меняя положения, ища более выразительные и верные движения и позы.
Василий Иванович мысленно перенесся в эту комнату и… даже остановился, вдруг увидев, что фигурам на площади мало места: они стиснуты границами холста. «А что, если фигуру Петра перенести вправо, отодвинуть его от толпы… Поставить на переднем плане, с правой стороны, крупные фигуры каких-то людей, приехавших с Петром, даже карету можно вписать под стеной…» — лихорадочно заработала мысль. Теперь он шагал по бульвару, ничего не замечая вокруг, кроме двух освещенных окон перед собой. «Ну конечно, тогда толпа сразу отодвинется в глубь картины, не будет выпирать на передний план, вылезать из холста. Да, да, придется сейчас снять холст с подрамника и заказать новый подрамник аршина на полтора длиннее… А кусок холста пришить. Вот так и сделаю!..»
Суриков уже почти бежал, торопясь домой. Он вышел на Зубовскую площадь. На глаза ему попался почтовый ящик.
«Да что ж это я, чуть не забыл».
Он вытащил из кармана письмо, опустил его в щель ящика и вдруг почувствовал страшную слабость: лоб и шея покрылись испариной. Он на миг прислонился к фонарному столбу, разливавшему вокруг зеленоватый газовый свет.
«Что это со мной? — подумал Василий Иванович, вытер лоб платком. — Слабость какая, даже тошнит… Придется, видно, опять ехать на кумыс. — Но тут же, как одержимый, вернулся к своему: — Все пустяки, все пройдет… А сейчас надо переделать композицию! Немедленно…»
Он поднялся на второй этаж и в нетерпении резко повернул три раза ручной звонок. Дверь поспешно открылась.
— Лиля! — Василий Иванович уже совал свою шапку и перчатки в руки опешившей жене. — Лилечка, я все понял! Давайте снимать холст с мольберта… Надшивать будем… Где Паша? Помогите мне…
— Ну вот, снова-здорово! — тихо проворчала Паша, отходя от кухонной раковины и вытирая руки о передник. Она хорошо знала повадки хозяина.
«Теперь до полночи угомону не жди! Оленьку хоть бы не растревожили, ведь только уснула!» — мрачно думала Паша, Василий Иванович уже звал из мастерской:
— Паша, иди скорей да захвати сюда клещи!..
Через месяц Суриковы уехали в степи под Самару. Елизавета Августовна ждала второго ребенка. А в доме Вагнера в маленькой мастерской раскинулась на мольберте совершенно законченная в композиции, уже обведенная контурами, заново решенная картина «Утро стрелецкой казни».
Встреча
Молодая библиотекарша в розовой кофточке с высоким, глухим воротником положила перед читателем кипу книг.
— Вот, пожалуйста, тут все, что вы заказывали.
— Отлично. Благодарю. — Читатель тут же начал просматривать книги, перелистывая их узловатыми пальцами больших рук.
Василий Иванович, стоя у библиотечного стола, заметил, что посетитель был невысок, коренаст, одет в темный, хорошего покроя пиджак. Под воротничком мягко лежал белый шелковый галстук. Густая борода с проседью веером обрамляла лицо с широким русским носом. Из-под темных нависших мохнатых бровей неприятно и остро блестели светлые глаза. Коротко подстриженные волосы открывали выпуклый лоб и были заложены за большие, слегка оттопыренные уши. Добрым и красивым в лице был только рот. Но лицо это поражало силой, умом, волей и страстностью.
— Вот тут еще одна книжка для вас нашлась, Лёв Николаевич… — Розовая библиотекарша протянула ему книжку.
Сурикова словно кто-то толкнул: «Лёв Николаевич!» Разом догадавшись, он в волнении повернулся к посетителю.
— Вы Толстой? — И, не дожидаясь ответа, Василий Иванович шагнул вперед, неожиданно улыбнувшись.
— Я самый, — ответил Толстой, не отрываясь от книги. Затем, искоса поглядев на Сурикова, спросил: — А вы кто же будете?
— А я художник… Суриков.
— А-а! Знаю. Мне о вас хорошо говорил Илья Ефимович Репин. — И Толстой протянул Сурикову руку: — Давайте знакомиться!
Суриков взял его руку обеими своими…
Из Румянцевского музея они вышли вместе. Шли по Волхонке, мимо храма Христа Спасителя, по Пречистенке: Толстой — в Левшинский, а Суриков — в Зубово.
Накануне выпал сильный снег. Огромные сугробы отделяли тротуар от санного пути мостовых. Новые знакомцы шагали не спеша, с удовольствием беседуя. На тощих городских: клячах мимо проезжали московские извозчики — «ваньки»» Парные рысаки проносили серединой улицы широкие сани с медвежьими полостями, над которыми высились туго набитые ватой фигуры красношеих кучеров в квадратных шапках. с меховой оторочкой.
Проезжали деревенские мужики в розвальнях, устланных сеном, запряженных мохнатыми лошадками. И после них. в морозном воздухе долго еще держался крепкий запах конского пота и зимнего сена.
— Эх! Прелесть, как пахнет. Аромат деревенских конюшен люблю! — И Толстой тянул в себя воздух, подрагивая широкими ноздрями.
Василий Иванович от души засмеялся восхищению Толстого — здесь они поняли друг друга.
Суриков вдруг внимательно поглядел на Толстого:
— А ведь очень похоже написал вас Иван Николаевич Крамской. Хороший портрет. Уловил он ваш характер.
Толстой, помолчав, рассмеялся.
— Знаете, сколько времени он меня уговаривал позировать? Я ведь терпеть не могу этого… Семь лет тому назад это было… Я как раз тогда начал писать роман о Петре Великом… Ну, конечно, занят был. Людей того времени старался постичь… Ну, вот тогда-то он, Крамской, и приехал ко мне в Ясную Поляну и стал меня уговаривать позировать для портрета. Не хотел я. Но знаете, чем он меня сломил? Говорит: «Ваш портрет должен быть в галерее у Третьякова!» — «Как так?» — спрашиваю… «Очень просто, — отвечает. — Разумеется, я его не напишу, и никто из моих современников не напишет, но лет через пятьдесят он будет написан! И тогда останется только пожалеть, что портрет не был сделан своевременно!» Этим доводом Крамской меня убедил, и стал я ему позировать. Вот так-то!
— Ловко придумано! И доказано, как дважды два — четыре!.. — воскликнул Василий Иванович и тут же перескочил на горячую для него тему: — А как же, Лев Николаевич, с Петром Великим? Вы говорите, начали роман…
— Петра я потом оставил. Не стал работать. Но представьте, много интересного я тогда откопал о Петре. Такие типы… Ну, вот, к примеру, боярин князь Черкасский. Колоритная фигура!.. Один из виднейших сподвижников Петра. Известный в Москве щеголь. Носил соболью шубу, вишневого бархата отвороты на рукавах лазоревого шелка. Под шубой кафтан — атласный, зеленый… Шапку на голове носил чернолисью, горлатную, с темно-зеленым бархатным верхом… Сам сухонький, маленький, глазки серые, стальные и щупают, щупают каждого, с кем говорит. А сам беспрестанно потирает маленькие красные ручки и переставляет ноги в красных сапожках. Петр только ему да Стрешневу не снял бороду, и она у Черкасского была длинная, белая, как шелк расчесанная, и это на красном, будто ошпаренном, лице.
— Хорошо вы его описываете, Лев Николаевич, ну просто вижу! — Василий Иванович удовлетворенно похлопал руками в теплых перчатках.
Возле церквушки Святого Духа, у Пречистинских ворот, на каменной тумбе, широко расставив ноги в залатанных валенках, сидел старик в худом рыжем армяке, с торбой за плечами. Темная морщинистая рука его благоговейно держала полфунта ситного с изюмом. Он отламывал маленькие кусочки и аккуратно «кушал», не спеша двигая седой бородой и усами. Рядом стоял мальчишка с веснушчатой рожицей, ушедшей в чужую, старую шапку по самые ресницы. Старик был слеп и ходил с поводырем.
Толстой мимоходом сунул мальчишке гривенник.
— Ой, благоде-е-етель, ваше благоро-о-о-дие, спаси вас госпо-о-о… — затянул было поводырь знакомую песню.
— Нечего! — рявкнул Толстой, отмахнувшись.
Старик перестал жевать и медленно, не моргая глазами, глядевшими в никуда, перекрестился, а потом снова задвигал бородой. Они поднялись по Пречистенке до Малого Левшинского переулка, где жил Толстой.
— А вы знаете, что вы живете в бывшем урочище стрелецкого полковника Зубова? — спросил Толстой, остановившись на углу и протянув руку по направлению к Зубову. — Вот это все были его угодья… И уж наверное он тоже был казнен Петром.
— Да, да! Я читал, что в Москве было двадцать два стрелецких полка. И все жили в слободах, — сказал Суриков.
— Вот мы сейчас с вами стоим, — продолжал Толстой, — у Левшинского переулка — это слобода полковника Левши- на… А в Замоскворечье — Вишняковский, Каковинский, Пыжовский, это все по именам полковников названы переулки. Не говоря уже о Сухаревой башне и Сухаревских переулках. Башня получила название в честь полковника Лаврентия Сухарева… Он ведь первым встал на сторону Петра, когда тот бежал в Лавру…
Они постояли на углу, поговорив еще, а потом распрощались. Толстой, приподняв над головой свою круглую шапочку, быстро зашагал в переулок. Суриков еще с минуту смотрел ему вслед и медленно пошел своей дорогой.
Сказка
Елизавета Августовна, подвязав фартук, моет кисти на кухне. Захватив разом горсть кистей, намылив их, она тщательно трет их о ладонь, потом прополаскивает в горячей воде и снова намыливает и трет, пока краска не отходит совсем. Ей всегда казалось, что только промытыми кистями, на протертой скипидаром палитре можно добиться чистоты цвета. Однажды Василий Иванович, видя, как она моет кисти,
спросил:
— Так ты считаешь, Лиза, что грязные цвета в картине из-за грязных кистей и палитры?
— Конечно! — смеясь, отвечала жена.
— Ну, а если художник не умеет писать чисто и ярко и у него получается грязней, чем в натуре, хоть кисти и чистые, тогда как?
— А такому я бы и вообще не стала кистей мыть! Василий Иванович весело расхохотался.
Елизавета Августовна прополаскивает кисти, стряхивает с них воду, придвигает к печи табурет и раскладывает на нем кисти — просушить. Из столовой слышится голос Василия Ивановича:
— Идет девочка по лесу… Идет, идет, а сама песенку поет… Ну-ка, Оленька, головку чуть повыше. Вот так… И ручку протяни ко мне. Подержи вот так ручку!..
Василий Иванович сидит в столовой с альбомом на коленях. Напротив стоит дочка Оля, ей три года. Ее круглая темноволосая головка повязана красным платком. Черные глаза задумчиво уставились на отца. Она слушает сказку.
— Так вот, шла девочка по лесу и ягодки собирала: одну ягодку в корзинку, а другую — в рот…
Оленька расплывается в довольной улыбке. Пауза.
— Да-а… Шла, шла девочка, и вдруг слышит она…
Лицо дочери становится серьезным. Василий Иванович, щурясь, быстро зарисовывает.
— Вдруг слышит она — кто-то по лесу: топ-топ! Топ-топ! Глядит, а из-за куста-то огромный медведь вылезает…
Оля испуганно смотрит на отца, рот открыт, глазки вытаращены. Василий Иванович жадно торопится ухватить это
выражение.
— А что дальше? — спрашивает девочка осевшим от страха голосом.
— Ну, а дальше волк и говорит…
— Медве-е-едь! — недовольно тянет дочь.
— Ну да, я и говорю — медведь. Он как зарычит: «Вот ты где! Ну сейчас я тебя съем!..»
Ужас на лице девочки! Вот оно… Вот оно — то, что ему нужно!.. В одно мгновение несколькими штрихами Василий Иванович придает выражение ужаса детскому лицу на рисунке.
— Ой! Боюсь, боюсь!.. — вдруг кричит Оленька и с плачем бросается к вошедшей в столовую Паше. Та берет девочку на руки.
— Ну полно, полно!.. Успокойся, деточка! Папа ведь шутит. И охота вам, барин, ребенка так мучить! — укоризненно бросает она отцу. — Ведь вот который раз пужаете дитя до полусмерти!..
Но Василий Иванович даже не слышит, он уже в мастерской перед своей почти совсем законченной картиной. Вот они все! Все стрелецкие семьи, выплеснувшие море скорби и отчаяния на площадь перед Кремлем…
На стул рядом с картиной Василий Иванович ставит альбом. Со страницы альбома глядит на него испуганная Оленька с полуоткрытым ртом.
Уголек в руке художника короткими твердыми движениями уверенно начинает врисовывать личико девочки в пустое пространство на холсте, между двумя сидящими на земле стрельчихами.
Картина закрыла угол комнаты. В простенке между окнами висят этюды-детали, в которых рождались характеры людей, их жесты и позы, пластика их движений, подчеркнутых складками одежды. И между каждым этюдом и персонажем, переписанным с него в картину, целая эпопея поисков, сомнений, раздумий, удач и неожиданных находок…
Вот молодая стрельчиха закинула голову в богатой кичке, и вопль ее покрыл гул толпы, и грохот колес, и фырканье коней…
А вот старая, корявая рука седого полковника лежит на русых волосах дочери, с плачем уткнувшейся ему в колени… Как и в этюде, складки ее рубашки написаны мягко и гармонично.
Чернобородого стрельца Суриков писал с дяди — Степана Федоровича. Черная борода на белой рубахе. Лицо угрюмо, и сосредоточенно. Ему уже ничего не нужно, он как загнанный зверь. Рука его машинально сжимает свечу, но пламя ее, бледное, неверное, трепещущее среди бела дня, не дает почти никакого рефлекса на рубаху. За рукав красного кафтана ухватилась жена стрельца. Лицо ее — как скорбная маска…
Красные и белые цвета в картине создают ощущение тревоги и неизбежности. Белые пятна рубах расположены не плавной, спокойной линией, а угловатой. «По созвездию Большой Медведицы, — думает Василий Иванович. — А впрочем, если плохо компонуется, то никакие созвездия не помогут!»— отвечает он на собственные мысли. И, достав из ящика палитру, кладет ее на табурет. Потом, присев на корточки, начинает отбирать кисти для работы. А над ним раскинулся громадный холст, на котором воплотилась народная трагедия…
Рыжий Кузьма, злой стрелец, весь колкий, со жгучей ненавистью смотрит на Петра… А Петр — в зеленом польском кунтуше: проезжая через Польшу, в знак солидарности он обменялся одеждой и оружием с польским королем Августом, таким же силачом и великаном, как он сам.
В холодном соболезновании стоит на переднем плане австрийский посол Гварнент. Вот еще белый цвет — атласный кафтан Гварнента. Но как он отличается от цвета чисто вымытых полотняных рубах! Фактура атласа — зеркально-блестящая, она ничего не поглощает, а все отражает. И сейчас на ней рефлекс серого тона осенней грязи.
Дальше, за иностранцем, карета, на запятках которой сидят два арапчонка в тюрбанах. Из кареты глядит растерянное лицо сестры Петра — царевны Марфы. А рядом с Гварнентом стоит боярин — князь Черкасский, щеголь в малиновой шубе, с горлатной шапкой. Точно тот, о котором рассказывал художнику Лев Николаевич Толстой. И, может быть, подсознательно Василий Иванович придал Черкасскому какое-то неуловимое сходство с самим Толстым…
— Паша, а Паш! — зовет Василий Иванович, выжимая из тюбика краску на палитру. — Ну-ка приведите мне сюда Олечку на минуту.
Паша, хмурая, нехотя вносит на руках Ольгу. Василий Иванович усаживает их в угол, возле картины. Оля сидит у Паши на коленях с надутым и заплаканным личиком.
— А гулять с тобой пойдем на бульвар, махочка? — пытается расположить к себе дочку Василий Иванович, в то время как кисть в его руке быстро кладет мазки по холсту и на фоне белого рукава плачущей девушки загорается красный платок стрелецкой внучки.
— Еще минуточку… Еще немножко… Я сейчас впишу ее!..
— Расскажи сказку, — вдруг просит Оленька, — только не страшную…
Венец делу
…«Снимай кафтан!» Человек сбросил кафтан — синий, бархатный — и остался в одной рубахе… «Снимай рубаху!» Человек стянул рубаху… «Разувайся и заверни порты!» Человек послушно снял сапоги и завернул порты… Лица его не было видно, но Василий Иванович знал точно, что это дворник ахматовского дома, Ермолай, только очень молодой… «Ложись грудью!» Человек лег на плаху лицом вниз и развел руки. Палач взмахнул топором…
— Голову! Голову! Голову секите!.. — закричал Василий Иванович. — Секите скорее, изверги, звери!.. А-а-а-а!..
— Вася! Вася! Проснись, Васенька, что с тобой? — В темноте Елизавета Августовна испуганно трясла мужа за плечо.
Василий Иванович проснулся весь в холодном поту. Сердце колотилось, он дышал тяжело, как загнанный конь.
— Ох ты боже мой! — бормотал он. — Вот ужас-то!..
— Ты сейчас кричал: «Голову секите!» Так стонал, страшно!
Василий Иванович полежал с минуту в темноте, потом зажег свечу, выбрался из-под одеяла и, как был — босиком, в длинной ночной рубахе, — зашлепал через столовую в мастерскую. Он подошел к картине и осветил ее. Неужели есть в ней хоть намек на этот ужас? Нет… Нет, конечно, ничего этого нет. Василий Иванович всматривался. Картина не пугает, не заставляет отвернуться…
Скорбное желтоватое лицо старой стрельчихи в повойнике и рука ее, лежащая на коленке, сразу ожили и потеплели при свете свечи. Василий Иванович подносил свечу то к одной, то к другой фигуре, вписанной в толпу, и все они оживали, полные внутренней правды и убедительности. Он вглядывался в сверкающие синим блеском сквозь комья грязи железные ободья колес, в лужицы в колеях под телегами, и думал, что зритель поверит ему, художнику, когда увидит эти колеса. Почувствует достоверность, когда заметит зыбкое пламя горящих свечей… Это сильнее и убедительнее окровавленных рубах… Испуганное лицо девочки на переднем плане говорило, дышало, доказывало…
Василий Иванович, успокоенный, пошел обратно. Жена не спала. Он увидел ее тревожные глаза.
— Ну что, Вася? — шепотом спросила она, приподнявшись с подушки.
— Ничего, Лилечка. — Он поставил свечу на ночной столик и, ежась от холода, забрался под одеяло. — Ничего! В картине все правильно! Я рад… Очень!
Утром к Суриковым зашел Толстой. В этот раз он был в просторной темной блузе, подпоясанной простым ремнем, в валенках, с которых он старательно сбивал снег в передней. Он вошел, отирая платком с бороды растаявший снег. И пахло от него морозной свежестью.
Лев Николаевич долго сидел в молчании перед картиной, словно она его захватила всего и увела из мастерской.
— Огромное впечатление, Василий Иванович! — сказал он наконец. — Ах, как хорошо это все написано! И неисчерпаемая глубина народной души, и правдивость в каждом образе, и целомудрие вашего творческого духа…
Толстой помолчал, потом, улыбнувшись и указав в правый угол картины, заметил:
— Я смотрю — мой князь Черкасский у вас оказался. Ну точь-в-точь он!..
— Вы же сами мне его сюда прислали, Лев Николаевич! — шутил Суриков.
— А скажите, как вы себе представляете, — Толстой быстро поднялся со стула, — стрельцов с зажженными свечами везли на место казни?
— Думаю, что всю дорогу они ехали с горящими свечами.
— А тогда руки у них должны быть закапаны воском, не так ли, Василий Иванович? Свеча плавится, телегу трясет, качает… А у ваших стрельцов руки чистенькие, словно только что свечи взяли.
Суриков оживился, даже обрадовался:
— Да, да! Как это вы углядели? Совершенно справедливо. Сейчас попробуем…
Он нашел тюбики с белилами, охрой и слоновой костью и торопливо выдавил краски на палитру, смешал их в нужный цвет. Потом тронул кистью руку Рыжего одним мазком, другим, третьим… Свеча оплыла, закапав руку воском.
— Да… Так совсем другое дело… Вот глаз-то у вас! Спасибо, что надоумили. Сегодня же все исправлю.
Они еще долго беседовали, то отходя, то возвращаясь к картине, оба взволнованные, приподнятые, связанные одним большим событием.
Репин был вторым, увидевшим законченное «Утро стрелецкой казни». Он опрокинул на Сурикова водопад экзальтации, радости, самого искреннего восхищения, удивления и дружеской зависти. Он рассматривал каждый мазок, потом выходил в столовую и в волнении кружился по ней, засунув руки в карманы и загадочно улыбаясь.
Суриков не успевал следить за ним и стоял у окна в мастерской молча, словно бы даже удрученный.
Но Репин вдруг остановился перед картиной и сказал:
— А знаете что? Все-таки здесь не хватает высшей точки напряжения. Драматизм увеличится, если вы там, совсем вдали, хоть одного стрельца повесите. Мне думается, слишком много приготовлений, все затянуто, нет действия, а надо, чтоб оно было. Движение, порыв!..
Суриков молча покусывал ус.
— Нет, серьезно вам говорю, Василий Иванович, послушайте меня, — продолжал настаивать Илья Ефимович, — ведь это же сама логика подсказывает.
Суриков продолжал молчать.
Но когда Илья Ефимович шумно покинул мастерскую и в ней воцарилась тишина, Василий Иванович вдруг взял мелок и точными, скупыми линиями набросал на дальней виселице фигуру повешенного, зачертив мелом рубашку на нем.
— Барин, вам к ужину яичницу сделать? — послышался сзади голос неслышно вошедшей Паши. Она остановилась и, вдруг вся побелев, задрожала: — Господи, батюшки!.. Уж повесили? — заголосила она и, вся обмякнув, повалилась на колени.
— Паша, Паша! Что ты!.. — сам не свой, в сердцах закричал Суриков. — Вот оно! Нет! Этого мне не нужно! — Он схватил тряпку и моментально стер фигурку повешенного.
Он помог Паше подняться, усадил ее на стул, принес ей воды.
— Ну вот видишь — нет повешенного и не будет! — твердо сказал он и глубоко, с облегчением вздохнул.
Девятая передвижная
Первый день марта пришелся на хмурое петербургское воскресенье. Оно начиналось как обычно: на укутанных в холодный туман колокольнях ударили к ранней обедне. Кухарки тащили с рынков анемично-белые кочаны капусты и битую птицу. Из пекарен тянуло свежеиспеченным хлебом и ароматом кардамона от выборгских кренделей.
Открылись ставни и двери лавчонок. Только банкирские конторы Невского проспекта да здания учебных заведений безмолвно чернели окнами. В десять часов утра на Невском в доме Юсупова открылась девятая передвижная выставка.
Накануне, после долгих хлопот устройства выставки, развешивания картин, споров, где кому висеть в залах, художники, как всегда, собрались на Мойке, близ Певческого моста, в ресторане у «Донона». Здесь решались дальнейшие планы, велись разговоры начистоту, здесь старые члены Товарищества знакомились со вновь вступающими. В этот раз их было двое: Кузнецов, представивший две небольшие, но мастерски написанные вещи, и Суриков. Василий Иванович не приехал. Он снова тяжело заболел воспалением легких, простудившись как-то в февральскую стужу на этюде, и потому он послал свое детище — громадное полотно, свернутое в трубку и зашитое в холст.
Репин, самый горячий товарищ из всего Товарищества, приложил немало стараний, чтобы картина Сурикова оказалась вовремя натянутой на подрамник и вставленной в большую золотую раму, которую Илья Ефимович сам заказал. Он был горячим поклонником «Утра», об этом убедительно свидетельствовали строчки из письма Третьякову, посланного накануне открытия выставки:
«Картина Сурикова делает впечатление неотразимое, глубокое на всех. Все в один голос высказали готовность дать ей самое лучшее место; у всех написано на лицах, что она — наша гордость на этой выставке… Сегодня она уже в раме и окончательно поставлена. Как она выиграла! Какая перспектива, как далеко ушел Петр! Могучая картина! Ну да вам еще напишут об ней… Решено Сурикову предложить сразу члена нашего Товарищества».
Ужин у «Донона» затянулся, разошлись только под утро, и сейчас, один за другим, недоспавшие, взъерошенные, появлялись художники на вернисаже.
Громадный, горбоносый старик Мясоедов (с него впоследствии Репин писал Ивана Грозного) всегда находил случай выразить свое презрение к руководству Академии художеств. Сейчас он издевательски поглядывал на деликатнейшего немца Лемоха, который был принят при дворе и обучал рисованию царского внука — будущего императора Николая Второго.
— А жандарм-то сегодня будет или нет? — громогласно- басил Мясоедов.
И бедный Лемох, понимая, что речь идет о президенте Академии великом князе Владимире, весь съеживался и с болезненной гримасой старался унять буяна.
— Ну что вы, Григорий Григорьевич! Помилуйте-с! Ну можно ли так? — лепетал он, то бледнея, то покрываясь багровыми пятнами.
— Все мы лжем и обманываем друг друга! — проворчал старик и медленно пошел по залам. В этот раз он отказался от своих жанровых сюжетов и выставил великолепный пейзаж, полный извечной русской поэзии: вечернее поле ржи с уходящей за горизонт тучей и одинокой фигурой странника на тропе. В этом пейзаже он выразил все свои чувства, он спел его, как песню.
В сером длинном пиджаке и щеголеватых башмаках стоял в группе художников Крамской, с отекшим, желтоватым лицом. Он был почти совсем седой, хоть ему и пятидесяти еще не минуло. Чувствовалось, что ему нездоровится и не все нравится. Он молча пощипывал бородку и рассеянно глядел куда-то мимо собеседников. Трудно было представить себе в нем бунтаря, открывшего новое движение в живописном искусстве. Слава Крамского, как портретиста, была непревзойденной. Он пользовался огромным влиянием и уважением среди высокопоставленных лиц. Вот и сейчас выставку украшали его работы — портреты графа Валуева, генерала Исакова, лейб-медика Боткина… Великолепные портреты!
Рядом с Крамским, оглядывая публику холодными красивыми глазами, стоял холеный и самоуверенный Владимир Маковский. Он умел дорого оценивать свой вещи, и коллекционеры привыкли платить ему больше, чем другим. Сейчас он готовился продать Третьякову свою жанровую картину, выставленную здесь, — «Крах банка». Он знал, как это произойдет, и потому был спокоен и весел.
Вот появились еще два блестящих мастера: Поленов и Ярошенко. Публика восторженно расступилась перед своими любимцами. За ними шел вечно всем недовольный, брюзга, бывший моряк Беггров и уютный, приветливый Прянишников, порадовавший любителей жанровой живописи небольшой, но выразительной сценкой: «Жестокие романсы», где молодой чиновник смущал игрой на гитаре и пением девицу-мещаночку.
Вызывая в публике движение и приглушенный рокот, появился живой, словно ртуть, Репин, с ним — ясноглазый, благообразный красавец Виктор Васнецов.
Репин. В этот раз весь талант его воплотился в веселой украинской сцене «Вечорнищ», где под доморощенный оркестрик из флейты, скрипочки и бубна украинская дивчина € парубком лихо отплясывают гопака. И все это в рыжем свете масляных плошек, где-то в хате, среди угостившихся в праздник людей, умеющих веселиться и шутить как никто. Тут же на выставке был представлен великолепный портрет недавно умершего писателя Писемского, с лицом старого русского разночинца, опершегося пухлыми руками о суковатую палку. Но никто еще не знал, что вскоре Репину предстоит встреча с великим Мусоргским, который был безнадежно болен и давно лежал в военном госпитале. Никто не знал, даже сам Репин, что за четыре дня он напишет последний портрет гениального русского композитора, в больничном халате, с тем загадочным, иронически-безразличным выражением лица, которое бывает у обреченных…
Суриковское «Утро стрелецкой казни» плотно обступила толпа. Не смолкали споры:
— Да что вы мне говорите! — шумел какой-то бородач профессорского вида. — Здесь нет простора… Толпа сгрудилась… Фигура налезает на фигуру… Храм Василия Блаженного обезглавлен… И потом, где же воздушная перспектива?..
— Вы придираетесь к мелочам, — возражал молодой кудлатый юноша в косоворотке. — Непревзойденная картина! Незыблема в своем художественном значении!
— И все же я утверждаю, что здесь многое непродуманно, — вмешался сухой, высокий господин в визитке. Время от времени он сдергивал с узкой переносицы золотое пенсне на шнурке и протирал его платком, брезгливо щурясь. — Я утверждаю, что наряду с прекрасно выписанными персонажами фигура Меншикова возле Петра просто небрежно намалевана.
Но у сухопарого скептика тут же появились противники:
— А если Суриков намеренно хотел погасить интерес зрителя к этой личности?.. Вы бы лучше обратили внимание на центральные фигуры. Какие женские лица!.. Сколько подлинных чувств!..
Толпа то приливала к картине, то отливала, но никто не уходил равнодушным.
Наступал тот час, когда утренних посетителей сменяют дневные, те, у которых, по разным причинам, утро начинается к полдню. Залы наполнились шуршанием шелков, ароматом духов, сверканием драгоценностей и эполет, повеяло сытым благополучием и прочностью устоев.
— Боже мой, до чего трогательна эта девчушка! — простонала молодая дама в седых соболях, опираясь на руку военного с аксельбантами и модными зачесами на висках.
Они стояли перед «Аленушкой» Васнецова. С картины в безнадежной тоске глядела на них сказочная сестрица, сидя возле черного омута, где утонул ее братец Иванушка.
— Как она трагична! Как поэтична, бедняжка! — И дама достала из затканного золотым шитьем ридикюля платочек и осторожно приложила его к увлажненным глазам…
В эту самую минуту где-то далеко раздался страшный взрыв. Мгновенная пауза расколола благополучие. Смятение и замешательство всколыхнули безмятежную атмосферу. Но тут же вернисаж пошел своим чередом, разговоры возобновились, веера заколыхались, муравейник ожил, пока второй, еще более угрожающе подозрительный удар, раздавшийся через несколько минут, окончательно не опрокинул праздничности.
— Что такое? — заметалась публика, кидаясь к окнам и дверям. — Что случилось?.. Ради бога, скажите, что случилось?
А случилось вот что. В ту самую минуту, когда растроганная дама достала свой надушенный платочек, над решеткой Екатерининского канала три раза взмахнул белый платочек в руке молодой женщины, одетой в темно-синий бурнус, в серой пуховой шальке на голове. Лицо ее казалось восковым; из-под припухших век твердо, не мигая, смотрели темные глаза. Это была Софья Перовская.
Через минуту на противоположной стороне канала, с Инженерной улицы на набережную, в своей блестящей карете выехал царь Александр Второй.
Молодой человек в черной поддевке не спеша шел вдоль решетки канала. Два верховых казака, красуясь, открывали царский кортеж. И вдруг человек в поддевке вскинул руку кверху… Оглушительный взрыв! Волна взметнула облако белого дыма, комья снега, земли и камни мостовой. Раненый мальчик, который только что нес на голове корзину из мясной лавки, надрывно кричал… На панели валялась опрокинутая корзина… Дергалась и хрипела лошадь, придавившая тело убитого казака.
Александр вылез из поврежденной кареты. Три подмастерья, которые только что проносили зеленый плюшевый диванчик из мебельной мастерской, держали парня в поддевке, скрутив ему руки за спиной. Царь подошел к ним. Юноша смотрел бесстрашно, даже насмешливо. Над очень высоким чистым лбом прядки русых волос вились кольцами.
— Ты бросил бомбу? — спросил царь.
— Я, — громко ответил Рысаков.
— Хорош! — усмехнулся царь.
Полицмейстер Дворжицкий, следовавший в санях за каретой, в ужасе подбежал к царю. Перед ними чернела огромная воронка от взрыва.
— Ваше величество, вы живы? — Дворжицкий ловил воздух трясущимися губами.
Александр медленно перекрестился:
— Слава богу, уцелел!
— Еще слава ли богу! — с отчаянным бесстрашием вырвалось у Рысакова, прежде чем два бледных от ярости офицера и городовой, выхватив его из рук подмастерьев, поволокли прочь.
Царь медленно двинулся к саням Дворжицкого. И в это самое мгновенье рядом с ним вырос коренастый человек с рыжеватой всклокоченной бородой, в глухом черном пальто. Он вскинул над головой руку с чем-то блестящим… И раздался второй ужасающий взрыв, от которого лопнули стекла в домах на набережной… Смертельно ранен царь и метнувший бомбу террорист — поляк-революционер Гриневицкий…
Так народовольцы совершили казнь над Александром Вторым.
С четырех часов пополудни Петербург погрузился в траур. Были отменены все спектакли, концерты и зрелища. Были закрыты все рестораны и питейные заведения, остановлено движение поездов, всюду погашены огни. Лишь в церквах затрепетали тысячи свечей заупокойных поминаний, и в седом тумане неумолчно стонал колокол.
Это было 1 марта 1881 года.
Перерва
«1881
Милые мама и Саша!
Я, слава богу, здоров, как и семья моя. Живу я теперь около Москвы, на даче. Место хорошее. Гулять и работать можно вдоволь. Как я рад, что нас бог спас от пожара в Красноярске…
Картину свою [3] я, мамочка, продал за 8000 рублей в галерею Третьякова… Думаю новую картину начать на даче. Я буду жить до сентября, так что вы еще успеете мне написать.
Адрес мой: станция Люблино, деревня Перерва, по Московско-Курской железной дороге. Лиля, Оля вам кланяются. Леночка здорова. Целую вас, мои дорогие.
В. Суриков.
Посылаю вам карточку Лили, жены моей. Только не очень она удачно вышла».
Он писал: гулять и работать можно вдоволь. Но не успели Суриковы обжить неказистую, с бревенчатыми стенами и низеньким оконцем избушку, что сняли они на лето в Перерве, как заладил дождь. С утра до вечера, каждый день. Какое уж тут гулянье!
Моросило весь день, переставало только к вечеру, и тогда всю деревню Перерву затягивало промозглым туманом, а в темноте падали капли, шурша по листве. В соседней роще перестали петь соловьи. Скверное лето!
Дочерей — Олю и только начавшую ходить Лену — приходилось круглыми сутками держать в доме. Девочки скучали, капризничали, побросав надоевшие игрушки. И нужно было все стойкое терпение Елизаветы Августовны, чтобы целый день занимать их, лишь бы они не мешали отцу работать. А он работал поистине «вдоволь».
Была задумана новая картина, и Василий Иванович закончил первый эскиз ее композиции.
Василий Иванович решил написать царевну Ксению Годунову сидящей в безнадежности и скорби за столом, перед портретом датского королевича Иоанна.
«…Отроковица чюдного домышления, земною красотою лепа, бела и лицом румяна…» Вот какими словами писал о Ксении в своем дневнике князь Катырев-Ростовский.
«Отроковица чюдного домышления», — думал Василий Иванович, — видно, умна была и образованна. А когда плакала, то глаза ее особенно сверкали под бровями, сходившимися над переносьем, и черные косы, «аки трубы», лежали по плечам. И любила она королевича Иоанна, которого Борис Годунов только для нее пригласил из Дании, давал ему целый уезд во владение. Королевич был хорош собой, статен и благороден. Но вдруг как-то странно и внезапно умер, поев чего-то сверх меры. И вот сидит неудачливая невеста, не сидит, а почти лежит на столе, неотрывно глядя на портрет жениха, а кругом нянюшки, мамушки, шутихи, готовые во всякую минуту то ли голосить, то ли петь, то ли сказки сказывать, то ли кривляться — чего царевне захочется!..»
Эскиз, писанный маслом, висел на темной бревенчатой стене избушки. Василий Иванович читал Катырева, искал интересных для себя подробностей и вдруг сразу, как-то не успев полюбить и вжиться в задуманное, остыл, бросил.
— Знаешь, мелко! — говорил он жене Лиле. — Думается, все уже сказано в одном этом этюде. Умер жених, и все тут! С каждой может случиться… Нет, в «Стрельцах» у меня хор народных страстей, а тут одна песня, да и та поминальная… Вот помню: тетка Ольга Матвеевна Дурандина рассказывала мне про раскольницу Морозову. Какая это была твердость, какое мужество!
Они расположились у стола. За окном по-прежнему моросил дождик. Две дочери, уже привыкшие сидеть в избе, возились на ковре перед печкой. В топке весело потрескивали березовые поленца.
Оля, упругая, толстенькая, вся розовая от возбуждения, хлопотала вокруг домика, сложенного из табуреток, покрытых клетчатым пледом. В домике сидела младшая — Леночка. Она глядела из-под бахромы серыми, удивленными глазами, и бледное личико ее было полно восхищения.
— Ну вот! Теперь тебя дождик не замочит! — звонко приговаривала Оленька, запихивая Лене под бок двух кукол. — И куколки наши не простудятся, ты держи их покрепче, сейчас я тебе ножки укутаю.
Оля остановилась посреди избы, выискивая черными блестящими глазами, чем бы покрыть тонкие, в голубых чулочках, покорно торчащие из-под пледа Ленины ножки. Увидев за спиной матери белую шаль, висящую на стуле, Оленька быстро обежала избу вокруг, ловко стянула на бегу белый пушистый комок и незаметно юркнула на ковер, под клетчатое укрытие.
Елизавета Августовна, вязавшая крючком что-то детское в белую и красную полоску, внимательно слушала отрывистые слова мужа, изредка вскидывая глаза то на него, то на висевшую перед ней небольшую картину.
Глаза эти, молчаливые и внимательные, были обведены темными кругами: два дня назад разыгрался у Елизаветы Августовны жестокий приступ ревматизма. Сырая погода сводила болью суставы и вызывала спазмы в сердце. Скорей бы кончилось ненастье.
Василий Иванович вскочил со стула и зашагал по избе из угла в угол, обходя клетчатый шалашик, где притаились две его девчонки; подошел к оконцу и распахнул его. В комнату ворвался густой, свежий запах мокрой листвы. Ветки сирени под окном покорно свешивали набухшие влагой серо-лиловые кисти, роняя на тропинку частые прозрачные капли. Но дождь перестал. В небе словно даже задымились просветы.
— Э-э-э! Дождик-то сам себе надоел! Сам от себя убежал! — весело воскликнула Елизавета Августовна. — Ну-ка, девочки, живо пальтишки, калошки — и марш гулять!
В избушке поднялась суматоха — до чего ж редко приходилось выбираться на волю! В окно тянуло свежестью, хлопал крыльями и победно кричал грязно-белый петух, взлетев на крыльцо. А под кустами пестрая наседка, наставительно кудахча, уже пасла выводок желтеньких шариков.
— Вася, а ты пойди на станцию и купи яичного мыла и гвоздичного масла, слышишь? — попросила Елизавета Августовна с порога.
— Хорошо. — И Василий Иванович тут же уселся за стол, оттачивая карандаш.
Через час снова затянуло, заморосило. Елизавета Августовна привела девочек домой. От протопленной печи шло легкое тепло. Из кухни пахло горячими ватрушками с творогом. Воздвигнутый Олечкой шалаш был разобран, игрушки уложены в ящик. Елизавета Августовна посмотрела на вешалку: Васиного пальто на месте не было. «Взял ли он зонтик?»— встревожилась она, но зонтика тоже в надлежащем месте не оказалось.
На столе лежал альбом. Елизавета Августовна осторожно, словно таясь от самой себя, раскрыла его. На первой странице справа черным карандашом штрихами были набросаны фигурки, выглядывающие одна из-за другой. Они смотрели вслед едва намеченному силуэту женщины, сидящей в подобии саней. И эта фигурка протянула к остальным руку… Все это на фоне какого-то здания, обозначенного тремя линиями с намеком на арки окон…
«Боярыня. Видно, с детства носит он ее где-то в себе…»— подумала Елизавета Августовна, глядя на набросок, и бережно, обеими руками закрыла альбом.
В поисках «светлейшего»
Опять льет за окном! Второй месяц, как заладили дожди. Большой кожаный чемодан под кроватью покрылся светло-зеленым шероховатым налетом плесени. Вечером ложишься в постель, как в компресс: простыни влажные, одеяла пахнут затхлостью… Детям приходится на ночь проглаживать постель горячим утюгом. Василий Иванович ходит по избе из угла в угол, заложив руки за спину. Работать хочется страшно, а никуда не выйдешь!
За столом сидит Елизавета Августовна, рядом с ней на высоком стульчике Леночка. Елизавета Августовна, раскрыв книжку, показывает ей картинки.
— А вот кошечка. Смотри, Леночка, какая кошка: пушистая, глазки зеленые, лапки белые, спинка черная. Видишь?..
Узкое оконце пропускает скупой свет, и на нем отчеканились две склоненные головы— матери и дочери.
Напротив сидит Оля. Ей скучно до невозможности. Книжки с картинками надоели, она учит куклу танцевать. Гулко стучат куклины ножки по доске стола. Но вот Оля закинула надоевшую куклу на высокую деревянную кровать с горой подушек, подперла стриженую голову кулачком задумалась, глядя в окно, по которому бежали и бежали струйки дождя.
«Кто ж это так вот сидел? Вот точно так, за столом, — подумал Василий Иванович, остановившись посреди избы и разглядывая группу, застывшую в оцепенении. — Кто это был? Что-то страшно знакомое!»
Неожиданно возник в памяти Петербург и несколько рисунков, что делал он к двухсотлетнему юбилею Петра Великого. Один из этих рисунков назывался «Обед и братовство Петра Великого в доме князя Меншикова с голландскими матросами».
Петр, как опытный лоцман, провел торговый голландский корабль от острова Котлин к самому дворцу петербургского губернатора Меншикова на Васильевском острове. И только за столом матросы узнали, кто привел их корабль в порт. На рисунке царь Петр, радушный и веселый, пьет брудершафт с бородатым голландским шкипером. Вокруг за столом вольготно расселись голландские матросы. Во главе стола хозяин дома — Меншиков. Его продолговатый, красивый профиль исполнен достоинства.
Рисунок этот небольшой — всего-то пол-аршина на три четверти, но перечитать книг, пересмотреть гравюр, портретов для того, чтоб его сделать, Сурикову пришлось уйму! Он тогда проследил за всей жизнью этого «светлейшего» князя от начала его небывалого взлета и возвеличения до самого падения, когда низверженный вельможа был сослан со своими детьми в Березов. И сейчас, вот тут в избе, в Перерве, еще неясно, только в каких-то- намечающихся чертах, представилась Сурикову эта сцена из ссыльной жизни одного из крупнейших русских полководцев, хитроумного, жестокого, льстивого Петрова любимца — Меншикова… Так сидел в избушке Меншиков, сосланный в Березов.
Василий Иванович встал, подошел к вешалке, накинул на плечи плащ, взял шляпу, сунул ноги в калоши, схватил в углу зонтик и вышел за дверь, забыв обо всем и обо всех на свете.
— Вася!.. Ты куда? — несся ему вслед недоуменный голос жены. Елизавета Августовна только успела рассмотреть в окно, сквозь пелену дождя, как заторопился он куда-то, шлепая по лужам калошами и забыв раскрыть зонтик.
Он шел мимо мокрых изгородей, шурша плащом по зарослям громадных лопухов и крапивы, свободно разросшихся по канавке вдоль дороги.
Он шел и видел перед собой все то, что постиг еще тогда, работая над юбилейными рисунками, что сумел отыскать и воскресить так, словно сам не раз бывал в доме «светлейшего». В этих высоких комнатах, обитых французскими гобеленами, словно сам слышал бой великолепных бронзовых курантов и любовался люстрами из цветного хрусталя с серебряными веточками…
Он воскрешал в памяти все, что окружало Петрова любимца («Мейн Херценкинд» — «дитя моего сердца», как называл его царь), и всю ту пышность, которой был обставлен каждый выезд «светлейшего». Мимо этого дворца Василий Иванович проходил ежедневно. Теперь он вспомнил розовый дворец со ступеньками, спускавшимися прямо к воде, ведь тогда Нева еще не была одета в гранит и набережных не существовало. Над входом был открытый балкон, на котором сам Меншиков постоянно стоял, ожидая своей лодки. На балкон выходили высокие двери и окна, а над ним тянулся ряд круглых окон — их смешно называли «бычий глаз». Как все это хорошо помнилось Василию Ивановичу. Каждый раз, проходя мимо, спеша в Эрмитаж, он смотрел на эти окна, словно ждал, что мелькнет там длинное лицо, обрамленное белым париком…
По утрам, окруженный толпой льстивых приспешников, «светлейший» любил садиться в свою раззолоченную лодку, обитую внутри зеленым бархатом, и переправляться через Неву, чтобы причалить к Исаакиевской пристани и там пересесть в карету, похожую на раскинутый золотой веер, запряженную шестеркой серых, в яблоках коней. И вот он сидит в карете, а впереди бегут скороходы, а сзади едут музыканты, а за ними отряд драгун… А по бокам кареты вышагивают камер-юнкеры. Даже сам царь Петр никогда не выезжал с подобной пышностью. Он почти всегда либо бегал пешком на верфь, либо скакал куда-нибудь по делам на своем громадном коне…
Василий Иванович долго брел пустынной улицей, обходя целые озера воды, подернутые мелкой рябью дождя. Впереди по проезжей дороге медленно катилась телега, громыхая, то и дело ныряя в ухабы, и из-под колес ее во все стороны разлеталась жидкая черная грязь. С телеги свешивались белые ноги, а из-под дерюжины, которой покрылся возчик, неслось глухое понукание и тянулся дымок самокрутки.
…А сколько раз навлекал на себя Меншиков гнев Петра из-за своей безудержной алчности. Однажды. Алексащка самовольно отрезал от соседских помещичьих владений все, что прилегало к границам его огромной вотчины. Царь, узнав об этом, разгневался не на шутку. А утром Меншиков предстал пред очи Петровы, одетый в простой офицерский мундир. Он упал к ногам Петра и положил к ним шпагу и все свои ордена и регалии. Рыдая, он сказал, что недостоин этих почестей. Петр был обезоружен раскаянием и все простил любимцу, приказав, однако, вернуть отторгнутое. И сколько раз высокомерное лицо фаворита горело от царских оплеух, но стоило «ему выйти из царского кабинета, как краска отливала от чисто выбритой щеки, тонкие губы складывались в язвительную улыбку, и еще надменнее становился он под перекрестными взглядами завистников…
Одержимый нахлынувшими видениями, шел теперь Суриков через овсяное поле. Приникший к земле овес блестел от дождя как шелк, и казалось, что поле было покрыто серо-голубым одеялом, выстеганным причудливыми узорами.
…А какой это был блестящий полководец! Как умел он предвидеть все, что потом приносило Петровым войскам победу. В Полтавской битве главная заслуга принадлежала Меншикову, он сделал все возможное для полного разгрома шведов. И недаром после битвы, тут же на поле, перед всеми войсками, Петр пожаловал своего помощника и любимца фельдмаршальским жезлом, и посыпались на любимца милости, подарки, земли…
Теперь Василий Иванович шел лесом, куда завела его полевая тропинка. День был на исходе. В лесу стоял туман. Туг только заметил Суриков, что шляпа на нем промокла насквозь и струйки дождя бежали за воротник. А под плащом на локте висел нераскрытый, совершенно сухой зонтик. «Фу ты… Вот чудеса! — рассмеялся он своей рассеянности. — И куда это я забрел?»
Он огляделся: частый, хороший лес обступил его. Дождь перестал, но с ветвей с торопливым шорохом стекала вода. Василий Иванович раскрыл зонтик, по которому с треском застучали капли, и быстро зашагал обратно.
…Когда Петр умер, Меншиков сделал все, чтобы на престол взошла вдова Петра — Екатерина, как когда-то сделал все, чтобы царь женился на этой простой лифляндской служанке, попавшей в плен во время Северной войны. Оба они — пирожник Меншиков и служанка Екатерина — вышли из низов и оба добрались до самых вершин могущества. И когда Меншиков достиг высшей власти, императрица Екатерина возвела его в сан генералиссимуса. Но и этого ему уже было мало. Решил породниться с царским домом. Меншиков заставил Екатерину завещать трон внуку Петра — сыну убитого царевича Алексея, с условием, что будущий император женится на одной из его дочерей. И тогда он будет царским тестем. Вот чего ему хотелось.
Василий Иванович вышел из лесу и снова той же скользкой тропкой зашагал к селу. Косички овсяных колосьев хлестали его по ногам, брюки намокли до колен. Потянуло дымком из села, и стало почему-то совсем темно. Василий Иванович глянул вверх и усмехнулся — он шел под открытым зонтом, хотя дождя давно не было. Он закрыл зонт и, перебравшись мостками через канаву, зашагал по длинной безлюдной улице.
…Генералиссимус. Светлейший. Царский тесть… Вот тут он и просчитался. Петр-внук, своенравный, красивый, белокурый, не терпел покровительства Меншикова, считал его выскочкой, а Марию, красавицу, нареченную невесту свою, просто ненавидел — только за то, что она была дочерью Меншикова. А кругом враги нашептывают, науськивают царевича, что, мол, Меншиков — участник в убийстве его отца. И нашелся предлог, чтоб свалить могучего. Меншикову было приказано оставить Петербург. Вот уж тут враги распоясались! Все отняли у генералиссимуса дочиста! Уезжал в золотой карете со свитой, а в Твери выгнали его из кареты, затолкали в телегу, а вместо свиты отрядили стражу, конвой. И пропало все и нажитое, и пожалованное, и награбленное богатство. Все почести, земли, вотчины, дворцы… В Сибири на студеной речке Сосьве срубил он сам себе избушку и жил там с двумя дочерьми и сыном. Жена не выдержала, дорогой под Казанью отдала богу душу.
И было сорок градусов мороза. И дул ледяной ветер с океана. И семь месяцев стужи, и только две недели жарких настоящих летних дней, за которые и земля-то не успевала прогреться. А солнце скрывалось среди бела дня за северную гору на целый час!.. Вот куда загнала судьба любимца и баловня Петрова — великого полководца, великого умника и великого стяжателя… И сидит он в избе, думает тяжкую думу. Вспоминает…
Было уже совсем темно, когда Василий Иванович вернулся домой — промокший, усталый, проголодавшийся и счастливый.
Узел композиции
По Красной площади, вдоль Верхних торговых рядов, шагал он неторопливо, тяжело, ни на кого не глядя, заложив за спину большие морщинистые руки. Из-под старой порыжевшей шляпы торчали клочья седых волос.
Василий Иванович увидел его со спины и… тотчас узнал. Он забежал вперед, оглянулся, и даже дыхание в нем остановилось: на него шел сам Меншиков. Желтое, одутловатое лицо было полно горького раздумья и в то же время презрительного равнодушия ко всему.
Конец августа, словно в награду за ненастное лето, выдался необычайно звонкий и ясный. Так и шли они вдоль торговых рядов — впереди Суриков, в белом чесучовом пиджаке, с непокрытыми, непокорными черными волосами и такой же бородкой на скуластом лице, а сзади — высоченный старик в поношенном длинном пальто, с небритой угрюмой физиономией.
Внизу под горкой маячили двуглавые Воскресенские ворота с арками, меж которых прилепилась Иверская часовня. Слева, за дощатым забором, заканчивалось сооружение громадного, с мрачными башнями, здания Исторического музея. Оно еще зияло глазницами незастекленных окон, в которых мелькали фигурки штукатуров.
Василий Иванович пересек Никольскую улицу, прошел еще немного и остановился, обернувшись и ища глазами старика… Но «Меншиков» исчез. Василий Иванович быстро пошел обратно, завернул за угол. Старика нигде не было-видно.
«Экая досада!» — сетовал Суриков. В тоскливой растерянности побрел он по Никольской, мимо бесчисленных магазинчиков, торговавших иконами. В воротах какого-то дома шла торговля лубочными картинами и книжками. Василий Иванович остановился и стал рассеянно смотреть на занятные, наивные в своей грубости и яркости картинки, изображающие сказочных русских богатырей. Были тут и подобия портретов «исторических персон». Один из этих портретов заставил Василия Ивановича невольно расхохотаться. На скачущем коне сидел рыцарь в латах, густо раскрашенных серебряной краской. Повернув к зрителю обрамленное бородой длинное лицо с жестоким взглядом, рыцарь замахнулся огромным палашом. А внизу была надпись:
Государь и царь Иван Васильевич Грозный,
Человек справедливый, но серьезный.
Этот портрет привел Василия Ивановича в хорошее настроение. Вспомнив что-то, он повернул по Никольской обратно, прошел под низенькой аркой и очутился в бурлящем людском водовороте Охотного ряда. Суриков, краем вымощенной булыжником мостовой перебежав Театральную площадь, вышел на Петровку возле Кузнецкого моста. И словно очутился совсем в другом городе: на него и мимо него шла совсем другая публика, разительно отличная от той, что толкалась в Охотном ряду.
Дамы, под кружевными зонтиками, мели своими пышными юбками пыль тротуаров. Фланировали модные бездельники с тросточками, в соломенных шляпах фасона «канотье». Мягко катились аристократические кабриолеты и лакированные ландо.
Суриков подошел к магазину, в низкой витрине которого было выставлено все для художников: образцы этюдников, отполированные палитры, заграничные краски в тюбиках, уложенные в ящички, акварельные краски в металлических коробках, груды кистей, уставленных веером в фарфоровых вазах, рулоны бумаги и грунтованного холста.
Домой в Перерву он вернулся уже к вечеру. Со станции пошел пешком, перекинув через плечо небольшой дорожный баул. Вечер был такой, что казалось, природа ликующе праздновала разгар позднего лета. С полей тянуло ароматами сухого сена, от которых кружилась голова. Тренькая колокольцами, под хлопанье пастушьего бича, тянулось перервинское стадо. Хозяйки шли навстречу мычанью, клича своих Милок, Буренок и Зорек.
Елизавета Августовна поджидала мужа, сидя на прогретых солнцем ступеньках крыльца. Девочки, успевшие загореть, со щебетом принялись выбирать из баульчика кульки с конфетами и пряниками, роясь меж кистями и тюбиками красок.
Елизавете Августовне опять нездоровилось, и Василий Иванович с тревогой смотрел на ее посеревшие губы и круги под глазами.
— Ты что, Лилечка? — спросил он, склоняясь над ней. Она виновато улыбнулась.
— Погода меняется, Вася. Видишь? — Маленькой рукой она указала на багряный закат, заливший горизонт за кустами калины. — Так болят суставы, что терпенья нет!
— Я привез тебе очень хорошую мазь. На ночь сам разотру твои ручки и ножки. Вот увидишь, поможет!..
Он взял ее под руку и повел в избу. Девочки с кульками, обгоняя друг дружку, кинулись вслед.
…Несколько дней Василий Иванович провел в поисках. Повсюду в избе лежали рисунки, наброски углем и карандашом. И сразу же была сделана первая композиция маслом.
«Узел композиции» отыскался, его словно подсказал тот самый человек, который встретился Сурикову на Красной площади.
Меншиков. Он был средоточием. От него вокруг стола расположились фигуры его детей. Композицию завершала присевшая у ног отца «бывшая царская невеста» — Мария. Василий Иванович уже видел ее. Она была с темными кругами возле глаз на побледневшем молодом и прекрасном лице.
Искания и поиски
Меншикова не было. Под Клином в имении княгини Меншиковой сохранился бюст Александра Даниловича работы Растрелли — это был его лучший портрет. Василий Иванович поехал туда и сделал несколько зарисовок с этой скульптуры. Показалось мало. Он попросил знакомого художника Богатова вылепить копию со скульптурного портрета. Вылепленная из простой печной глины, она была доставлена в Москву и отлита из гипса. Теперь портрет находился у Василия Ивановича под руками. И все-таки это был не тот Меншиков. Парик, букли, кружева… Не тот!
Василий Иванович перечел все, что можно было найти о «светлейшем». В одном из исторических рассказов наткнулся на такие строчки:
«Несчастие произвело сильный нравственный переворот в Меншикове. Гордый, жестокий, властолюбивый и порочный во времена своего могущества, он явил в ссылке образец христианской добродетели, твердости, смирения и покорности воле Провидения. Дома и при народе князь откровенно сознавался, что был виновен перед своим государем и вполне заслужил постигшее его тяжкое наказание.
Он видел в нем не кару, но милость неба, отверзшего ему двери милосердия… «Благо мне, Господи, — повторял он беспрестанно в молитвах, — яко смирил мя еси!»
Но и этот образ не удовлетворял Сурикова. «Не тот Меншиков мне нужен!» — думал он.
Дни шли медленно, словно задевали один за другой. Суриковы переехали из Перервы в Москву, снова в дом Вагнера на Зубовской. И вот, уже поздней осенью, Василий Иванович опять встретил «того». По Пречистенскому бульвару от Арбатской площади вверх неторопливо шагал он устланной влажным побуревшим листом дорожкой. Василий Иванович на этот раз пошел следом — шаг в шаг. Старик даже не заметил преследователя. В конце бульвара он свернул в один из переулков, дошел до двухэтажного кирпичного здания и, резко рванув дверь парадного входа, скрылся.
Василий Иванович едва успел подскочить к парадному и заметить, какая дверь захлопнулась за стариком на площадке первого этажа. Он подкрался к ней, как вор, и на давно нечищенной медной дощечке, чудом державшейся на рваной клеенчатой обивке, с трудом разобрал надпись: «Преподаватель математики Е. И. Невенгловский». За дверью злобно рычала собака. Суриков дернул за кольцо на проволочке и услышал дребезжание колокольчика, шарканье ног и глухой мужской голос:
— Кто там?
— Разрешите поговорить с вами, — робея, вымолвил Василий Иванович у закрытой двери.
Спустя мгновение дверь приоткрылась.
— Что вам угодно? — Старик сверлил через щелку злым взглядом.
— Мне надо вас видеть, сударь!
— Пустое. Мне нынче недосуг…
Пес рвался наружу, хозяин с трудом удерживал его за ошейник.
— Видите ли, я художник… — начал было Суриков.
— Ступайте прочь, я занят и нездоров!
Дверь захлопнулась, глухо щелкнул ключ.
Старый кирпичный домик в глухом переулке значился под номером четырнадцатым. На следующий день Суриков снова пришел сюда. Какая-то тучная, неопрятная женщина — видно, кухарка — уверяла, что хозяин нездоров и никого не принимает. Пришлось дать ей на чай, чтоб уговорила хозяина. Наконец, заинтригованный настойчивостью незнакомца, старик сам впустил его, провел на антресоли. Усевшись в кресло под пыльными книжными полками, «Меншиков» мрачно спросил:
— Так кого же вы с меня хотите писать?
— Суворова! — бухнул Суриков, боясь, что сердитый старик, чего доброго, обидится за Меншикова. Отставной преподаватель очень удивился и даже усмехнулся щербатым ртом.
— Какой же я Суворов! — А потом махнул рукой: — Ну рисуйте кого знаете… Только поскорей.
Он сидел молча, изредка поглядывая на внимательное светлое лицо этого странного гостя с живыми, быстрыми движениями, с глазами, которые впивались в него зорко и влюблено. И тогда старик усмехался с добродушной иронией.
В этот единственный раз Суриков унес с собой от Невенгловского великолепный небольшой портрет маслом. Вот от этого портрета и начались искания. Невенгловский должен был обрести душу и внешность великого временщика, генералиссимуса, опального вельможи.
Картина, уже вся скомпонованная, стояла на мольберте опять в той же самой маленькой мастерской, в доме Вагнера. Но в этот раз художник уместил этого могучего человека с его тремя детьми на крохотном пространстве низенькой избушки. Холст был совсем небольшой.
Четырнадцатилетнего сына Меншикова, Александра, Суриков писал с молодого Шмаровина. Хорошо, семья была знакомая, юноша позировал с удовольствием.
Младшую дочь, Александру, художник однажды «встретил» на улице. Идет барышня-блондинка в черной котиковой шапочке, руки спрятала в такой же круглой муфте. Идет и улыбается чему-то. Василий Иванович пошел за ней следом. Проводил до самого дома и остановил, заговорив с ней. Она — бежать. Испугалась, что незнакомец привязался. Когда она в панике стала барабанить в дверь, с ужасом оглядываясь на преследователя, выскочил ее оскорбленный и разъяренный папаша и давай отчитывать художника. Насилу разобрались. Оказалась она музыкантшей-консерваторкой. Познакомились. Василий Иванович был принят в дом и мог спокойно делать этюды с прелестной блондинки. А уж когда он привел свою жену для успокоения родичей, семья была окончательно покорена.
Каждый раз, когда поиски увенчивались успехом и в мастерской появлялись новые этюды, начинались искания. Надо было от живых людей перейти к таким же убедительным и живым образам. Надо было перевоплощать.
Златокудрая музыкантша стала младшей дочерью Меншикова. В образе этой девушки было что-то настолько жизнеутверждающее, что, увидев ее, каждый чувствовал — ее жизнь еще не кончена. Вся она была полна жадного желания продолжать радоваться, надеяться, словно чуяла, что еще вернется в Петербург и не придется ей погибнуть здесь, как старшей сестре — «бывшей царской невесте». У этой страшная судьба: ей больше никогда не увидеть ни счастья, ни воли. Хрупкая, покорная, сидит она в ногах у отца. И бледное личико ее светится беспомощной чистотой.
Василий Иванович писал Марию Меншикову со своей жены как раз в дни недомогания.
— Вася! А почему этих девушек выслали в Березов? Ведь они-то ни в чем не провинились? — спрашивала Елизавета Августовна, сидя на полу и завернувшись в темно-синюю атласную шубку, которую Василий Иванович взял напрокат в театральной костюмерной.
— Из-за нее-то все и началось, из-за Марии, — говорил Василий Иванович, выжимая краску из тюбиков на свою маленькую палитру, и, прищурясь, вглядывался в темный атлас и парчовый кусок ткани, поддетый под шубку, словно бы богатое платье выглядывало из-за меховой опушки. — Его жажда славы обуяла, Лизанька!..
Василий Иванович смешал краски и, найдя нужный цвет, стал широкими, густыми мазками лепить парчовые полосы на белом атласе; он отбегал, чтобы проверить, тут же возвращался и снова искал цвета, соскабливал мастихином неверные и пробовал другие.
— До чего же был он жестокий, этот Меншиков… — тихо, словно про себя, сказала Елизавета Августовна.
— Он все готов был принести в жертву, даже сердце дочери… А через два года заступом будет долбить в мерзлой земле ей могилу. Это вместо трона-то! Вот как это было… — Василий Иванович взглянул на жену и сразу положил кисти. — Отдохни, Лилечка. Снимай шубу, и давай-ка заварим мы с тобой того чаю, что нам из Сибири прислали. Хочешь?
«Все Сибирь да Сибирь», — вдруг тоскливо подумалось Елизавете Августовне, но, заметив пристальный взгляд мужа, она встряхнулась и словно вернулась в жизнь.
Он помог ей подняться, стараясь разогнать то неуловимое и туманное, что, словно облако, повисло между ними. Они вышли в столовую, оставив в маленькой мастерской кусок своей и чьей-то не своей жизни. Там, в темноте, меж бревенчатых стен уже сверкали, как драгоценности, как самоцветы: рубином бархатная скатерть на столе, голубыми сапфирами атласная юбка младшей дочери, от голубого к розовому за молочно-сизым налетом, опалом переливался дубленый тулуп отца. Топазом светилось лампадное масло в пузырьке на подоконнике…
Два источника проливали свет на всю эту группу. Мертвенно-белый свет из заиндевевшего оконца и тревожный, трепещущий, красноватый от лампады перед божницей, где оправленные в золото и серебро темные лики угодников напоминали о возмездии.
И сколько здесь, несмотря на общий сумрачный колорит, было сверкания и разнообразия цветов! Сколько живого человеческого тепла в движениях под складками одежды, в лицах, в позах! Сколько выразительности в сжатой руке опального вельможи, с тяжелым перстнем на втором пальце. Так и сидел этот кряжистый муж, вырвавшийся из ничего в блеск, славу, величие и повергнутый в ничто. Сидел молча, не сетуя, не выдавая клокотавшего в нем отчаяния и бессилия.
«С гитарой»
Перед святками сестра Елизаветы Августовны Софья Кропоткина привезла из Петербурга в Москву погостить бабушку Марию Александровну. Декабрьским снежным утром они подъехали прямо с вокзала на извозчике к дому, где жили Суриковы.
Оля и Лена, в красных шерстяных платьицах с большими белыми воротниками, стояли в дверях столовой и с любопытством наблюдали, как мать и тетя Соня раздевали в передней эту таинственную бабушку, которую они ждали целую неделю. И вот она — седая, с розовым лицом, в черных кружевах, с черной наколкой и в брильянтовых серьгах. Вся как фарфоровая!
Девочки стоят молча и смотрят, как мать снимает с ног бабушки теплые боты.
— Мамина мама! — шепчет Оля Лене.
— Лилечка! A quoi done? Je рейх faire moi-meme!.. [4] — смеется бабушка, держась рукой за локоть Софьи.
— Нет уж, нет, мамочка! Дай мне самой за тобой поухаживать! — И Елизавета Августовна стаскивает ботики с материнских ног.
Объятия, смех, щебет, пересыпанный французской речью, навернувшиеся слезы и снова смех. Пожалуй, такого интересного утра ни разу еще не было у девочек Суриковых.
— Et ой sont les petites? Ah! Les voila!.. [5] — И бабушка наклоняется к оробевшим девочкам: — Ну здравствуйте, внучки! Какие же вы хорошенькие!..
И вот они уже в детской, и тетя Соня разворачивает огромный пакет и извлекает из него игрушки. У Оли и Лены даже дыхание перехватило: кукольная мебель! Вот так бабушка! Лена уже тащит своих кукол, усаживает их в креслица, укладывает на кровать. А тетя Соня достает из свертка игрушечную пролетку, запряженную гнедой лошадкой с настоящими черными хвостом и гривой.
— Лена, гляди, какой конь! — кричит Оля, присев на корточки возле пролетки.
Бабушка смотрит на Ольгу.
— La copie de son pere! [6] — говорит она, кивая головой на старшую внучку.
— Да, да, вылитый Вася, — подхватывает Софья. — А вот Леночка вся в тебя, Лиля!
И они с интересом разглядывают девочек, переговариваются, целиком уйдя в мир почти невесомых бесед, в которых так давно не участвовала Елизавета Августовна. Ей радостно, легко, но чуть-чуть смешно.
— Ну, покажи нам свою квартиру, Лиля, — просит бабушка.
Все идут в спальню, потом в кухню, потом в гостиную и столовую.
— А здесь что? — спрашивает Мария Александровна, указав на закрытую дверь.
— А там, мамочка, Васина мастерская… Только она сейчас заперта… Там картина. Вася придет, сам покажет… — Елизавета Августовна почему-то смешалась, вспыхнула и сразу стала приглашать гостей к накрытому столу: — Давайте позавтракаем. Все давно готово. Пашенька, самовар!
Паша, озабоченная, важная, подвязавшая по случаю приезда гостей новый, туго накрахмаленный фартук, внесла самовар и кофе для Марии Александровны.
— Ах да! Как же это я чуть не забыла! — говорила Мария Александровна, отрезая тоненькие ломтики холодного ростбифа. — Ведь Вася получил орден Анны на шею! Поздравляю тебя, Лиля!
— Представь, мама, за роспись «Вселенских соборов» орден и ленту на грудь. — Софья вдруг расхохоталась — Нет, я не могу себе представить, чтобы Вася надел орден!
— Пока что он ни разу нигде с орденом не появлялся, — смеялась хозяйка, — орден лежит у меня в комоде. А какой красивый! Подождите, я сейчас вам его покажу.
Елизавета Августовна выскользнула из-за стола, побежала в спальню и вернулась со шкатулкой в руках.
— Вот, смотрите!
Гости увидели на белом бархате подкладки эмалевый красный крест с золочеными острыми углами, соединенными кружевной золотой резьбой. Крест был прикреплен к муаровой красной ленте с желтыми каемками.
— Красиво, но держу пари, что он ни разу его не наденет! — шутила Софья…
После завтрака все перешли в маленькую гостиную. Там Мария Александровна уселась в мягкое кресло и с наслаждением стала пить из маленькой чашки кофе. Две внучки, осмелев, встали по сторонам возле пышных юбок «фарфоровой» бабушки. Она обхватила их руками и поочередно поцеловала круглые стриженые головки. Софья сняла со стены гитару Василия Ивановича и села с ней на маленький круглый стульчик.
— Сонечка, спой нам что-нибудь, — попросила сестру Елизавета Августовна.
— Да, да, спой «L'hirondelle»! [7] — подхватила Мария Александровна.
Софья настроила гитару и запела негромким, чистым и красивым контральто:
Взвейся, ласточка сизокрылая, Над окном моим, над косящатым.
Повернувшись к окну спиной, стояла и слушала сестру Елизавета Августовна. А за окном летели снежинки; они, качаясь и медля, словно выбирая место, ложились на карниз. Против света лица хозяйки почти не было видно, только уложенная венком на ее голове коса мерцала бронзовым отливом и синий бархат платья скрадывал линию плеч, делая их еще более узкими…
В гостиную с мороза вошел хозяин дома — свежий, веселый. Софья оборвала песню на полуслове.
— А-а-а!.. Теща в дом — все вверх дном! — шутливо приветствуя, обнял Василий Иванович бабушку и приложился к руке. — Рад, очень рад вас видеть! Вы уж извините, что не приехал на вокзал. Ездил раму для новой картины заказывать… Сонечка, здравствуй!
— Вася, ты голоден, наверно? — забеспокоилась жена.
— Нет, Лиля, я заходил в трактир с подрядчиком, ничего не хочу! — Василий Иванович, весело поблескивая небольшими глазами, достал из кармана горсть сухой сибирской черемухи и стал похрустывать ягодами.
— Ну, Мария Александровна, в марте привезу к вам в Питер на передвижную выставку новую работу. «Меншикова» закончил. Посмотрим, что-то будет!
Мария Александровна смотрела на него с удивлением, словно в первый раз видела. Он был всегда ей непонятен, этот диковатый человек. Но его твердость, резкость и уверенность внушали ей уважение и даже некоторый страх. Любила она в нем только его огромное чувство к ее младшей дочери. Больше, она считала, ей не за что любить его.
Похрумкивая черемухой, зять занимал тещу светским разговором. Вокруг суетились девочки, расставляя новую мебель. Софья тихо перебирала струны гитары, молча поглядывая на всех. В сером атласном платье, с черной кружевной косынкой на голове, сколотой коралловым цветком, она была удивительно гармонична и женственна. Изгиб чуть удивленных бровей под светло-русой челкой выдавал близорукость ее темных выпуклых глаз. Красивая рука с коралловым браслетом грациозно лежала на струнах гитары. Василий Иванович вдруг прищурился:
— Соня, а ты знаешь, как ты сейчас красиво сидишь! Ну просто хоть пиши тебя!..
— Вот, вот! И принимайтесь за дело! — обрадовалась бабушка. — А я пока, Лиленька, пойду к тебе в спальню отдохнуть с дороги. Можно?
— Да, да, мамочка, отлично! А мы с детьми на бульвар пойдем погуляем, — решила Елизавета Августовна.
Василий Иванович пытался было возразить, но стало ясно, что он уже ничего не видит, кроме гармонии серого с черным и теплого тона полированного дерева гитары…
Мария Александровна удалилась в спальню. Девочек отправили гулять, а в гостиной Василий Иванович, сидя спиной к свету, уже набрасывал в альбом фигуру свояченицы. На подоконнике лежал ящик с акварелью и стоял стакан с водой. В квартире стало тихо. Где-то в кухне глухо гремела посудой Паша. Софья перебирала струны гитары…
Так родилась еще одна чудесная акварель, увековечившая страницу жизни Суриковых.
Одиннадцатая передвижная
Снова Петербург! Снова маленький номер в гостинице близ вокзала, с потускневшим пятнистым зеркалом, затхлой водой в умывальнике и вытертой плюшевой скатертью на овальном столике.
Мартовский ветер гонит низкие тяжелые тучи, они задевают за шпиль Петропавловской крепости. На этом резком ветру даже дышать трудно!
В доме Юсупова на Невском передвижная выставка — одиннадцатая по счету. Все было, как всегда. Накануне — ужин у «Донона». Ели, пили, спорили, поздравляли друг друга. А утром состоялось открытие.
Петербург особенно торжественно встречал передвижников в этом году. Подробные отчеты о выставке заполнили страницы газет и журналов. Стасов превознес художника Максимова, утверждая, что со времени «Колдуна на свадьбе», выставленного на четвертой передвижной выставке, не было у Максимова такой замечательной живописи, как последняя картина «Заем хлеба у соседки». Богатая, сытая крестьянка дает бедной хлеба взаймы, беря у нее под залог последний чайник.
В восторге был Стасов от «Свидания» Владимира Маковского, по достоинству оценив его жанровую сценку, в которой крестьянка-мать пришла проведать сына, отданного в ученье в слесарную мастерскую, и принесла ему калач.
С большим энтузиазмом описал Стасов «Крестный ход в Курской губернии» — последнюю картину "Репина, восхищаясь каждой деталью этого великолепного произведения, разбирая каждый характер, сравнивая эту работу с «Бурлаками» и утверждая ее, как одно из лучших торжеств современного искусства.
И ни одного слова, ни одного упоминания о «Меншикове в Березове»! Стасов обошел Сурикова обидным молчанием, словно тот ничего вовсе не выставлял.
Зато другие критики обрушились на Сурикова со всей резкостью:
— Плохо нарисовано!
— Семья моржей!
— Грязные цвета!
— Краска наляпана комьями!
— Плохо соблюдены условия освещения!
— Если б Суриков поработал над картиной, то могла бы получиться хорошая вещь!
Все это и многое другое читал Василий Иванович в петербургских газетах по утрам и приходил в гнетущее настроение.
«Провалился я нынче! — мрачно думал Суриков, шагая по обледеневшему тротуару Невского проспекта от вокзала к выставке. — Как же теперь быть? Что делать? А я еще за границу собирался. В Италию, Тициана и Веронеза посмотреть».
На лестнице он столкнулся с Крамским, спускавшимся в вестибюль. Смущенный, словно застигнутый врасплох, Крамской, любивший и понимавший Сурикова, сказал:
— Видел вашу картину. И прямо скажу вам: или она гениальна, или я в ней еще не разобрался. Она с одной стороны меня восхищает, а с другой — оскорбляет своей безграмотностью. Ведь если Меншиков встанет, то он проломит головой потолок!
Василий Иванович вдруг рассмеялся:
— Верно, Иван Николаевич! Действительно — проломит. Я этого и добивался. Ведь это же гигант был! — пошутил Суриков, и они расстались, так и не поняв друг друга.
Но понял Сурикова Репин, который писал Третьякову, что «картину Сурикова все больше и больше одобряют». Понял Нестеров, оставивший в своих воспоминаниях такие строки: «Нам, тогдашней молодежи, картина нравилась, мы с великим увлечением говорили о ней, восхищались ее дивным тоном, самоцветными, звучными, как драгоценный металл, красками. «Меншиков» из всех суриковских драм наиболее «шекспировская» по вечным, неизъяснимым судьбам человеческим. Типы, характеры их, трагические переживания, сжатость, простота концепции картины, ее ужас, безнадежность и глубокая, волнующая трогательность — все, все нас восхищало тогда, а меня, уже старика, волнует и сейчас».
Понял Василия Ивановича и любимый профессор Чистяков. Он писал ему из Петербурга:
«Я давно собирался писать к Вам и все почему-то откладывал; а хотелось! Искренне любя и уважая Вас и талант Ваш достойно почитая, я хотя несколько слов осмелюсь высказать Вам относительно картины Вашей. Не пренебрегайте перспективой комнаты, выправьте, насколько это для вас возможно. В нашем искусстве две части: одна мужественная, твердая, устойчивая — это рисунок; другая тонкая, едва уловимая, чувственная, нежная — это живопись, колорит, светотень, тушевка. Еще скажу Вам, что у больных или у начинающих хворать во время лихорадочного жара блестят глаза и появляются красные пятна большей частью под глазами, и очень небольшие пятна, но зато ясно очерченные. И вообще при всей странности, неестественности лица у таких женщин бывают красивы и для неопытного кажутся как будто здоровыми: а) румянец у здоровых, б) румянец у начинающих болеть…»
Так внимательно и душевно разговаривал учитель со своим любимым учеником в письме.
Понял произведение Сурикова и Третьяков. Он почувствовал, что отсюда открываются новые пути для всей русской живописи. Он видел, что Суриков отверг гладкую, зализанную манеру писать маслом и что, вечно ищущий, он нашел новые средства для выражения своих мыслей и чувств и новые формы для композиционных и цветовых решений в живописи. Третьяков оценил колористическую сторону картины — она была темная по тонам, но отнюдь не черная, а напротив— звучная и глубокая по цветам. Он понял и психологическую глубину картины, приближающуюся к творениям Рембрандта, и видел, что со своим «Меншиковым» этот русский до мозга костей человек, никогда не бывавший в Европе, еще полностью не познавший гениальных мастеров эпохи Возрождения, сделал огромный шаг вперед, и Третьяков купил «Меншикова». Это дало возможность Сурикову уехать на целый год за границу в путешествие, о котором Василий Иванович давно мечтал.
На улице Акаций
«Париж, 4/16 ноября 1883
Здравствуйте, милые мама и Саша!
Я в настоящее время живу в Париже, вот уже целый месяц, останусь здесь недели две, а потом поеду в Италию и возвращусь, бог даст, в апреле в Москву.
Если бы ты знал, какая тут суматоха в Париже, так ты бы удивился. Громадный город, с трехмиллионным населением, и все это движется, говорит не умолкая. Я сюда приехал с семьею, устроился в небольшой недорогой квартире. Меня, собственно, заинтересовала художественная выставка за целые 5 лет французского искусства. Масса картин помещается в здании, почти в половину нашей Новособорной площади в Красноярске. Сколько здесь магазинов-то — ужас, под каждым домом по нескольку магазинов! Особенно они вечером ослепляют блеском своим. Все это освещено газом и электричеством.
Был проездом в Берлине, Дрездене, Кельне и других городах на пути в Париж. Останавливался там тоже по нескольку дней, где есть картинные галереи. Жизнь уже совсем не похожа на русскую. Другие люди, обычаи, костюмы — все разное. Очень оригинальное. Хотя я оригинальнее Москвы не встретил ни одного города по наружному виду.
Так вот, Саша, за целые 9000 верст я от тебя. Не знаю, мечтаю попасть и в Красноярск летом. Уж начал ездить, так и домой приеду к вам… Будьте здоровы. Целую вас, Лиля и детки кланяются и здоровые.
Твой В. Суриков».
Большая марка с головой женщины во фригийском колпаке легла на угол серого конверта, которому суждено было начать свой дальний путь с черного ящика «poste» на углу улицы Акаций, где поселилось семейство Суриковых.
Эта длинная, тесная улочка выходила на авеню Карно — один из многих проспектов, расходящихся лучами от Триумфальной арки на площади Этуаль. В доме номер семнадцать, в пансионе мадам Миттон, сняли Суриковы квартиру из трех комнат, и Елизавета Августовна с удовольствием принялась за хозяйство, покупая провизию в маленьких парижских лавочках и стряпая завтраки и обеды на газовой плите в крошечной кухне.
Ей все нравилось в Париже. Овощные лавочки, с выставленными наружу лотками редиса, спаржи, артишоков, сельдерея, и мясные, с аккуратно разделанными для приготовления блюд сортами мяса, и маленькие булочные-кондитерские, где покупателя ошеломлял запах свежего хлеба и аромат миндаля и ванили от выставок пирожных. И вообще Елизавета Августовна так легко вошла в парижские будни, словно прожила здесь всю жизнь. Вот и сейчас ее не было дома— ушла за покупками.
Сидя в спальне за небольшим секретером, Василий Иванович запечатывал письмо в Сибирь. Он был в пальто и шляпе. За высокими, от пола до потолка, окнами сиял холодный, ноябрьский день. Василий Иванович смотрел на узор чугунной решетки, загораживавшей окно снаружи. «У нас бы давным-давно эти окна замазали. Не окна — ворота!» — думал он, ежась от холодной струйки воздуха, что, как лезвие ножа, прорезалась сквозь щель окна. Камин столовой равнодушно зиял пустым черным квадратом — хозяйка экономила топливо на зимний сезон. Василий Иванович вспомнил радушное тепло московских печей, несравненный запах бересты, оттаявших поленцев, сложенных в горку возле топки. Он поглядел на полысевший от времени бобрик, которым были обтянуты полы их квартиры, на мягкую, отделанную шнурами и кистями мебель, приютившуюся в углу спальни, и все это показалось ему неуютным и чужим. Вдруг страстно захотелось на родину.
Прямо перед собой, в раскрытую дверь столовой, он видел, как дочери, завернувшись в шали и укрывшись пледом, удобно расположились в глубоком кресле. Они играли в путешествие. Ехали в воображаемом экипаже, качаясь, подпрыгивая и без умолку тараторя. Пятилетняя Оля держала на коленях стопку журналов, а трехлетняя Лена прижимала к себе новую парижскую куклу — Веру. Громадный воздушный шар метался в ногах у девочек. На нем белыми буквами было написано: «Лувр».
«Как они быстро привыкают ко всему. Всюду они дома», — думал Суриков, слушая болтовню, которая никогда и нигде ему не мешала. «Какие душечки! Ишь хлопочут, едут куда-то!» Ему вдруг захотелось их нарисовать. Он достал из-под крышки секретера блок, раскрыл ящичек с акварелью, налил из громадного кувшина воды в стакан и незаметно включился в жизнь своих дочерей.
Девочки, с пеленок привыкшие к тому, что если отец взял в руку карандаш или кисть, то все вокруг сразу должно подчиняться только ей — этой кисти, мгновенно перестали вертеться и только переглядывались и перешептывались.
Так сидели они все трое, священнодействуя, пока карандаш рисовал две детские фигурки на ноздреватой поверхности листа, а послушная кисть, окунаясь в воду, смешивала цвета. Краски быстро впитывались в бумагу, оставляя белыми воротнички, ложась голубыми тенями под подбородками. Они расплывались в румянце на щеке Оли до самого курносого беленького носика, они отражали в шаре сплющенным и искаженным высокое окно. Это было волшебство!
Акварель была почти закончена, когда за дверью прихожей послышался стук каблуков о железные ступени лестницы. Девочки насторожились. Василий Иванович, не дожидаясь звонка, вскочил, прошел в переднюю и распахнул дверь. На площадке, держась за перила, обтянутые красным плюшем, стояла Елизавета Августовна; раскрасневшаяся, возбужденная, она глубоко вбирала воздух, стараясь отдышаться.
— Ну вот, опять бежишь по лестнице… Ведь знаешь, что медленно нужно… — огорченно упрекал ее Василий Иванович. — Каждый раз сердце себе портишь!..
— Ничего… Я уже отдышалась… — Елизавета Августовна перешагнула порог. — А вы тут без меня чем занимались?
Она быстро вынула шпильку и высвободила из-под шляпы свою красивую голову.
— Ах, какая чудная акварель! — воскликнула Елизавета Августовна, наклоняясь над альбомом.
— Это мы без тебя тут поработали.
Девочки, как по команде, соскочили с кресла и, протиснувшись между матерью и отцом, стали разглядывать «новую картинку».
— А ты так и сидишь в пальто и шляпе, — смеясь, заметила Елизавета Августовна.
— Не могу я, Лилечка, мерзну ужасно. Холодно тут русскому человеку. Вон, видишь, и они укутались, — шутил Василий Иванович, показывая кистью на акварель.
— Эх, ты! Сибиряк ты мой!..
Василий Иванович посмотрел на жену, ища хоть намека на упрек. Но глаза жены были ясны и добры. Ни тени горечи не промелькнуло в чертах ее кроткого лица. Она сняла пальто, повесила его в шифоньер, достала передник и, подвязавши его, взяла за руки дочерей:
— Ну, девочки, давайте-ка я вас раскутаю — и марш на кухню, готовить обед!
Все так же оставаясь в пальто и шляпе, Василий Иванович принялся заканчивать акварель. За окном в соседнем доме, на узенькой улице Акаций, шла совсем непонятная ему жизнь чужих по крови и духу людей. Еще дальше кипел дневной, деловой Париж, пресыщенный, роскошный, нарядный. А где-то Москва проводила свой деловой, хмурый, ноябрьский день, с мокрым снегом и унылым перезвоном колоколов. А еще дальше, за девять тысяч верст, была глухая ночь, и метель заметала маленький домик, с «зачекушенными ставнями» окнами, на Благовещенской улице в городе Красноярске…
Подправляя акварельный рисунок, Василий Иванович прислушался к веселой возне за закрытой дверью кухни и улыбнулся: «Все при мне!»
Путь над каштанами
Каждый день Суриков выходил с улицы Акаций на проспект Карно, поднимался вверх, до Триумфальной арки, и, забрав налево, шагал по Елисейским полям до самого Лувра. Это было довольно далеко — версты четыре, но он неизменно проделывал этот путь пешком.
И кто только окрестил этот шумный, нарядный бульвар Елисейскими полями, райским обиталищем душ умерших? Рядами стояли на прямой, как стрела, эспланаде каштаны и вязы. По гладкой торцовой мостовой беспрерывно катились двухэтажные омнибусы, ландо, фиакры, закрытые кареты. По сторонам прятались в зелени роскошные особняки-отели, рестораны, кафе и театры для богатой публики. За круглой площадью, пересекающей бульвар, между ним и набережной Сены расположился Большой дворец — Гран Палэ, где в этот сезон была открыта трехгодичная выставка французского искусства. Василий Иванович два раза был на этой выставке. Ради нее он остался в Париже на осенний сезон, и все же она мало чем понравилась ему. Картин с глубоким содержанием он не встретил, но увидел здесь, что французы стремились овладеть самой легкой и радостной стороной жизни — внешней стороной в понимании красоты.
Присматриваясь к тканям, покрою одежды, он удивлялся бесконечному разнообразию формы и цвета. Ему казалось, что все здесь заняты только тем, чтобы выглядеть понарядней, покрасивей, повидней. Своей открытой уличной жизнью французы напоминали ему древних римлян. Его приводило в восхищение, что искусство имело во Франции гражданское значение: им интересовались все, от мала до велика. Всем оно было нужно, все ждали выставок, для них открыты были дворцы, театры, клубы.
Но живопись, которую он увидел в Большом дворце, не тронула его. Слащавые пейзажи, ручейки, нимфы, купальщицы, засевшие в тростниках, аллегорические «Авроры» и «Ночи», летящие над землей в образах упитанных обнаженных дам, жанровые сценки — все это было выполнено без знания рисунка и композиции, и все это повергло Сурикова в недоумение: куда же денется вся эта пропасть бессердечных и безвкусных вещей?
Он никак не ожидал, что французское искусство находится на таком низком уровне. Это было стремление угодить буржуазии конца века, этим выскочкам («нуворишам»), диктовавшим свои вкусы художникам, всецело зависящим от них — от королей финансового мира. Ослепительный блеск жизни, красок, тканей, превосходные пейзажи Франции давали неисчерпаемую массу впечатлений и материала, но французские художники в стремлении изображать внешность не были так глубоки, как сама действительность, и благодаря скудости мировоззрения и идя на поводу у буржуазного общества, они не могли передать во всей полноте окружающее их и часто впадали в безвкусие.
Понравился Сурикову художник Бастьен Лепаж, его картины сельской жизни, полные спокойствия, мудрости и сдержанности в колорите. Понравилась ему картина Вайсона «На ярмарке скота». Тут были и форма и цвет, и одно не в ущерб другому. Нравилась Сурикову картина «Андромаха» Рош-гросса. Это была гомеровская сцена: воины Одиссея отнимают у вдовы Гектора — Андромахи — маленького сына.
В этот же вечер Василий Иванович написал своему учителю и другу Чистякову: «…Тема классическая, но композиция, пыл в работе выкупают направление. Картина немного темновата, но тона разнообразные, сильные, густые; вообще написана с увлечением. Художник молодой, лет 25. Это единственная картина на выставке по части истории (даже не истории, а эпической поэзии), в которой есть истинное чувство. Есть движение, страсть; кровь, так настоящая кровь, хлястнутая на камень, ручьи живые, — это не та суконная кровь, которую я видел на картинах немецких и французских баталистов…»
…Суриков миновал Гран Палэ, который теперь не манил его. Деревья обнажились, и сухая коричневая листва шуршала под ногами. Площадь Согласия предстала перед ним — широкая, со статуями по углам, с фонтаном и обелиском. Огибая ее среди множества веселых или озабоченных физиономий с нафабренными бачками, среди шуршащих турнюров, шляп с перьями, обворожительных лиц молодых парижанок, немыслимых цилиндров и пестрых панталон и жилетов, среди бесцеремонно громкого говора парижан, шел он со своими мыслями, вглядываясь в величие этой площади Согласия, на которой когда-то стояла гильотина, равнодушно отсекавшая головы и правых и виноватых, будь то республиканцы или роялисты.
Василий Иванович миновал площадь, поднялся по ступеням и пошел по Тюильри, пустынному и обнаженному в этот холодный солнечный и ветреный день парку с мраморными скамьями, напоминавшими ему гробницы. Слева в пролете улицы открылась Вандомская колонна. На ней, за квадратной решеткой, стоял мраморный Наполеон в римской тоге. Василий Иванович остановился, разглядывая его, и вспомнил, что когда-то статуя была заменена другой — в сюртуке и шляпе, а потом Бурбоны убрали ее вовсе, заменив символическим цветком лилии — эмблемой королевской власти, лишь Наполеон Третий снова водрузил на этом месте статую своего дяди в римской тоге… Через затененную улицу Василий Иванович смотрел на нее, освещенную солнцем, и думал о том, как умели французы, украшая столицу, использовать каждую деталь для выражения своих идей и настроений…
Рядом с ним остановились трое англичан в светлых костюмах, в приплюснутых на затылках шляпах с перышками. Громко разговаривая, они навели на колонну три бинокля. У всех были одинаковые длинные бритые лица с особым складом верхней челюсти. Суриков внезапно озлился на них. «Приезжают сюда с деньжищами и хозяйничают… Ишь, уставились, словно, кроме них, никого в Париже и нет!.. Терпеть не могу!»
Он резко повернулся и зашагал к Лувру.
Лувр
Быстро подымаясь по широким, закругляющимся по бокам ступеням лестницы бывшей резиденции французских королей, Суриков торопился в залы. Там ожидало его наслаждение— созерцание и изучение глубоких тайн живописного мастерства.
Он и вообще-то не был разговорчив, а здесь, среди французов, почти не зная языка, он чувствовал себя счастливо избавленным от разговоров. Здесь можно было часами предаваться молчаливому раздумью, разглядывая, изучая, запоминая.
Изучая природу живописи в первые дни, он задерживался возле огромных классических полотен Давида и Гро, напыщенно и холодно прославлявших империю Наполеона. Сейчас он проходил мимо многого, спеша к любимому. В «любимое» теперь входили два портрета Веласкеса: королева Мария-Анна испанская и ее дочь Маргарита — беленькая девчушка в розовом кринолине.
Нравилось Сурикову «Вознесение» Мурильо. Упершись одной ногой в бледный рожок полумесяца, стояла мадонна в белом платье и синем покрывале, окруженная сонмом ангелочков. Они были удивительно естественны, все эти голые ребятишки в самых различных движениях и позах, один даже запутался в покрывале мадонны. Чудесно были написаны руки женщины, отсвет лиловых облаков вокруг, и только за фигурой мадонны фон был густо-желтый, словно яичный желток. Василий Иванович смотрел на этот фон, и думалось ему, что это время так поджелтило облако, не стал бы Мурильо делать такой фон намеренно…
Привлекало Сурикова «Воскрешение Лазаря» Гверчино. Здесь его пленяло выражение душевности. Многие представители итальянского искусства заботились больше о внешней красоте и напоминали Василию Ивановичу греческую школу диалектиков до Демосфена, которые мало пеклись о смысле, а поражали слушателей блеском речи. Василий Иванович видел в итальянском искусстве черты «чисто ораторского в живописи».
Не нравился Сурикову Рубенс в Лувре. Он не любил его гладкого письма.
Равнодушным оставлял Василия Ивановича и Леонардо да Винчи. Даже прославленная Джоконда не трогала его.
Он чувствовал в этих творениях порабощение духа художника холодным, изобретательным разумом, теми самыми формулами, по которым Леонардо советовал писать стариков, старух, воинов, детей, женщин. Его научное мышление и страсть приводить ко всеобщему закону и подчинять натуру разуму выявлялись во всех его произведениях, и все лица, изображенные этим гениальным мастером, глядели со стен луврской галереи с одним и тем же общим выражением иронической замкнутости. Леонардо да Винчи он оценил и понял только в Милане.
Зато Веронезе и Тициан, висевшие в одном из лучших залов, неизменно притягивали Василия Ивановича каждый раз надолго. Он писал Чистякову: «Много раз я был в Лувре. «Брак в Кане» Веронеза произвел на меня не то впечатление, какое я ожидал. Мне она показалась коричневого, вместо ожидаемого мною серебристого тона, столь свойственного Веронезу. Дальний план, левые колонны и группа вначале с левой стороны, невеста в белом лифе очень хороши по тону; но далее картине вредят часто повторяющиеся красные, коричневые и зеленые цвета. От этого тон картины тяжел. Вся прелесть этой картины заключается в перспективе. Хороша фигура самого Веронеза в белом плаще. Какое у него жестокое, черствое выражение в лице. Он так себя в картине усадил в центре, что поневоле останавливает на себе внимание. Христос в этом пире никакой роли не играет. Точно будто Веронеза сам для себя этот пир устроил… и нос у него немного красноват; должно быть, порядком-таки подпил за компанию. Видно по всему, что человек был с недюжинным самолюбием. Тициана заставил в унизительной позе трудиться над громадной виолончелью. Другая его картина гораздо удачнее по тонам — это «Христос в Эммаусе». Здесь мне особенно понравилась женщина с ребенком (на левой стороне). Хорош Петр и другой, с воловьей шеей. Только странно, они оба руки растопырили параллельно. Картина, если помните, подписана «Паоло. Веронезе» краской, похожей на золото…
«Положение во гроб» Тициана тоже мне нравится, только поддерживающий Христа смуглый апостол однообразен по тону тела — жареный цвет. Странность эта бывает у Тициана: ищет, ищет до тонкого разнообразия цвета, а то возьмет да одной краской и замажет, как здесь апостола…
Я хочу сказать теперь о той картине Веронеза в Дрездене, пред которой его «Брак в Кане» меркнет, исчезает по своей искусственности. Я говорю про «Поклонение волхвов». Боже мой, какая невероятная сила, нечеловеческая мощь могла создать эту картину! Ведь это живая натура, задвинутая за раму… Видно, Веронез работал эту картину экспромтом, без всякой предвзятой манеры, в упоении восторженном; в нормальном, спокойном духе нельзя написать такую дивную по колориту вещь. Хватал, рвал с палитры это дивное мешево, это бесподобное колоритное тесто красок. Не знаю, есть ли на свете его еще такая вещь. Я пробыл два дня в Дрездене и все не мог оторваться от нее. Наконец, нужно было уехать, и я, зажмурив глаза, чтоб уже ничего больше по стенам не видеть, чтобы одну ее только упомнить, вышел поскорее на улицу».
Так писал Суриков Чистякову о своих впечатлениях от величайших произведений итальянского Возрождения, писал, будучи тогда далеким от современников-французов. А в это время в Школе изящных искусств была посмертная выставка картин Эдуарда Манэ. Она волновала умы и сердца парижан, вызывала шумные дебаты и множество критических статей в печати. Продажа картин Манэ с аукциона шла с большим подъемом. Вдова Манэ, страшно нуждавшегося при жизни, сразу получила такие деньги, о которых семья никогда и не мечтала. Весь Париж был взбудоражен этой выставкой. Но с его знаменитыми произведениями, такими, как «Олимпия», «Балкон», «Завтрак на траве», с его прекрасными пейзажами в Аржантейле, с его портретами Сурикову суждено было встретиться и по достоинству оценить их много позднее.
У алтарей
Группы тонких колонн, уходящих под своды, напоминали трубы органа. Фон между ними был воздушный, темный, серовато-лиловатый. В этот фон живо, полнозвучно вливались яркие полосы из круглого цветного окна, что называлось «розой». Что за диво этот собор Парижской богоматери!
Суриков стоял посреди него и слушал торжественную воскресную мессу. Под сводами, то погружая весь собор в мощную стихию звуков, то рассыпаясь руладами тончайшего пианиссимо, властвовал Бах.
Можно бы сесть на плетеный стульчик, но Василий Иванович опоздал, прихожан было много, все места были заняты. Он стоял, потрясенный величием музыки. Никогда в жизни не слышал он еще такого чарующего инструмента. Казалось, сами стены собора и связки колонн поют, плачут, ликуют вместе с органом. Временами становилось просто жутко, клубок подкатывался к горлу и сердце сжималось от волнения.
«Вот если бы послы Владимира Святого хоть раз услышали этот орган, — думал Суриков, — то на Руси все были бы католиками!»
В эту минуту вступил великолепный хор певчих. Прихожан словно приподняло со стульев. Мощный аккорд соединил человеческие голоса со звуками органа, и казалось, сотрясались своды собора. Когда хор затих, перед прихожанами появился священник в белом облачении, он, монотонно и медленно выкрикивая слова, начал проповедь.
Василий Иванович осторожно перешел на боковой проход и вышел из собора. На площади перед собором, слева от него, стояла приземистая, неуклюжая конная статуя Карла Великого— «Шарлеманя», как называют его французы, этого столпа феодальных устоев. Суриков подошел к Шарлеманю и снова стал разглядывать фасад собора, поразившего его своей гармонией, невзирая на то, что одна башня была шире другой, боковые порталы — разного архитектурного решения. И все же надо было долго присматриваться, чтобы усмотреть разницу.
Василий Иванович поднял голову. Сверху на него глядели химеры, они поддерживали водосточные трубы и гримасничали презрительно и надменно. Да чего ж все-таки французы всегда любили на дивных постройках своих сажать всякую нечисть, словно подсмеиваясь над собой и строя рожи даже во время созидания красоты. Медленно обходил Василий Иванович собор, любуясь им и стараясь запомнить все его особенности.
Мысли Сурикова прервали два колокола, что закачались и затренькали на два голоса высоко и чисто. Было начало первого часа. Василий Иванович еще раз оглядел фасад и, перейдя мост, зашагал к Шателе, к фонтану со сфинксами, сел в омнибус и покатил по набережной зимней туманной Сены в сторону Этуали. Дома его ждали к обеду.
В тот же вечер, оставив дочерей на попечение мадам Миттон, любезно согласившейся последить за ними и уложить их спать, Василий Иванович и Елизавета Августовна поехали в Большую оперу.
Шел «Генрих VIII» Сен-Санса. Суриковы заняли места в ложе первого яруса. Театр, весь темно-красный с тусклым золотом, был по форме своей словно сплющен, приближен к сцене, и потому отовсюду она была хорошо видна. В сверкании роскошных электрических люстр шуршал шелками, переливался драгоценностями, колыхался веерами из страусовых перьев, розовел обнаженными плечами, полыхал золотом аксельбантов и эполет весь парижский бомонд. Он жил внизу, в партере, какой-то совсем обособленной, недоступной для сидящих наверху зрителей жизнью, и было интересно наблюдать за ним сверху.
Но вот свет стал медленно угасать, и оркестр начал увертюру, вкрадчиво, мягко завораживая зрителей, отвлекая их внимание от самих себя к сцене. И с первой минуты поднятия занавеса Василий Иванович весь покорился обаянию простоты, изящества и отменнейшего вкуса, с которыми был поставлен спектакль, выполнены декорации и костюмы.
Спектакль кончился в двенадцатом часу. К подъезду оперы одна за другой подъезжали кареты с ливрейными лакеями и форейторами, ландо и двухместные экипажи — знать разъезжалась. Омнибусы уже закончили городские рейсы, оставалось нанять извозчика. И тут Суриковы столкнулись с совершенно непредвиденным обстоятельством. Запряженные парой лошадей извозчичьи фиакры, с фонариками возле козел, проезжали мимо публики, толпившейся на тротуарах возле театра. Люди кричали, бранились, бежали вслед, умоляя подвезти, но эти парижские «кошэ» не останавливались, лишь качали цилиндрами в знак отказа: они бастовали, и фиакры, равнодушно подмигивая фонариками, удалялись на глазах у возмущенных парижан. Извозчики — «кошэ» — добивались от предпринимателей повышения платы. Пришлось идти пешком. Василий Иванович вывел жену к Лувру и затем по улице Риволи, через площадь Согласия, повел ее по Елисейским полям, по своему обычному, столько раз хожен-ному дневному пути.
Они шли под ночным новогодним небом Парижа, на котором холодно мерцали звезды. Прохожих становилось все меньше и меньше. Еще один «кошэ» обогнал их. Елизавета Августовна метнулась было к нему:
— Attendez! Подождите!
Но он важно взглянул на них с козел и отрицательно махнул рукой в белой перчатке.
«Ишь воюют с хозяевами… Прав добиваются!» — подумал Василий Иванович и взял жену под руку.
Под их ногами скрипел грунт дорожки, заиндевевший от легкого мороза, и похрустывала корочка льда, застывшего на лужицах. Прохожих совсем не стало, и только полицейские в плащах и каскетках неподвижно стояли на перекрестках, освещенных призрачным светом газовых фонарей.
Через два дня Суриковы выехали в Италию.
Миланские чудеса
— Чудеса, да и только!..
Василий Иванович стоял на площади Дуомо перед Миланским собором. Резьба по белому мрамору начиналась от самого цоколя, ползла по стенам, переходила в кружево решеток, балкончиков, наружных арок, доходила до крыши и там расщеплялась на целый лес причудливых колонок и башенок разной величины и формы, держащих на себе статуи святых. Каждая башенка в отдельности стремилась ввысь, и все вместе они тянули весь собор в небо, будто сталактиты, обращенные остриями вверх. Собор казался легким, прозрачным, словно музыка тысячи флейт и кларнетов, возвещавшая славу небесам.
Суриков вошел в собор — он был весь пронизан наперекрест цветными лучами, где-то золотистыми, где-то холодно-синими; дальше вдруг все было охвачено теплым розовым, который пересекался изумрудным. Это было волшебство витражей. Василий Иванович долго бродил между колоннами, удивляясь цельности идеи строителей, стремившихся к тому, чтобы наружная красота соответствовала внутренней.
Мимо проходили монахи в коричневых рясах, подпоясанные веревками. Выбриты макушки в тонзуры, аскетически темные лица, сухие пальцы перебирают четки. И все они словно сошли с фресок Джотто…
Серебряный колокольчик оповестил начало мессы. Служки в белых блузах понесли к алтарю свечи. Старый священник дрожащим голосом прочитал молитву, и тут вступил орган. После парижского миланский орган показался Василию Ивановичу жидким и бедным. Он вышел на площадь, усеянную голубями…
Стояли последние дни января, а здесь на улицах продавались фиалки, и солнце припекало, хотя к вечеру с Альп тянуло свежестью и сразу становилось темно и сыро. Но до вечера было еще далеко, и можно было пройти мимо совсем недавно отстроенного роскошного пассажа Виктора Эммануила и, оставляя в стороне театр Ла Скала, по Корсо Маджента выйти прямо к монастырю Санта-Мария делла Грацие, чтобы еще раз поклониться «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.
Вот и доминиканский монастырь. Теперь здесь музей.
Суриков покупает билет и входит в знаменитую трапезную, четыре столетия назад расписанную Леонардо да Винчи.
Фреска занимает одну только торцовую стену в глубине помещения. Больше всего поражает Сурикова мастерство, с которым вписана фреска в стену. Потолок над головами сидящих за столом Христа и апостолов уходит вглубь, словно в подлинную стену трапезной, и служит продолжением ее сводов.;
Василий Иванович долго изучает поблекшие и осыпающиеся краски. Почти все они съедены плесенью и ржавчиной. Леонардо изменил письму «аль фреско» — по сырому грунту клеевой краской, которую грунт втягивает быстро и прочно, на века, и вдруг решил писать масляной. Грунт не принял ее. Много лет потом гениальный художник пытался исправить свою ошибку. Временно цвета оживали, а потом снова жухли, начинали сходить с грунта и отпадать кусочками от стены.
Сурикову вспомнилось, как варвары-монахи для удобства своего пробили вход в кухню прямо сквозь фреску, отрезав Христовы ступни под столом. И еще вспомнилось ему, что во время вторжения Наполеона в Италию французский драгунский полк устроил в трапезной конюшню. Здесь были стойла, гремело конское ржание, шел смрад от навоза, драгуны вколачивали гвозди для сбруи прямо в роспись и бросали камешки в лица святых на пари…
Эти лица сейчас неясны, словно завешены какой-то вуалью, но сквозь эту завесу, может быть, еще сильнее и убедительнее экспрессия каждого поворота и каждого жеста людей. «Один из вас предаст меня!» — сказал Христос на этой последней, тайной встрече, и все сдвинулось с места, все пришло в смятение и ужас.
Суриков пытался представить себе, как выглядела фреска, когда была только что закончена. И ему казалось, что она была написана живо, страстно, человечно, совсем в иной традиции и манере, чем прославленные портреты да Винчи. И тем более горестно видеть, что с каждым пятидесятилетием фреска гибнет и когда-нибудь совсем исчезнет и растает за серой пеленой.
Василий Иванович еще раз осмотрел фреску и вышел, унося в себе чувство приобщения к таинству поисков, полному страданий, упований, напряжения и упорства. Человеческое проникновение и дерзновение мастера оставались жить в этой гениальной фреске, обреченной на постепенную гибель.
Было два часа дня, когда он вышел на улицу. «Успею еще разок забежать в галерею Брера», — подумал он и, осмотревшись, повернул к маячившей издали круглой башне замка Сфорца, откуда было рукой подать до музея Брера. Здесь ему еще раз хотелось посмотреть тициановский этюд головы святого Иеронима, дивный по лепке, рисунку и тонам. Он шел и думал, что все же до Веласкеса эти старики — Веронезе, Тициан, Тинторётто — ближе всех других понимали натуру и ее широту, хотя писали иногда очень однообразно.
В гостиницу Суриков вернулся только к пяти часам. Жена и дочери заждались его, все были голодны. Он повел их в маленькую тратторию — харчевню, где можно было заказать густой итальянский суп из овощей — минестру, заправленный тертым сыром, половить, закручивая на вилку, тонкие итальянские макароны — спагетти и выпить сухого красного вина «киянти», без которого ни один итальянец не сядет за стол.
Спустя четыре дня Суриковы покинули Милан. Их ждала Флоренция.
Холмы Тасканы
Были первые дни февраля, а Тоскана купалась в солнце. Под Флоренцией начинали развертываться бутоны на плодовых деревцах.
И дороги! Пепельно-серые дороги Италии, вьющиеся по холмам, выложенные камнем, с увитыми ежевикой уступами по одну сторону, с отлогими по другую, куда сбегают вниз корявые оливковые деревца, либо виноградники, либо плантации кукурузы. И песня. Всегда крестьянская песня. В прозрачном воздухе ее слышно так отчетливо, что угадываешь даже настроение поющего.
И сады. Апельсиновые и лимонные рощи за каменными оградами, в которые сверху вмазаны темно-зеленые осколки битых бутылок. Они коварно блестят и играют под солнцем, а за оградой девичий голос выводит мелодию итальянской песенки, и всегда в этих мелодиях мечта.
За поворотом слышен скрип высоченной двухколесной арбы, выкрики и хлопанье бича. Из-за уступа появляются две тяжелые, неподвижные воловьи головы. Впряженная в ярмо пара серых волов мягко шлепает широкими, плоскими копытами по теплой пыли. Старый крестьянин в черной шляпе, прихрамывая, гонит упряжку. Его алый кушак красиво врезается в общий тон свежей зелени, голубого марева тосканских холмов. С арбы свесила босые ноги горбоносая смуглая девушка, с улыбкой свежей, словно морская пена.
Фиакр, в котором ехало семейство Суриковых, обогнал волов и на мгновение окутал арбу облаком пыли. Голенастая гнедая лошадь с султаном из красных страусовых перьев над головой несла его рысью в загородную прогулку. Длиннейший кнут торчал справа у козел, а кучер поминутно оборачивался и что-то кричал хрипловатым веселым голосом, поясняя иностранцам, где они едут. И как каждый итальянец, он дополнял пояснения энергичными жестами. Пассажиры мало что понимали, но вежливо слушали.
На холмах тут и там виднелись старинные виллы. Белые, с черными пролетами аркад, красными черепитчатыми крышами, стояли они среди фруктовых садов. Кое-где уже закипало цветенье миндаля — из розовой пены поднимались к небу почти черные силуэты кипарисов, без которых немыслим пейзаж мастеров Возрождения. Суриков наслаждался богатством и свежестью красок, синевой убегающих от него холмов, придорожными часовенками из ноздреватого камня, водоемами с чистой струей, извергающейся из грубо высеченной львиной пасти. Сегодня почему-то под пиджак он надел русскую косоворотку, вышитую крестом. Он снял шляпу, и густые волосы его теребил тосканский теплый ветер. Василий Иванович вбирал в себя всю эту красоту вместе с весенними ароматами, сверканием и радостью бытия. Рядом с ним сидела жена, очарованная, сияющая, а напротив на узком сиденье, крепко вцепившись в железные поручни скамеечки, сидели две его дочки, вертя головами в соломенных шляпках, немые от восхищения и новизны впечатлений.
Девочки умели хорошо вести себя в путешествии и постоянно восхищали всех своей оригинальностью и миловидностью. Когда извозчик привез своих пассажиров обратно во Флоренцию, он соскочил с козел, помог вылезти иностранцам и в приливе чувств вдруг бесцеремонно похлопал своей грязной заскорузлой ладонью девочек по щечкам, словно это были жеребята: «Экко льи бамбини! Бамбини русси! — Вот так девочки! Русские девочки! — загремел он хриплым басом на всю улочку перед гостиницей. И сейчас же в окна соседних домов с любопытством стали высовываться флорентийские матроны посмотреть — что за русские бамбины?
Улочка, на которой стояла гостиница, была хоть и в центре города, но настолько узка, что если по ней ехал фиакр, то прохожим приходилось прижиматься к стенам или заходить в двери домов. Была она выложена камнями, под уклон к середине — для стока воды, и Василию Ивановичу представлялось, что именно по этим плитам ходил Данте в своих мягких башмаках с загнутыми кверху носами.
Совсем недалеко была улица Уффици, ведущая в сокровищницу итальянского искусства. Их было две галереи: Уффици и Питти. Уффици на правой стороне реки Арно, Питти — на левой стороне, на цветущем холме Боболи. Суриков чуть ли не с детства знал, какие произведения там сохраняются. И теперь он ежедневно ходил туда, сначала в Уффици, где были любимые им две картины Тициана: «Флора» и «Венера Урбинская», прекрасная, обнаженная, с собачкой у ног и служанкой, роющейся в сундуке. Суриков обходил всю галерею, подробно осматривая каждую вещь, потом переходил чудо средневековой архитектуры — крытый мост Понте Веккио и, пробегая между множеством ювелирных, обувных, посудных лавчонок, выбирался на тот берег, поднимался в гору и проводил еще несколько часов среди картин Рафаэля, Тициана, Тинторетто.
Однажды он захватил с собой этюдник, и это послужило появлению еще одной акварели: вид на Флоренцию, с ее изумительным собором Санта-Мария дель Фиоре. Собор этот поражал Василия Ивановича своим куполом, что поднимался над всплесками черепитчатых крыш, и белый каркас, обхватив этот купол, вытягивал его к небу и венчал легкой башенкой с одной луковицей. А рядом стояла строгая розовая колокольня Джотто. И все это было окутано лилово-серым, весенним маревом…
В письме Чистякову Суриков писал:
«…Из Рафаэля вещей меня притянула к себе его «Мадонна Гран Дюка» во Флоренции. Какая кротость в лице, чудный нос, рот и опущенные глаза, голова немного нагнута к плечу и бесподобно нарисована. Я особенно люблю у Рафаэля его женские черепа: широкие, плотно покрытые светлыми густыми, слегка вьющимися волосами. Посмотришь на его головки, хотя пером, например, в Венеции, так другие рядом не его работы — точно кухарки. Уж коли мадонна, так и будь мадонной, что ему всегда удавалось, и в этом его не напрасная слава».
В десятом зале галереи Уффици Василию Ивановичу понравился портрет старика работы Тинторетто. Он был просто наляпан краской по черному контуру, и Василий Иванович писал Чистякову: «…Кто меня маслом по сердцу обдал, то это Тинторет. Говоря откровенно, смех разбирает, как он просто неуклюже, но как страшно мощно справлялся с портретами своих красно-бархатных дожей, что конца не было моему восторгу. Все примитивно намечено, но, должно быть, оригиналы страшно похожи на свои портреты, и я думаю, что современники любили его за быстрое и точное изображение себя. Он совсем не гнался за отделкой, как Тициан, а только схватывал конструкцию лиц просто одними линиями в палец толщиной; волосы как у византийцев, черточками… Тут его манера распознавать индивидуальность лиц всего заметнее. Ах, какие у него в Венеции есть цвета его дожеских ряс, с такой силой вспаханных и пробороненных кистью, что, пожалуй, по мощи выше «Поклонения волхвов» Веронеза. Простяк художник был. После его картин нет мочи терпеть живописное разложение…»
Четыре дня пробыли Суриковы во Флоренции. На пятый день маленький, шумливый итальянский поезд потащил их, ныряя меж тосканских холмов, поближе к волнам Тирренского моря, к извечному миру Древнего Рима.
Василий Иванович неотрывно глядел в окно низкого вагончика. Перед его глазами сменялись один другим полные поэзии и благодатной свежести пейзажи, а внутренний взор его еще не мог оторваться от виденного. Он, как бы издали, особенно четко почувствовал Микеланджело в архитектурном решении капеллы Медичи, где белый мрамор, обрамленный коричнево-бурым, создавал холодный покой своими ложными окнами, выходящими в никуда, с четырьмя гениально решенными статуями «Утра», «Вечера», «Дня» и «Ночи», почти сползающими с гробниц.
Теперь перед ним в бесконечной красоте своей стоял на площади Сеньории «Персей» — создание Челлини, античный герой с отсеченной головой Медузы в руке. Теперь дворик — патио монастыря Святого Марка с фресками Очетти на стенах, с колоколом, в который звонил Савонарола незадолго до своего сожжения, был исполнен для Василия Ивановича особого интереса и значения. И вся Флоренция с удивительными узкими улочками, висячими фонарями на углах, громадными соборами, что словно каменные песни поднимаются к небу, — все это он полюбил навсегда. И он знал, что когда-нибудь непременно вернется сюда.
Дорожный альбом и папа Инокентий
Суриков стоял перед бронзовой статуей Святого Петра, сидящего высоко на мраморном троне. Скульптор Арнольфо да Кампо заставил апостола на ходу присесть на трон: вот-вот вскочит и побежит дальше. Возле ног апостола лежали груды медных и серебряных монет. Василий Иванович с интересом смотрел на большой палец бронзовой ступни Петра, начисто стертый поцелуями верующих. Но сам апостол его не волновал, и вообще внутренность собора Святого Петра показалась ему бездушной, водянистой, разбухшей. Привлекала его внимание одна лишь «Пьета». Двадцать четыре года от роду было Микеланджело, когда он создал эту скульптуру— мадонну над телом мертвого Христа. Это было прекрасное изваяние, но никто не заплатил ему за него. Рядом с приделом «Пьета» стояла одна-единственная древняя колонна, все остальное столько раз переделывалось, что потеряло всякую гармонию сочетаний. Четыре громадные витые бронзовые колонны поддерживали позолоченный балдахин над склепом с гробницами. Все это было громоздко, пышно и безвкусно. Василий Иванович принялся измерять собор шагами. Аккуратно вышагав собор в длину и ширину, он вытащил из кармана свой дорожный альбомчик и записал на первой подвернувшейся страничке: «Длина Св. Петра — 295 шагов, ширина — 16».
Удивительным был этот маленький альбом в холщовом переплете. Он сопровождал Сурикова повсюду, и туда записывалось буквально все: памятки, счета, дни въездов и выездов. Тут же были наброски карандашом и акварельные этюды. Среди них превосходный автопортрет акварелью в вышитой косоворотке. Перевернешь страничку — попадешь на немецкого солдата в зеленом мундире. А дальше Олечкина головка карандашом в профиль. А вот еще она же — смеющаяся, в голубом платье. Тут же две страницы посвящены статуям греческих поэтов, виденным в Риме: Геродота — в вилле Фарнезе, Аристотеля — во дворце Спада, Анакреона — в вилле Боргезе, и дальше подробное перечисление всего, что было ими написано. Маленький карандашный набросок парка: «Дрезден. 30 сентября 1883». А по соседству на страничке написано: «2-го ноября разменял 100 рублей, получил 243 франка».
Набросок комичной старой немки с огромными ботами на ногах, а на обороте — сидящий на земле со скрещенными ногами будущий «юродивый», а над ним — конечно же, это Оля приложила руку — неумело нацарапанный мужской профиль с бородкой клинышком. Фарфоровая пудреница Елизаветы Августовны, рисованная акварелью, и тут же корзиночка с ее рукодельем. Все это живые, трепетные кусочки жизни. И вдруг посреди альбома, в разворот, расчерченная на точные квадраты первая композиция «Боярыни Морозовой»! Она сделана твердо, четко, эта многофигурная сцена с боярыней, сидящей в санях, на высоком сиденье. И хоть сцена в карандаше, но она уже переносит зрителя в древнюю Москву с башнями и теремами. А на соседней страничке значилось: «Статья Тихонравова Н. С. Русский вестник, 1865 г. Сентябрь. Забелина — домашний быт русских цариц, 105 стр. про боярыню Морозову». Видно, в Париже вспоминал Василий Иванович, где он читал про Морозову…
Белый голубь резко просвистел крылом над головой Василия Ивановича, чуть не сорвав с него шляпу. Василий Иванович закрыл альбом и спрятал в карман. «Пойти, что ли, еще раз в Ватикан? В Сикстинскую капеллу?» — раздумывал он, медленно шагая по расчерченным белыми мраморными дорожками плитам. Потом вдруг взял извозчика и поехал в галерею Дориа.
Сильно отличались римские улицы от флорентийских. И народ здесь был совсем другой, более равнодушный и солидный. Масса туристов слонялась по улицам Рима, но еще больше можно было встретить монахов и священников. Черные сутаны поминутно попадались на глаза. Черные котелки с широкими полями, закрученными по бокам, мелькали там и сям. А по главным улицам проезжали или медленно прогуливались римские аристократки в сопровождении мужей или отцов. Были они совсем не похожи ни на тучных, обстоятельных и аккуратных немок, ни на бесшабашных, но шикарных парижанок, ни на общительных и веселых флорентинок. Это были «римлянки» — высокомерные, полные собственного достоинства. Но стоило отъехать от центра куда-нибудь к окраине, как тут же можно было услышать звонкую брань или смех, увидеть живые, разгоряченные лица «римлянок» из народа, с их экспансивным разговором-жестикуляцией, и белье, протянутое через переулок, и апельсинные корки, и бродячих собак подле мусорных куч.
Сейчас Василий Иванович ехал по мосту через серо-желтый, бурливый Тибр и думал с удовлетворением о том, как, наверно, весело проводит время сегодня его семья, на этот раз объединившаяся с семьей Саввы Ивановича Мамонтова, проводящего эту весну здесь, в Риме. Извозчик не спеша трусил между красивыми, гордыми и какими-то дремлющими зданиями из серого камня и наконец подвез Сурикова к небольшому подъезду ничем не примечательного дома.
— Экко ло палаццо Дориа Памфили, синьор! [8] — сказал он торжественно и остановил лошадь.
Василий Иванович отпустил извозчика и вошел в открытую дверь с узенькой лестницей, ведущей куда-то вверх. Резкий запах жаренной на оливковом масле рыбы напомнил ему, что он еще не обедал. Из окошка антресолей над лестницей выглянула женщина в чепце и скрылась. «Наверно, кухарка», — подумал он, зная, что галерея принадлежит частному лицу — потомку обнищавшего рода принцев Дориа и что семья его живет тут же во дворце, на доходы от галереи. Василий Иванович купил билет и вошел в вестибюль дворца. Здесь пол, выложенный кирпичом, когда-то в былые времена устланный коврами, сейчас был голый, звонко откликался на шаги. Зато во дворце до сих пор блестящий паркет и стены украшены лепной позолотой. В длинных двусветных залах Суриков увидел множество второклассных картин первоклассных мастеров. Он шел по анфиладам дворца, рассматривая живопись и скульптуру. И уже кончал осмотр, когда в самом конце последней галереи встретился лицом к лицу с «Папой Иннокентием X», глядевшим на Сурикова с портрета Веласкеса.
Суриков замер. Глаза эти были насмешливы и говорили о недюжинном уме и проницательности. Подбородок, с жиденькой бородкой, выдавал жестокость и упорство. Широкий рот с оттопыренной нижней губой обличал сластолюбие и алчность. Краснота лица, свидетельствовавшая о чревоугодии, еще более подчеркивалась малиновой шелковой мантией и пунцовым папским колпаком. Холеные руки в кружевных белых рукавах лежали на подлокотниках кресла, и была в этих раскрытых пальцах готовность ухватить еще что-то ускользавшее. Сидящий на красно-коричневом фоне, весь одетый в багрец, он хранил в себе что-то такое человеческое, подлинно живое и так беспощадно раскрытое гениальным художником, что Суриков как остановился перед ним, так и стоял, пока галерея не закрылась.
Письмо Павлу Петровичу Чистякову пополнилось новыми строчками: «…Здесь все стороны совершенства есть: творчество, форма, колорит, так что каждую сторону можно отдельно рассматривать и находить удовлетворение. Это живой человек, это выше живописи, какая существовала у старых мастеров. Тут прощать и извинять нечего. Для меня все галереи Рима — этот Веласкеса портрет. От него невозможно оторваться. Я с ним перед отъездом из Рима прощался, как с живым человеком; простишься, да опять воротишься, думаешь: а вдруг в последний раз в жизни его вижу! Смешно, но я, ей-богу, все это испытал…»
Перед отъездом
В Риме начался весенний праздник — карнавал. На три дня величественными площадями Вечного города завладел народ. Гулянья, пляски, пение и цветочные бои. Цветов было столько, что аромат их стоял в воздухе даже ночами.
Василий Иванович проводил все свое время на улицах — рисовал карандашом и акварелью. Эти дни беззаботного, яркого веселья вошли в его творчество новым произведением: «Сцена из римского карнавала». Бой цветов и красавица итальянка в розовом домино, склонившись над балюстрадой, покрытой ковром, замахивается на кого-то, стоящего внизу, букетом, а в ответ в нее летят цветы. На черном фоне эта сверкающая розовым шелком женская фигурка имеет притягательную силу. Кружево домино бросает легкую тень на молодое, свежее лицо, обрамленное темными кудрями. Руки в белых лайковых перчатках свободным движением вскинуты кверху. Все гармонично, пронизано светом, воздухом, ликованием, все великолепно написано. Так родился один из лучших женских портретов Сурикова…
А сколько интересных этюдов и пейзажей будут привезены в Москву из этого путешествия! «Колизей» на утреннем, перламутровом фоне. «Собор Св. Петра», который казался Сурикову широкоплечим богатырем с маленькой головой, а купол его — словно шапка, натянутая на уши. Уличные сценки, женщины, сидящие возле дома за мирной беседой, узенькие улицы Флоренции. Множество морских пейзажей родилось в Неаполе, тем более, что кроме Национального музея, там осматривать было нечего. Суриковы садились на пароходик и плыли через Неаполитанский залив в Сорренто или на Капри. С борта пароходика интересно было быстро нарисовать белый, искрящийся под холмистым берегом Неаполь, Везувий или Сорренто, прилепившийся к отвесным скалам.
Василий Иванович написал и ночной Неаполь, залитый золотыми огнями. Ездил в Помпею, бродил по развалинам, рисовал эти чисто выметенные, словно вымытые, улицы. И странно было видеть на них яркое солнце и тень от домов. Тень живых домов всегда сплошная, плотная, непроницаемая, а здесь была тень от мертвых домов, зубчатая тень от развалин, с яркими прямоугольниками пустых окон и дверей. Жуткая тень!
Однажды устроители туринской промышленно-художественной выставки затеяли праздник на развалинах мертвого города. Решено было инсценировать древнеримские торжества с шествием императора Веспасиана, с играми в цирке и ристалищем колесниц. Инсценировка разыгрывалась актерами, и было дико смотреть на них, переодетых в римские тоги, загримированных, шествующих между развалинами под звуки литавр, несущих на носилках «императора». Бутафорские колесницы грохотали по плитам, а между плитами выбивались пучки живой, настоящей травы.
Но Сурикова занимало это зрелище. Он всегда все ощущал зрительно, дополняя историческими деталями. Воображение уводило его от бутафорской действительности, и он писал Чистякову: «Я попал на помпейский праздник. Ничего. Костюмы верные, и сам цезарь с обрюзгшим лицом, несомый на носилках, представлял очень близко былое. Мне очень понравился на колесничных бегах один возница с горбатым античным носом, бритый, в плотно надетом на глаза шишаке. Он ловко заворачивал лошадей на повороте межи и ухарски оглядывался назад на отставших товарищей. Народу было не очень много. Актеров же 500 человек. Везувий тоже смотрел на этот маскарад. Он, я думаю, видел лучшие дни…»
Рим сменила Венеция, она была последним городом, который посетили Суриковы. И, пожалуй, это последнее впечатление было самое сильное и глубокое. Оно начиналось от той длинной, узкой полоски земли, по которой мчал их поезд; вокруг, играя, плескалась и зыбилась голубая вода, а издали навстречу плыла к ним Венеция — сказочный город.
Две недели провел Василий Иванович словно в каком-то фантастическом, непробудном сне. Отовсюду ежеминутно наступали на него чудеса: то в каменном кружеве дворцов, то в грациозном движении гондольера, падающего на весло, то в средневековых бронзовых куклах, ударяющих в колокол на соборе Святого Марка, то в светлом, вдохновенном личике на полотне тициановского «Вознесения мадонны», которую старики святые провожают в небеса, а то в арках бесчисленных мостиков над водяными проулками, где даже в яркий день задумчиво-печально плещется вода о каменные ступеньки входных дверей, обнажая зеленые водоросли на древних цоколях домов.
Папку с рисунками пополнили акварели: «Палаццо Дожей», «Собор Св. Марка», «Гондолы», «Дворцы на Большом канале», — словом, все, быть может, что обычно рисуют и пишут художники всего мира. Но каждая акварель Сурикова жила своей особой жизнью: она воплощала не только всем доступную, внешнюю красоту, она была полна таинственного содержания, трепетной, зыблющейся душой фантастического города.
Василий Иванович был в те дни настолько погружен в новые ощущения, что стал жене своей уделять мало внимания. А она-то как раз здесь, в постоянной сырости, в знобкие майские вечера на лагуне, чувствовала себя совсем больной — ныло сердце, болели суставы. Впрочем, это было только вечерами, дни были волшебные. Елизавета Августовна видела, какой до краев переполненной жизнью живет муж, и в сравнении с этим любые недомогания казались ей пустяками. Она только стала ложиться спать вместе с детьми, да каждый раз горничная в гостинице, согревала отсыревшие простыни ее постели занятной венецианской жаровней с углями, специально для этого предназначенной.
В письме Чистякову Суриков писал: «Дня три как я приехал из Венеции. Пошел я там в Сан-Марко. Мне ужасно понравились византийские мозаики в коридоре на потолке, на правой стороне, где изображено сотворение мира. Адам спит, а бог держит уже созданную Еву на руке. У нее такой простодушно-удивленный вид, что она не знает, что ей делать. Локти оттопырены, брови приподняты. На второй картине бог представляет ее Адаму; у нее все тот же вид. На третьей картине она прямо приступает уже к своему делу. Стоят они спиной друг к другу. Адам ничего не подозревает, а Ева тем временем получает яблоко от змея. Далее Адам и Ева, стоя рядом, в смущении прикрывают животы громадными листьями. Потом ангел их гонит из рая. На следующей картине бог делает им выговор, а Адам, сидя с Евой на корточках, указательными пальцами обеих рук показывает на Еву, что это она виновата. Это самая комичная картина. Потом бог дает им одежду: Адам в рубахе, а Ева ее надевает. Далее там в поте лица снискивают себе пропитание, болезни и прочее. Я в старой живописи, да и в новейшей никогда не встречал, чтобы с такой психологической истиной была передана эта легенда. Притом все это художественно, с бесподобным колоритом. Общее впечатление от Св. Марка походит на Успенский собор в Москве: та же колокольня, та же и мощеная площадь. Притом оба они так оригинальны, что не знаешь, которому отдать предпочтение. Но мне кажется, что Успенский собор сановитее. Пол погнувшийся, точно у нас в Благовещенском соборе. Я всегда себя необыкновенно хорошо чувствую, когда бываю у нас в соборах и на мощеной площади их — там как-то празднично на душе: так и здесь, в Венеции. Поневоле как-то тянет туда. Да, должно быть, и не одного меня, а тут все сосредоточивается — и торговля и гулянье — в Венеции. Не знаю, какую-то грусть навевают эти черные, крытые черным кашемиром, гондолы. Уже не траур ли это по исчезнувшей свободе и величии Венеции?..
…В Палаццо Дожей я думал встретить все величие венецианской школы, но Веронез в потолковых картинах как-то сильно затушевал их, так что его «Поклонение волхвов» в Дрездене осталось мне меркою для всех его работ, хотя рисунок здесь лучше, нежели во всех его других картинах.
В Академии художеств пахнуло какой-то стариной от тициановского «Вознесения богоматери». Я ожидал, что это крепко, здорово работано широченнейшими кистями, а увидел гладкое, склизкое письмо на доске… скверно это действует. Но зато много прелести в голове богоматери. Она чудесно нарисована: рот полуоткрыт, глаза радостью блестят… Тона Адриатического моря у него целиком в картинах. В этом море, если ехать восточным берегом Италии, я заметил три ярко определенных цвета: на первом плане лиловато, потом полоса зеленая, а затем синеватая. Удивительно хорошо ощущаемая красочность тонов. Я еще заметил у Веронеза много общего в тонах с византийскими мозаиками Святого Марка… — это ясное мозаичное разложение на свет, полутон и тень. Тициан иногда страшно желтит, зной напускает в картины, как, например, «Земная и небесная любовь» в палаццо Боргезе в Риме…
…Мне всегда нравится у Веронеза серый нейтральный цвет воздуха, холодок. Он еще не додумался писать на открытом воздухе, но выйдет, я думаю, на улицу и увидит, что натура в холодноватом рефлексе…»
«Натура в холодноватом рефлексе», — писал Суриков, теперь он знал, как искать эту натуру на открытом воздухе. Он готовился к этому. Перед ним встали громадные задачи. Здесь, в Европе, он особенно твердо осознал себя русским художником. Чувство национальной гордости, бесконечного интереса к вечно живому прошлому отчизны воплощало мечту в образы, к которым теперь рвалось его сердце. Все было задумано и увидено внутренним оком художника. Теперь надо было как можно скорее возвращаться на родину.
В конце мая Суриковы выехали в Москву. Возвращались они через Вену, задержавшись в ней всего на три дня, не распаковывая багажа, чтобы только осмотреть музеи. А затем, поздно вечером, они сели в поезд и на четвертый день прибыли в Москву.
Путешествие закончилось. Оно продолжалось восемь месяцев.
В доме Збука
«Июнь, 1884
Здравствуйте, милые мама и Саша! Я и жена и дети, слава богу, здоровы. Уже как будет два или три месяца мы устроились на новой квартире. Теперь я пишу новую картину, тоже большую. Здоровы ли вы, я очень беспокоюсь о вас, так как по приезде из-за границы получил одно только от вас письмо. Как ты служишь, Саша?
Я читал в газете, что будет в Государственном совете рассматриваться проект судебной реформы в Сибири. Я думаю, что ты уже знаешь об этом?
…Знаешь что, Саша, мне пришла в голову идея: спроси ты у мамы, что, не знает ли она что-нибудь о наших предках? Как звали нашего прадеда, и все ли они были сотники и есаулы? Как нам доводился атаман Александр Степаныч? Давно ли дом построен? Расспроси поглубже, повнимательнее, мне ужасно охота знать, да и тебе, я думаю, тоже. Ты знаешь, как пишутся родословные? Вот, например, положим:
Иван — дед, жена его Ирина.
Семен — сын, жена его Александра.
Петр — сын, и так далее и так далее. И маму о ее родне расспроси. Как звали прадеда ее и прабабушку? Наверное, мама многое знает и помнит. -
Откуда род наш ведется? Может, какой-нибудь старик казак знает?
Сделай, не поленись, брат, расспроси постарательнее. Я беспокоюсь, здорова ли мама, ноги у нее прежде болели. Она прежде в мороз выбегала босиком на двор с ведром. Помню, ляжет на ящик да и стонет: «Ой, ноженьки, ноженьки!» Ты не давай ей плохо одеваться… Ох, я думаю, постарела она у нас. Напиши, сколько ей теперь лет, бодрая ли она по-прежнему? Что ее чаек? Так бы мне хотелось поцеловать ее в «печеные яблоки». Бог даст, увидимся. Оля, Лена и Лиля кланяются вам и целуют вас, мамочка. Будьте здоровы. Напиши, Саша.
Ваш любящий В. Суриков.
Адрес мой: Москва. Долгоруковская улица, дом Збука, кв. № 15».
Квартира эта находилась на втором этаже. В ней был двусветный зал, где можно было поставить огромный холст для новой картины. Эту большую, удобную квартиру Елизавете Августовне захотелось обставить понаряднее. Василий Иванович хоть и посмеивался, но не препятствовал жене.
В июне Суриковы перебрались на новую квартиру. Домовладелец Збук имел небольшую пуговичную фабрику, она помещалась во дворе дома во флигеле. Девочки Суриковы, выйдя в первый раз во двор погулять, с интересом заглядывали в окна флигеля, где стрекотали машины и откуда время от времени работник выносил корзины с жестяными обрезками, кусочками дерева и картона, сваливая все это в большую кучу посреди двора.
Теперь по субботам, когда девочек купали, вся семья собиралась к вечернему чаю в детскую, как на семейный праздник. В этот день пеклись пирожки, покупался торт и любимые сладости — глазированные фрукты и орехи. Родители усаживались у самоварчика и угощали дочерей, вымытых, укутанных, с лоснящимися веселыми рожицами, сидящих в своих постелях. А потом Василий Иванович начинал рассказывать детям всякие небылицы или приносил книжку о царевиче Миловзоре с наивными картинками, сильно пахнущими литографской краской. Фитиль керосиновой лампы привертывался так, что свет едва мерцал под розовым абажуром. Было тепло, тихо, уютно, девочки начинали посапывать, и Василий Иванович крадучись выходил из комнаты. Оставшись вдвоем, Суриковы сидели в гостиной весь вечер, читая по очереди вслух «Анну Каренину». Когда читала Елизавета Августовна, Василий Иванович слушал, зарисовывая лицо жены, а когда он сам читал, Елизавета Августовна слушала за шитьем или вязаньем. Это были удивительные вечера, полные радости и спокойствия.
Бывали у Суриковых и званые вечера. Еще в Риме они встретились с семьей Мамонтовых. Оля и Лена подружились с дочерьми Саввы Ивановича — Шурой и Верой. Той самой Верушкой, которая вскоре позировала Серову для портрета «Девочка с персиками».
Савва Мамонтов, большой любитель музыки, театра, декоративного искусства, сам музыкант и скульптор, талантливейший дилетант, собирал вокруг себя весь цвет артистической и художественной Москвы. В его доме в Москве и в подмосковном имении Абрамцево часто устраивались спектакли. Разыгрывались целые оперы. Музыку и либретто к ним зачастую сочинял сам Мамонтов, ему помогал художник Поленов — он писал декорации и, обладая актерским дарованием, сам играл в этих спектаклях.
Для детей Мамонтов устраивал традиционные детские представления на масленицу или на святках и непременно приглашал Елизавету Августовну с дочерьми. Горбоносенькая, с черными, чуть косящими глазами Шура и вся розовая, с выразительными, трепещущими ноздрями Вера били чуть старше девочек Суриковых и брали их под свое покровительство.
Все чаще стали бывать у Суриковых и художники. Обычно это были «вечерние чаи с рисованием». Тогда приезжали Репин, Васнецов, Остроухое, старинный приятель Василия Ивановича художник Матвеев. Приезжал и Крамской, если бывал в Москве. Кто-нибудь приводил натурщика или натурщицу. Рисовали все вместе, сидя за чайным столом. Шла веселая беседа. Иногда Василий Иванович брал гитару, на которой играл виртуозно, и все пели старинные песни. Часто спорили о живописи, и Оля, которой разрешалось сидеть в столовой за маленьким столиком и в подражание старшим гоже рисовать, часто слышала два слова: «техника» и «Рафаэль». В ее представлении это были имена каких-то сказочных существ. И когда ее уводили спать, она показывала сестре свои рисунки — смешные подобия человечков, раскрашенных цветными карандашами:
— Вот, гляди, Лена, девочка Техонька гуляет по садику. А там на клумбах цветы, а вокруг дорожки. А к воротам за ней подъехал в карете Рафаэль… Сейчас он ее увезет во дворец!..
«Аки лев»
«Ну и неистовый же был этот протопоп!»— Василий Иванович перелистывал «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». Перед глазами Сурикова проходили картины прошлого допетровской Руси. Они стояли за страницами, написанными столпом старообрядчества, пламенным ревнителем раскола и врагом новой церкви патриарха Никона, прельстившей благолепием и светскостью тучного, рыхлого телом и слабого духом, падкого до всего цветистого царя Алексея Михайловича.
Протопоп опрокидывал на никониан полные торжественного величия речи:
«Слыши небо и внуши земле! Вы будите свидетели нашей крови изливающейся. Толико наша великая вина, еще держим отец своих предание неизменно во всем!»
Писал он и гневные обличительные послания:
«Никонияне, а никонияне! Видите, видите, клокочюща и стонюща своего царя Алексея!.. Иных за ребра вешал, а иных во льду заморозил, и бояронь живых, засадя, уморил в пятисаженных ямах».
А то бранчливые ядовитые сатирические строчки писал он:
«Посмотри-тко на рожу ту, на брюхо то, никониян окоянный, — толст ведь ты! Как в дверь небесную вместитися хощешь?.. Воззри на святые иконы и виждь угодившия богу, како добрыя изуграфы подобие их описуют: лице и руце, и нозе, и вся чувства тончава и измождала от поста, и труда, и всякия им находящия скорби».
И куда бы ни ссылал царь протопопа, как бы ни наказывал его, отовсюду Аввакумовы послания настигали никониан, они ходили по рукам и переписывались старообрядцами. И некуда было деться придворному духовенству от Протопопова «крика», пока наконец не последовал приказ: «сжечь еретика в срубе». И сожгли протопопа вместе с тремя его единомышленниками.
Любимой ученицей Аввакума и его духовной дочерью была боярыня Морозова, Федосья Прокопьевна.
«Прилежаше бо Федосья к книжному чтению и черплюще глубину разума от источника словес евангельских и апостольских. Бысть же жена веселообразная и любовная.
Многими днями со мной беседующе и рассуждающе о душевном спасении. От уст бо ея аз, грешный протопоп, яко меда насыщашеся…»
Красавица вдова Морозова ходила при царице в «четвертых боярынях». А потом устроила в своем доме тайный раскольничий монастырь и тайно приняла постриг сама. Собирала вокруг себя всех раскольников Москвы. Протопоп Аввакум в перерыве между ссылками находил у нее в доме приют.
Сурикову представлялась она похожей на тетку Авдотью Васильевну, жену Степана Федоровича — «чернобородого стрельца». Тетка тянулась к расколу. Он даже представлял ее себе в высоком черном треухе, со светлыми, широко раскрытыми, ищущими глазами. А иной раз виделась она ему похожей на Настасью Филипповну из романа «Идиот» Достоевского. Та поражала красотой худого бледного лица с большими черными, сверкавшими, как раскаленные угли, глазами. Этот образ затмевал Авдотью Васильевну. Это лицо «внушает страдание, оно захватывает душу», — говорил князь Мышкин.
Какой же она была, эта боярыня, открыто объявившая бунт царю, патриарху Никону, увлекшая и сестру свою — княгиню Урусову — в раскол?
Иной раз возьмет мешок денег боярыня и ходит по «крестцам» московским, раздает деньги неимущим во имя старообрядческой веры.
Иной раз нашьет рубах для нищих и раздает их тем, кто крестится двуперстным знамением, в отличие от трехперстного, еретического — «понюшки табаку»!
Царь приходил в ярость, когда слышал о «подвиге» Морозовой. Он потребовал у сестер отречения от старой веры. Сестры не отреклись. Никон был равнодушен к этому противостоянию: «Женское их дело, — лениво говорил он, — много они смыслят!» Но когда Алексей настоял на допросе раскольниц в соборной палате Чудова монастыря, Никон признал «лютость» боярыни, так оскорбительно и дерзко поносила она никонианство:
«Скажите царю Алексею: «почто-де отец твой, царь Ми-хайло, так веровал, яко же и мы? Аще я достойна озлоблению, — извергни тело отцово из гроба и передай его, проклявше, псом на снедь. Я-де и тогда не послушаю».
И тогда Алексей приказал заковать Морозову в цепи. Схватили и сестру ее, Евдокию, посадили обеих в тюрьму. С горя заболел единственный четырнадцатилетний сын Морозовой — Иван. Придворные лекари принялись лечить его и быстро залечили до смерти, и тогда все морозовское состояние перешло в казну. Приходили попы увещевать боярыню, но никто не мог сломить ее фанатической преданности убеждениям.
«…Персты рук твоих тонкокостны, очи твои молниеносны. И бросаешься ты на врагов своих, аки лев!» — восклицал протопоп Аввакум, преклоняясь перед могучим духом, мятущимся в этой аскетической, высохшей телесной оболочке. На прекрасном лице ее глаза горели безумием, когда она поднимала вверх руку, сложенную двуперстным знамением, за которое Никон проклинал раскольников, забыв о том, что сто лет тому назад предки его так же яростно проклинали на Стоглавом соборе всех, кто крестился трехперстным сложением.
Приказано было пытать боярыню дыбой и пригрозить ей сожжением. На дыбе, с вывернутыми в плечах суставами, она кричала высоким, резким голосом: «Вот что для меня велико и поистине дивно: если сподоблюсь огнем сожжения в срубе на Болоте. Это мне преславно, ибо этой чести никогда еще не испытала…»
Сжечь? Нет! Сожжения Алексей побоялся. Слишком возвеличится слава мучениц. И свезли сестер в Боровск и посадили их в земляную тюрьму, в яму.
«Чудо, да только подивишься лишь сему! Как так? Осмь тысяч хрестьян имела. Домового заводу тысяч больше двухсот было — сына не пощадила, наследника всему! А нынче вместо позлащенных одров в земле закопана сидит за старое православие».
Василий Иванович вдруг вспомнил детство. Ледяные буруны на Енисее. Звонки поддужные на морозе. Укатанный полозьями снег за кошевой. Высокие четырехскатные крыши, укутанные в снег. Дедов дом, с переходами и крылечками. Тетку — «крестниньку» — Ольгу Матвеевну, с вязаньем сидящую возле высокой кровати, а на перинах — он, семилетний казачонок, лежит и слушает ее голос, приглушенный, спокойный:
«…Сидят они в яме, цепями прикованные. В голоде, в холоде, в язвах и паразитах, рубищами прикрытые. А возле ямы — страж. Вот боярыня и просит его: «Миленький, дай хоть корочку, не мне — сестре, видишь — помирает!» А сама смотрит на него из ямы. Щеки ввалились, лицом бледная, а глаза диким огнем так и светятся в темноте. Страж, глядючи на нее, сам-то плачет да и отвечает: «Не приказано, боярыня-матушка!» Страж-от корку-то бросить боится — царь не велел их кормить. Вот она посмотрела на стража из ямы-то и засмеялась так страшно и говорит: «Спасибо тебе, батюшка, что ты веру нашу и терпение наше укрепляешь…»
Вот откуда она помнилась красноярцу! Образ ее тесно связан с деревянными сундучками-укладками, где у мамы до сих пор хранятся старинные шугаи, сарафаны, шуршащие шелком повойники, шитые изумительным рисунком с тусклой позолотой, от которой идет едва уловимый запах окиси.
Сейчас образ боярыни шел к нему из Сибири и вел за собой вереницу давно не виденных, но живых в памяти типов русских красавиц, что тарахтят на морозе ведрами у колодца. Этих молодок с заревыми лицами и голубыми тенями под ресницами… Этих мальчишек с веснушчатыми рожицами, с визгом, хохотом и ликованием валяющих друг друга в сугробах… Этих бородатых мужиков в тулупах, с суровыми лицами и глазами, пронзительно светлыми, как весенний ледок, и зрачками — черньщи точками, словно шляпки гвоздей… Этих занятных старых дьячков с косичками, любителей выпить и «повякать» всякую небыль о нечисти… Все это возникало в памяти Василия Ивановича зримо и ощутимо, и все было тесно связано с женщиной — яркой, пугающей своим фанатизмом, восхищающей своей духовной красотой, защищающей свое верование, «аки лев».
Цвет снега
Суриков шел по Долгоруковской, ведя за руки двух дочерей, укутанных в белые пуховые платки поверх малиновых суконных шубок… В зимнее утро выставила их троих из квартиры Елизавета Августовна, собираясь заняться субботней уборкой.
Улица была полна суеты, в солнечном сиянии и блеске летящих снежинок. Ярко сверкал позолотой огромный деревянный крендель, качаясь на цепях над дверью булочной.
По желто-серой, укатанной полозьями мостовой, отделенной от тротуаров сугробами, обгоняя друг друга, ехали извозчики, проползали крестьянские дровни и розвальни, направляясь с базаров к Бутырской заставе.
Василий Иванович выискивал чего-то среди проезжавших, останавливаясь и провожая их сосредоточенным взглядом.
— Папа, чего ты там ищешь? Куда ты смотришь? — спрашивала Оля, семеня возле отца и ничего не видя за сугробами.
— Сейчас, сейчас, девочки… — Он вдруг повернулся и закричал: — Эй, хозяин! Остановись-ка на минуту!..
Мужик в розвальнях обеспокоено обернулся, натянул поводья. На углу стоял господин в серой шубе с черным каракулевым воротником и в такой же шапке лодочкой. Рядом с ним топтались две девочки.
— Вам чего, барин? Прокатить, что ль?
— Прокати, пожалуйста, во-о-он к тому дому, — указал Суриков, — и в ворота завези, а там развернешься и выедешь, дам тебе пятиалтынный.
— Ну что ж, садитесь. — Мужик взбил на дне розвальней сено, поглядывая на седоков и дивясь странному предложению.
Онемевшие от восхищения девочки мигом устроились на душистом колючем сене. Василий Иванович примостился на развале саней, и крестьянин повез их к дому. Не было конца огорчению детей, когда возница стал заворачивать в ворота.
— Почему так мало, папочка? Ну давай еще покатаемся! — чуть не плача, взмолилась Оля.
— Не надо, не надо домой! Вези дальше! — вторила Лена.
— Ну ладно, быть по-вашему, — уступил Василий Иванович и попросил возницу ехать до Бутырок, а там переулками забрать на Сущевскую, чтоб оттуда вновь выехать на Долгоруковскую.
От лошади валил пар, она лениво помахивала хвостом, глухо и мягко проминали ее копыта неразъезженный снег. Суриков, сидя спиной к вознице, внимательно следил за колеями, ползущими из-под полозьев.
Одноэтажные окраинные домишки. Кое-где торчали между ними покрытые снежными шапками крыши колодцев.
«Недалеко ушли эти переулки от старой Руси», — думал Василий Иванович, щурясь на снежные шапки домиков, синеватые на теневой стороне, сверкающие на солнечной. Он спрыгнул с саней и пошел следом, глядя, как разваливается снег под полозьями.
Все это укладывалось в сознании и зрительной памяти вместе с восхищением, молодой бодростью и трепетом. Он шел за санями и улыбался двум парам глаз, зорко следивших, за ним из-под платков; девчонки вдруг присмирели, а только что щебетали, как снегири.
Объехав квартал, возница выбрался на Долгоруковскую и въехал во двор.
— Ну, вылезайте, килибрики! Приехали! — Василий Иванович вытащил девочек из розвальней. — Держи, хозяин. Спасибо тебе! — Он протянул мужику двугривенный.
Обрадованный возница приподнял шапчонку и лихо выехал за ворота.
Поднимались по черной лестнице. На стук открыла кухарка Феня. Она пришла к Суриковым вместо уехавшей в деревню Паши.
— Ба-а-а! Светы мои, что ж это вы по-черному-то? И в сене где-то извалялися! — запричитала она, отряхивая шубки о т сухих травинок.
— А мы катались! А мы в санях катались! — перебивая друг дружку, кричали девочки.
Не раздеваясь, Суриков вбежал в мастерскую, схватил этюдник, складной стульчик и выскочил на черный ход. Феня с недоумением слушала торопливые, удаляющиеся по лестнице шаги. Она еще не привыкла к странным проявлениям характера хозяина.
Колеи заворачивали на рыхлом снегу, нетронутые, свежие, глубокие. Василий Иванович раскинул стульчик, уселся с этюдником и начал писать. Дверь черного хода скрипнула: женщина, наспех укутанная в клетчатый полушалок, выскочила с мусорным ведром и, подобрав подол, кинулась было к мусорному ящику.
— Послушайте, голубушка… Нельзя ли вокруг обойти? Мне бы колею свежей сохранить, чтоб следов от ног не было… — взмолился Суриков.
Женщина с разбегу остановилась перед колеей, словно это была прорубь, а потом осторожно, на носках стала обходить ее кругом, косясь на странного жильца, рассевшегося во дворе.
Краски стыли на морозе, вязли на палитре, с трудом смешивались. Зимнее солнце быстро катилось за крышу. Синие, глубокие тени на снегу менялись, надо было торопиться.
Дверь снова скрипнула. Суриков обернулся. За ним, завернувшись в светло-синюю ротонду на беличьем меху, улыбаясь, стояла жена.
— А я за тобой, Васенька, завтракать пора. Все готово.
— Сейчас, Лилечка… Сейчас… — бормотал Суриков, составляя на палитре цвета. Руки без перчаток посинели, пальцы едва разгибались, с трудом удерживая кисть. Елизавета Августовна разглядывала этюд через плечо мужа.
— Смотри-ка, ведь пишешь снег, белый снег, а сколько у тебя на палитре разных красок! И черной, и красной, и несколько синих, и охра! Вот удивительно!
Она с любопытством и восхищением смотрела, как муж, сменив кисть и смешав черную, глянцевитую слоновую кость с чистой змейкой белил, закрутил серую массу и начал класть мазки на холст, сначала легко затеняя глубину колеи, потом, сменив кисть, он подмешал глубокого ультрамарина, синим углубил тень, и снежный гребень еще ярче засверкал над колеей. Но и гребень тоже не был чисто-белым, туда входили еще какие-то неуловимые для неискушенного глаза дополнительные цвета.
— Все зависит, Лиля, от того, когда и при каком освещении пишется снег, — словно про себя рассуждал Суриков, продолжая писать. — Он может быть и просто лиловым, и розовым, и синеватым, и грязно-серым. А чтобы он вообще был чистой нетронутости, только выпавший, надо ему зернистость и блеск придать. Фактуру. Одними белилами тут не управишься… Ох и замерз же я! — Василий Иванович начал быстро складывать кисти и убирать палитру. — Руки просто свело. Сейчас самая пора согреться; уж ты мне поднеси рябиновой!
Третий холст
Живая натура, задвинутая за раму! Вот как это должно быть. А кроме того, нужен точный расчет. Математически точный. Розвальни, на которых везут боярыню, должны убегать вглубь. Они катятся между людьми, окружающими этот поезд. Стало быть, на переднем плане фигуры должны быть крупные. Но если их поставить в рост, они загромоздят весь передний план и саму героиню. Значит, их надо усадить. Нищие и юродивые.
Старушку нищенку не трудно было найти — они везде сидели на папертях. А вот юродивого Василий Иванович искал долго. Бродя по рынкам, базарам, толкучкам, в гуще толпы он наблюдал группировки людей, всматривался в лица и в то, как врисовываются эти лица в общий воздушный тон. Какого цвета на морозе под открытым небом старые лица и какого молодые.
Однажды, толкаясь в воскресный день на Хитровом рынке, среди оборванцев, сбывавших по большей части краденый хлам, проходя мимо рядов грязных торговок, сидящих на котлах с похлебкой из требухи, Василий Иванович заметил какого-то чудака в отрепьях, топтавшегося возле бочки с солеными огурцами. Корча уморительные рожи, подскакивая, с прибаутками, он продавал огурцы, выбирая товар из хрустящего льдинками рассола грязными, посиневшими пальцами. «Череп-то, череп какой! Вот такой-то мне и нужен», — восхитился Василий Иванович, впившись глазами в продолговатую голову юродивого, перевязанную через уши засаленным платком. Сквозь рваную рубаху на его груди был виден огромный медный крест.
Суриков подошел к нему и стал уговаривать его позировать. Тот, не понимая, в чём дело, отшучивался, поясничал, хихикал; потом, узнав, что надо сидеть на снегу, отказался наотрез. Наконец Сурикову удалось соблазнить его трешкой. Оставив бочку с огурцами на попечение какой-то старушонки, торговавшей квасом, они отправились на Солянку в поисках извозчика. Юродивый шел впереди, болтая что-то несуразное и перескакивая через тумбы у каждой подворотни. Извозчик нашелся, и Василий Иванович привез чудака на Долгоруковскую. Во дворе дома Збука он постелил на снег сложенное вчетверо одеяло и усадил на него юродивого, с трудом уговорив его разуться. И только когда художник принес ему водки, тот растер себе ноги, да еще выпил для бодрости, и, окончательно развеселившись, начал позировать, все время что-то приговаривая и напевая псалмы вперемежку с озорными частушками.
Через час этюд был готов. Закоченевший «юродивый» поскорей вскочил на ноги, обулся в свои опорки, накинул рваный зипун, дотянул оставшуюся водку и, получив обещанную трешку, вышел за ворота. Остановив роскошного лихача, он тут же отдал ему эту трешницу и, усевшись в сани под медвежью полость, заорал на всю Долгоруковскую:
— На Хитровку-у-у! И-и-и-их!..
Рысак рванул и понес лихо развернувшиеся санки. Суриков поднялся к себе в квартиру и, не задерживаясь, прошел прямо в зал, служивший ему мастерской. Картина занимала шесть метров в длину и три в высоту. Она стояла на мольбертах вдоль стены с завешанными темными шторами окнами. Свет на нее падал из трех окон противоположной стены.
Это был уже третий холст, и на нем была скомпонована вся сцена. Первый холст оказался совсем маленьким. Ко второму пришлось пришить большой кусок в ширину, и все-таки сани не устремлялись вглубь, не ехали, хоть слева и бежал парнишка в валенках. Парнишка бежал, а сани стояли — не было им разгона. Вот и пришлось выписать новый холст из Парижа. А первые два холста были разрезаны для подготовительных этюдов. Этюды хранились бережно сложенные в заветный кованый сундук, что всегда стоял в мастерской. Суриков часто вынимал их, разглядывал, проверял по ним композицию и снова убирал.
Больше тридцати карандашных рисунков композиции! Множество эскизов было подготовлено, продумано, найдено. И вот уже почти все фигуры врисованы углем в квадраты на громадном холсте. Сани, накренясь, уползали в глубь улицы, а сама боярыня сидела прямая, судорожно прижав одну к другой вытянутые ноги. Уже рядом с санями, в отчаянном жесте сплетши руки, спешила за сестрой княгиня Урусова.
Толпа разделилась на две группы, и, уходя вглубь, мелькали лица, и это море голов расступалось перед бердышами стрельцов, идущих впереди и открывающих путь саням, в которых сидела боярыня, подняв «тонкокостную руку» свою в железном наручнике с тяжелой цепью. В глубине были уже прочерчены купола церкви Николы на Долгоруковской. Была обозначена роспись на церковной стене, заимствованная с росписи собора Василия Блаженного, железная решетка на окне и мальчик, ухватившийся за ставень…
Василий Иванович скинул шубу, уставил на стуле новый этюд и стал угольком врисовывать лицо и фигуру юродивого на передний план справа. Потом отошел, посмотрел на фигуру странника, твердо упершегося в посох. Этот посох и палка в руке нищенки, сидящей рядом с юродивым, подчеркнули неподвижность сидящих на снегу фигур и рывок отъезжающих саней. «А странника мне, может быть, с самого себя писать?»— подумал Василий Иванович и в изнеможении сел на стул посреди мастерской.
«Затерянная в толпе»
Дни, месяцы, годы — целые годы — проходили в поисках типов для картины. Летом восемьдесят шестого года в дачном поселке Мытищи выискивал Василий Иванович последние необходимые детали.
Идет по дачной улице старая богомолка с посохом. Василий Иванович заметил — посох старинный, кованный медью, — схватил альбом, кинулся вслед:
— Бабушка, бабушка, постой-ка! Дай на посох поглядеть!
Старуха, принявшая его за разбойника, испугалась насмерть, бросила посох — и наутек! Так посох и остался в руках художника. Уж он потом любовался, любовался им, разглядывал, зарисовывал и вписал именно его в руку странника.
На Преображенском старообрядческом кладбище жила знакомая старушка — Степанида Варфоломеевна. Суриков просиживал часами, слушая ее рассказы. Она познакомила его с раскольницами и монашенками. Они охотно позировали ему уже за одно то, что он казачьего рода, сибиряк, а еще за то, что не курил. Многие женские образы в толпе пришли в картину с Преображенского кладбища.
Толпа уже была написана вся целиком. Она колыхалась, дышала, то отодвигаясь, то приближаясь к саням. И каждый в толпе жил. Каждый выражал свое собственное отношение к происходящему, кто — восторженное поклонение, как сидящие на снегу нищенка и юродивый, кто — угрюмое раздумье, какое сосредоточилось на лице у странника, или обыкновенное любопытство, с каким выглядывает справа меднолицый татарин, у которого лоб блестит, как начищенный кувшин, или же торжествующую издевку, с какой пересмеиваются стоящие слева поп-никонианец и боярин.
Суриков писал их, наслаждаясь своей властью, своей мощью колористического и исторического видения. Кисть его безошибочно сообщала «светящуюся до мерцания» одухотворенность лицам. Он так точно знал все законы цвета, что распоряжался ими смело и вольготно. Молодую монашенку с испуганными глазами и трагическим изломом бровей он поставил за склонившейся горожанкой в желтом платке и синей шубке. Этот ярко-синий рытый бархат бросал голубой рефлекс на лицо монашенки, и оно становилось еще бледнее и трагичнее. Этого бы не случилось, будь шубка горожанки теплого красноватого тона.
А теплый вишнево-коричневый тон узорного платка соболезнующей старушки бросал розоватый оттенок лицу молодой боярышни в белой расшитой шапке, той самой, что, скрестив руки, выглядывала из-за старухи.
А как озарила розовая рубашка веснушчатые, упругие щеки мальчика справа от возницы! Зато холодный отблеск снега подсинил руку и лицо мальчика, повисшего на заборе, слева.
А сколько воздуха! Все насыщено им. И между лицом седобородого боярина и древком стрелецкого бердыша живая воздушная прослойка — пространство!
Каждый цвет был решен, каждая тень, каждый узор выигрывали от свежести зимнего воздуха. Складка на белом кашемировом платке, шитом цветами, лежала на плече Урусовой широко и свободно. И здесь мастерство суриковской кисти было близко непревзойденному мастерству художников итальянского Возрождения.
И снег, рыхлый снег, клубился, облепляя ноги уходящих людей и полозья. Вот опять рефлекс на снегу — розовый в колее, его дает деревянный полоз теплого коричневого тона.
Влажность от снега поднимается выше, туманит линию горизонта, застилает дымкой уходящие в перспективу лица, золотые купола церквей, и эта дымка насыщает воздухом всю картину.
Черная одежда боярыни проскользнула за скрепы розвальней, оттопырилась и волочится по снегу, как воронье крыло. Движение разведенных рук Морозовой подчеркнуто синеватым блеском цепи, судорожно стиснутые ноги вытянулись под черным бархатом на соломенной подстилке. Все зрело обдуманное, выношенное, объединилось в картине и подчинилось единому замыслу. И не было только одного — лица боярыни. Вместо него оставался стертый мастихином, незакрашенный холст.
Особенно пугало это Елизавету Августовну. Каждый раз она заглядывала в мастерскую в надежде увидеть лицо раскольницы.
— Вася, — говорила она, чуть не плача от беспокойства, — ну скажи ты мне ради бога, до каких же пор так будет? Ведь вчера ты нашел такое хорошее лицо! Ну почему ты стер его?
— Не то, Лиля, не то! Эта опять в толпе затерялась, толпа забивает. Понимаешь? Слабая она получилась, глядеть- то на такую толпа не станет. Надо еще искать… — Он поднял с пола этюд маслом, на котором была изображена голова женщины в черном платке. Худое бледное лицо с чуть приоткрытым ртом носило отпечаток растерянности. Этюд был превосходный, но это была не Морозова.
— Пойду завтра на Преображенское, — твердо сказал Суриков, приоткрыв крышку сундука и осторожно просунув под нее еще одну «затерянную в толпе».
На кладбище он попал только к концу всенощной. Весенние сумерки окутали крыльцо молельни. Уходили последние тфихожане. Василий Иванович вошел. В молельне было еще жарко от надышавшей толпы и горящих свечей и лампад. Монашенки гасили последние свечи. От легкого дуновения они гасли одна за другой, погружая постепенно в темноту образа, и от каждого фитилька змеился синий дымок, оставляя знакомый Сурикову с детства горьковатый аромат горячего воска. Он встал в темный угол. Только одна свеча осталась гореть на налое, возле которого молодая начетчица низким голосом, говорком и нараспев, бормотала поминальные списки, изредка крестясь и гибко кланяясь в пояс.
— С Урала к нам приехала, — шепнула: Сурикову знакомая старушка Степанида Варфоломеевна, заметив его, притаившегося в тени. — Настасьей Михайловной величают, хорошая начетчица… — Степанида поклонилась ему и вышла.
Трепещущее пламя свечи озаряло прекрасный, по-народному аристократический профиль и чуть выступающие скулы. У Настасьи Михайловны были впалые щеки и окруженные зеленоватой тенью, глубоко сидящие глаза. И только тонкие ноздри, снизу освещенные язычком пламени, просвечивали розовым.
Суриков стоял в углу — небольшой, бледный, чернобородый, — скомкав шапку в руках. Стоял весь словно сжавшийся в комок, не отрываясь от профиля начетчицы. Он больше ничего не видел и не слышал. Настасья Михайловна вдруг почуяла этот взгляд и повернулась к Сурикову лицом. Оно было твердое и встревоженное. Глаза в глубоких орбитах пристально вглядывались в темноту. В лице этом была неистовость духа и отречение от всего земного. Суриков едва сдержался, чтобы не ахнуть громко, на всю церковь. Он постоял с минуту и вышел прочь…
На следующее утро в церковном палисаднике был за два часа написан знаменитый этюд головы боярыни Морозовой. Обрядив Настасью Михайловну в высокую шапку и черный плат, он писал ее единым духом, единой мыслью, счастливо-нашедший то, чего искал годами.
Вернувшись, он никого дома не застал. Да это было и к лучшему! Он кнопками приколол этюд к краю картины, поглядел на него еще раз и, пошатываясь, словно от потрясения, ушел в спальню, лег в постель и немедля заснул чуть ли не на целые сутки…
Елизавета Августовна пришла с детьми с прогулки и не на шутку испугалась, узнав от Фени, что «барин спят».
«А вдруг опять воспаление легких?» — с тревогой подумала она, а потом приоткрыла дверь, заглянула в мастерскую и все поняла.
Признание
На пятнадцатой передвижной выставке два события взволновали весь художественный мир: картина Поленова «Христос и грешница» и картина Сурикова «Боярыня Морозова». И чем сильнее и интереснее произведение, тем больше яростных споров вокруг него.
Полтора года не утихали толки о «Боярыне Морозовой». «…Фигура «боярыни» служит центром картины. Темная, суровая, она вся горит внутренним огнем, но это огонь, который только сжигает, а не светит. Изможденное, когда-то красивое лицо, впалые глаза, полуоткрытый криком рот, и во всех чертах — сильно отмеченное ударом суровой кисти несложное выражение фанатизма… Она так бесстрашно идет на муку и этим будит невольное сочувствие. Есть нечто великое в человеке, идущем сознательно на гибель за то, что он считает истиной…» — писал В. Г. Короленко.
Но критик Воскресенский из журнала «Художественные новости», умалчивая о том, что боярыня Морозова шла против царя, против духовенства, выступает с такими требованиями:
«…Страдания и смерть за веру встречались с умилением. Устранить умиление, значит не понять сущность раскола… А этого умиления не видно ни в толпе, ни в лице Морозовой… Воинствующая Морозова, закованная в цепи, представляет воплощение бессильного упрямства…»
Бессильное упрямство? Но совсем иное видится Всеволоду Гаршину.
«…Картина Сурикова удивительно ярко представляет эту замечательную женщину. Всякий, кто знает ее печальную историю, я уверен в том, навсегда будет покорен художником и не будет в состоянии представить себе Федосью Прокопьевну иначе, как она изображена на его картине…» Газета «Сын отечества» обрушилась на Сурикова: «…В картине Сурикова сказывается беспощадный, грубый реализм. Кисть художника проявила себя таким же серым, будничным и грубым образом, какова разработка сюжета, каков сам сюжет, который воплощает в себе сектантское изуверство, грозное, мрачное, дикое».
А в это же самое время Павел Петрович Чистяков писал Савинскому о картине В. И. Сурикова «Боярыня Морозова»: «В картине этой столько жизни, столько правды и сути, — этой бесшабашной, бесконтрольной людской глупости, просто увлекаешься и прощаешь всякую технику… Молодец Василий Иванович!»
«…Мастерской рисунок и страшная сила красок придает всем лицам такой рельеф, такую неоспоримую жизненность, на которые тяжело смотреть. Весь кортеж перед вами движется, в каждом движенье этой толпы, в лицах, смеющихся, то полных глубокой скорби, чувствуется именно стихийная сила…» — писал критик, под псевдонимом «Житель». А в «Русских ведомостях» негодовал Сизов: «…За исключением нескольких фигур, картина вообще страдает отсутствием техники… Направление Сурикова не имеет за собой никакой будущности, — оно представляет регресс, а не прогресс в искусстве…»
Но самое нелепое мнение было высказано в журнале «Всемирная иллюстрация»:
«…Вы видите множество лиц, и на каждом из них отдельное выражение, но где коллективное настроение толпы? Для нас совершенно безразлично, что думает мальчишка, бегущий позади саней… Но мы хотим знать целое, общий вывод… За эстетикой художник не гонится… Он реалист… Его реализму недостает необходимой условности… Будь он немного больше художником, и ему удалось бы объективизировать заинтересовавшее его историческое событие…»
Так зарапортовался критик, требуя условности и объективизации вместе. Стасов, который в первых статьях о выставке не очень ясно выражал свое отношение к «Боярыне Морозовой», после всех этих нападок решил выступить открыто:
«…Суриков — просто гениальный человек. Подобной исторической картины у нас не бывало во всей нашей школе… Тут и трагедия, и комедия, и глубина истории, какой ни один наш живописец никогда не трогал. Ему равны только «Борис Годунов», «Хованщина» и «Князь Игорь».
Так шумел весь художественный мир вокруг новой работы Сурикова. И чем яростней нападали реакционные подголоски, тем горячее поддерживали истинные ценители искусства. Так пришло признание. Суриков становился в первые ряды русских живописцев.
В мае 1887 года Третьяков покупает «Боярыню Морозову» за 15 000 рублей. Снова независимость! Теперь можно и отдохнуть и поехать на родину! В начале июня Суриковы сдали всю мебель и вещи на хранение. Собрали в дорогу баулы и саквояжи, расплатились с хозяином, Збуком, и съехали с квартиры, которая им больше была не нужна: громадный холст «Боярыни», требовавший двусветного зала, висел в галерее Третьякова…
И пришел тот долгожданный вечер, когда от дома Збука отъехали и покатились по пыльным улицам Москвы две пролетки. Одна везла Василия Ивановича с вещами, другая — Елизавету Августовну с детьми на вокзал, с платформы которого далеко был виден зеленый глазок стрелочного фонаря, открывавший Василию Ивановичу путь домой — в Сибирь!
«Пора бежать!»
— Стой, стой, ямщик! — Василий Иванович легко постучал по спине ямщика ладонью. — Остановись-ка здесь, ненадолго… Едем давно, устали, размяться надо…
Тройка остановилась, Василий Иванович соскочил с громадного тарантаса с кожаным верхом и подхватил на руки дочерей. Коренастый, тугой на ухо ямщик, в красной рубахе, в порыжевшей от солнца черной поддевке, в занятном высоком картузе, подал заскорузлую руку Елизавете Августовне и помог ей вылезти.
В парижской клетчатой накидке, соломенной шляпке с пером, в легких остроносых туфельках, встала она на глухом широком тракте, уходящем далеко за горизонт, а с двух сторон вплотную подступила тайга. В теплом ветре качались на обочине стебли фиолетового иван-чая, что вытянулся выше человеческого роста. Воздух был насыщен медовым ароматом июньского цветения, пронизан стрекотанием кузнечиков, шмелиным гудением и стоном мошки.
Елизавета Августовна беспокойно озиралась в этой яркой, дикой, солнечной глуши. Рядом с ямщиком, похожим в своей растопыренной книзу поддевке на глухаря, она выглядела заморской диковинной птицей, залетевшей вместо пальмовой рощи в частый ельник.
Девочки, опасливо оглядываясь, вошли в густую траву, но через минуту, освоившись, уже щебетали, собирая лесные колокольчики, гвоздики, ромашки.
Василий Иванович, не теряя времени, уселся на пенек и, окуная кисть в пузырек с водой, приладился рисовать распряженных коней. Они похрустывали травой, шумно хлопали себя по бокам длинными хвостами, отгоняя оводов, вздыхали, мотали челками и нервно подергивали лоснящейся шерстью.
Елизавета Августовна медленно брела по обочине, подобрав длинную юбку с оборками. В тарантасе осталась сидеть только одна парижская кукла Верочка, белокурая, почему-то не улыбающаяся, как все куклы, а серьезная. Она уставилась удивленными серыми глазами в сибирское небо, как и три года назад удивлялась неаполитанскому. Елизавета Августовна посмотрела на нее и засмеялась:
— А Верочка-то наша, Верочка! Попала под Томск! И где только она не побывала — и в Париже, и в Риме, и в Венеции, и на морском пляже сидела.
— А сейчас — на тебе! По великому сибирскому тракту на перекладных! — подхватил Василий Иванович.
Девочки, как зачарованные, стояли с букетами и молча глядели на свою куклу.
— Вот так путешественница! — вдруг захлопала в ладоши Оля. — Давай, Лена, вытащим ее на траву, пусть по тайге погуляет.
Обе кинулись к тарантасу, пытаясь влезть на козлы.
— Куда? Куда? Вымазаться в дегте захотели? — строго остановила их мать. — Пусть сидит себе, где сидела…
Вдали на горизонте показалась черная точка. Она все росла, приближаясь, колеблясь, исчезая в ухабах и вновь появляясь, принимая все более четкие очертания. И наконец пролетела мимо наших путников, с грохотом колес, стоном звонков и гиканьем, оставляя за собой пыльное облако… Василий Иванович узнал почтовую тройку.
— Эх, в Москву покатились посылки да письма! — сказал он, отряхивая густой слой пыли, сразу осевший на его пиджак.
Пыль понемногу улеглась. Ветер тоже притих, и таежная мошкара стала одолевать путников. Василий Иванович встал с пенька.
— Далеко ли отсюда до следующей станции? — спросил он громко у ямщика.
— Чо? Чо изволишь? А-а-а! До станции-то… Да верст десять будет отсель. Ежели к обеду, так пора бежать!
— Ну, давай бежать, ладь коней!
Ямщик вскочил с травы, на которой было разлегся, и, косолапо перебирая мягкими сапогами, привел лошадей.
Через пять минут затренькали поддужные звонки, и тройка помчала тарантас, швыряя и подкидывая его на ухабах, разбрызгивая жидкую грязь, еще кое-где не успевшую подсохнуть после ночного дождя.
А у обочины остались два забытых букета, и над ними с гудением кружились дикие пчелы…
Василию Ивановичу, привыкшему смолоду к дорожным неудобствам, ничто не мешало в неуклюжем возке. Целых четырнадцать лет встали между этим путешествием и его юностью. Все было желанным, напоминая о ней. Он радовался всем своим существом и только иногда с тревогой поглядывал на жену.
Ее здоровье за эту зиму сильно пошатнулось, и Василий Иванович восхищался в душе ее необычайной стойкостью и терпением, встречая приветливую улыбку в ответ на его тревожный взгляд.
Они ехали уже больше двух недель. Пока это был огромный пароход компании братьев Каменских, ходивший от Нижнего до Перми, все было удобно, уютно, покойно, хотя в туманные вечера на воде сырость сковывала больные суставы Лизаньки и сжимала неистовой болью ее сердце. В такие минуты она с трудом поддерживала беседу, лишь бы не огорчать мужа, не отравлять ему долгожданной поездки на родину.
Его невозможно было увести с палубы парохода, за бортом которого в бесконечной красоте и разнообразии менялись камские пейзажи: то низкие луговые берега, то крутые, лесистые, и широкий водный простор с островками.
В Перми они сели в поезд уральской железной дороги — она для Василия Ивановича была новостью. Двое суток мчал их поезд по ущельям, туннелям, среди поросших лесом отрогов. Конечной станцией была Тюмень. Отсюда снова начинался водный путь. Маленький сибирский пароходик потащил их, фыркая и тарахтя, по реке Туре к Тоболу. Тут кончался горный пейзаж. Начались отлогие, унылые, переходившие в степь берега. Они проплыли мимо древнего города Тобольска, и Василий Иванович успел зарисовать его в дорожный альбом. За Тобольском пароходишко вкатился в Иртыш. Серо-желтый, такой неприветливый после живописной Камы, он бурлил среди холмистых берегов с крутыми глинистыми обрывами, кое-где поросшими лесом. Покачав пароходишко на волнах, Иртыш выплеснул его в Обь, и разделенная дельтами пенистая вода понесла его дальше через всю Сибирь. Они плыли мимо лесных берегов и ковыльной степи. Плыли днем и ночью. Девочки так привыкли к постоянному движению, что им уже стало казаться, что люди иначе и не живут, как на колесах или на воде. И случалось, что Лена, увидев людей, сидящих возле домов прибрежного села, где-нибудь на юру, спрашивала:
— А почему они никуда не едут?..
Но самой трудной оказалась дорога от Томска до Красноярска. Тряска в тарантасе по разъезженному тракту, грубая, тяжелая пища, неимоверная грязь и пропасть клопов и тараканов на постоялых дворах приводили Елизавету Августовну в ужас. Она едва справлялась с сердечной усталостью, но у нее хватало мужества и терпения ни разу не пожаловаться. Только лицо ее осунулось, побледнело, и под глазами появились темные круги. Но даже сейчас она была удивительно красива и обаятельна.
Пять дней ехали на перекладных. Под городом Мариинском обогнали партию «политических». Еще издали донеслось размеренное: трын-трын-трын… Это гремели цепями арестанты, утопая в сером облаке пыли. Тарантас догнал их, и тут Елизавета Августовна впервые в жизни увидела этих людей. Были среди них пожилые, были совсем молодые — все в серых одинаковых арестантских одеждах. Их изможденные лица, полные страстной силы и твердости, заставили Елизавету Августовну заплакать:
— Никогда, никогда в жизни не забуду я эти лица… Тот, кто хоть раз увидит их, навсегда будет всей душой с ними и за них!..
Проехали Ачинск, Путь близился к концу. Солнце перевалило за полдень, когда тарантас подъехал к большому селу.
— О-о-о! Заледеево! — вдруг встрепенулся Василий Иванович. — Ах ты боже мой, подъезжаем к дому… Вот и зале- деевская поскотина…
— А что значит «поскотина»? — спросила Елизавета Августовна, удерживая девочек, сразу завозившихся, как птенцы в гнезде.
— Загон для скота, — возбужденно отвечал муж. — При каждом селе загон такой… чтоб скотина не уходила в лес. Тут же зверья уйма!.. — Он махнул в сторону леса, уступившего место открытой степи.
Тарантас катился все быстрее, словно лошади чуяли близкий конец пути.
— Вот, вот, смотрите, сейчас будет деревня Емельяново, это в честь Емельяна Пугачева назвали!.. А потом Устиново, и последняя — Дрокино…
Деревни стояли по сторонам тракта, мрачно насупившись фасадами крепких срубов, сцепленных тынами один с другим, словно взявшихся за руки. Везде торчали колодезные журавли.
— Точь-в-точь такие журавли, как у «Боярыни Морозовой», — вспомнила Елизавета Августовна картину, которой было отдано три года их жизни.
Приподнявшись в тарантасе, с бьющимся сердцем, увидел Василий Иванович в голубой дымке над городом, лежащим в низине, стройную белую колокольню собора, каменные строения, что повыше. Вдали на горе сверкала белизной сквозная часовенка, а у подножия города, плавясь на солнце золотом, катился Енисей — родной отец, защитник, волшебник, кормилец. А кругом обступили долину горы, розовые в каменистости и густо-зеленые в лесах.
Тракт заворачивал через пустырь к первой площади. Этой тюремной площадью начинался город. Поодаль виднелась тюрьма. Тарантас пересек площадь и покатил по Плац-парадному переулку.
— Куда теперь бежать-то? — обернувшись, кричал ямщик.
— А сейчас беги влево, по Всехсвятской, и прямо на Благовещенскую, к дому Суриковых.
Теперь они ехали по немощеным улицам, меж рядов кирпичных и деревянных домов. Пыль клубилась за ними, оседая на кустах сирени и черемухи, которые, будто приподнявшись на цыпочки, выглядывали из-за высоких тынов. По деревянным тротуарам не спеша шли горожане. Елизавета Августовна глядела на них, а ей казалось, что многих она уже встречала.
— Стой, приехали! — Василий Иванович соскочил с тарантаса, вбежал в калитку небольшого двухэтажного дома и раскрыл изнутри ворота.
Тройка медленно вкатила во двор весь седой от пыли тарантас. Вот оно, крылечко со столбиками! Две высокие ступеньки, которые когда-то надо было преодолевать на четвереньках. Василий Иванович не успел опомниться, как две сухие руки обхватили его за шею и к плечу его прильнула крепко утянутая черным платком старая голова. Как тогда, на девятой версте, когда он мальчонкой задумал бежать домой из школы, стояли они с матерью обнявшись и беззвучно плакали.
— Ну вот, — утерев слезы, бодро сказал Суриков, — и встретились, мамочка!
А из-за конюшни, неуклюже загребая длинными ногами, бежал брат Саша в холщовой косоворотке.
— Родные, родные вы мои, — он на бегу широко развел руки, — приехали наконец-то!
Елизавета Августовна вылезла из тарантаса и, держа за руки двух девочек, терпеливо стояла, ожидая внимания к себе.
— Мамочка, это жена и дети! — повернулся Василий Иванович к своим.
Прасковья Федоровна торопливо спустилась со ступенек, потом подняла голову и увидела голубое страусовое перо парижской шляпки.
— Ох!..
Не отрывая глаз от этого пера, она молча села на ступени крыльца.
Затмение
— Опять патлатые ходите? И что это у вас в Москве за мода такая — по плечам волосы распускать? Ну-ка, Оленька, давай-ка я тебе волосики приберу… Ведь жарко так!
Прасковья Федоровна оставила мытье квашни из-под теста, вытерла руки полотенцем, что висело у нее через плечо, достала из кармана черепаховую расческу, разделила Олины густые черные волосы на ряд и принялась заплетать их в тугие блестящие косички.
В низенькой кухне пахло булочками. Они сидели в открытой печи, и Оле было видно, как в красно-синем кольце пламенеющих угольков они росли, надували щеки, подрумянивались и, не выдержав жара, трескались, выпуская пузыристое, сдобное тесто.
На Оле было красное платье белыми горошками. Большой белый пикейный воротник с шитьем обнимал ее круглые плечи. Вся она была крепенькая, здоровенькая, на коротких плотных ножках. Черные глаза на розовом лице глядели то насмешливо, то восхищенно, то задумчиво. Сейчас они с любопытством уставились на булочки в печи, и пламя угольков отражалось в них. Лена стояла рядом, заложив руки за спину, и тоже глядела в печь. Она была в голубом платье горошками и вся тоньше, бледнее, нерешительнее и мечтательнее, чем старшая сестра. У нее было овальное лицо с серыми, слегка близорукими глазами и бровями вразлет. Русые волосы лежали по плечам и ждали своей очереди. Олины косички смешно торчали над ушами, и в каждую была вплетена ситцевая тряпочка: в одну — синяя, а в другую — зеленая.
Бабушке некогда было искать лент или тесемок, схватила первые подвернувшиеся кромки ситца, которыми она перевязывала мешочки с крупой.
Теперь настала очередь Леночки. Через пять минут и ее русые косички тоже торчали над ушами. Внучки стояли перед печью, растопырив в стороны четыре косички, и завороженно глядели из-под челок на румяные булочки.
— Ну вот, теперь хорошо, — твердо сказала бабушка, подошла к печке, взяла заслон и закрыла им полукруглый свод.
И так было каждый раз: бабушка заплетала волосы девочкам, а мама через некоторое время украдкой расплетала их и расчесывала по плечам в причёске «под пажей». И все молчали. Вообще бабушка и мать почти не говорили, а если и говорили, то словно на разных языках. Свекрови не нравилась невестка. И как ни старалась Лиля угодить ей, сколько ни помогала по хозяйству, в огороде, Прасковья Федоровна никак не могла найти для нее в своем сердце хоть маленького уголка. Даже отлично сшитое Лилиными руками парадное канифасовое платье не помогло. Они никогда не ссорились, но между ними стояла прочная стена непонимания.
Девочки потихоньку вспоминали петербургскую «фарфоровую» бабушку, с седыми пышными волосами, в черных кружевах, и «сибирская», с поджатыми губами, выцветшими глазами, сморщенной коричневой кожей на татарских скулах и головой, так туго затянутой платком, что неизвестно, какого цвета у нее волосы, да и есть ли они вообще, — эта бабушка в их глазах сильно проигрывала против той, далекой и потому еще более привлекательной.
Зато дядя Саша полюбился девочкам на всю жизнь. Взяв отпуск в «присутствии» — так называлась канцелярская служба, — он почитал за счастье проводить все время с дорогими гостями и развлекал их как умел. Его деликатность и приветливость сглаживали все острые углы и недомолвки, которые постоянно возникали сейчас в доме на Благовещенской.
Василий Иванович старался не придавать значения отношениям между матерью и женой. Но стоило Прасковье Федоровне войти в комнату, где только что шла непринужденная беседа, как Лиля мгновенно гасла, сжималась и уходила в себя. Свекровь становилась между нею и всеми остальными и словно заслоняла всех от нее Это возникало помимо их воли, беспричинно и стихийно, как неизбежное явление природы, как затмение.
Но между Суриковым и его женой установилась еще более тесная дружба. Оба они молчаливо отказывались от всяких выяснений отношений, и потому Василий Иванович без помех наслаждался пребыванием на родине. Он все время писал этюды, ездил верхом по окрестностям, убегал к друзьям-соседям, ничем не примечательным людям, послушать их рассказы и самому порассказать. Он предпочитал общение с самыми заурядными людьми и самую незатейливую обстановку столичному светскому обществу просто потому, что размышлений о высоких материях ему было достаточно, когда он оставался один, постоянно читая, что-то изучая. Ему было приятно, что здесь не будут спрашивать: «Скажите, а как вы все это создаете?» Или: «А над чем вы думаете работать в дальнейшем?» Он считал все это праздным любопытством, бестактностью и равнодушием. Он любил отдыхать непринужденно, совершенно отрешившись от своей творческой жизни.
Архитектор Чернышев, музыкант Мельницкий и старики казаки, которых Василий Иванович любил больше всех, собирались по вечерам у Суриковых, и опять звенела гитара и звучала старинная песня. В этот год Красноярск готовился к необычайному событию: седьмого августа ждали полного затмения солнца, которое бывает раз в сто лет. Установлено было, что лучшая точка наблюдения во всей России — красноярская Часовенная гора, и потому все астрономы мира съезжались в Красноярск. Местные власти и богатые купцы готовились к встрече тех, что посолиднее, приглашали к себе в особняки, а те, что попроще, — поселялись в гостинице, у чиновников да горожан позажиточней.
Из Петербурга был выписан телескоп и астрономические приборы, были изданы и бесплатно раздавались брошюры, по всему городу вывешены объявления за подписью губернатора. К ним красноярцы относились критически:
— Чо ж! Енисейский губернатор-то лучше бога знает, чо ли?
На Часовенной горе была построена целая обсерватория: бараки для хранения приборов, четыре наблюдательные будки, пятнадцать огромных масляных фонарей с рефлекторами. За два дня до события прибыл енисейский епископ Тихон, чтоб небесное явление не обошлось без благословения духовных властей. Решено было поставить кордон из роты солдат с ружьями. За кордон пропускались только имевшие пригласительные билеты. Василий Иванович, как известный художник, был тоже приглашен, чтобы «зарисовать это знаменательное событие». Он согласился, хоть и подшучивал над этим, пока они с братом натягивали холст для будущего этюда.
Рано утром дядя Саша запряг коня в шарабан и отвез Василия Ивановича со всем его «багажом» на Часовенную гору. Там уже собралось множество народу. Затмение должно было начаться в десять часов утра и кончиться к половине первого дня. Пока Суриковы ехали, начал накрапывать дождь и поднялся такой сильный ветер, что брезенты срывались с будок, кренились подставки с инструментами и опрокидывались фонари. Люди заполнили все вокруг — кто сидел, кто стоял на мокрой траве, вооружившись закопченными стеклышками.
Василий Иванович расположился на месте, откуда хорошо был виден город внизу, здесь с самых юных лет он не раз писал его. До затмения оставался час.
— Ты бы поехал к маме, Саша, а то, чего доброго, она перепугается там… А как кончится, приедешь сюда за мной.
Александр Иванович послушно сел в шарабан и поехал на спуск. Дождь кончился. Сквозь рваные мчащиеся облака выныривало солнце непривычно белого сияния. Город лежал внизу, сверкая мокрыми крышами, и Василию Ивановичу казалось, что в этих бликах на кровлях, в тенях от облаков, набегавших на свинцовую волну Енисея, было что-то, невыразимо тревожное, теснящее сердце.
Он быстро набросал углем бесконечно дорогой, памятный г младенчества пейзаж. Часовенная гора гудела голосами. От часовни, где был установлен телеграф, тянулись провода, повисая на временно установленных шестах. Любопытные окружили мольберт, топчась, налезая друг на друга. Ротный, стоявший неподалеку, поспешил художнику на помощь.
— Разойдись! Ну-ка разойдись, говорят! — Он решительно оттеснял толпу прикладом. Василий Иванович, присев на корточки, раскрыл ящик и приготовил палитру.
Писать было трудно, хотя как будто ничего и не мешало обычному утреннему освещению. Этюд получался резкий и плоский. Но Суриков увлекся и уже не замечал ни гудения толпы, ни движения вокруг. Он очнулся, когда вдруг разом и шум и суета оборвались. Все вокруг притихло. Василий Иванович поглядел в стеклышко, предусмотрительно положенное братом ему в ящик, и увидел, как на солнце наползла черная тень. Но света не убывало, только он стал рассеяннее и горизонт померк, словно оттуда надвигалась гроза.
Суриков продолжал писать. Цвета менялись так быстро, что он едва успевал следить за ними. Тьма надвигалась. Температура падала, стало холодно. А потом началось нечто страшное: ветер лег, облака повисли, солнечный диск весь, закрылся черным пятном луны, и только вокруг него сияла корона лиловых и бирюзовых неровных зубцов. А между зубцами белые, как серебро, лучи солнца подхватывали синие и лиловые отблески и пучками посылали их на помертвевшую землю. Все замерло.
Даже солдаты, побросав посты, сбились в кучки и стояли, склонив головы, словно табун коней в грозу. И только в часовне неумолимо стрекотал телеграфный аппарат. На погустевшем небе вдруг зажглись две звезды — Венера и Регулюс. Суриков быстро закрашивал холст, ловя фантастическое освещение, так изменившее все вокруг. Подошел старый профессор-астроном:
— Какое у вас впечатление, господин Суриков, от всего этого?
— Это что-то апокалиптическое! Просто какая-то ультрафиолетовая смерть, — ответил Василий Иванович, глядя на профессора, синего, как утопленник. — Вот ужас-то! Конец мира напоминает…
И он снова взялся за кисти, пытаясь в полумраке разобраться в цветах и передать эти неестественные, зловещие истоки света, погружавшие город в мертвенную неподвижность. Только Енисей продолжал катиться в этом угнетающем освещении, напоминая мифологическую реку Стикс — обиталище душ умерших, да плашкоут с красным фонариком, застрявший где-то на середине реки, качался на стремнине, как лодка древнего бога Харона, перевозчика грешных и праведных душ. Снизу не доносилось ни звука, словно все вымерло.
И вдруг справа на солнечном диске затрепетала резкая полоска света, похожая на клинок кинжала. Она постепенно начала теснить черный плотный круг луны. Поднялся ветер, понеслись облака, сине-фиолетовые лучи скользили, то исчезая, то вновь появляясь среди клубящихся серых куп. Все-пришло в движение. Залаяли псы, неистово заорали петухи в городских дворах. Гора загудела. Тьма уходила быстро, в толпа начала редеть. Суриков оставался со своим мольбертом, ожидая брата. Обыватели с любопытством заглядывали в холст.
— У-у!.. Похоже!.. — бормотали они, озираясь вокруг и не находя уже никаких признаков затмения.
Словно ничего этого и не было, настолько дразняще ярко и беспечно смеялось солнце и в поднебесье кружились стаи голубей. В веренице экипажей, приехавших за публикой, показался и шарабан Александра Ивановича.
— Ну как там, Саша, перепугались, наверно, все?.. — говорил Суриков, укладывая в шарабан мольберт и ящик. — А страсть-то какая!.. Ну просто светопреставление! А мама как перенесла, девочки что делали?
— Ничего! — усмехнулся в усы Александр Иванович. — Смотрели в стеклышки, я им всем закоптил… В самый страшный момент девочки во дворе вдруг завопили: «Где папа? Папу нашего там убьют, на горе!..» А мамочка все молилась, лампаду зажгла и все в молитвеннике какую-то молитву искала…
— А Лиля что? — спросил Суриков.
Александр Иванович добро улыбнулся:
— Умница твоя Лиля, вот что!
Через десять минут они были дома. Все с интересом стали разглядывать новый этюд. Сейчас он производил фантастическое впечатление, настолько неправдоподобное, что живые, знакомые контуры города казались призрачными, чудовищными тенями…
Странный был этот этюд, и судьба его ждала странная. Николай Помпеевич Пассек, родственник Кузнецова, человек незаурядный, дипломат, объехавший полмира, пришел в восторг от этюда и попросил Василия Ивановича продать ему его. И Суриков охотно уступил его с веселыми шутками, ни на минуту не задумываясь, к величайшему удивлению жены, знавшей, как трудно он расставался с каждой своей работой. Пассек увез этюд к себе в имение под Харьков.
Никто из них и не подозревал, что через несколько лет, пережив тяжелое потрясение, Василий Иванович поедет к Пассеку, попросит снять этюд со стены и, положив на стол полученные за него деньги, разорвет его на глазах у владельца. И на полный отчаяния вопрос Пассека: «Что вы делаете? Вы с ума сошли, ведь это же Суриков!..» — Василий Иванович твердо и зло ответит: «Нет, это не Суриков! Это — затмение!»
Возле печки
«Москва, 28 октября 1887
Милые мама и Саша!
Мы вот уже недели три как переехали на квартиру из гостиницы. Квартира небольшая, но, кажется, сухая и теплая… Путешествие совершили мы благополучно. С Пассеком мы распростились в Нижнем. Это очень веселый и хороший человек. Мы устраивали дорогой (на пароходе) угощение чаем: то он с женой, то я с семьей — по очереди. От Томска до Екатеринбурга еще ехали с нами англичане из кругосветного путешествия. С одним из них я кое-как объяснялся по-французски. Пассек им объяснял достопримечательности встречаемых городов по-английски. Но пьют водку и вино здорово и едят за четверых, не выходя из границ приличия. В Екатеринбурге выставки не застал. В Нижнем останавливался на сутки, кое-что зарисовал. Здесь, в Москве, стоит ясная погода, совсем тепло. У нас из окон виден бульвар, и на нем еще трава стоптанная зеленеется. Листья уже опали. Был в Кремле, в Успенском соборе. Певчие — два хора, пели… великолепно, точно орган… Одна купчиха в умилении от пения, уткнувшись головою в пол, всю обедню пролежала, так что какой-то купец, проходя мимо, сказал: «Довольно лежать, пора вставать».
…Я думаю, что в Красноярске уже зима наступила… Я теперь начинаю писать эскиз для моей новой картины и собираю материал для нее. Целую вас.
Твой В. Суриков».
Картина задумана была на обратном пути из Сибири в Москву. Поэзия Волги в этот раз навеяла новые образы: Василий Иванович думал о Степане Разине. Пока он был на пароходе, эти мысли еще не находили формы. Ехали весело, в компании с Пассеком. Василий Иванович нарисовал его акварелью, сидящего в столовой в ожидании традиционного чая… Потом — приезд в Москву, бестолковая жизнь в гостинице, поиски квартиры. Она нашлась на Смоленском бульваре, в доме Кузьминой. Целую неделю устраивались, перевозили вещи, искали кухарку, наконец жизнь утряслась — вошла в колею.
Василий Иванович надписал адрес и заклеил конверт.
«Теперь по зимнему пути полетит на почтовой троечке!» — подумал он. А потом из ящика стола достал небольшой эскиз акварелью — «Степан Разин с атаманами в струге…»
В соседней столовой молодая учительница-курсистка занималась с Олей грамматикой, готовя ее в первый класс гимназии.
— Ну вот, какой на тебе воротник — красный? — спрашивала она Олю.
— Нет… Не красный, а белый.
Василий Иванович вдруг представил себе дочь в белом воротнике поверх красного, белым горошком платья. Как оно мелькало, это платьице, в зарослях ивняка на Енисее, гасло в густой тени, а потом выпархивало на солнце и летело по песчаной отмели…
— А как ты напишешь — «не» или «ни»?
— Не красный.
— Верно. А у меня какой воротник? Красный или белый?
— А у вас… А у вас никакого — ни красного, ни белого!
— А как ты напишешь это?..
Оля думает и потом твердо решает:
— Ни!
— Молодец, правильно!
Василий Иванович слушает, улыбаясь: «Ишь ты, соображает головенок-то!»
— А теперь встань и пойди туда, — говорит учительница. Слышно, как Оля отодвигает стул и торопливо шагает.
— Так! Куда ты пошла?
— К печке.
— Какую букву поставишь в конце?
Пауза. Оля думает.
— Букву «е» поставлю. Дательный здесь — кому, чему.
— Хорошо! — радуется учительница. — А где ты стоишь?
Опять пауза.
— Возле печки. «И» здесь будет, — торопится объяснить Оля, — потому что здесь родительный — кого, чего!..
Василий Иванович вдруг ясно представил себе Олю возле печки. Он тихо встал, приоткрыл дверь и заглянул в щелку. Оля стояла в красном платье горошками на фоне ярко-белого кафеля, прижав к нему, теплому, две своих пухлых ладони. Круглое лицо ее было освещено приветливой и веселой уверенностью.
«Вот как написать бы ее нужно», — подумал Василий Иванович и закрыл дверь…
Прошел месяц. В столовой появился мольберт с холстом, на котором в рост стояла Оля возле печки. И как каждая новая картина, она заняла первое место в жизни семьи. Сначала портрет был в угле, потом начал закрашиваться. Оля была терпелива — умела позировать. И часто вся семья вместе проводила утро в столовой, чтоб Оле не скучно было стоять.
В большом мягком кресле сидела сильно исхудавшая Елизавета Августовна и занимала Олю чтением или разговором. После поездки в Сибирь здоровье ее настолько сразу ухудшилось, что ей нужно было постоянное наблюдение врача. Лечил ее профессор Черинов. Он заходил к Суриковым почти каждый день. А Василий Иванович так доверял ему и так постоянно нуждался в его советах, что даже решил написать с него портрет, чтоб он подольше бывал у них в доме. Портрет этот висел у Суриковых в гостиной, как бы охраняя хозяйку, когда Черинова не было.
Вести хозяйство Елизавета Августовна уже не могла, гулять с дочерьми тоже ей было не под силу, и Василий Иванович все делал сам, чувствуя себя виноватым в том, что потащил жену в Сибирь. Только теперь понял он, что поездка эта «съела» Лилю. Нельзя было ей неделями плыть по воде в осенних туманах, нельзя было с больным сердцем трястись по ухабам, нельзя было испытывать его в борьбе с крутой неприязнью мамы. Ах, мама, мама!.. Торгошинская повадка — или душу отдаст тебе, или твою душу вымотает!.. Всего этого нельзя было Лиле. Вот теперь и не узнать прежней, красивой, веселой, распорядительной хозяйки дома. Недаром Лиля с таким недоверием относилась к Сибири, словно чуяла, что принесет она ей погибель, как той самой княжне Марии Меншиковой, для которой она позировала.
И в это холодное декабрьское утро, укутав ноги пледом, сидела Елизавета Августовна в кресле. Под розовой фланелевой кофточкой обрисовались ее похудевшие узкие плечи, а из-под белого чепца глядело изнуренное болезнью лицо. Она всячески старалась поддержать в себе бодрость, ей, как никогда раньше, хотелось принимать участие в их общей жизни, хотелось помочь дочке позировать, развлекать ее беседой. Разложив ящик с красками на табурете, сидя на венском стуле, Василий Иванович писал Олин портрет. Для работы он надевал старый черный пиджак, весь заляпанный красками, старые серые брюки, тоже все в пятнах. В этой одежде он чувствовал себя свободным — он не терпел специальных «блуз» и халатов, в которых обычно работают художники. Тут же бегала со своей куклой семилетняя Лена. В передней позвонили. Оля насторожилась:
— Это учительница… Анна Михайловна. Где будем заниматься?
— Веди ее в детскую, я еще здесь попишу, — сказал отец.
Оля, топая ножками, помчалась открывать дверь, усадив куклу прямо на пол возле печки…
И вот они остаются втроем. Нет, все-таки не втроем. Оля смотрит на них с холста, словно и не выбегала из комнаты.
Миловидное круглое личико, в обрамлении темных пышных волос, серьезно. Но это не характер, это отношение к труду отца — она позирует деловито и спокойно. Мягкость и добродушие таятся в углах твердо очерченного рта: вот-вот улыбнется весело и лукаво! Глаза, умные, пытливые, глядят из-под густой челки, а под ней угадывается чистый высокий лоб. В этом портрете так четко увиден и схвачен весь ее счастливый, мгновенно откликающийся на все, пылкий и веселый нрав.
Ножки ее в красных чулочках на фоне белого кафеля по-хозяйски устойчивы, и в том, как они расставлены, чувствуется ее уверенность и некоторая своенравность. Их контуры, мягкие, не очерченные твердой линией, в то же время дают ощущение крепких и плотных мышц под чулками. Детская, без талии, фигурка — в низко повязанном кушаке, и стоит девочка, слегка подавшись вперед. Круглый белый воротник оттеняет розовую матовость лица. И нет в этой девочке ни малейшего девчоночьего кокетства, хоть вся она пластична и грациозна — залог будущей женственности. Ладошка левой руки прижата к белому кафелю, и пальцы написаны так, что кажутся теплыми. Правой рукой Оля прижала к себе неизменную куклу Верочку, уставившуюся голубыми глазами куда-то в пространство. Белокурая шапка куклиных волос играет золотом на красном фоне, и пышное розовое платье и бархотка на шее выдают в ней парижанку.
Дивный портрет! В нем вся прелесть и живость девочки, вся чистота и гармония ее ума и души и вся любовь и восхищение отца и художника останутся жить навсегда.
Удар
Профессор Черинов долго держал в руке иссохшее до прозрачности запястье Елизаветы Августовны. Лицо его было так обеспокоенно-серьезно, что у Василия Ивановича сердце захолонуло.
Жена лежала с открытыми глазами, устремленными в одну точку. Глаза эти, отчужденные, равнодушные, смотрели куда-то дальше и выше окружающей их повседневности. Два месяца, как она не вставала с постели. Боли в сердце и тошнота изнурили и высушили ее.
Василий Иванович и по ночам дежурил, и в аптеку бегал, и чай с лимоном и сахаром подавал — единственное, что она теперь принимала, — словом, не отходил от жены, никому ее не доверяя.
Еще недавно Елизавета Августовна могла разговаривать, смеяться и даже позволяла себя навещать. Тогда-то и приходил часто к Суриковым Лев Николаевич Толстой. Он приносил каждый раз в корзиночке свежие яйца из Хамовников. Лев Николаевич усаживался в кресло возле больной и занимал ее беседой, смешил рассказами о забавных встречах с людьми, передавал интересные новости и события. Но иногда он вдруг начинал молча, пытливо вглядываться в ее лицо, словно изучая его, или пристально рассматривать исхудавшие руки. И тогда Елизавете Августовне становилось не по себе.
— Знаешь, Вася, пожалуй, не надо нам принимать здесь Толстого… Он так иногда глядит… Даже страшно становится… Мне не хочется его видеть, — робко заявила Елизавета Августовна.
Василий Иванович ничем не выдал своего волнения. Но гнев и обида вскипели в нем так, что черной волной глаза захлестнуло. Он понял: Толстой, как художник, не может отказать себе в возможности наблюдать угасание. Правда, сам он однажды с такой же безжалостной целеустремленностью зарисовал сначала помертвелое лицо от усталости потерявшего сознание натурщика, а потом уже привел его в чувство и напоил горячим чаем… Но здесь, возле постели умирающей жены, он не мог вынести этой жестокости гения. И когда в следующий раз пришел Толстой, Суриков встретил его на пороге:
— Убирайся прочь, злой старик!..
Так сказал Суриков Толстому, и лишь через много лет после этого восстановилась порушенная дружба.
Василий Иванович собрался было заварить свежий чай, как из спальни выбежала Софья Августовна. Она теперь поселилась у Суриковых по просьбе больной сестры. Вид у Софьи был отчаянный.
— Вася, — сдерживая слезы, прошептала она. — Васенька, плохи наши дела… Черинов опять немедля требует консилиум.
Василий Иванович метнулся в переднюю, и через минуту хлопнула парадная дверь. Прошло полчаса. Зазвонил звонок— один, другой, третий… Передняя наполнилась шарканьем калош, покашливаньем, тихими голосами. Это приехали врачи, и один за другим проходили в спальню, где, утонув в подушках, в глубоком забытьи лежала хозяйка дома. Профессора склонялись над ней, считали пульс, тихо переговаривались, произнося латинские слова. Но здесь они были уже лишними…
А Василий Иванович быстро ходил по длинному коридору, от громадного окна передней до двери в гостиную. Ходил, сжав кулаки в карманах пиджака, мимо калош, калош, калош, мимо шубы на кенгуровом меху, что словно диковинный серый зверь зацепилась за крючок вешалки. От окна до двери и снова до окна. За стеклом, не протертым от зимней накипи, чужое солнце после короткого весеннего дождя щурилось на чужую улицу, в чужие, промытые перед пасхой окна… «Держись, держись, держись!» — говорил он себе и снова шагал от двери, в створке которой тоненько сквозила щель, до окна, где на подоконнике просыпались из пакета гречневые крупинки… Потом он услышал движение в гостиной и, помертвев, открыл дверь. На него двигались один за другим маститые, угрюмые…
— Василий Иванович, дорогой!..
Он замахал руками и кинулся в спальню.
Он сам не мог понять, какой силой он потом держался. Нужно было еще выстоять в магазине среди гробовых крышек, сверкающих сусальным золотом и серебром глазета. Нужно было Лилечкин вид на жительство, эту маленькую книжечку, пахнущую ее духами, сунуть в полукруглую стеклянную пасть окна конторы, чтобы она, заглотав ее, выбросила взамен страшную хрустящую бумагу в широком траурном окаймлении.
Сколько нужно было еще выслушать, вынести… Выстоять панихиду, упираясь одеревеневшими ногами в пол плитками— две черных, две серых, две черных, две серых. А над ними кадило пружинисто раскачивается, и синий дымок ладана душит, а свеча в руке тает и плавится восковыми слезами… Нужно было подставить сердце и мозг свой под каждый удар молотком по шляпке гвоздя над крышкой гроба. Нужно было взять в руку горсть земли — живой, но такой холодной и услышать, как грохнула она по этой крышке, ушедшей куда-то вниз, далеко. Грохнула, как удар в сердце… Как нож в спину из-за угла!
Все пришлось выстрадать, вынести, выдержать. Мелькали, кружились, суетились чужие, соболезнующие маски, и все ушли, исчезли куда-то. И вот могильный холмик, заваленный венками и охапками гиацинтов и нарциссов…
«20 апреля 1888
Прочти один.
Милый Саша!
Ты, я думаю, удивляешься, что я долго не писал. С 1 февраля началась болезнь Лизы, и я не имел минуты спокойной, чтобы тебе слово черкнуть. Ну, друг Саша, болезнь Бее усиливалась, все лучшие доктора Москвы лечили, да богу нужно было исполнить волю свою… Чего тебе больше писать? Я, брат, с ума схожу.
8 апреля 2,5 часа, в пятницу на пятой неделе великого поста, ее, голубки, не стало. Страдания были невыносимы, и скончалась, как праведница, с улыбкой на устах. Она еще во время болезни всех простила и благословила детей. Теперь четырнадцатый день, как она умерла… Тяжко мне, брат Саша. Маме скажи, чтоб она не горевала, что было между ей и Лизой, она все простила, еще давно.
Как бы я рад хоть тебя, Саша, увидеть. А что, нельзя тебе отпуска взять?..
Я тебе, Саша, и маме говорил, что у нее порок сердца и что он по прибытии в Москву все ухудшался. А тут еще дорогой из Сибири простудилась Лиза, и делу нельзя было помочь. О, страшная, беспощадная эта болезнь, порок сердца!
Дети здоровы. Хотя были, особенно Лена, потрясены и всё плакали. Покуда она была больна два месяца, я сам за ней ходил, за голубушкой, все ночи не спал, да не привел бог мне выходить ее, как она меня восемь лет назад тому выходила от воспаления легких.
Вот, Саша, жизнь моя надломлена; что будет дальше, и представить себе не могу…
Брат твой В. Суриков».
Камня на камне не оставил от своей прежней жизни Василий Иванович. Он тосковал и бушевал вместе. Выбросил всю мебель из комнат, и они стояли пустые и холодные. Как островок среди бурного разлива, осталась нетронутой одна только детская — в ней все было по-прежнему. А в мастерской он поставил широкую скамью, крытую тюменским ковром, чтоб спать на ней, стол со стулом, знаменитый сундук с этюдами да повесил небольшое зеркало на стене.
Он пристрастился к Библии и вечерами, сидя один в своей мастерской, читал ее, подчеркивая изречения из книги Юдифи, казавшейся ему истиной: «Если б я и ожидать стал, то преисподня — дом мой, во тьме постелю я постель мою», «Гробу скажу — ты отец мой, червю — ты мать моя, сестра моя». А под верхней крышкой Библии он подробно написал свою родословную, начиная ее от есаула Сурикова, пришедшего с Дона с Ермаком, кончая Ольгой и Оленой. Он знал, что у него не будет ни другой жены, ни других детей.
Перебирая рисунки и этюды, он вдруг отказывался от некоторых и без жалости уничтожал их, и некому было теперь удержать его. Девочек иногда пугало его безысходное отчаяние, они уходили к себе в детскую. Разговаривая шепотом, они занимались своими делами: Оля готовила уроки, Лена шила куклам или рисовала. Но все трое они были страстно привязаны друг к другу: отец заменял им и мать, и гувернантку, и няньку. Он сам занимался их воспитанием и даже к портнихе водил их сам на примерку платьев и при этом всегда просил: «Только, пожалуйста, уж сделайте так, чтоб подолы не отвисали, а то сразу видно сироток!»
Чуть не каждый день ездили они на кладбище, где за решеткой, заказанной Василием Ивановичем по собственному рисунку, была могила жены. И каждый раз он не мог удержаться, чтобы не рыдать над ней в глубочайшей скорби. Работать он больше не мог. На целых два года творческая жизнь его заглохла, оскудела, как потрескавшаяся земля, выжженная засухой.
Брат Александр приехал к осени, и было удивительно странно и радостно для них обоих чувствовать, как нерешительный, всегда во всем уступающий младший принял на себя всю тяжесть морального опустошения старшего. Он стал для Василия Ивановича поддержкой и утешением. А девочки были просто счастливы приезду дяди Саши. Он всех их избавлял от угнетения и примирял с жизнью. Но Александр Иванович чуял, что, как только он уедет домой, брат снова впадет в свое тягостное оцепенение.
— А что бы тебе, Вася, не переехать на годик или на два домой — в Красноярск? Олечку и Леночку отдали бы в пашу гимназию… — говорил он брату, с надеждой поглядывая в его измученное, похудевшее лицо. — Подумай, то-то хорошо будет! На что тебе сейчас Москва? Выставлять тебе все разно нечего. То ли дело дома! Писать начнешь. Поедем с тобой по Енисею, хочешь — вниз, хочешь — вверх, к минусинцам!.. Право, осчастливь ты нас с мамой, Васенька! Займете верх дома. То-то радость будет!..
И Василий Иванович согласился. Это и в самом деле был единственный выход. Домой, в Сибирь! Она породила его, она воспитала, она же и обездолила его жестоко, она и возродит!..
Часть вторая
С утра закат
Крепко сбитая скамейка по-прежнему стояла под черемухами за домом. Василий Иванович сел на нее, и показалось ему, что она стала ниже, будто в землю вросла. В огороде, как и раньше, была посажена картошка, ее розово-серые цветы словно кланялись ему, пригибаясь стеблями на ветру.
Он стал искать глазами ямку для костра, — над ним в былые времена варили в таганке картошку, празднуя урожай. Ямки не было: она сровнялась с землей. «Видно, Саше одному неохота было праздновать, — думал Суриков, — придется наново ямку-то рыть, картошка доспевает». И он представил себе радость и удивление своих дочерей, хлопочущих у костра. Как весело будет им здесь, на скамейке, дуя на картофелину и присаливая крупной солью, есть ее вместе со свежими огурцами.
С верхнего балкона доносились голоса. Там дядя Саша затеял для племянниц что-то интересное — обе покатывались со смеху, то выбегая на балкон, то скрываясь в комнатах. А потом на крутой лесенке, ведущей во двор, замелькали Олины ноги в белых чулках и туфлях, и плотная фигурка в белом платье и полосатом переднике скользнула в кухонную дверь под балконом. «Пошла помогать по хозяйству бабке». После смерти матери хозяйкой в семье Василия Ивановича стала одиннадцатилетняя Оля. Характер у нее был властный. Умная, находчивая, она быстро подчинила своей воле отца и сестру. «Олечка-душа» — называл ее Василий Иванович, и она действительно стала душой его существования…
Василий Иванович сидел на скамье, не хотелось уходить отсюда. Вдали белела часовенка на горе, что когда-то прозывалась Караульным бугром. В углу огорода стояла их старая семейная банька, словно осевшая, но еще крепкая. Между ней и конюшней чернело страшного вида пепелище — здесь раньше был дровяной сарай. Три месяца назад в него попала молния, — сухие дрова и бачок с керосином вспыхнули Факелом. «Могло и на дом перекинуться, — думал Василий Иванович, оглядывая обуглившиеся бревна, — ничего бы от усадьбы не осталось, вот уж поистине бог миловал… Надо будет Саше денег дать на новый сарай».
Перед раскрытой дверью конюшни стояла тачка. Время от времени из двери вылетали комья прелой соломы и шлепались прямо в тачку, над которой в солнечном сверкании метался рой зеленых мух. Александр Иванович чистил стойло. Недавно купленный Василием Ивановичем конь Саврасый стоял в тени за конюшней, лениво пощипывая гусиную травку, что ползла из-под обгорелых бревен.
— Ах ты боже мой! — Василий Иванович вдруг почувствовал в сердце щемящую боль, вспомнив, как позапрошлым летом жена Лиля давала сахар гнедой кобыле Ласке. Лиля стояла вот тут, за конюшней, в тени. Серое в полоску платье ее отливало синим, каштановые волосы казались почти черными, а лицо было бледно до прозрачности. Она держала в пальцах кусок сахару. Ласка тянулась к нему губами.
«Да ты положи сахар на ладонь, не бойся, она не укусит», — говорил он тогда жене, сидя на этой же скамейке.
Елизавета Августовна робко протянула Ласке ладонь с сахаром и рассмеялась, — теплыми, сухими губами кобыла щекотала ей раскрытую ладонь…
Боль утраты — постоянная, неизбывная и не дающая примирения с жизнью — заставила Василия Ивановича так порывисто вскочить со скамьи, что Саврасый пугливо отпрянул в сторону, но тут же, словно прося прощения, замотал головой, косясь на хозяина добрым темным глазом. Суриков постоял, стиснув зубы, потом медленно побрел через двор к воротам, засунув руки в карманы чесучового пиджака.
На Благовещенской улице полыхал июльский полдень — безлюдный и ленивый. Напротив, у ворот соседнего дома, на скамье, выпрямясь, сидел дед, девяностолетний казак в черных очках. Седая борода его была чуть желтее белой холщовой рубахи. Василий Иванович перешел улицу и поздоровался с соседом.
— Как, дедушка, живете-можете? — Он присел рядом со стариком.
Сколько он помнил деда, тот всегда ходил в черных очках. В одном из последних набегов киргизы стрелой выбили ему глаз, и единственный левый он прикрывал очками. Два солнца отражались в черных стеклах.
— А вы что-нибудь видите сквозь ваши очки?
— Ну как же, все вижу. Хочешь, погляди. — Он протянул Василию Ивановичу очки в тоненькой металлической оправе.
Суриков осторожно зацепил дужки за уши и посмотрел вокруг. Странное дело — все вдруг мгновенно переменилось, погасло, помрачнело, оглохло… Короткие полуденные тени от деревьев стали неестественно густыми, как пролитые чернила. Светлые пятна потускнели. И невыразимо печальной стала Благовещенская. Три маленьких мальчика выскочили из ворот и остановились, с любопытством глядя на приезжего дядьку, что отнял очки у их прадеда. Детские лица виделись Василию Ивановичу бледными, встревоженными.
«Какой тоскливый, неестественный свет», — думал художник, глядя через улицу в черные окна своего дома.
Дед поднял на него единственный глаз.
— Погляди-ка на солнышко-то! Вот вы все, без очков, только на закате можете на него смотреть, а я всегда могу, — засмеялся он, обнажая желтые, как у старого коня, но еще крепкие зубы.
Суриков поднял глаза к солнцу. Оно казалось тусклым шаром, каким-то совсем чужим.
— Стало быть, дедушка, у вас с утра закат! — пошутил он, снимая очки.
Солнце вновь брызнуло Василию Ивановичу в глаза, а ребятишки стали загорелыми, веснушчатыми, здоровыми.
— Здрасте, дяденька! — сказал один из них и снял с головы рваный отцовский картуз.
Василий Иванович засмеялся, вернул очки старику и, попрощавшись, двинулся дальше по Благовещенской.
Дойдя до угла, он свернул на Качинскую. Что-то непреодолимо тянуло его по этому с детства исхоженному пути. Он шел, погруженный в свои думы, не оглядываясь и не видя окружающего. И только дойдя до речки Качи, он вдруг заметил, что идет по ладному, вновь отстроенному мосту. Старый снесло год назад паводком.
Василий Иванович посмотрел вниз, и глазам его представилось мрачное зрелище: целый ряд домов вдоль берега был снесен потоком, кое-где еще торчали остатки печей, громоздились размытые бревна срубов, валялись куски тесовых крыш.
«Что здесь было! — в смятении подумал Суриков, стоя посреди мостков над плавно катящейся Качей. — Ужас-то какой!..» Он постоял с минуту, обозревая следы катастрофы, и двинулся, дальше, погруженный в свои трудные думы о последнем годе жизни. Если бы он только мог примириться со своим несчастьем, он давно бы уже работал. Как часто он искал прибежища у бога, — ходил в церковь, читал Библию и часами просиживал возле дорогой могилы, и все-таки не было покоя и примирения с постигшим его ударом. Сюда, в Красноярск, он привез новую картину — «Христос исцеляет слепорожденного»: на большом холсте, у ног Христа, сидит человек, впервые раскрывший глаза на мир. Изумление и восторг на лице прозревшего были написаны с рембрандтовской глубиной и проникновенностью. Христос, положивший руку на голову слепого, неподвижен как изваяние. Лицо его, строгое, отрешенное, с твердо очерченным ртом, суровым взглядом, ничем не напоминает святого, даже нимба вокруг головы нет, это — человек… А за ним толпятся удивленные свидетели чуда.
Василий Иванович знал: написано с мастерством и убедительностью, но где-то в глубине чувствовал — это не то, что он может и должен делать. И писал-то он эту картину для «одного себя», уйдя от действительности. Но в этой работе он отрекся от самого себя. Потерял себя. Где ж теперь и как себя найти?..
Василий Иванович давно уже шагал по Енисейскому тракту, не замечая тарантасов и телег, что обгоняли его или ехали навстречу, поднимая облака пыли. Ветер сметал пыль в сторону, она покрывала серой пеленой придорожные травы. Справа тянулось поле вызревающей ржи, над ним с клекотом плавными кругами парили орлы, зорко выглядывая добычу.
Слева земля стояла под паром и сплошь пестрела желтыми и красными маками. Оттуда тянуло медовым ветерком и слышалось гудение пчел. Впереди высились зеленые холмы, меж ними пролегал тракт.
Вот она, вот она — девятая верста! Любимое, памятное с младенчества крылышко с цифрой «9» на верстовом полосатом столбике. Василий Иванович остановился, расстегнул пуговки косоворотки. Пыль, зной и усталость томили его. Он свернул с тракта и пошел в степь. Она принимала его широко распростертым горизонтом. Травы шуршали у его колен, тысячи кузнечиков празднично стрекотали, торжественно гудели шмели, тонко стонала мошка, и весь этот звон и гомон захлестнул его мозг и сердце. Он вдруг почувствовал себя наедине с родной сибирской землей. Он бросился ничком в траву, приник горячим лицом к целительной ее прохладе, впивая несравненный запах корней и пряного разнотравья, и заплакал беззвучно, безудержно, облегчая душу, поручая земле свою скорбь. А она, необъятная и щедрая, принимала эту скорбь, даря ему исцеление, вливая в него твердость духа, возвращая радость бытия…
Домой Суриков возвращался уже под вечер. Солнце закатилось, когда он вошел в город, и для него вдруг неожиданно возникло все то, чем он пренебрег. Он шел и видел, как зажигались на улицах фонари, — их не было раньше; слышал, как поскрипывали под подошвами дощатые тротуары, недавно настеленные; проходя мимо Старобазарной площади, он заметил большую вывеску на доме Крутовских: «Здесь в скором времени откроется музей и библиотека».
«Батюшки мои! Где же я был?! — думал Василий Иванович. — Город-то как меняется! Вот уж действительно целый год в черных очках проходил…»
Дома его ждали с волнением, с тревогой. Мама, Прасковья Федоровна, не находя места в доме, караулила его у ворот. Дочери без конца выбегали на улицу. Только брат Саша был спокоен и, увидев его, запыленного, голодного, но веселого, спросил:
— Поди, на девятой был?
Василий Иванович кивнул с торжествующей, таинственной улыбкой, и они обнялись коротко и крепко.
Возвращение к самому себе
— Польку, играйте польку!
Четыре девочки, вставши в пары в верхнем зальце дома Суриковых, приготовились плясать. Василий Иванович сидел с гитарой на диванчике, а рядом, тоже с гитарой, расположился красноярский архитектор Леонид Чернышев; человек он был веселый, приветливый, гитарист страстный.
Весь этот вечер они посвятили музыке, разыгрывая в две партии Баха, Глинку, народные песни. Оба наслаждались, когда удавалось добиться чистоты и подлинной слитности в исполнении. А потом прибежали Оля и Лена, с ними сестры Глаша и Нюра Жилины, подружки по гимназии, куда с осени отдал дочерей Василий Иванович. Нюра — маленькая, белокурая, веселого, беззаботного нрава. Глаша — серьезная, в очках, с длинной русой косой, та девочка, которую впоследствии судьба привела к революционной деятельности, к «поднадзорности» и аресту.
Гитаристы изящно и весело грянули старинную польку. Две пары запрыгали по залу — девочки Суриковы в темных платьях, Жилины — в светлых. Увлеченно плясали, кружась то вправо, то влево. Дядя Саша, стоя в дверях, хлопал в такт и распоряжался фигурами. Темп ускорялся, девочки, раскрасневшись, едва успевали за музыкой и под конец, выбившись из сил, с хохотом повалились на пол.
— Вот уж действительно до упаду! — смеялся дядя Саша, помогая им подняться.
В дверях показалась бабка, пригласила всех на ужин вниз, в столовую. Там на столе кипел самовар, в вазочках рдело варенье из черной смородины, на блюде горой лежали пышные шанежки с черемухой. На подносе стоял запотевший графинчик с водкой, тонко наструганная вяленая оленина — «пропастинка», копченая омулятина и квашеная капуста, если кто из мужчин захочет выпить и закусить.
Прасковья Федоровна села за самовар разливать чай, особенно душистый и крепкий в доме Суриковых. Она сильно состарилась и одряхлела за последний год, но ради гостей принарядилась в черное канифасовое платье и туго обтянула голову черным, в мелкий розан платком.
Она не могла нарадоваться на старшего сына, видя, как сходит с него тяжкий недуг угнетения. Но все казалось ей — мало он ест, мало спит.
Иногда братья, развлекаясь после обеда, затевали веселую возню. Прасковья Федоровна с беспокойством следила, чтоб Саша не зашиб Васеньку.
— Да не мни ты его, Сашка, — ворчала она на младшего, — пусть лучше полежит после обеда-то! — И разнимала их и отправляла старшего наверх — отдыхать…
Вот и сейчас Прасковья Федоровна вдруг захлопотала.
— Васенька, а хочешь пельмешков горячих, от обеда остались? — с надеждой спросила она у старшего.
— Ну что ты, мамочка, на ночь-то! — отмахнулся тот и принялся угощать друзей.
Они пили водку и закусывали, говоря о чем-то своем, деловом, мужском, охотничьем. Девочки уминали шанежки, лукаво поглядывая друг на друга и смеясь чему-то своему, девчачьему.
— Мамочка, а старину покажешь нам? — вдруг обратился Суриков к матери и, не дожидаясь ответа, побежал в спальню, к сундуку, вытащил из него старинные шугаи, платки, косынки и тут же обрядил девочек, а потом заставил мать рассказать, когда и на какой случай наряжались во все это ее бабки.
— Нужно как зеницу ока беречь, пока мы живем, всю эту старину, — говорил он, любуясь расцветками и шитьем, — мы ее любим и ценим, а вот они, молодые, ничуть не дорожат древностью, не понимают красоты… Да ведь для них хоть трава не расти! — сокрушался он, кивая на девочек, что молча блестели глазами из-под шитых золотом повойников и косынок…
За распорядком в доме следил Александр Иванович.
— Ну, девочки, спать! — сказал он племянницам. — Поплясали, и хватит! — Он сам пошел провожать живущих по соседству сестер Жилиных.
Удивительной сердечности и доброты был этот человек, так и не устроивший своей собственной жизни. О себе он не думал, все о матери и брате. И сейчас его мысли были заняты новой работой Васи. Он сам толкнул его на мысль написать картину сибирской народной игры — взятие снежного городка. Василий Иванович сразу зажегся и начал собирать материал. Каждый базарный день он с утра толкался в народе, зарисовывая росписи на дугах и на старинных кошевах. Однажды он увидел розвальни с искусно выгнутыми скрепами на полозьях и тут же зарисовал их. Богатые узоры тюменских ковров он писал акварелью. Его занимали образы для толпы зрителей. Да и искать-то было нечего, стоило только выйти за ворота — все тут! Василий Иванович вглядывался в эти лица, освещенные солнцем, или в пасмурный день в рассеянном свете, и казалось ему, что каждое из этих лиц может органически врасти в картину. Как все они были ему близки и понятны своей сибирской суровой красотой!
Игру взятия снежного городка он знал еще с малого детства. Однажды дед Александр Степанович повез его в Торгошино поглядеть на эту игру. На всю жизнь запомнил тогда Вася взмыленного коня, который, проломив снежную стену, проскочил совсем рядом с их кошевой и комьями снега закидал и его и деда. Игра эта осталась от глубокой старины в память завоевания Сибири Ермаком. Во многих селах строили на масленицу снежные городки, но торгошинцы заранее лепили целые крепости, с пушками, бойницами, башнями, фигурами зверей или конскими головами. Потом крепость заливалась водой, и она, как хрустальная, радужно сверкала под солнцем. Красота была необычайная! Лихие всадники-казаки с разбегу налетали на городок! Не всякий конь шел на крепость, иные шарахались в сторону, вставали на дыбы, упирались, а то и сбрасывали всадника. Ну тогда совсем позор — в снегу вываляют, тумаков надают, народ все озорной, веселый, с хворостинами, с плетками. Машут, кричат, хохочут, не подпускают коня к крепости, а другие наоборот — подстегивают, дразнят, гонят на штурм. Шум, крик, свист, улюлюканье…
Все это всплывало сейчас в памяти Сурикова, и он увлеченно набрасывал эскизы для задуманного полотна. Александр Иванович безотказно возил брата по деревням. Однажды подговорил парней из села Ладейки построить настоящую крепость, нашелся и казак, что потом налетал на нее. Сурикову удалось сделать несколько зарисовок, но движения коня он так и не ухватил. Ведь всего одна минута! Где тут успеть!..
Проводив девочек Жилиных, Александр Иванович вернулся домой и поднялся к брату наверх. Он застал его за рабочим столом. Под лампой с зеленым колпаком были разложены карандашные эскизы композиции.
— Ложился бы ты, Васенька. Ведь завтра печник Дмитрий чуть свет приведет соседей. За три ведра водки сговорились крепость во дворе вылепить. Мне в присутствие к девяти, так я им помогу, часа два свободных выкрою. И ты встань пораньше да погляди — может, что-нибудь и подскажешь…
Василий Иванович, обрадованный, оторвался от рисунков,
— Какой же ты, Сашка, молодец! Как тебя на все хватает, горячая ты душа! — Он смотрел, улыбаясь, брату в лицо, тонкое, красивое, с густыми усами, опущенными по-казачьи книзу, и, казалось, не было в эту минуту никого ближе и дороже, чем этот чуткий и добрый человек.
Исцеление
Недолюбливал Василий Иванович Капитона Доможилова, за которым была замужем сводная сестра его Лиза. Она ушла из дома рано — с мачехой Прасковьей Федоровной жить было трудно. С зятем Василий Иванович не подружился. «Противный поп, жадный, — говорил он о Доможилове, — и фамилия у него какая-то скопидомная, и Лизу нашу вовсе от нас отстранил!»
Зато дочь Доможиловых Таня совсем не походила на родителя. Стройную красавицу с чистым лицом, с которого не сходило выражение приветливого внимания и какой-то детской доверчивости, любили в доме Суриковых все, даже строгая бабка.
Этим летом Таня часто ездила с Суриковыми на большие прогулки за Енисей. Дядя Саша запрягал Саврасого, и все садились в тарантас. Василий Иванович непременно захватывал этюдник.
— Да к чему ты краски-то берешь, — недоумевал порой брат Саша, — ведь едем-то на полчасика…
— Ну не-е-ет уж! Ни один хороший охотник в лес без ружья не пойдет, так и художнику без этюдника в лесу делать нечего!
И каждый раз приходилось им ждать, пока Василий Иванович не закончит акварель, а летом от мошки в тайге спасенья нет. Таня захватывала с собой на прогулки таежные сетки от мошки. И однажды Василий Иванович приметил, как смотрит Танино лицо сквозь эту сетку. Оно было словно отражение в зеркале, и от него, как от всей ее крепкой фигуры, веяло таким целомудрием, свежестью и простодушием, что по возвращении Василий Иванович тут же поставил холст на мольберт и начал портрет. Портрет этот был закончен быстро я висел в верхнем зале. А сейчас одна из красивейших женщин Красноярска, жена врача Рачковского, Екатерина Александровна, позировала Василию Ивановичу. Он писал ее в профиль, в меховой накидке и платке поверх шапочки. Рука ее была продета сквозь скунсовую муфту. Это был этюд уже к новой картине, где Рачковская будет сидеть в кошеве. Брата Сашу Василий Иванович усадит против нее, пусть покрасуется в бобровой шапке на фоне расписной дуги со звонками.
Этюдов и зарисовок набралось множество.
Чудную девушку он нашел по соседству. Хотелось написать ее смеющейся, и Василий Иванович старался рассмешить ее разными шутками. Она улыбалась, обнажая два ряда ослепительных зубов, но глаза ее на этюде так и остались серьезными — видно, слишком необычным делом было для нее позирование.
Все эти этюды висели сейчас в рабочей комнате Сурикова. С каждым днем их все прибавлялось. Все это готовилось к объединению в веселом буйстве жизни, в молодецкой сибирской игре, где опасность, ловкость и удаль воплощали дорогие для Сурикова воспоминания детства и вдохновляли его на новую ярость сердца, утраченную им за последние годы.
Сегодня он поднялся в шесть утра, едва начинало светать… Мороз был невелик, и несколько человек в полумраке скатывали огромные комья снега и обтесывали их, заготавливая для возведения стены. Александр Иванович вытащил для них из дома стремянку.
Василий Иванович пояснил, что именно хотелось бы ему воспроизвести из того, что он сам видел не раз. Стали класть, стену с аркой посредине. Дмитрий-печник, молодой казак с рыжеватыми усами на кирпично-красном от возбуждения и морозца лице, следил за постройкой. Установили по краям стены столбы с лихо вылепленными снежными конскими головами, с угольками вместо глаз. На печнике был рыжий' полушубок, синие плисовые штаны и светлые валенки, — в приближающемся рассвете Василий Иванович уже различал эти цвета. «Надо бы на него надеть шапку бобровую Сашину», — думал он, вглядываясь в тонкий профиль печника.
Мужики закончили стену и теперь обрызгивали ее водой из лейки. В утреннем морозце голоса их звучали чисто и-звонко. Стало почти совсем светло.
— Ох, как все это хорошо! — Горячее ликование охватило художника и, как бывало раньше, вызвало совсем неожиданные желания и действия.
Смеясь, он начал быстро лепить большие снежки и один за другим швырять их. Снежки крепко приставали к ледяной стене, и она становилась похожей на неровно выдолбленный камень какого-то старинного итальянского дворца.
На крыльцо вышли дочери. Они уже собрались в гимназию и с веселым удивлением наблюдали за точными и быстрыми движениями отца — давно они не видали его в такой бодрости.
— Ага, мое время истекло! — сказал дядя Саша, увидев племянниц. — Ну, братцы, мне пора в присутствие. В сарае — трехведерный бочонок с водкой. Как будет все закончено, заберете. — И он скрылся за кухонной дверью: надо было позавтракать и переодеться.
— Девочки, в гимназию не опоздайте, — говорил завороженным дочерям Василий Иванович.
Солнце выглянуло из-за холмов и бросило первые косые лучи на снежный городок. Он заиграл розовым сверканьем, отливая синевой под широкой аркой. Оля и Лена сбежали со ступенек крыльца и, прежде чем выйти за ворота, пробежали по очереди под снежной аркой, пригибая головы в меховых капорах.
Перед началом игры Суриков позвал всех завтракать. Озаренные пылающей русской печкой, сидели «мастера снежных дел» на кухне у Прасковьи Федоровны, уплетали пельмени и пили чай с бубликами, смеясь и подтрунивая друг над другом.
Когда все вышли из дому во двор, солнце спряталось за облака. Городок стоял в голубом мерцании. Дмитрий-печник побежал за конем, а Суриков, захватив из мастерской блок и акварельный ящичек, устроился на скамье, чтобы порисовать еще не тронутую крепость в цвете.
Дмитрий уже ездил по Благовещенской взад и вперед на красивом гнедом коне, разогревая его и подзадоривая для штурма крепости. Казаки шумно спорили — с какой стороны лучше начинать. Как воробьи, налетели на глухой забор соседские мальчишки, а иные устроились на крышах ближних сараев.
И вот началось. Отложив в сторону акварельные наброски, Василий Иванович вооружился карандашом и попросил Дмитрия несколько раз проскакать галопом и поднять коня на дыбы перед крепостью — хотелось уловить движение коня на скаку. Все было подготовлено, ребят кликнули во двор занять места возле городка. Казаки, вооружившись хворостинами, палками и кнутами, стояли в дальнем углу огорода.
Дмитрий начал издалека, с Благовещенской, проскакал ее, завернул в ворота дома, обошел крепость до группы казаков. Они с гиканьем и свистом стали махать хворостинами, посылая гнедого на штурм снежной стены, вокруг которой горланили и метались мальчишки, отпугивая коня.
— Давай, гей!.. Давай налетай!.. — кричали казаки.
Дмитрий развернул коня и во весь опор пустил его на городок. Сидя на крыльце, Василий Иванович ловил каждое движение коня и набрасывал его на бумагу. Конь начал плясать, а потом взвился на дыбы. В страшном напряжении Дмитрий пригнулся и, сильно хлестнув его плеткой, заставил рывком, всей грудью налететь на крепость. Словно богатырь, с разбегу раскрыл плечом закрытые ворота. Мальчишки, крича, шарахнулись в стороны.
Суриков был удовлетворен: он уловил движение коня, сильные, выпуклые плечевые мышцы под лоснящейся шерстью и разламывающуюся под напором на куски снежную стену. Четкими штрихами карандаша он изобразил на бумаге это движение и теперь повторил его в деталях по памяти. Взмыленный конь стоял среди комьев разрушенного сооружения, две снежных конских головы лежали под его ногами.
— Ну как, Василий Иванович, получилось? — спросил Дмитрий, тяжело дыша.
— Великолепно! Просто удивительно удачно! Все было видно как на ладони. Спасибо тебе, Дмитрий! Спасибо вам, ребята! Здорово мне помогли. — Он все еще продолжал рисовать, то и дело поглядывая на всадника, щурясь и улыбаясь.
Через несколько минут из ворот суриковского дома казаки, шутя и балагуря, выкатили на салазках бочонок водки. Мальчишки сопровождали их, свистя и хохоча на всю Благовещенскую. Суриков с альбомом в руках остался на крыльце перед разрушенной крепостью. И на листах вновь и вновь возникал схваченный верным глазом художника мощный рывок коня, которым решалась вся сцена старинной народной игры. Здесь, в Сибири, далеко от московской суеты, от привычного мира художников, жизнь его как бы началась наново.
А в это время Стасов писал Третьякову: «…Не имеете ли вы сведений о Сурикове из Сибири? Какая это потеря для русского искусства — его отъезд и нежелание больше писать!!!»
«Взятие снежного городка»
Быть может, впервые за всю свою жизнь Василий Иванович писал легко и быстро — без трудных спадов и неудач, без мучительных сомнений.
Картина — четыре аршина в длину и два в высоту — стояла на мольберте в верхнем зальце. Композиция была решена как-то сразу, и Василий Иванович работал теперь с наслаждением. Все было подвластно ему: мастерство, вдохновение, порыв развернулись сейчас во всю силу.
Братья все еще продолжали ездить по красноярским селам. Василий Иванович по-прежнему боялся что-нибудь, упустить, всегда стремился подглядеть что-то новое. Однажды заехали в Торгошино, попытались уговорить молодежь построить городок. Да куда там! Отказались парни, они уже не умели ладить снежную крепость, не то что их деды.
— Уходят традиции с годами, — сокрушался Василий Иванович.
В Дрокино написал он как-то с натуры одного мужичка со смешной фамилией — Нашивочников. Он был в собачьей дохе и в шапке с синим верхом. Таким и занял место в картине, сидя слева в санях с искусно выгнутыми полозьями и замахнувшись кнутовищем…
В Ладейках строили для Василия Ивановича настоящую» крепость и штурмовали ее потом на гульбище. Суриков сам выбрал место и для игрища. Справа — избы, слева где-то за толпой угадывается Енисей, за ним красноярские холмы с пашнями в голубой, влажной, весенней мглистости.
Женские типы сибирячек, с которых Василий Иванович написал множество этюдов, воплотились в картине в каких-то сказочных русских красавиц. Милитрисы Кирбитьевны Румяные, в ярких шубках, стоят они на дальнем плане, и среди общего веселого буйства что-то в них удивительно-серьезное, трогательно-застенчивое…
Центральная фигура картины — казак, штурмующий городок. В нем Василий Иванович изобразил, ни в чем не отступив от натуры, Дмитрия-печника. Конь его вломился в снежную стену, комья снега летят из-под копыт, и глаз дико косится. А за всадником сомкнулся стоявший в два ряда молодой народ. Смеются, кричат, машут хворостинами… Только на воздухе написанные могут быть так отчетливы, так свежи лица, так убедительны движения. С отпрянувшего мальчишки свалилась шапка и, еще теплая, лежит на снегу. А снег, так же как и в «Боярыне Морозовой», обладает множеством оттенков: где-то справа — желтоватый, слева — сероватый, переходящий в голубизну. И, как всегда в пасмурный день, в слепящей цветовой игре снега угадывается невидимое за облаками солнце.
А как насыщен колорит на открытом воздухе и до чего ярок! Кошева крыта мохнатым тюменским ковром, и цветы на нем — голубые, розовые, синие, — большие зеленые, перистые листья… Мохнатость ковра, фактура его особенно заметна в глубоких складках по углам кошевы, а яркость цветов веселит, радует глаз. В кошеве сидит Рачковская, с приветливой своей улыбкой. На ней скунсовая накидка, и на фоне цветастого ковра великолепно отливает синевой мех ее муфты. Рядом с Рачковской молодая пышная попадья в горностаевом воротнике, а напротив брат Саша. Он настолько выразителен в характере своем, что, пожалуй, среди общей массы лиц — это уже портрет.
К весне картина была закончена, и Василий Иванович показывал ее знакомым красноярцам. Однажды пришел к Суриковым четырнадцатилетний Дмитрий Каратанов, будущий известный художник-сибиряк. Он не раз заходил показывать свои работы. Василий Иванович любил беседовать с талантливым юношей, всегда находя достоинства в его еще неумелых рисунках.
— Ты работаешь с натуры, это хорошо. Продолжай. Но надо учиться рисовать правильно. — Василий Иванович достал из папки гравюру с изображением женской головы. — Вот смотри, как правильно поставлены в лице нос, глаза. Научись правильно строить лица…
Они беседовали три часа. Василий Иванович показывал мальчику свои итальянские этюды, — он всюду возил их с собой. А под конец подвел Дмитрия к новой картине. Мальчик был ошеломлен. Он долго в молчании рассматривал громадное полотно, едва умещавшееся в мастерской. Василий Иванович тоже молчал, задумавшись и приглядываясь к своей работе, — он каждый раз смотрел на нее по-новому. А потом сказал словно самому себе:
— Народное искусство — хрустально чистый родник. К нему и надо обращаться.
Бытовая?
Сибирская картина была представлена публике в марте 1891 года в Петербурге. В этот год почему-то все передвижники выставили небольшие вещи и почти все какого-то унылого духа. Умирающая от чахотки барыня печально сидела в кресле на картине «В теплых краях» Ярошенко. Картина Пастернака «К родным» изображала двух женщин: одна — молодая вдова с грудным ребенком, вторая — его кормилица, — безотрадное зрелище. Шишкин на этот раз выбрал для своей кисти всего одну сосну и поставил ее одиноко: «На севере диком». Не мог привести в радостное волнение и Ге своим «Иудой». Настроение в залах выставки совпадало с настроением буржуазной публики. Это было видно по газетным статьям, в которых критики обстоятельно смаковали каждую сценку, отвечавшую меланхолическому настроению «высшего света», от которого зависели судьбы художников.
И в это настроение резким диссонансом врывалось суриковское буйство красок и народное веселье, брызжущее с картины «Взятие снежного городка». Критикам, привыкшим следовать духу буржуазного общества, была непонятна и неприятна жизнеутверждающая свежесть Сурикова. Они накинулись на него, не придумывая веских доводов и не отбирая рода оружия, и потому сплошь и рядом попадали друг в друга и в себя самих. Одному не нравился сюжет, и он писал: «Нынешняя картина Сурикова не вызывает ничего, кроме недоумения. Понять трудно, почему и каким образом мог художник вложить такой сущий пустяк в колоссальную раму, величиною с добрые ворота… Содержание бедное, анекдотичное. Наудачу взята едва заметная, чуждая притом нашим нравам житейская мелочь — вздорная забава. Как же мыслимо объяснить зарождение и появление такой картины? Ради чего понадобилась и кому нужна она?..»
Другой борзописец находит, что: «Тот же недостаток перспективы, глубины и воздуха, который портит все картины Сурикова, присущ и новому его произведению. Воздуха очень мало, и замеченная некоторая грязнаватость тонов, не лишенная, однако, яркости…»
Третьему нравится сюжет, но: «В картине режет глаз жестокая пестрота красок. Вся она точно тот ковер, который навешен в ней на спинку саней справа, и отдельные фигуры толпы сливаются в ней во что-то пестрое, сплошное, многоголовое…»
Еще какой-то раздраженно-недоумевающий господин отметил в «Петербургском листке»: «Странное явление на выставке — эта картина г. Сурикова, трактующего на огромном холсте старинную казачью игру на масленице в Сибири. Она, очевидно, рассчитана на большую силу колорита и письма и испещрена яркими красками, однако г. Суриков в погоне за эффектом не достиг желаемой цели…»
Еще один критик из «Московских ведомостей» решил, что: «Переход от исторических картин к жанровым составляет бытовая картина г. Сурикова. Сюжет ее не совсем ясен… Картина написана в известном пошибе г. Сурикова, тяжело, пестро, скученно, на этот раз в ней немного более воздуха…»
А в «Русских ведомостях» какой-то критик заявил: «От картин исторических легко перейти к этнографии: таким этнографическим интересом отличается, по нашему мнению, картина г. Сурикова».
Василий Иванович читал все это со смешанным чувством недоумения, беспокойства и все же юмора. Но сознание своей правоты одерживало верх. Он сам считал картину «бытовой», быть может, потому именно, что в ней не было твердого исторического сюжета, в основе которого лежит какое-то определенное событие, а от Сурикова все привыкли ждать именно этого.
Между тем за озорной, буйной народной сценой несомненно стояло историческое прошлое: ведь все исторические и политические события находили отражение в обрядах, песнях, сказках, традиционных празднествах. Начиная с глубокой древности, история народа утверждалась жизнью и искусством, и всегда две эти линии тесно переплетались.
«Взятие городка» тоже было отголоском целой эпохи покорения Сибири, когда русские поселенцы должны были обороняться от «инородческих» племен, населявших Сибирь, и когда казачьи дружины «воевали» одну за другой татарские крепости и городки.
Буржуазные критики мало интересовались эпосом и народными традициями. А между тем новая картина Сурикова была тоже исторической живописью, и от нее Суриков пошел прямо к Ермаку. Все это было тесно связано единым могучим духом, близким и дорогим художнику с детства. Через призму юношеских воспоминаний, через кровную любовь к родине преломлялось художественное видение Сурикова, воплотившись в яркой, полной молодецкой удали и здоровой радости сцене «Взятия снежного городка».
Картину, однако, не покупали. Несколько лет странствовала она по России. Сменялись города: Москва, Киев, Харьков, Кишинев, Полтава, Одесса. Потом картина отправилась за границу — в Париж, на Всемирную выставку.
Только через восемь лет Суриков писал уже одинокому брату Саше (Прасковьи Федоровны не было в живых), что наконец продал «Взятие городка» коллекционеру фон Мекку за десять тысяч рублей.
«Зажгите фонарь!»
— Девочки, хотите посмотреть на луну в телескоп? — предложил дочерям Василий Иванович.
Ну конечно, они хотели, и в ясный лунный вечер все отправились в учительскую семинарию. Повел их молодой учитель истории и географии Павел Степанович Проскуряков: у него в географическом кабинете стоял прекрасный телескоп. К ним присоединился учитель Михаил Александрович Рутченко, давний друг Суриковых.
В здании семинарии в этот час было темно и тихо. Сторож, с которым Проскуряков заранее условился, пропустил их во двор. Проскуряков и Рутченко отправились в кабинет за телескопом, — решено было вынести его наружу. Суриковы оставались во дворе. Было около десяти часов, город постепенно умолкал, «зачекушивал» ставни, засыпал. В гаснущем небе, дразняще посмеиваясь, высоко стояла большая желтая луна. И вдруг за дверями послышалось глухое заунывное пение:
— Со святыми упокой…
Дверь медленно раскрылась, двое молодых людей, подражая похоронной процессии, стали выносить станок с телескопом, держа его на плечах наподобие гроба. Прежде чем Василий Иванович понял шутку, что-то словно обрушилось на него в этом пустынном дворе, озаренном призрачным лунным мерцанием, и сразу придавило его тяжелым душевным гнетом, от которого он с таким трудом избавился.
— Что вы?! Что вы делаете?! — закричал он вне себя, весь побледнев. Губы его дрожали.
Рядом, прижавшись друг к другу, стояли испуганные девочки.
Рутченко и Проскуряков мгновенно смолкли и, поняв свою бестактность, остановились посреди двора, нелепо держа на плечах станок с телескопом, не зная, что теперь делать. С минуту длилось тягостное оцепенение. Прервал его ничего не подозревающий сторож, вышедший из дверей:
— Ну, чего ж вы встали, господа хорошие? Налаживайте трубу-то…
Овладев собой и украдкой смахнув проступившие слезы, Василий Иванович взялся помогать незадачливым шутникам. Телескоп установили. Проскуряков направил его на луну, и все пошло как по маслу. Словно стыдясь минутной слабости своей, Василий Иванович стал особенно оживленно наблюдать за луной.
— Древние греки называли луну Селеной, — пояснил он. — Вот посмотри, Олечка, какие там моря и горы. На луне у каждого моря и у каждой цепи гор свое название…
Он по очереди поднимал дочерей, ставил на скамью и рассказывал все, что знал сам. Проскуряков помогал ему в разъяснениях.
— А названия-то какие сказочные, вы только вслушайтесь! Море Спокойствия, Море Ясности, Море Изобилия, Море Дождей, Море Облаков. И заливы, и озера, и горы — все имеет названия…
Девочки смотрели на горные хребты и воронки цирков, на словно отлитые из золота озера и моря, пятнами разлитые (по лунной поверхности.
Где-то за соседними дворами слышалась стройная песня. Видно, кто-то поблизости бражничал. Низкий женский голос запевал задумчиво и душевно, хор, самозабвенно подхватывая песню, посылал ее в темноту.
Красноярск засыпал. Изредка прогромыхают по булыжнику Воскресенской улицы колеса запоздалой телеги, процокают копыта коня под ночным всадником, проскрипит на петлях тяжелая калитка, загремит железный засов, и снова тишина. Только песня глухо льется да псы где-то воют на громадную светлую луну, мерцающую далеким миром позлащенных материков…
Это было второе лето, что проводил Суриков на родине. Почти каждый день ездили они то костер разводить на берег Енисея, то на Столбы, а то выбирался Василий Иванович со старшим сыном Кузнецова, технологом Александром, на охоту — пострелять чирков или фазанов. Оседлав коней, брали ружья и отправлялись рано поутру…
Картина «Взятие снежного городка» была закончена и стояла на мольберте, завешенная простыней.
Осенью Василий Иванович собирался скатать ее в рулон и увезти в Москву. Он и не представлял себе, что ему придется еще немало потрудиться над ней, что позднее многое покажется ему несовершенным. А пока все нравилось, все удовлетворяло и доставляло радость.
Суриков старался теперь уделить побольше внимания матери. По воскресеньям он провожал Прасковью Федоровну в новый собор к обедне.
Однажды, стоя рядом с ней и слушая хор певчих, он заметил икону — изображенного с фонарем в руке архидьякона Стефана. Но фонарь почему-то не горел. Уходя из собора, Василий Иванович пошутил, указывая старосте на икону:
— А фонарь-то надо бы зажечь…
Староста Селении не сразу сообразил, в чем дело, и, уже провожая Суриковых к выходу, взмолился:
— Зажгите, Василий Иванович! Зажгите фонарь!
Заинтересовавшись этой мыслью, Василий Иванович в тот же день, захватив краски, зашел в пустой собор. Он «зажег фонарь» в руке святого, да так ярко, что огонек этот каждому казался подлинным. Фонарь горел живым пламенем, особенно если собор не был освещен лампадами и свечами. Селенин был в восторге.
Ко всенощной явился протоиерей Касьянов, и первое, что он заметил, было пламя Стефанова фонаря.
— Что это, словно пожар в церкви? Кто ж это совершил? — загудел Касьянов.
— Художник Суриков, — объявил торжествующий Селении.
— Да как же он посмел без моего благословения касаться святых образов? — Всей тучностью своей, облаченной в лиловые шелка, ринулся поп к иконе и в бешенстве стал пальцем размазывать еще свежую краску. — Вот ему! Вот ему! Пусть не хозяйничает здесь!
Оторопев, смотрел Селении на дело рук своего «владыки». Наутро он явился к Суриковым и со слезами рассказал о случившемся.
— Зажгите фонарь, Василий Иванович! Зажгите снова. Мы не дадим ему больше бесноваться.
Василий Иванович прикусил ус. Потом вскочил:
— Пойдемте! Ключи от собора у вас?
Забежав в мастерскую, он что-то захватил с собой и зашагал к собору. Селении едва поспевал за ним, семеня позади.
Они вошли в собор. Василий Иванович подошел к образу, достал из кармана пузырек со скипидаром и осторожно стер размазанную вздорным попом краску. Фонарь погас.
— Что вы делаете, Василий Иванович! Побойтесь бога! — завопил староста.
Но Сурикова нельзя было остановить. Гнев и возмущение бушевали в нем.
— Вот незадача! Вот горе-то!.. — сокрушался Селении. — А ведь как горел, в соборе-то словно светлее стало!..
А Василий Иванович молча повернулся к выходу и пошел домой.
Опять Москва
(Осень 1890)
«Здравствуйте, милые мама и Саша!
Мы приехали в Москву. Покуда наняли небольшую квартиру в 3 комнаты и кухня. Плачу 30 рублей в месяц.
Воздух в Москве ужасный после Сибири.
Оля приготовляется в пятый класс. В доме живет учительница из ихней же гимназии. Она ее и подготовляет по-французски и немецки. Лена здорова.
Мебели купил и всей обстановки по кухне рублей на 45. Ни дивана, ни зеркала покупать не буду…
Мы только и мечтаем на лето к вам приехать. Скверно тут жить. Тесно и людно — на одном дворе три флигеля, и в каждом по четыре квартиры… «четырехместная карета и в ней 12 седоков»… Скверно, а учиться: лучше здесь. А как только май, так мы к вам до сентября. Мама, берегите здоровье, и ты, Саша.
Я вспомнил, что Савраске год был 19 июля, как мы его купили. Что-то он? Картину еще не развертывал. В следующем письме я напишу побольше.
Любящий вас В. Суриков».
Они жили теперь в Палашовском переулке, недалеко от Страстной площади. Эта площадь была центральным местом в Москве, она пересекала Тверскую. С одной стороны площади начинался Тверской бульвар с памятником Пушкину, с другой — широко расположился женский Страстной монастырь. За монастырем в проезде, словно под эгидой монахинь, в громадном четырехэтажном здании находилась Первая казенна» женская гимназия, куда по приезде из Красноярска поступили девочки Суриковы.
Первое время Василий Иванович сам провожал девочек в гимназию. На Страстной скрещивались пути конок и всегда была суета движения, он боялся этих переходов. Но двенадцатилетняя Оля скоро взяла на себя заботу о младшей сестре, и девочки стали ходить на занятия одни.
Василий Иванович будто заново обживал Москву. После Сибири все казалось ему суетным и бестолковым. В нем непрестанно, жила суровая нежность к простому, спокойному сибирскому укладу, все время хотелось общаться со своими, оставшимися где-то там, за реками, степями и лесами. И он писал:
«10 сент. 1890
Здравствуйте, милые мама и Саша!
Письмо от вас я получил. Ты пишешь, что мама готовит ягоды. Только не расходуйтесь много — малость пошлите..
Оля и Лена ходят в гимназию: Оля в 6-й класс, и Лена в приготовительный. Учиться теперь им легко. Начальница хотела Олю в 6-й класс перевести, но Олечка-душа воспротивилась. Мне, говорит, там будет трудно, да и шабаш… Внизу живет их подруга, вместе возвращаются из гимназии. Картину покуда не развертывал — мух много: боюсь, не испачкали бы снег. Но хоть через неделю-другую натяну на подрамок, который уже у меня есть. Смеряй-ка, Саша, точным, складным аршином, какая мера федоровского подрамника. Ширину и высоту. Я сделал 4 аршина и 2 аршина 3 вершка, а по картине кажется мал. Неужели здесь аршин меньше? Может быть, он плотницким мерил, который, быть может, не так точен. Не знаю…
Лилина могилка до того без нас заросла сорной травой, что не узнать. Теперь мы ее поправили. Бываем на могилке…
Напиши, Саша, о наших знакомых что-нибудь. Передай поклон твоим сослуживцам — Сергею Матвеевичу Лопатину, Пестрикову, Иноземцеву и другим. Тане посылаем поклон. Мы были проездом в Ачинске у ее сестры Анюты и Кати. Славные такие. Радушно нас приняли. Пока прощайте.
Целую вас, мама и Саша.
Твой брат В. Суриков».
Посылки и письма шли теперь из Сибири одно за другим; Василий Иванович старался не отрываться от красноярской жизни, он боялся по приезде впасть в прежнее состояние тоски и безнадежности. Еще во время возвращения казалось ему, что чем ближе к Москве, тем больше становится опасность потерять себя снова.
Но ничего этого не случилось, он продолжал быть полным сил и надежд, а они сосредоточивались на новом замысле — пожалуй, еще более крупном и широком, чем все, что он делал до сих пор.
Суриков задумал «Ермака».
Падение Сибири
Старый татарский хан Кучум, бывший сибирский царь, скитался по Вагайской степи. Царство его распалось. Столицу Искер — русские называли Искер Сибирью — отняли у него казаки… Не зря слово «казак» означает по-татарски — вольный человек. Правда, Кучум, сын бухарского хана Муртазы, сам отнял Искер у двух братьев — Едигера и Бекбула-та, за что всю жизнь терпел набеги Бекбулатова сына, Сейдяка. Но все же это свои, ведь Искер строили татары, и они намерены были вечно владеть им… Его больше тревожило, что русские давно начали строить крепости за Уралом, а потом перешли и через Урал. Правда, татары частенько беспокоили русских, а все потому, что у вогулов и остяков, подданных Кучума, русские меняли «звериную рухлядь» на всякую утварь, да сукна, да полотна. Вот и стали вогулы лучших соболей да бобров тащить русским, а что похуже — Кучуму в ясак нести. Он тогда заслал к Строгановым своего племяша Маметкула, чтобы им пригрозил хорошенько. Отсюда все и. началось…
Ох и богаты были эти солеварщики Строгановы! Все-то им тащат: из тайги — меха, с низов Енисея — рыбу, из России — любые товары. Со всех концов света за этой солью проклятой тянутся к ним.
Со многими племенами воевал Кучум: и с казахами, и с башкирами, и с ногайцами. Степные народы от века кормились набегами. Бывало, просаливали куски валеной конины под седлом, и никакой соли им не надо было. А самые опасные — русские. Царь Иван московский тогда на помощь Строгановым прислал казаков. Вот с этими трудно сладить: у них есть порох.
Воинов Кучум мог собрать тучу. Были ему подвластны остяки, что живут в землянках. Темный народ, истуканов из камня долбят, поклоняются им. Каждые три года новых высекают, а старых топят в Оби. Кучум много раз пытался их в магометанство обратить. Откажутся от истуканов, а потом снова украдкой долбят…
А вогулы — те по Тоболу живут. Тоже идолам поклоняются; нарядят их в свои шкуры и молятся им, еду им на ночь оставляют. Сколько раз кучумовы воины подкреплялись этой едой. А вогулы рады-радехоньки: бог скушал все, значит, сыт и к ним милостив будет!
А далеко внизу по Енисею живут еще и самоеды. Те на оленях и собаках ездят. В оленьи шкуры одеваются, ими и чумы кроют. Идолам не кланяются, у них бог Нум, в небесах живет. Молчаливый народ. Спроси самоеда: «Чей ты сын?» — ни за что не скажет. Ни роду, ни племени не назовет и где живет, не скажет… Да у них-то и имен мальчишкам не дают сразу. Вот подрастет, на охоте или на рыбной ловле отличится или в бою победит, тогда и нарекут. А молятся только в пляске — согреваться любят, у них мороз долго стоит. Всегда хотелось Кучуму подчинить их своему владычеству, но не удавалось. Ускользают… А вогулы и остяки — те его, кучумовы, рабы…
Богато было державное стойбище Кучума — столица Искер. Она стояла на отвесной круче, над Иртышом, обнесенная тремя валами и рвами. И подступа к этой грозной твердыне не было. Какие дома сосновых и лиственничных срубов со слюдяными окнами и прекрасными печами понастроили себе татары! Богатый ханский дворец и стройная мечеть украшали столицу! А какие несметные богатства хранились во дворце, какие драгоценности, какие меха!
Все пришлось бросить и нищим бежать в степь, захватив только жен да детей…
Может быть, и продержались бы, заперевшись от врага, да не было наверху колодцев. А из осажденной крепости, по отвесу, к Иртышу за водой не спустишься. Вот в чем была беда! А то бы, может, не пришлось бросать столицу и не было бы конца татарскому царству до конца мира, пока пророк Магомет не призовет правоверных к аллаху…
Еще задолго прослышал Кучум, что идет на него рать Ярмака. Три атамана с ним. Один разбойник — Иван Кольцо: царь московский приказал его казнить, да он бежал на Дон к Ярмаку. Еще два атамана — Никита Пан и Мещеряк. Шли они стругами по рекам. Кучумовы лазутчики доносили, что-де мала рать идет, не больше тысячи. Разве это сила? Казаков можно было всех ночью придушить. Одно только что — с ними пушки…
Как-то прибежали ратники князя Епанчи. Ярмак их город пожег, всех перебил. Те, что уцелели, рассказывали: «Пришли воины с такими луками, что огонь из них пышет, а как толкнет, словно гром с небеси. Стрел не видно, а ранит и насмерть бьет, и никакими доспехами нельзя защититься! И панцири и кольчуги наши навылет пробивает…» Вот что они говорили, и выли, и плакали от страха.
Племянник Маметкул несколько раз окружал Ярмака, заставы ставил — дрались шибко. Но лишь когда Кучум сам увидел их с кручи над Иртышом, понял он, что это было. Поздно понял!
Дракон лежал на Иртыше! Огромный дракон, извиваясь, медленно полз по воде к крутому берегу, под которым несметные Кучумовы полчища — десять тысяч человек — изготовились оборонять Искер. Но у дракона было сто голов, и каждая изрыгала пламя и дым. Страшная это сила — пушки и пищали русских! Как начали эти драконовы пасти посылать смерть на Кучумовых людей, стало войско гибнуть и разбегаться. Проклятье аллаха было это. Видно, Кучум сильно прогневил его, что напустил всесильный на него такую злую кару. Ну, пусть подъясачные, темные люди не выдержали, а то его татары — лучшие воины, что всегда дрались как львы. Их стрелы тучами летели на врага, неба за ними видать не было. И вдруг тетивы натянуть не хватило сил, в такое смятение повергли людей драконовы пасти. Да! Давно надо было громить, подстерегать, душить по ночам, сонных, пока враг еще не успел засыпать пороху в свою шайтанову глотку! Нельзя было их близко подпускать. Стрела разлет любит: чем дальше цель, тем глубже вонзается…
Никогда Кучуму не забыть этого осеннего утра. С высокого берега он увидел на Иртыше извивающегося, трепещущего дракона. И блестящий шлем на голове Ярмака зловеще сверкал, как драконий глаз, а над ним, словно гребень, отливая золотом, шевелилось на ветру знамя с русским богом. И сколько ни длилась битва, драконово тело нигде не раскололось, нигде не распалось на куски. Так и притиснул дракон Кучумову рать к берегу и раздавил его могучее, хитрое степное войско…
Старый хан Кучум скитался по Вагайским степям. Он был болен и слеп. Московский царь Федор, сын Грозного царя, прислал было ему тюк с лекарствами для исцеления глаз, да русский воевода крепости Шар завладел посылкой. Кучум писал воеводе: «Бог богат! Отдай снадобье для глаз!» Пришлось выкупить посылку последними соболями да бобрами. Сердобольный Федор, мягкий даже к врагам, звал Кучума побывать в Москве — погостить. Но хан не получил грамоты: он попал в плен к ногайцам и был убит ими…
Обо всем этом можно было прочесть в древних сибирских летописях. Подробно описывал покорение Сибири боярский сын Семен Ремезов из Тобольска, — он, по указу Петра, в конце XVII века начал записывать историю Сибири. Существовали еще более древние летописи — Кунгурская, Есиповская. Были уже изданы труды ученых — историков и географов конца XVIII века — о покорении и заселении Сибири. А Ершов — автор «Конька-горбунка» — выпустил в свет занятную поэму «Сузге» об одной из жен Кучума, она не сдалась Ермаку — закололась у себя в саду…
Но Суриков ничего этого не читал. Он просто взял дочерей и снова отправился на родину искать следов Ермака на сибирской земле.
Поиски духа времени
Три лета подряд проводил Василий Иванович с дочерьми «на колесах». То под ними вертелись колеса вагона, то парохода, то тарантаса или просто телеги. Все пути вели к одному — к поискам типов для новой картины. Нужны были татары. Потом нужны будут казаки.
Татары, остяки, эвенки. Типов в Сибири множество. Однако надо найти среди них похожих на типов времени Ермака. Ведь в Кучумовом войске они все разные. Ермаковцы ближе друг к другу по характеру — все единой крови, единой веры, единой воли, а кучумовцы — нет.
Первое композиционное решение было уже найдено. Он набросал его на бумагу, еще поднимаясь пароходом по Каме. Было ясно одно — зритель должен видеть татарскую рать и вместе с Ермаком смотреть врагу в лицо. Дружина Ермака притиснет врага к берегу. Эти люди на стругах, приплывшие на Иртыш бог знает из какой дали, претерпевшие тысячу бедствий, надвигаются с середины реки и, только выдержав жестокое побоище, причалят к берегу, чтобы овладеть столицей Искером — Сибирью, которая тем правдоподобнее и реальнее, чем прозрачнее и фантастичнее будут ее очертания в осеннем' мглистом мареве.
Суриков старался «угадать». Он считал, что это самое важное. Можно досконально знать исторические подробности и все же не «угадать» и ничего не «увидеть».
И потом, надо было все это любить так, как он любил, — с пеленок. Еще качаясь на неверных ножках, он тянулся к дядькиному казачьему мундиру. Пятилетним мальчиком при свете свечи в подвале он жадно разглядывал старинную пищаль, тускло поблескивавшую потемневшим стволом, и перебирал шершавые звенья заржавленной кольчуги.
Надо любить Сибирь, с ее суровым простором, нелюдимостью, надо захлебываться дикой, свежей радостью степей и с восторгом слушать беспокойный рокот кедровых вершин над головой, ощущать прилив сердечного ликования, подъезжая в зимних сумерках к селу и видя под снежными шапками на крышах мерцание рыжих огоньков в окошках и прямые столбики дымков в морозном багрянце заката…
Василий Иванович любил все это больше жизни и любви своей отдавался весь. Опять Красноярск, мама, Саша!..
Оставив детей на их попечение и стоя на палубе утлого пароходишка, который несся енисейской стремниной вниз к Туруханскому краю, он наслаждался извечной властью вод, журчанием бесконечных всплесков, легким шорохом волн или грозным рокотом их в непогодь. Остановившись в каком-нибудь степном поселке, Суриков занимал коня, брал этюдник и ехал верхом дальше, вглубь, встречая людей, знакомясь, делая этюды и зарисовки.
Однажды, запоздав на пароход, Василий Иванович застрял в крохотной деревеньке и постучался к местной учительнице из политических ссыльных. Она побоялась открыть на стук, но когда он назвался, дверь распахнулась.
— «Боярыня Морозова»? — спросила хозяйка. — «Стрелецкая казнь»?..
— Да, я казнил стрельцов! — пошутил Суриков.
Не было конца ее удивлению, радости, гостеприимству. Учительница затопила для дорогого гостя печку, поставила самовар и все удивлялась, как он тут очутился. Отдохнуть и выспаться Василию Ивановичу не удалось — они проговорили всю ночь напролет. Неуемно интересовалась ссыльная, жившая за тысячи верст от Москвы, всем тем, от чего она была так давно оторвана. Ведь у нее не было ни газет, ни писем, она ничего не слышала, никого не видела и была счастлива случайности, приведшей к ней уже знаменитого в ту пору художника.
Пришел пароход. С его палубы Василий Иванович следил за одинокой, закутанной в шаль фигуркой, затерявшейся на пустынном сибирском причале, пока берег не скрылся из виду.
Время от времени Суриков возвращался на два-три дня в Красноярск — повидать детей, попариться в баньке, провести вечер за гитарой, а потом снова в путь — вверх по Енисею в Минусинск либо на тряской телеге в дальние села, где жили татары. Иногда непогода заставала его где-нибудь в пути. Колеса по размытой дождями дороге облипали глиной по самые трубицы, становясь похожими на огромные ржаные хлебы. Лошади с трудом дотаскивали тарантас до постоялого двора, где ямщик насилу снимал с колес пуды налипшей грязи…
А этюдов все прибавлялось. На страницах блока появлялись все новые типы татар и остяков. Художник любовно разглядывал людей и зарисовывал их.
— Знаете, что значит симпатичное лицо? — говорил он. — Это то, где черты сгармонированы. Пусть нос курносый, пусть скулы, а все сгармонировано. Это вот и есть то, что греки дали, — сущность красоты. Греческую красоту можно и в остяке найти.
И он искал и находил эту красоту живой натуры и наслаждался ею. Она всегда была связана с народным искусством, с богатыми интонациями, будь то вышивка на оленьей малице эвенка, будь то печальная мелодия остяцкой таежной песни, будь то пластика движений молодого татарина, объезжающего дикого коня.
Полтора месяца кочевал Василий Иванович по отдаленным углам Сибири. Он стал худым. На степном солнце и ветру кожа его стала темнее, глаза светлее, движения легче и порывистей. Он был углублен в работу, и живая сила творческого подвига не покидала его ни на минуту.
В этом году пришлось выехать в Москву рано — девочкам нельзя было опаздывать в гимназию. Снова на лошадях до Томска, по ужасной дороге (Василий Иванович не помнил такой за всю свою жизнь). Конец лета был дождливый. А там на пароходе «Казанец» до Тюмени, потом по железной дороге, потом опять на пароходе до Нижнего, и снова железная дорога — до Москвы.
Иркутская жительница Козьмина, встретившая Суриковых на пароходе «Казанец», писала в своих воспоминаниях:
«…Внимание обратил на себя плотный, коренастый человек среднего роста, с типично смуглым лицом сибиряка, с длинными густыми черными волосами, которыми он при разговоре забавно встряхивал. Мы узнали, что это был художник Василий Иванович Суриков, возвращавшийся из Красноярска в Москву.
…Он познакомил нас со своими дочерьми, им было 10–12 лет. Они перед этим потеряли свою мать и были одеты в темные платьица. Это были застенчивые, скромные девочки с печатью сиротства.
— Посмотрите, — говорил Василий Иванович о своих девочках, — это тип будущих сибирячек. Их мать была француженкой, у отца они взяли сибирские черты, и я думаю, что тип коренных сибиряков — смесь русского и монгольского элемента — создается под влиянием культуры, вот именно с такими чертами.
Девочки были очень хорошенькие, смуглые, с тонкими нежными лицами.
— Каждый год, — говорил он, — я стараюсь возить своих девочек в Сибирь, чтоб они научились любить мою родину. Там живет моя мать — старая казачка, и я ее навещаю. И вообще я не могу долго быть вне Сибири. В России я работаю, а в Сибирь езжу отдыхать. Среди ее приволья и тишины я запасаюсь новыми силами для своих работ…»
«Чайная роща»
Под утро над Бутырками снова пронеслась короткая весенняя гроза. Василий Иванович услышал ее, на мгновение проснувшись, но закрылся с головой одеялом и опять уснул. Почувствовал он ее только утром по страшной духоте в спальне. Василий Иванович встал с постели и распахнул окно. Раздувая полосатые паруса штор, в комнату ворвался пахучий солнечный ветер. Чему-то улыбаясь, Василий Иванович бегом вернулся в постель и лег, наслаждаясь запахами влажной земли, что ветер прихватил с огородов за Бутырской заставой.
Спальня была та же, что и семь лет тому назад, когда они жили в этом доме вместе с женой Лилей. Василий Иванович долго колебался — въезжать ему в эту квартиру или нет? Осенью, вернувшись из Сибири, он было поселился на углу Цветного бульвара и Самотечной площади, в доме Торопова, но квартира там была холодна, а мастерская мала: в ней нельзя было уместить картину длиной в восемь и высотой в четыре аршина. Холст пришлось выписывать из Парижа. Выписал грубый, шероховатый, он дольше выдерживает свежесть письма. Сейчас картина стоит натянутая на подрамник, скомпонованная, вычерченная углем, в том же двусветном зале, где когда-то создавалась «Боярыня Морозова»…
Василий Иванович лежал на своей железной кровати, вспоминая вчерашний вечер и первую майскую грозу. Она застала его у выхода из театра Корша. Только что закончился спектакль. Давали «Даму с камелиями», в которой впервые выступала в Москве Элеонора Дузе. Потрясенные, взволнованные москвичи столпились в подъезде, от улицы их отделяла завеса ливня. Мощно раскатывался гром по московским крышам, и сине-зеленые вспышки молнии вырывали из темноты небольшую черную карету с фонарями, запряженную парой терпеливо-понурых лошадей. Карета ожидала актрису. К счастью, гроза быстро отшумела, и Суриков пошел домой пешком.
Под газовыми фонарями черно сверкал булыжник мостовой, пенясь, шумели ручьи вдоль тротуаров. Обрывки туч в тревоге неслись над землей, догоняя друг друга, и в их пролетах мерцало бездонное и беззвездное, не успевшее погаснуть и вновь загорающееся по краям небо.
Василий Иванович вышел к Страстному и зашагал по пустынной Малой Дмитровке, весь переполненный восторгом, упиваясь острой свежестью воздуха, омытого грозой. Перед глазами неотступно стояла эта маленькая божественная итальянка Дузе. В ушах звенел, как туго натянутая струна, ее голос, ее трагическое: «Арман-н-н-ндо!»
Боже мой, как она играла! Как эта гениальная итальянка, пренебрегая эффектными, театральными позами и жестами, вела последнюю трагическую сцену!..
Лежа на спине и заложив руки под голову, Василий Иванович вспоминал теперь мастерство Дузе в тончайших деталях: она не ведет сцену полулежа в кресле, обессиленная, умирающая, а все время пытается ходить, но каждый раз слабость заставляет ее присесть то на край постели, то в кресло… Какой огромный талант!..
Василий Иванович вернулся тогда домой около двух часов ночи. Какой-то душевный экстаз заставил его искать разрядки в движении, и он всю дорогу шел пешком, хоть по пути попадались извозчики…
— Папа, можно? — послышался за дверью приглушенный девчачий голос.
— Входите, душата! — улыбнулся Суриков.
Одетые в палевые шерстяные платьица, вошли дочери — веселые, свежие, как две репки.
— Вот тебе газета. — Оля быстро прижалась твердой румяной щекой к темной бороде отца и положила возле подушки свежую газету.
Лена уселась на край кровати — мягкая, мечтательная, очень похожая на мать.
Василий Иванович развернул «Русские ведомости»:
— Та-а-ак…
Он поглядел первую полосу. Официальные сообщения, перемежающиеся с черными рамками «усопших в бозе» и «преставившихся» знатных москвичей. Далее шло в благостном умилении: «Государь-император всемилостивейше изволил пожаловать по министерству финансов следующие ордена: святой Анны II степени на шею…»
— Кому на шею, а кому по шее!.. — пошутил Суриков, переворачивая страницу. — Новый 'рассказ Альфонса Додэ — «Лгунья». Надо будет вечером почитать…
Девочки сидят по краям кровати, газета с хрустом шелестит, в окно доносится голос разносчика: «Редис. Огурчики парниковые! Свежий редис кому угодно?..» — а где-то за ним гул весенней Долгоруковской и грохот колес по булыжной мостовой.
Девочки серьезно уставились на отца. А вот сообщения из-за границы: «…Стачка рабочих в Лодзи. На первое мая полиция и жандармерия безуспешно пытались разогнать толпу рабочих, требовавших повышенной платы…» «Франция. Одна из утренних газет объявила вчера, что в Париже появилась холера…» Суриков переворачивает страницу, она пестрит объявлениями:
— «Близ Севастополя продается фруктовый сад…» Купить, что ли, девочки? — Дочери смеются. — Нет, вот интересно… — продолжает отец. — «Молодой человек, окончивший Московское художественное училище, ищет занятий с детьми по рисованию и живописи…» Может, нанять вам его? А? Будете, душата, сидеть с палитрами… — Девочки просто валятся со смеху на ноги отца, протянутые под одеялом. — «…Готов поступить на место управляющего домом или имением». Э-э-э! Да это сначала надо имение купить, а потом уже живописи учиться!.. А вот смотрите: «Вчера около 6 часов вечера по Спиридоновке направлялись четыре серых бочки, из верхних отверстий которых расплескивались нечистоты, производя такое зловоние, что прохожие, зажав носы, должны были сворачивать в соседние переулки. Пора бы закупоривать получше ассенизационные бочки». — Василий Иванович опускает газету. — Пожалуй, пора бы городской думе прийти к твердому решению. Второй год заседают, обсуждая расходы по устройству канализации… Эх!..
Суриков вдруг поднимается с подушки:
— Ну, хватит! Надо вставать. Вы, девочки, ступайте готовить завтрак, а я приведу себя в порядок и подстригу бороду. И знаете что — поедемте сегодня куда-нибудь за город погулять!
Через минуту из столовой слышится стук посуды и беготня, а Суриков, одевшись наполовину, сидит перед зеркалом и, перекинув полотенце через плечо, привычно подравнивает небольшими отточенными ножницами усы и бороду, подстригая на щеках волосы до основания. Бритвой он уже давно не пользовался.
Чайная роща, куда Суриковы отправились в это воскресенье, находилась за Кунцевским парком. Небольшая березовая рощица привлекла внимание предприимчивого трактирщика, и он соорудил там на скорую руку балаганчик, поставил вокруг десяток столов со скамьями, врытых в землю, и с той поры москвичи охотно отправлялись туда на пикники. Доходило до того, что многие ждали, пока одни кончат завтрак и уступят место следующим. Но лишних столов хозяин намеренно не ставил, стремясь сохранить атмосферу популярности: публика больше ценит то, что дается с трудом. И потому москвичи терпеливо дожидались на траве под березками счастливой возможности занять наконец место за грубо сколоченным, окрашенным в зеленую краску столом, заказать самовар (бешеная дороговизна —25 копеек без сахара и заварки) и, развернув салфетки с закусками, пить чай под благословенный шелест молодых берез, в трепетных солнечных бликах и ароматах соседних полей, с примесью самоварного угара, что синеватой струйкой вьется меж кудрявых ветвей.
Пока Суриковы ехали в дачном вагоне по Смоленской железной дороге, Василий Иванович успел порисовать дочерей.
Они сидели против него, уткнувшись в книжки, стараясь сосредоточиться, что было весьма трудно из-за вагонной сутолоки, громкого разговора, смеха пассажиров и мелькающего за окнами весеннего пейзажа.
На платформе деревянного кунцевского вокзальчика на них опрокинулся майский полдень, отодвинув житейскую суету, потопив людские голоса, развеяв городские мысли. Визг стрижей, ликование жаворонков, невидимых в широкой лазури, хрупкая чистота не успевших просохнуть ландышей (их охапками продавали деревенские мальчишки), разогретый ветер, что гудел в телеграфных проводах, — все это властно уводило Сурикова от постоянного пребывания где-то в минувшем и от трудного восьмичасового топтания возле холста, с угольком в одной руке и тряпкой в другой. А девочки со счастливыми лицами отреклись от всех воспоминаний о своей «первой казенной». Ничего этого не было, а был огромный кунцевский парк с вековыми дубами и липами, гомон птиц, алмазная россыпь на перьях папоротника, дорожка с озерами неглубокой тени на солнечном песке, по которой уверенно и весело поскрипывали подошвы отцовских сапог, с голенищами, запрятанными под аккуратные черные брюки.
Вот и Чайная роща, еще по-весеннему прозрачная. Ее негустая листва лопотала при каждом дуновении ветерка, и неповторимым был терпкий, режущий ноздри аромат. Народу в это воскресенье было немного. Суриковы заняли небольшой, на отлете, стол и расположились по-домашнему, поставив посредине корзиночку с едой.
— Отлично! — сказал Василий Иванович, снял новую фетровую шляпу и для чего-то стал тискать и мять твердую тулью.
Лена возмутилась:
— Папочка! Ну зачем ты ее так портишь? Оставь!
— Да ну ее! Терпеть не могу новых шляп, думать мешают. — Он улыбнулся и положил шляпу рядом, на скамью.
Расторопный служащий, в белых штанах и рубахе навыпуск, мигом принес трактирный поднос с чашками. Привычным движением выкинул из-под локтя накрахмаленную скатерку, ловко застелил стол и расставил чашки. Через минуту он прибежал с кипящим самоваром и, осторожно уставив его на поднос, готовым жестом обтер полотенцем крышку; получив два пятиалтынных, склонился лоснящимся пробором и побежал убирать освободившийся стол.
Чай Суриков пил только свой — сибирский, он привозил его с собой либо получал от брата.
— Не могу я пить здешний чай, — говорил он. — Разве это чай? Чистый веник!
Оля хозяйничала возле самовара, небольшими пухлыми ручками высыпая из пакетика заварку в синий, цветастый чайник.
Откуда-то вдруг появилась кучка маленьких деревенских девчонок. Они встали кружком возле каких-то важных господ и затянули «Коробейника». Господа были навеселе, о чем свидетельствовали пустые бутылки, тускло поблескивавшие под столом, и хохотали до упаду, но это, видимо, нисколько не мешало «женскому хору». Девчонки с серьезными лицами старательно выводили:
Деньги сам платил немалые, Не торгуйся, не скупись…Все, как одна, стояли они босые, по-бабьи подставив левую ладошку под правый локоть и подперевшись кулачком. Их заедали комары, и они поминутно почесывали одной ногой другую или быстро хлопали себя по лбу и щекам:
Подставляй-ка губки алые, (Хлоп, хлоп!) Ближе к молодцу садись! (Хлоп, хлоп, хлоп!)Лена, помрачнев, с жалостью глядела на них, а девчонки, закончив «номер» и получив выручку, нимало не смущаясь, подошли теперь к столу Суриковых.
— Не желаете ли, господа хорошие, послушать песню? За пять копеечек любую поем, — бойко затараторила вихрастая девчонка, по всему видать — старшая.
Остальные, молча почесываясь, с любопытством разглядывали двух девочек в красивых пальто и соломенных шляпках.
— А вы откуда? — спросил Василий Иванович, прихлебывая чай из пестрой чашки.
— А мы мазиловские. Во-о-он там неподалеку — то наша деревня, Мазилово. Может, слышали?..
Суриков достал пятак из кошелька и протянул старшей.
— Ступайте-ка домой, певуньи, а то вас здесь… комары закусают до смерти.
Не сразу сообразив, девчонки вдруг оживились, зашептались и пошли к соседнему столу, пятясь и оглядывая девочек Суриковых.
— Спасибо, дяденька! — издали запищала самая маленькая и помахала дырявой косынкой.
— Папа, зачем это они? — Лена чуть не плакала.
— Зарабатывают, видишь! Десять раз пропоют — по гривеннику домой принесут, а это уже всей семье хлеба на два дня. Вы что думаете? Ведь их отец с матерью посылают на заработки.
Не успели Суриковы оглянуться, как возле них появилась компания мальчишек, один из них волочил по земле мешок с битками и чурками.
— Дяденька, хотите, городок поставим? За пятак любой городок с первого удара расшибем! — задиристо хвастал самый рослый из всей компании.
— Это еще что за коммерция? — вдруг вскипел Василий Иванович. — Марш отсюда! Посидеть спокойно не дадут… мазиловцы!
Мальчишки тут же смылись и вынырнули у другого стола. А где-то на опушке девчоночий хор пищал:
Уморилась, уморилась, уморилася!..Солнце уже припекало почти по-летнему, ветер улегся, но сквозь редкие жемчужно-серые стволы за рекой был виден горизонт с темной волнистой полосой леса, над которым поднималась лиловая туча, предвещавшая грозовой вечер.
Суриков сидел молча, задумавшись.
— Может быть, пойдем? — твердо предложила Оля, отмахиваясь салфеткой от налетевших комаров.
Василий Иванович посмотрел на горизонт. «Да разве это лес! Зубная щетка! — ожесточенно подумал он. — Вот в Сибири— леса!» И вдруг страстно потянуло его в нетронутую глушь горной тайги. Перед внутренним взором заплескалась желтоватая пена возле островка на спокойной и сильной Оби, Эти островки назывались «ноевщиной», и Суриков вспомнил, как где-то на пристани рассказали ему, что Обь в половодье сносила с берега громадные деревья. Они, зацепившись друг за друга, сначала торчали, как «ноевы ковчеги», а потом постепенно их заносило илом и песком, они зарастали травой, тростником и кустарником… «Боже мой, какая там сейчас красота! Цветы выше пояса — синие, желтые, фиолетовые!..»
— Папа! Ну пойдем же!
Девочки уже стояли, готовые в обратный путь.
Суриков вдруг стукнул кулаком по столу и рассмеялся. Глаза его блестели, лицо приняло какое-то настороженно-таинственное выражение.
— А знаете, душата, — он порывисто встал, — возьму-ка я завтра билеты на пароход, и поедем домой — в Сибирь!
Иртыш — Немир — Дон — Москва
«7 июня 1892
Здравствуйте, милые мамочка и Саша! Я живу теперь в Тобольске. Пишу этюды в музее, и татар здешних, и еще виды Иртыша. Губернатор здесь очень любезен — оказал мне содействие по музею… Время у меня здесь проходит с пользою… Дня через два уезжаем в Самарово или Сургут, остяков в картину писать. Если бог велит, более 3 или 4 дней там жить не думаю. А потом скорее к вам, дорогие мои. Мы ужасно соскучились по вас. Что делать! Этюды нужны. Целуем вас.
В. Суриков». Думаю быть в Красноярске числу к 15 или 17 июня».
Василий Иванович торопливо запечатал конверт, надел свою коричневую фетровую шляпу и по широкой деревянной лестнице спустился в первый этаж гостиницы — сдать письмо в экспедицию. Через час чиновник с почтой уезжал пароходом на Томск. Девочек Суриков отправил с соседкой в городские бани, а сам, захватив альбомы, пошел в музей.
Тобольский музеи помещался в странном аляповатом здании, недавно отстроенном в городском саду рядом с памятником Ермаку. Здание это можно было бы принять за церковь, если бы над куполом его возвышалась главка с крестом. Но памятник Ермаку и по соседству два обелиска, каждый из четырех пушек, устремленных жерлами к небу, создавали далеко не молитвенное настроение. Смотритель музея, плотный, краснолицый, с окладистой бородой, расчесанной надвое, повел Сурикова по залам, где в витринах помещались предметы татарского и остяцкого древнего быта.
— Вот, взгляните-с, господин Суриков, интереснейшая деталь — костяной ножичек, которым снимается кострика с крапивы, прежде чем обрабатывать ее под пряжу. Заметьте, ведь остяки и поныне предпочитают рубахи из крапивной нити… А это, — он указал своей розовой ладошкой на крючок из пожелтевшей кости, — извольте заметить, остяцкий медицинский инструмент — челюсть щуки, которой и поныне остяки пускают кровь Сольному!
Василий Иванович рассматривал экспонаты со смешанным чувством — не упустить бы основного и не запутаться в лишних подробностях. Все, что попадалось в поле зрения, было заманчиво и важно. Татарские железные наконечники для стрел — хорошо сохранившиеся смертоносные жала… А вот остяцкие — костяные, искусно выточенные… Найдены в раскопках на Искере. Поражали Сурикова громадные, изящно выгнутые луки и колчаны для стрел, красиво изукрашенные цветной кожей. Радовало глаз богатство узоров бисерных вышивок на меховой одежде. Пленяло воображение темное дерево старинных долбленых татарских челнов. Василий Иванович делал зарисовки, писал акварелью, старался схватить все самое характерное и яркое. Иногда в музей заглядывали его девочки и долго смотрели на остатки браслетов с бирюзой, на бусины из сердолика и малахита, на крохотные щипчики для выдергивания волос. А чаще все они сидели в музейной библиотеке.
На третий день пребывания в Тобольске Василий Иванович простился с дочерьми, поручив их одной знакомой, и с утра отправился на пристань, откуда шел пароход до Самарова. Село лежало в двух днях пути по Иртышу, при впадении его в Обь. Всю дорогу Суриков не уходил с палубы. Отлогие берега, сплошь покрытые цветами невиданной яркости, сменялись крутыми отрогами, на которых были раскинуты селения. Над одними возвышались колокольни, над другими — деревянные мечети. «Вот такие же, видно, мечети украшали столицу Искер», — думал Суриков, торопясь зарисовать в дорожный альбом легкую многоярусную ступенчатую башенку.
Распаханной земли было мало. Мало и скота на пастбищах. Не очень-то людны были эти места! Возле сел попадались остяцкие погосты, с надгробиями вроде посудных шкафиков, торчащих среди пустого поля. Попадались и русские монастыри, где за оградами, в кудрявой кладбищенской тени, прихожане находили свое последнее пристанище…
От большого села Самарова надо было пробираться вглубь, через тайгу, к остяцким юртам. Суриков ехал с провожатым — старым остяком-звероловом, приехавшим в Самарово за покупками.
Сибирские низкорослые иноходцы без устали везли путников сквозь непролазную тайгу, пробираясь глухими тропами, про которые ведали одни лишь здешние поселенцы. Поверх шляпы Суриков накинул сетку от гнуса, стонущего, жалящего, лезущего в нос, уши, глаза. Но и сквозь сетку зоркий глаз художника различал множество капканов на зверье, которого здесь было уйма.
К полдню добрались до остяцкого села и остановились в юрте у зверолова. Когда Василий Иванович вошел в юрту, ему показалось, что он не сможет оставаться там ни минуты, таким тошнотворным был воздух. Юрта о четырех углах была крыта берестой, крыша конусом сходилась к отверстию над очагом. Слюдяные окошечки никогда не открывались, перед дверью был разложен костер от гнуса. По стенам стояли широкие лавки, на которых сидели, спали, ели хозяева. Жили большой семьей: сам старик с женами и два его женатых сына с ребятишками, что вертелись тут же совершенно голые.
Из угла юрты тянулся тонкий, протяжный звук струны, без конца повторяющий монотонную мелодию. Суриков пригляделся: на низкой скамейке сидел молодой остяк в красной рубашке и меховой безрукавке, он держал в руках инструмент, напоминающий лютню. Инструмент был выточен из дерева и украшен искусно вырезанной головой медведя. Напротив сидели, поджав под себя ноги, три маленьких голых мальчика. Не мигая блестящими раскосыми глазками, они напряженно слушали музыку, словно она заворожила их.
Молодая женщина с черными косами вдоль спины, одетая в длинную рубаху, расшитую по плечам бисером, стояла возле пылающего очага, помешивая в подвешенном таганке какое-то варево. Платок скрывал ее лицо до глаз, наподобие чадры, а на конце каждой косы были навешены ленты, бусы, даже солдатские пуговицы.
Музыка неожиданно оборвалась — старик что-то крикнул сыну. Но Суриков остановил его:
— Ничего, пусть играет, это хорошо!
Молодой остяк улыбнулся гостю добродушно и весело, обнажив сверкающие зубы.
— Сиди, сиди! Играй, а я тебя нарисую.
Ребятишки продолжали молча сидеть, не оборачиваясь. Снова зазвенели струны, выводя печальную однообразную мелодию. Потрескивал очаг, в дыру на потолке тянулся столб сизого дыма.
Василий Иванович присел на маленькую скамеечку, раскрыл блок, попросил налить воды в баночку и принялся за акварель. Он рисовал остяка и фасом и в профиль, сидя под слюдяным окошком, забыв об удушающем запахе. Как сквозь сон слушал он музыку, наслаждаясь гармоничным складом молодого смуглого лица, детским ртом, непроницаемым взглядом глаз, как у монгольского божка, и прямыми, иссиня-черными прядями волос, падающими на низкий широкий лоб.
Бутылка водки, которую привез с собой Суриков, была распита за обедом. Закусывали вяленой олениной, копченой рыбой, похлебкой из утятины с пшеном. Василий Иванович захватил на всякий случай вареных яиц, сыру и кусок пирога с осетриной. Пили водку только гость да мужчины. Женщины лишь прислуживали, изредка пригубливая из мужниных стаканов…
В три часа пополудни Василий Иванович выехал из села в обратный путь к Самарову. Провожал его молодой натурщик. (Старик, захмелев, храпел в юрте). Суриков сидел, покачиваясь в седле, ни о чем не думая, блаженно вдыхая горячие запахи. Над тайгой стояло июньское солнце, плавя кедровую смолу, к его лучам тянулись высокие, темно-розовые метелочки иван-чая.
«3 июля 1892
Здравствуйте, милые мамочка и Саша!
Я теперь живу у Иннокентия Петровича Кузнецова, в его даче за Узун-Джулом, пишу этюды татар. Написал очень порядочное количество. Воздух здесь хороший.
Останавливался в Минусинске на один день, так как музей отделывался и многие вещи трудно было видеть. Думаю порисовать там на возвратном пути…
Пиши по адресу: Минусинск. Немир, около Узун-Джу-ла, резиденция И. П. Кузнецова, для передачи мне. Останусь здесь недели две еще. Нашел тип для Ермака… Мне очень хотелось в Красноярске пожить недельки полторы-две. Мамочка, целую вас, будьте здоровы.
Целую тебя, Саша. Твой В. Суриков».
Когда тарантас подъезжал к крыльцу кузнецовской дачи в поселке Узун-Джул, там уже все знали, что должен прибыть дорогой гость, и ждали его с распахнутыми настежь воротами.
Просторный двухэтажный дом стоял в глубине ложбины, за ним начинались мохнатые, лесистые холмы. Две крытые боковые террасы делали дом похожим на белую куропатку, раскинувшую крылья для полета.
Раньше здесь постоянно живал Петр Иванович. Теперь, после смерти старика, дом перешел к четырем его сыновьям. Все они слыли в Сибири чудоковатыми. Дач возле кузнецовских приисков было несколько: Узун-Джул, Аскизская, Кизас и под Красноярском Бугачево.
Здесь, на реке Немир, летом постоянно жил Иннокентий Кузнецов, с юности друживший с художником Суриковым. Сейчас он встречал его на крыльце — смугловатый, высокий, крепкого сложения человек с небольшими острыми карими глазами и крупным, как у отца, носом.
— А я думал, уж не дождусь тебя, Васенька! — радостно говорил Иннокентий, обнимая Сурикова.
Они стояли у крыльца, весело разглядывая друг друга и смеясь, словно мальчишки.
— Задержался в Минусинске, брат Кеша, акварели с кремневых ружей делал.
— Э-э-э! Да у тебя, Васенька, иней в бороде и кудрях появился, — шутил Кузнецов, беря гостя под руку и ведя в дом.
Здесь все было, как и двадцать лет назад, когда Суриков, еще студентом, приезжал лечиться от «грудной болезни» — пить кумыс в татарских юртах и писать таежные пейзажи на Матуре и в Аскизском. Боже мой, сколько же с тех пор воды утекло!..
Они поднялись наверх и вышли на тенистую длинную террасу. Перед глазами раскинулась просторная долина Немира, уже начавшая по-осеннему блекнуть. Василий Иванович вдруг вспомнил эту долину, сплошь усеянную палаткам и кострами. Это был петров день. Вся округа «минусинских татар» [9] съезжалась к Кузнецову в гости, на именины. Для них варилось и жарилось щедрое угощение, пеклись хлебы, ведрами запасалась водка. Костры горели всю ночь, и всю ночь пели, гуляли, плясали гости.
Иннокентий Петрович, получивший блестящее образование, стал археологом и литератором. Он колесил по всей Сибири, собирая древние документы, открыл издательство научной литературы, всячески помогал Минусинскому и Томскому музеям. Иногда деятельность его принимала фантастический характер: он вдруг решал, что необходимо переместить рыб из одного водоема в другой — безрыбный, для размножения. Изготовив специальные баки, он затевал перевозку рыбы на лошадях за десятки верст и потом вел над ними научные наблюдения. По тем временам он считался «самодуром» и «чудаком». А между тем деятельность его была подлинным стремлением к научным исследованиям.
— Ты подумай, — огорченно говорил Иннокентий Сурикову, помешивая ложкой чай, — в Томске на толкучке нашел я торговок, затыкавших бутылки с квасом вместо пробки актами XVII века! И какие же это оказались редчайшие документы! Я насильно, с трудом отнимал их и, проливая слезы, старался разобрать расплывшиеся тексты. Какой язык, какие драгоценные сведения о быте сибирских поселенцев! Множество актов времен Алексея Михайловича… Сколько этих бумаг изъедено мышами, сколько пошло на завертку в бакалейных лавчонках, сколько сгорело в наших гигантских пожарах!.. Первый том собранного я уже выпустил в свет.
Василий Иванович с интересом слушал. Его привлекала в Кузнецове целеустремленность ученого, ему нравилась его внешность, элегантность, манера держаться и разговаривать.
Они сидели за ужином вместе с маленькой Машей, единственной дочерью Иннокентия Петровича. Хозяйничала за столом ее воспитательница, пожилая и молчаливая. Жены Кузнецова Василий Иванович так никогда и не знал и ни о чем его не расспрашивал.
— А курганы все роешь? — спросил Суриков, приглядываясь к профилю Иннокентия и к жесту руки, порывисто освобождающей шею от туго накрахмаленного воротника рубахи.
— Рою, ну конечно, рою!
— А я один из твоих могильников зарисовал дорогой.
И, вскочив с места, Суриков принес этюдник, стоявший у стены рядом с баулом, раскрыл его и показал чудесную, затянутую дымкой степного утра акварель могильных памятников. Кузнецов замер от восхищения.
Две недели прожил Василий Иванович на Узун-Джуле, путешествуя верхом по окрестностям с альбомом и этюдником.
Однажды, выйдя за ворота, он увидел человека возле ограды. Рядом стояла его лошадь. Человек, очевидно, поджидал кого-то, попыхивая трубкой. Суриков замедлил шаг. Уже издали по свободному движению плеча, опершегося о штакетник, он почувствовал казачью повадку. Человек обернулся.
Суриков остановился. Не мигая светлыми на темном, загорелом лице глазами, настороженно-насмешливо смотрел на него сам Ермак. Рыжеватая густая бородка его была аккуратно подстрижена, казачья шапка с алым верхом, слегка сдвинутая набок, открывала прямой лоб, перерезанный белыми морщинками. Был он по-русски красив и мужествен. Василий Иванович заговорил с ним. Он оказался десятником казачьего полка, стоящего в Минусинском округе. Через полчаса в альбоме Сурикова появился набросок головы Ермака. Был найден характер и дух его лица и тот облик, в котором воплотился Ермак на картине.
Почти ежедневно Василий Иванович приносил все новые этюды. Он выискивал характерные типы татар; подсаживался «ним в кружок и, сидя на горячей степной земле, делал карандашные наброски, акварельные рисунки и небольшие этюды маслом, быстро и верно схватывая выражение и черты лиц.
Так «Кучумова рать» пополнялась все новыми и новыми типами. В папке лежали шаманы, горные пейзажи Немира, наброски татарских челнов, совсем маленькие, но важные детали — шаманский бубен, палочка к нему, особенное татарское весло или узор бисерной вышивки.
А в Красноярске ждали его дочери, для которых дядя Саша придумывал разные занятия и развлечения, ждала старуха мать, постоянно жившая надеждой еще раз прижать к груди «старшенького», этого вечного странника, на которого небыло угомону.
«Станица Раздорская, 4 июля 1893
Здравствуйте, дорогие мамочка и Саша!
Мы проживаем теперь в станице Раздорской на Дону. Тут я думаю найти некоторые лица для картины. Отсюда, говорят, вышел Ермак и пошел на Волгу и Сибирь.
Не знаю, долго ли проживу здесь, — смотря что найду…»
Свеча в старинном медном подсвечнике оплывала. Оранжевый язычок с голубой серединой пугливо метался из стороны в сторону при каждом движении воздуха из раскрытого окна. На большой кровати в углу просторной и высокой комнаты спали прикрытые простынями Оля и Лена. В другом углу, за старинной ширмой, обтянутой цветастым ситцем, стоял топчан, на котором всегда спал Суриков.
Сейчас он сидел у раскрытого окна. Вся в таинственных шорохах, густая теплая ночь обнималась со степью. Василий Иванович прислушивался к треску цикад, к дальнему крику ночной птицы. В окно тянуло запахом нагретых за день трав. Вокруг подсвечника то и дело падала обгоревшая мошкара, усыпая плотный твердый белый конверт, на котором четко было выведено: «Красноярск».
«…Ну, Саша, какое здесь настоящее виноградное вино, 60 копеек две бутылки (кварта). Отродясь, такого не пивал! Выпьешь стакан, так горячо проходит, а сладость-то какая! В г. Москве ни за какие деньги не достанешь — сейчас подмешают…»
Василий Иванович вспомнил лицо старой казачки, нацедившей ему вина из бочонка. Дом этот был казаков Шуваевых, они выращивали виноград, и вино они давили сами. Старуха чем-то напоминала ему маму — Прасковью Федоровну, лицо у нее было характерным. Но вообще донские казаки сильно отличались от сибирских. В них чувствовалась примесь, турецкой крови, тогда как в сибирском казачестве к русской крови примешивалась татарская. Донские были балагуры, самоуверенные, лукавые и жестокие. Они любили выгоду, умело хозяйничали и шли на любое дело «за веру, царя и отечество». Сибирские были суровы, независимы, неразговорчивы, очень патриархальны. Любили париться в банях, и были необычайно чистоплотны душой и телом. Они воспитывались. в борьбе с суровой таежной природой. Сибирские леса, степи и могучие реки выковывали характеры, так же отличавшиеся, от здешних, донских, как Енисей от Дона. И Дон показался Сурикову после Енисея мелковатым и мутноватым.
В нем, в Сурикове, станичники не сразу признали казака, хотя и приняли радушно. А когда он впервые при них сел на коня, станичный атаман, жилистый, худой, с бронзовым лицом, продолговатым носом и близко посаженными глазами, сказал:
— Сидишь хорошо, только носки держишь вразворот, не по-нашему.
«Написать бы его», — думал Суриков, сидя в седле и стараясь прижать носки к брюху коня. Поначалу это было трудно, а потом он привык и стал держаться по-донскому. Состаничного атамана он сделал акварельный портрет и подарил ему.
— Хорош, хорош! — приговаривал атаман, вешая рисунок на стену. — Ловко ты меня изобразил, казак. Ну, жди теперь, Василий Иванович, осенью получишь от меня бочонок вина нового урожая…
На дальнем дворе вдруг затявкал пес, и разом по всей станице залаяли собаки. Василий Иванович прикрыл окно и от мыслей вернулся к письму:
«Написал два лица казачьих, очень характерные, и лодку большую казачью. Завтра будет войсковой станичный круг. Посмотрю там, что пригодится. Начальство казачье оказывает мне внимание. Остановились мы у одной казачки за 20 рублей в месяц с квартирой и столом. В Москве осталась квартира за мной. Господь поможет, так увидимся на будущий год. Мамочка пусть бережет себя и ты тоже.
Любящий тебя брат В. Суриков».
Когда на следующий день Василий Иванович вернулся с круга, он застал дочерей томящимися от жары. Девочки сидели на высоко взбитой постели и от скуки болтали ногами. Добела выскобленные полы были перерезаны полосатыми дорожками. На комоде стоял глиняный кувшин с неправдоподобно яркими мальвами. На столе под кисеей сгрудились на блюде желто-розовые абрикосы, и над ними метался рой мух.
— Ну и жарища! — Поставив к стене этюдник, Суриков уселся, расстегнул косоворотку, вытер платком шею. — Сегодня в тени сорок… И есть-то не хочется, — прибавил он, слыша стук посуды на хозяйской половине, где Анфиса Прокопьевна накрывала на стол.
— Да как же так — не хочется? — огорченно откликнулась хозяйка. — Я к обеду окрошку состряпала да цыпляток — куда уж легче…
Ей нравились москвичи — отец с двумя сиротками. Особенно восхищалась она Олей, ее черными блестящими глазами. Оля походила на казачку.
— До чего ж ты румяна, дочка! Ну, заря, заря!
Оля краснела еще больше:
— Ой, ненавижу я этот румянец, просто свекла какая-то! — Сердясь и смеясь, она била себя по щекам. — Вон Ленка счастливая, всегда беленькая.
Лена, щуря близорукие серые глаза, смущенно улыбалась, и тогда темная родинка на левой щеке пряталась в ямку.
— Ну что ты, Олечка!.. А зато у тебя волосы чудные. Смотрите, Анфиса Прокопьевна, какие у моей сестры волосы. Оля, расплети косу…
— Ну вот еще! И так жарко.
Лена ловила сестру за косу, та отбивалась, они начинали носиться друг за дружкой вокруг стола, потом выбегали на крыльцо, во двор и от хохота с разгона валились в копну свежего нагретого сена…
Станичный круг принес Сурикову большую удачу. Под сенью громадного дуба стояли и сидели те, кого искало его воображение. Почти каждая поза, каждый поворот головы, каждое движение и каждое лицо могли служить ему натурой для левой — казачьей стороны картины.
«Знаешь, Саша, — писал он брату в следующем письме, — у нас с тобой родные, должно быть, есть на Дону — в станицах Урюпинской и Усть-Медведицкой есть казаки Суриковы, и есть почти все фамилии наших древних казачьих родов: Ваньковы, Теряевы, Шуваевы, Терековы, как мне передавали об этом донские офицеры и казаки, с которыми эти фамилии служили. Нашел для Ермака и его есаулов натуру для картины…»
Уезжали Суриковы в августе. Девочки, обрадованные возвращением домой, оживленно занялись укладкой вещей. Даже запыленная, душная, еще не прибравшаяся к осеннему сезону Москва сейчас тянула их к себе. Казалось, ничего нет живописнее их речонки Москвы, с ее баржами и замызганными пароходишками. Нет прелестнее берегов, чем Софийская набережная, с ее грохотом ломовых телег по булыжной мостовой.
А Василий Иванович мечтал добраться до своего холста — «восемь аршин в длину и четыре в высоту». Предстояла трудная рабочая зима в доме Збука, с топтаньем возле холста, постоянным торчаньем на стремянке с палитрой и кистями в руках, с поздними зимними рассветами, когда мозг горит от нетерпения, а краски только к десяти утра принимают свой подлинный цвет. Вот и изволь ворочаться в постели, маяться и ждать, ждать, поглядывая в медленно редеющий сумрак за примороженным окном!
И снова будут ранние вечера с теплым мерцанием настольной лампы в гостиной, с потрескиванием в печи, с бравурными этюдами Мошковского на стареньком пианино. Василий Иванович любил смотреть на крепкую девичью спину с тяжелой косой, на оттопыренные локти в широких розовых рукавах, когда Оля вечерами разыгрывала свои этюды.
Зимние вечера быстро коротаются, пока композиция в угле, но нет конца им, когда холст в красках. Тут уж нужно забрать в горсть все свое терпение, как забираешь кисти, когда, намылив хорошенько, протираешь их о ладонь, как это всегда делала незабвенный друг — Лилечка.
Первая встреча
Чайный стол был уже накрыт в саду, между серо-сиреневыми цветущими кустами. Ночью прошел дождь, он смыл с кустов бутырскую пыль, и они благоухали, то и дело стряхивая на желтую скатерть тусклые звездочки сирени.
За столом хлопотала Вера Михайловна Козлова, полная пожилая блондинка с выцветшим лицом. Она занимала в доме Збука небольшую квартирку в первом этаже и жила там одна, на средства, оставленные покойными родителями. Замуж выйти не удалось, и одиночество старой девы находило удовлетворение в привязанности к двум девочкам Суриковым, жившим этажом выше. Деревянная лестница делала Веру Михайловну невольной свидетельницей жизни верхних жильцов. Она всегда знала, ушли ли девочки в гимназию, была ли почта из Красноярска, в каком настроении ушел Василий Иванович на прогулку и в каком вернулся. Оля и Лена забегали к Вере Михайловне, и она радостно скрашивала своей заботой их сиротство.
Воскресные чаепития в саду стали традицией жильцов в доме Збука. В прошлый раз за столом хлопотали, угощая своими свежими ватрушками, девочки Суриковы. Сегодня за самоваром — Вера Михайловна. Специально для Василия Ивановича она испекла сибирские шанежки с сушеной черемухой.
Из флигеля появилось семейство Шванк. Обрусевший немецкий фабрикант в визитке и полосатых брючках, его жена — необъятная дама в оборочках и трое детей: суховатая, некрасивая Зина, только что окончившая гимназию, хорошенькая, субтильная «Гретхен» с пепельными локонами — Эльза «красивый юнец Макс в отглаженной черной форме реального училища.
— Здравствуйте, милейшие соседи, — говорил Шванк, поднимаясь навстречу Суриковым и протягивая сухую подагрическую руку. — Я слыхал, что вы вчера были на спектакле «Орлеанская дева» в Малом. Какое впечатление сделал спектакль?
— Отличное впечатление. — Василий Иванович склонился над пухлой рукой госпожи Шванк. — Дочки мои получили большое удовольствие.
Оля тут же завела беседу с сестрами Шванк. А Лена молча сидела возле Веры Михайловны, сосредоточенно поглядывая на присутствующих, — мысли ее были далеко.
— Леночка, что ж ты шанежки не пробуешь? — Вера Михайловна придвинула блюдо с угощением, но Лену невозможно было вернуть на землю.
— Ах, Вера Михайловна, если б вы видели, как она движется, как говорит, какой голос у нее!.. Руки какие! Я всю жизнь сидела бы там в кресле и только смотрела и слушала!
«Она» была Ермолова, и Лена, впервые увидев ее, переполнилась восторгом и смятением. Все в жизни Лены сдвинулось. То, что еще вчера утром казалось интересным и важным, вдруг перестало существовать. Где-то в глубине души поселилась мечта. Мечта о воплощении каких-то еще неясных образов поселилась навсегда.
«Господи, а ведь еще надо географию готовить на завтра», — с тоской думает она. Мысли ее возвращаются к статной, гибкой фигуре Ермоловой в латах и шлеме. Тут Лена, украдкой соскользнув со скамьи, незаметно исчезает за кустами сирени. По чугунной черной лестнице она поднимается наверх, в свою комнату, и, схватив с полки томик Шиллера, открывает заложенную шнурком страницу:
Святой отец, еще не знаю я, Куда меня пошлет могучий дух, Придет пора, и он не промолчит, И покорюсь тогда его веленью!Чаепитие в саду закончилось, Василий Иванович с Олей поднялись к себе. Отец прошел в мастерскую. Оля заглянула на кухню — распорядиться обедом. Лена в своей комнатке стояла в позе Ермоловой и с чувством произносила монолог.
В передней прозвенел звонок. Суриков сам открыл дверь. Вошли двое: пожилого плотного мужчину сопровождал высокий юноша в гимназической форме. Василий Иванович, видимо, ожидал их, потому что сразу провел к себе в мастерскую, а это бывало редко — он не любил показывать незаконченных картин. На этот раз гости были необычными: Сурикова навестил издатель Кончаловский, он приехал с сыном Петром, занимавшимся живописью.
Петр Петрович-старший был одет в бархатный пиджак, низкий воротник его сверкающей рубашки из голландского полотна был повязан белым шелковым галстуком. На крупной квадратной голове слегка курчавились волосы с проседью. Седоватые усы и бородка обрамляли мягкий, добрый подвижной рот. Над припухлыми веками широко расставленных глаз кустики седых бровей сдвигались, когда он задумывался, и поднимались кверху, когда смеялся. Голос у него был сильный, речь чистая и богатая интонациями. Он был образован, владел многими языками, любил и понимал живопись и был большим ценителем музыки. Дом его в Москве считался одним из очагов русской культуры, и потому Василий Иванович не решился отказать ему, когда тот попросился с визитом в мастерскую.
Младший Кончаловский был ростом выше отца, широкоплечий, с большими руками и ногами. Темные волосы были коротко подстрижены. На матовом лице серые небольшие глаза смотрели серьезно и внимательно. Крупный рот, крупный прямой нос, красивый лоб — все говорило о незаурядности, но когда он улыбался с закрытым ртом, застенчиво и молчаливо, это лицо становилось восхитительным, оно словно освещалось изнутри каким-то радостным дружелюбием.
Усадив гостей и оттянув занавеску, скрывающую картину, Суриков придвинул стул и уселся вместе с ними. Все трое молча сидели перед громадным полотном. Кончаловские — пораженные грандиозностью замысла, Суриков — словно впервые увидев «Ермака» со стороны.
Картина была вся уже в цвете. Оставалось лишь несколько еще не закрашенных фигур: натягивающий тетиву остяк в лодке, падающий назад убитый татарин и самоед в лисьем башлыке. Эту группу Василий Иванович еще не нашел по цвету. Двадцатого мая ему предстояло снова ехать в Сибирь, на поиски последних натур.
Картина ошарашивала своей динамической силой. Иртыш серо-желтыми всплесками кипел будто тут же, в мастерской. Зритель сразу, не сходя с места, словно становился участником событий. И так монолитна, так одержима единым духом была эта кучка казаков, и так поставил, усадил и уложил в стругах Суриков фигуры своих диковатых, отчаянных в бесстрашии предков, что каждый, кто подходил к полотну, невольно оказывался в едином стремлении с ермаковцами, и древнее знамя, с которым еще Дмитрий Донской ходил на Мамая, полоскалось, хлопало над его, зрителя, головою.
Крутой рыжий обрывистый берег Иртыша не давал глазу простора. Все движение упиралось в этот откос, как и все надежды и все возможности Кучумова войска. Размахнуться негде, натянуть тетивы нет места! А вверху, отдельно от своей вопящей, смятенной, гибнущей рати, воздев руки к аллаху, на белой лошади крохотная фигурка Кучума. С ним вместе его визири. Его шаманы беснуются и кружатся, ища поддержки у богов. И беспомощность этой группы парализует движение всей правой стороны картины.
Еще дальше — серебрятся очертания столицы Искера с мечетями и башнями, тающими в холодной, осенней мглистости. Под стенами крепости, на зелено-бурых откосах, угадываются очертания шатров, и оттуда словно доносятся вопли и визг жен и детей татарских, ржание коней, рев быков… И все это прерывается могучими кличами есаулов, отдающих приказы, трубными звуками, грохотом пушек и пищалей казачьего войска.
Левая сторона картины поражала богатством живописных средств. Тулуп, свисающий с борта струга, тревожил глаз грязно-белой овчиной. Густо-синий, темно-красный и золотистый казачьи бешметы, алые верха шапок, небесно-лазурная полоса на знамени, обветренные лица ермаковцев обладали какой-то притягательной силой, вышедшей из-под упругой и послушной кисти Сурикова: трудно было оторваться от этих цветов, от сверкания топорика, заткнутого за пояс у первого казака, шагнувшего в желтоватую, кипящую стремнину…
— Ну, Василий Иванович, — вдруг тихо сказал Петр Петрович, — это неслыханно и невиданно!
Суриков, казавшийся ушедшим куда-то очень далеко, внезапно вернулся и взъерошил волосы:
— Хоть единожды, да вскачь! Верно? Это у нас в Сибири такая поговорка. — И он рассмеялся весело и молодо.
Петр-младший восхищенно взглянул на него; он был взволнован чуть ли не до слез и, чтобы скрыть это волнение, вскочил и, подойдя к картине, стал рассматривать лица татарских ратников.
— Смотри-ка, Петя, и внизу меж ними крутится шаман, бьет палкой в бубен, — Петр Петрович-старший тоже встал.
— Он им страшно мешает, — улыбнулся Суриков. — Но без шамана никак нельзя!..
Петр-младший отошел к двери, чтоб снова посмотреть общее. В эту минуту дверь приотворилась, и он увидел в щелку пару блестевших любопытством темных глаз. Мелькнул румянец, розовое ухо под прядкой черных волос, и дверь снова закрылась.
Когда Оля вошла в комнату к Лене, та продолжала декламировать:
О, что со мною?.. Мой тяжелый панцирь Стал легкою, крылатою одеждой… Я в облаках… Я мчуся быстротечно… Туда… Туда! Земля ушла из глаз, Минутна скорбь, блаженство бесконечно!— Ну, что там? — с трудом оторвавшись от монолога в щурясь, спросила Лена. — Кто там у папы?
— Да какой-то старик с мальчишкой. Неинтересно. Была бы девочка, мы бы ее хоть сюда пригласили, поболтали бы…
Спустя несколько минут Суриков в передней провожал гостей. Разглядывая красивое, доброе лицо юноши, Василий Иванович спросил:
— А вы, Петя, решили серьезно заняться живописью? Петр улыбнулся, замялся с ответом, вместо него ответил отец:
— Да вот, видите ли, кончил гимназию, хочет стать художником, пишет много, рисует. Мне нравится, — прибавил он, одобрительно подмигнув сыну и хлопнув его по плечу. — Вот пошлю его летом в Париж, надо показать ему все, что есть самого ценного в Лувре. Пусть поучится.
Петр-младший сжал обеими руками протянутую ему небольшую, крепкую руку Сурикова.
— Спасибо вам, Василий Иванович, — заговорил он смущенно, — вы мне так много сегодня открыли…
Петр Петрович помолчал, потом обнял на прощание хозяина.
— Да, гениальное произведение родилось, у вас здесь, Василий Иванович!..
Дверь за ними захлопнулась. Суриков еще постоял с минуту, прислушиваясь с улыбкой к твердой поступи Петра-младшего, сбегавшего по лестнице, — он, видимо, спешил кликнуть извозчика для отца. И никто из них не знал, что жизнь свела их на мгновение только для того, чтоб впоследствии соединить прочными узами навсегда.
Нужен зритель!
Теперь Василий Иванович каждое утро садился в конку возле заставы и ехал до Страстного монастыря. А оттуда пешком шел до Исторического музея, где в одной из крутых башен получил помещение для работы. Закончить «Ермака» в доме Збука было невозможно: некуда было отойти, чтобы на расстоянии проверить верность цвета и композиции.
Помещение в Историческом музее было отгорожено от посетительских залов дощатой стеной, одно из окон завешено, из противоположного виден Охотный ряд, день-деньской кипевший и гудевший людским водоворотом…
Василий Иванович поглядывал в окно мастерской, поджидая приглашенных. Теперь ему нужен был зритель. Приезжал к нему Савва Иванович Мамонтов; навестили его историк Забелин и знаменитый путешественник Потанин; несколько раз смотрели «Ермака» начальник музея Щербатов и начальник Оружейной палаты Комаровский. Вставленная в массивную золотую раму, картина углубилась. Отчетливей стали отдаленные точки. Рельефнее выявились фигуры первого плана. Картина стала еще монументальнее и значительней.
Сегодня Суриков ждал художника Нестерова. Он пришел точно в назначенный час и вот что впоследствии написал о своем посещении: «Слухи о том, что пишет Суриков, ходили давно, года два-три. Говорили разное, называли разные темы и только в самое последнее время стали увереннее называть «Ермака»… И вот завтра я увижу его… Наступило и это «завтра». Я пошел в Исторический музей, где тогда устроился Василий Иванович в одном из запасных, неоконченных зал, отгородив себя дощатой дверью, которая замыкалась им на большой висячий замок. Стучусь в дощатую дверь. — «Войдите». Вхожу и вижу что-то длинное, узкое… Меня направляет Василий Иванович в угол, и когда место найдено, — мне разрешается смотреть. Сам стоит слева, замер, ни слова, ни звука. Смотрю долго, переживаю событие со всем вниманием и полнотой чувства, мне доступной; чувствую слева, что делается сейчас с автором, положившим душу, талант и годы на создание того, что сейчас передо мной развернулось со всей силой грозного момента, — чувствую, что с каждой минутой я больше и больше приобщаюсь, становлюсь если не участником, то свидетелем огромной человеческой драмы, бойни не на живот, а на смерть, именуемой «Покорение Сибири»…
Минуя живопись, показавшуюся мне с первого момента крепкой, густой, звучной, захваченной из существа действия, вытекающей из необходимости, я прежде всего вижу самую драму, в которой люди во имя чего-то бьют друг друга, отдают свою жизнь за что-то им дорогое, заветное.
Суровая природа усугубляет суровые деяния. Вглядываюсь, вижу Ермака. Вон он там, на втором, на третьем плане; его воля — непреклонная воля, воля не момента, а неизбежности, «рока» над обреченной людской стаей.
Впечатление растет, охватывает меня, как сама жизнь, но без ее ненужных случайностей, фотографических подробностей. Тут все главное, необходимое. Чем больше я смотрел на Ермака, тем значительней он мне казался как в живописи, так и по трагическому смыслу своему. Он охватывал все мои душевные силы, отвечал на все чувства. Суриков это видел и спросил: «Ну, что, как?» Я обернулся на него, увидел бледное, взволнованное, вопрошающее лицо его. Из первых же слов моих он понял, почуял, что нашел во мне, в моем восприятии его творчества то, что ожидал. Своими словами я попадал туда, куда нужно. Повеселел мой Василий Иванович, покоривший эту тему, и начал сам говорить, как говорил бы Ермак, покоритель Сибири…»
Счастье с несчастьем в одних санях едут
В сизое февральское утро закатанный в рулон холст с «Покорением Сибири Ермаком» был уложен в длинный ящик. Василий Иванович сам следил за тем, как вбивались гвозди в крышку ящика. Разобранная рама была связана и упакована в брезент. Суриков отправлялся в Петербург на двадцать третью выставку передвижников. Мастерская в Историческом музее освобождалась.
Непонятное, щемящее беспокойство внезапно охватило Василия Ивановича, когда ящик несли вниз по лестнице, чтобы уложить в фургон для перевозки мебели и отправить на Николаевский вокзал.
Беспокойство не покидало его весь день, это чувствовали и девочки, садясь с отцом за обеденный стол. Он был молчалив, глаза его тревожно скользили по окружающему, он почти ничего не ел и ни разу не улыбнулся. До отъезда на вокзал он просидел у себя в комнате, что-то читал, перелистывал и записывал. Дочери не мешали ему и, запершись у себя, о чем-то спорили, приглушенно смеясь.
Сумерки плотно заволакивали все вокруг. Стенные часы в нижнем этаже пробили семь раз. «Уже семь, — думал Василий Иванович, — через час отправляться… А в Красноярске сейчас два часа ночи…» Острая тоска сдавила ему душу.
А в Красноярске с полуночи поднялась метель. Вихри снежной пыли крутились по Благовещенской, ударяли в окна суриковского дома. Ставни, против обычая, не были «зачекушены», тусклый свет проливался наружу. На пустынной, темной, заснеженной улице дом светился, как зажженный фонарь.
В нижнем зальце, на столе под образами, стоял небольшой гроб, в нем покоилось сухонькое тело Прасковьи Федоровны. Плоское, осунувшееся лицо старой казачки походило на серый камушек, обтесанный енисейской пучиной. Монашенка возле налоя со свечами читала над покойницей акафист, время от времени мелко крестясь. Чуя запретность своих помыслов, крадучись по темным углам, неслышно пробрался в. зальце любимец Прасковьи Федоровны — серый кот и, скользнув под тканое, свисавшее до полу покрывало, улегся под столом, на котором вечным сном спала его хозяйка.
Остро пахло разложенными повсюду еловыми ветвями и плавленым воском. В кухне на печи, в глухом беспамятстве, почти не дыша, забылся настрадавшийся Александр Иванович.
Утром дом наполнился суетой, шепотом и стуком валенок, с которых сбивали снег в передней, бормотаньем священника, густым унылым басом дьякона, подхваченным жиденьким квартетом певчих. К аромату хвои прибавился аромат ладана.
Александр стоял с почерневшим, застывшим, словно скорбная маска, лицом. Вокруг толпились друзья, сослуживцы, соседи, плакавшие не столько об утрате, сколько от горячей жалости к любимому всеми, доброму, честному, скромному гражданину города Красноярска.
В широко распахнутые двери яростно врывались вихри» колючего снега, — четверо мужчин вынесли на полотенцах легкий гроб, под которым торопился, перепрыгивая через еловые ветви, серый кот.
Ветер распахивал шубы, осыпал снегом обнаженные головы. Гроб установили на катафалк. Гремя, навалились на него тяжелые железные венки цветов. Траурная процессия тронулась в свой печальный путь, провожая старую казачку к месту последнего успокоения. Над толпой провожающих в снежной пелене одиноко маячила высокая шапка младшего сына. Между визжащими колесами катафалка деловито бежал серый кот…
Это было 6 февраля, но старший сын узнал об этом только через три недели.
Суриков сидел в номере гостиницы и просматривал газеты. Петербург жил своей обычной жизнью. Шла масленица, с балами и маскарадами в Михайловском манеже…
В роскошных особняках от апоплексии умирали тучные богачи, объевшись блинами, или рождались наследники миллионов, титулов и пороков. В петербургских трущобах на лохмотьях помирали от голода бедняки, в подъездах богатых домов пищали подброшенные младенцы — «мужеска» или «женска» пола…
К великому посту русские певцы и актеры должны были «прекратить паясничать» и уступить подмостки гастролерам с мировыми именами: Мазини, Батистини, Элеоноре Дузе, Саре Бернар. Потом наступала страстная неделя, и вся Россия должна была погружаться в пост и покаяние для того, чтобы после все, кто мог, предавались излишествам под малиновый звон церквей и треск раскрашенной скорлупы пасхальных яиц.
За день до открытия двадцать третьей выставки ее посетил царь Николай Второй с царицей и купил суриковское «Покорение Сибири Ермаком». Третьяков в этот раз не пополнил своей галереи произведением Сурикова. Видимо, картина показалась ему слишком крупного плана.
Семнадцатого февраля вся набережная Невы перед Академией художеств чернела от экипажей и саней, подвозивших посетителей. Толпы народа стремились попасть на открытие. Спустя неделю Суриков писал в Красноярск:
«24 февраля 1895
Здравствуйте, дорогие мамочка и Саша! Спешу уведомить вас, что картину мою «Покорение Сибири Ермаком» приобрел государь…
Был приглашен несколько раз к вице-президенту Академии графу Толстому, и на обеде там пили за мок» картину. Когда я зашел на обед передвижников, все мне аплодировали. Был также устроен вечер в мастерской» Репина, и он с учениками своими при входе моем тоже аплодировали. Но есть и… завистники. Газеты некоторые тоже из партийности мне подгаживают; но меня это уже не интересует… Были при мне уральские казаки, и все они в восторге, а потом придут донские, Атаманского полка и прочие уж без меня, а я всем им объяснял картину, а в Москве я ее показывал донцам.
В. Суриков»..
Чего только не писали о «Ермаке»!
Упрекали художника в «первобытной неумелой композиции», в «грубой, ученической живописи», «в беспомощном рисунке». Называли картину «нечищеным сапогом», издевались, уверяя, что «по одну сторону казаков одного фасона носы, а по другую — другого». Усматривали в картине «такие крупные недостатки, что она не выдерживает даже снисходительной критики».
И каждый критик, изругав картину на чем свет стоит, под конец снимал шапку и раскланивался перед «могучим, самобытным талантом г. Сурикова», как бы уступая государеву вкусу и выбору. А некий М. Соловьев заявил, что в картине «…всех объединяет духовное единство, на всех лежит отпечаток разбойничества, разрыв с обществом, сознания вины перед царем и Россией, загладить которую они идут своею кровью и челобитьем покоренной трети величайшей части света. Это могучий натиск народности во имя самодержавия и православия».
Василий Иванович не мог относиться серьезно к подобной трактовке своего творчества, и все эти злобные, в корне неверные рассуждения о «Ермаке» оставляли его равнодушным, но одна статья, подписанная «М. Ю.», возмутила его.
М. Ю. писал: «Такие удивительные подробности. Вы чувствуете, что налево стоят «наши», да, да — «наши»; они стоят и палят, палят из ружей, как настоящие русские люди, а направо, на другом берегу, толпятся «не наши», толпятся так, как может только толпиться дикая, нестройная, азиатская орда… С луками, со стрелами, эта «погань» тоже защищаться хочет, да еще там бога своего мерзкого призывает, ну и лупи их».
Василий Иванович читал это и думал: до какой же степени автор далек от понимания подлинного замысла художника, у которого никогда не было отношения к татарам как к врагам в этой картине!
«А странные люди натягивают луки, пускают стрелы и злятся… ух, как злятся, кажется, они готовы перекусить горло нашим казакам, — продолжает М. Ю., — и вы понимаете, что «наши» возьмут: у «не наших» нет вожака, никто его не слушается и часть их уже улепетывает. А у наших есть атаман, и вы в этой сумятице видите его: это Ермак Тимофеевич! И вы чувствуете, что он здесь главный, всем руководит и все его слушаются потому, что он одно слово «атаман»!.. Я все стоял перед картиной и думал о Сурикове: какой славный, чистый, истинно русский человек должен быть, чтобы написать такую картину…»
Василий Иванович никогда еще не чувствовал себя таким непонятым и поруганным.
«Что за черносотенная, мерзкая позиция, — думал он, сначала весь багровея, потом белея от гнева. — Уж лучше честно выругать, чем так бесстыдно-погано выхвалять!.. Пакость какая!» Он в бешенстве скомкал газету, потом начал рвать ее «а куски и топтать сапогами.
В Москву Суриков вернулся в конце февраля. Он подкатил утром на извозчике к дому и поднялся по скрипучей лестнице в квартиру. Дверь ему открыла кухарка Настасья. Василий Иванович называл ее «Настасья — кружевная постель» за то, что в кухне соорудила она пышную белую гору, и Василий Иванович уверял, что спит она рядом с постелью на полу, положив под голову медный таз для варки варенья.
Девочки уже ушли в гимназию. Пока в кухне закипал самовар, Суриков прошел в свою комнату. На столе он нашел конверт со штампом Красноярска…
Настасья в этот раз долго не могла дождаться хозяина к завтраку. Когда же она бесшумно приоткрыла дверь, то увидела его, упавшего грудью на стол. Спина его сотрясалась от рыданий. «Мамонька-а-а!» — стонал он приглушенно в безысходном отчаянии, опустив голову на стиснутые кулаки. Настасья прикрыла дверь. В этот день она уже не видела больше хозяина.
Александр Иванович, повязав кожаный передник, пристроился в кухне на низком широком чурбаке перед столом со множеством отделений для гвоздей и инструментов. Вокруг валялись куски кожи, сыромятные ремни. Постукивая молотком, дядя Саша мастерил хомут. После смерти матери единственным утешением для него было, придя со службы, либо шорничать, либо плотничать, либо пилить дрова. На это уходили все свободные часы. В кухонное окошко постучался почтальон. Александр Иванович бросил шило и кинулся открывать дверь. Пришло письмо из Москвы:
«Здравствуй, дорогой наш Сашенька!
Получил вчера твое скорбное письмо. Чего говорить, я все хожу как в тумане. Слезы глаза застилают. Милая, дорогая наша матушка. Нет ее, нашей мамочки…
Я заберусь в угол да и вою. Ничего, брат, мне не нужно теперь. Ко всему как-то равнодушен стал. По всей земле исходи — мамочки не встретишь. Недаром я ревел, как выехал из Красноярска. Сердце мое сразу почувствовало, что я ее больше не увижу…
Скорбно, скорбно, милый братец мой Сашенька! Так бы и обнял тебя теперь и рыдал бы вместе с тобой, как теперь рыдаю. Я все ждал лета, чтоб тебя с мамой в Москве увидеть, и комнатку для мамы назначил…
Как ты живешь теперь? Кто готовит тебе и кто около тебя? Письмо это пройдет 20 дней, а меня беспокоит, что с тобой за это время будет? Одно, Саша: не давай воли отчаянию… Летом мы, если господь велит, непременно увидимся. Я жду не дождусь этого времени. Напиши мне о себе, а я вскоре еще буду писать тебе.
Целую тебя, дорогой и милый брат мой Сашенька.
Твой В. Суриков».
Александр Иванович, охватив голову обеими руками, подошел к окну. Во дворе из лужицы под капелью пили куры, задирая головы и жмурясь на солнце; рыжий петух, разъяренно припадая на крыло, мчался кругами и, с криком разогнав кур, сам захлопав крыльями и победно прокричав, стал утолять жажду весенней талой водой…
А в это время за семь тысяч верст, в Москве, в доме Збука, Василий Иванович вскрыл пакет с президентской печатью Академии художеств. Из пакета он извлек хрустящую бумагу, уведомляющую художника Сурикова об утверждении его в звании академика.
Новая ноша
— Представь себе, Вася, ведь кот пришел на кладбище со всеми. Мне говорили, что, пока мы хоронили маму, он стоял в сторонке. Домой он уже не вернулся… А на пятый день я пришел расчищать могилу от снега и наткнулся на него, замерзшего. Лежал на могиле, словно на печке спал, пришлось его за оградой кладбища зарыть. Вот какой случай был!
Александр Иванович сидел на скамейке возле могилы матери, обхватив длинными руками худое колено. Василий Иванович сидел рядом, губы его были крепко сжаты, он неотрывно глядел на холмик, обложенный дерном и сплошь усеянный незабудками, изредка горестно покачивая головой. Оля и Лена, вооруженные кистями и ведерками с зеленью, красили новую ограду. Сейчас они стояли по ту сторону ее и, опершись о штакетник, еще не закрашенный, слушали рассказ дяди Саши.
Они приехали накануне, и дядя Саша, без памяти от радости, плача и смеясь, бегал по дому и по двору, разгружая громадный тарантас, купленный несколько лет назад для путешествий. Тарантас этот ждал Суриковых в Томске, куда они добирались из Москвы поездом и пароходами. Ночевали обычно в томской гостинице, а наутро к дверям подавался запряженный тройкой тарантас с кожаным верхом, со множеством каких-то ящичков, карманов и отделений. Ехали в нем, полулежа на сене, покрытом коврами, откинувшись на кожаные подушки.
В Красноярске тарантас завозили в дальний угол двора, за огороды, и там он стоял, упершись оглоблями в небо, вплоть до осени, когда его снова подкатывали к подъезду, заполняли отделения и ящички продовольствием и всем необходимым для дороги, а к задней решетке подвязывали багаж. С постоялого двора пригоняли коней, и Суриковы снова отдавались во власть всепокоряющей поэзии дальнего путешествия, к которой Василий Иванович стремился с юности…
Александр Иванович неизменно провожал их верхом до Московского тракта. И Суриковым долго виделся сквозь оседавшую пыль его белый китель, маячивший среди поля…
Но в этот приезд, откатывая вместе с соседним работником тарантас в огород, дядя Саша мечтательно сказал, глядя на оглобли-мачты:
— В последний раз приехали наши в тарантасе, скоро придется его продавать: с осени открывается Сибирский железнодорожный путь до самой Москвы. Отжил свой век ямской тракт!..
После смерти Прасковьи Федоровны в доме на Благовещенской неслышно и невидимо руководила всем вдова Варвара, старинная знакомая Суриковых. Она была в годах, но не чувствовала их, успевая утром принести с базара провизии, затопить печи, что-нибудь постирать, вымыть полы, протереть в гостиной зеркало, быстро водя по отражению своего озабоченного рыхловатого лица. Иногда она вдруг замечала свое отражение, и тогда движение ее рук замедлялось, а лицо, как по волшебству, изменялось до неузнаваемости. Оно подтягивалось, розовело, а морщинки словно разглаживались под плавным движением суконки по зеркалу. На минуту она застывала, разглядывая себя и поправляя сбившуюся косынку, потом взор ее неизменно падал на большую фотографию Александра Ивановича, и лицо освещалось изнутри мечтательной нежностью. Потом волшебство кончалось, и полосатые чулки на ее быстрых ногах уже мелькали во дворе, между двумя полными ведрами воды, а за чулками с кудахтаньем, вприпрыжку бежали куры…
Василий Иванович был рад, что брат ухожен. Но когда Варвара под вечер, накрыв стол для ужина и поставив на него кипящий самовар, ушла домой, на Качинскую, Василий Иванович вдруг накинулся на брата:
— Эх, Саша, друг мой милый, ну что бы тебе не жениться! Чего ты один свой век коротаешь?.. Ну, я понимаю, что с мамочкой было бы трудно ужиться другой женщине, но сейчас-то?.. Чего ты сидишь бобылем?.. Взял бы замуж хорошую девушку из казачек…
Александр слушал, посмеиваясь в усы.
— Да что ты, Васенька? Кто за меня пойдет? — лукавил он, поглядывая на племянниц. — Да и привык я к вольготному житью. Ведь засвататься недолго, а потом женишься, а она тебе вдруг не даст дома шорничать, скажет: «Чой-то здесь у тебя? Чо стучишь да пылишь? Чой-то за мусор в доме заводишь?..» Разве я не знаю, с чего все начинается. Нет, уж я привык самому себе быть хозяином!
Шестнадцатилетняя Оля улыбнулась, сидя за самоваром на бабкином месте:
— А я бы за такого, как дядя Саша, только и пошла бы, да еще сама бы ему ремни для сбруи резала и во всем, во всем помогала… Ты не знаешь, какой ты!.. Нет, правда, папочка, — вдруг вспыхнула Оля, поймав внимательный, чуть удивленный взгляд отца, — ты знаешь, как дядю Сашу здесь все любят, с ним просто нельзя пройти по улице!..
— Да, да! — с оживлением подхватила Лена. — Вот вчера пошли с ним в городской сад, так ни словечком не обмолвились, только и знай, что картуз снимает да направо и налево раскланивается: «Здрасте, да здрасте, да как поживаете…»
И правда, друзей у Александра Ивановича было столько, что, вечно окруженный их заботой и вниманием, в постоянных обязательствах перед ними, он не имел времени предаваться раздумью над одиночеством. Красноярцы любили его больше, чем уже ставшего знаменитым старшего Сурикова, хотя младший не обладал никакими талантами. Природа, казалось, затратила все ресурсы дарования на старшего, возместив младшему красотой, ростом и обаянием.
С приездом семьи художника в доме на Благовещенской снова зазвенела по вечерам гитара, стали бывать гости. Василий Иванович по-прежнему любил встречаться с красноярскими казаками, но терпеть не мог чиновничьих жен. Однажды ему не понравилась какая-то компания чиновников с супругами, случайно забредшая к Суриковым среди воскресного дня, и он исчез.
Александр Иванович вначале не обратил внимания на отсутствие брата и с удовольствием прислушивался к тому, как Оля и Лена занимали дам рассказами о московских театрах, цирке, о вербном базаре на Красной площади. А гости провели таких интересных полтора-два часа, что, восхищенные светскостью молодых хозяек, даже не заметили отсутствия их отца. И, только прощаясь, уже на крыльце, попросили передать привет «папаше».
— Однако где же «папаша»-то наш? — спохватился дядя Саша.
Он обежал конюшню, огород, заглянул в дорожный тарантас, стоявший в дальнем углу, — брата нигде не было. Заметив откинутый замок на двери баньки, вошел внутрь и тотчас попал в удивительную, сказочную тишину, где «русским духом пахнет». Пробеленные от постоянного пара полы и лавки и темно-янтарные бревна сруба издавали какой-то извечный запах чистоты и замшелости вместе. Днем от нетопленной, кажущейся огромной печи веяло холодком и таинственностью, а в молчаливой, зияюшей чернотой топке, конечно же, пряталась «нечисть»! Солнце сквозь низенькие окна яркими квадратами ложилось на покатый белый пол. На лавке, закинув руки под голову, крепко спал брат Василий. Рядом стояла баночка с водой и ящик с акварельными красками. А на развернутой странице альбома был нарисован акварелью угол баньки с окном, за которым белела метелица цветущей черемухи.
Александр Иванович, смеясь, стал тормошить брата:
— Ты что же, хозяин? Сбежал от гостей? Да ты, брат, точно Суворов. Тот, бывало, в селе Кончанском — помнишь, он туда сослан был без права ношения мундира, — от неугодных гостей в рожь убегал. Гости его ищут, беспокоятся, а он себе храпит во ржи…
Василий Иванович вдруг сразу оживился, вскочил с лавки, стал собирать краски и кисти.
— Так, говоришь, во ржи спал? Это лихо!
— Я, Вася, теперь зачитываюсь книгой Петрушевского «Генералиссимус Суворов». До чего ж интересным и прекрасной души человеком Суворов был! Вот бы тебе почитать.
Они вышли в огород на тропку меж грядами, где неистово пахло укропом и мятой. Дочери, стоявшие на верхнем балкончике, опершись о перила, наблюдали, как они идут по тропе, останавливаясь и о чем-то беседуя, смеясь и снова шагая друг за другом и опять останавливаясь за разговором.
С этого вечера братья ежедневно читали Петрушевского. Василий Иванович снова попал в плен. Новая ноша легла на плечи.
И когда в начале августа к дому подкатили неизменный тарантас, готовясь к отъезду, и все заполнила суета укладки, обсуждения, споры, а из кухни тянуло ароматом пирожков и шанежек, которые Варвара выпекала для дорогих ее сердцу девочек Суриковых, Василий Иванович задумчиво бродил по дому. Он был рассеян и отвлечен какими-то глубокими, потаенными думами.
А в альбоме уже хранились наброски самых первых, понятных только ему одному композиций «Суворова в Альпах».
«Солдат — слово гордое!»
Ежедневно вахтпарад Павла Первого начинался с тонкого, расщепляющего душу звука флейты и барабанной дроби, под которую гвардейцы должны были быстро и высоко вскидывать ногу и плавно опускать ее в «гусином шаге». До чего ж любил флейту этот маленький урод, этот рыцарь Мальтийского ордена, со вздернутым носом на сплющенном лице!..
Суриков стоял против Инженерного замка. Было шесть утра. Угрюмое здание темнело в ноябрьском рассвете, овеянное жестоким прошлым. Удивительно четкий и жесткий ритм в расположении черных окон прерывался полукружиями башенных углов и дворцовой церкви, как дисциплина военного марша — галантными светскими полуоборотами…
А вокруг зажигались огоньки в домах. Петербург 1896 года просыпался. Задвигались фигурки прохожих, побежали разносчики с лотками и корзинами на головах, зацокали копыта по мостовой. Но Василий Иванович жил в этот час ровно столетьем назад. Он ясно представлял себе Павла — в треуголке, с кокардой на белых буклях, в мундире при орденах и лентах, открывающим вахтпарад. Офицеры дрожали на этом страшном представлении, которое могло окончиться ссылкой, экзекуцией, казнью… «Почему платок увязан с излишней толстотой?» — бесновался император, тыкая тростью в какого-нибудь офицера, и лицо безумного самодержца искажалось гримасой, а влажные, всегда чуть обиженные глаза становились злыми, как у мопса. (Да, да, именно как у мопса, которого вчера Суриков видел в конке на руках у какой-то старушки. Мопс, дергаясь в руках хозяйки, раздраженно лаял на каждого входившего в вагон.) Император, не помня себя, с лающим криком обрушивался на очередную жертву, и уличенного тут же, прямо с плаца, гнали в Сибирь. Все может случиться. Может и рядовой за удачный ответ в одно мгновение стать офицером…
Василий Иванович не торопясь свернул за угол и оказался возле памятника «Прадеду от правнука». На него нельзя было глядеть без улыбки. Словно надутый воздухом, сидел Петр Великий на таком же вздутом, огромном коне с маленькой головой и тонкими ногами. Казалось, великий Растрелли сотворил этот памятник, будучи в веселом настроении, и в то же время скульптура была величественна.
Суриков обошел вокруг памятника и, вернувшись к замку, побрел вдоль Фонтанки. Силуэты облетевших деревьев чертили ветвями рассветное небо. Вдали, над изогнутым легким мостиком, закачались на ветру фонари. Суриков перебирал в памяти все, что ему удалось перечитать за это время. Перед его воображением словно наяву вставал Павел. Он боялся всего: призрака революции, своих офицеров, придворных, собственной жены и даже детей, которых у него было десять. Вечная подозрительность…
У него была волевая челюсть, унаследованная от матери Екатерины, и громадный лоб, за которым пряталась блестящая память, впечатлительный ум и на диво непоследовательные, неудержимо разбегающиеся лихорадочные мысли, толкающие на неожиданные поступки… А ведь мальчиком был он миловидным и застенчивым, слегка картавил и нюхал каждый вновь увиденный предмет. (И это тоже совершенно собачья привычка! Опять мопс в конке пришел на память Василию Ивановичу.) И вот из этого галантного жеманника выросло чудовище… Полный произвол над страной. Никто никогда ни в чем не был уверен. Страшное время!..
Суриков опять обошел замок, миновал парадный выход в Летний сад, завернул за угол и пошел вдоль апартаментов императора и дворцовой церкви. Черные окна бельэтажа притягивали глаз. Здесь за ними 11 марта 1801 года произошла трагедия. Нужно ли было четыре года строить эту цитадель со рвом и подъемными мостами, чтобы на сорок первый день пребывания в ней быть убитым своими же царедворцами!.. Император боялся спать в одной и той же комнате. На этот раз он приказал поставить свою походную кровать в кабинете…
А гибель была совсем рядом. И таилась она не за подъемными мостами, отделявшими замок от помыслов молчаливых простых смертных, а под напудренными париками вельмож, которым Павел доверил свою судьбу. И когда они вошли в темноту кабинета, императора в постели не оказалось. Он стоял в рост в глубине камина, за экраном, и в темноте белели его ноги в теплых белых кальсонах…
Расправа была долгой: император был живуч…
Вся Россия плакала в это утро, обнимаясь в ликовании и радости.
«А что, если написать эту сцену? Великолепный сюжет! Последние минуты Павла… — Василий Иванович как зачарованный глядел в черные окна кабинета. Воображение художника уже воссоздало композицию сцены убийства. — Какое лицо можно сделать! Боже мой! Смертельный испуг, тоска, звериная ненависть… Жалкий, уродливый, и все же пытается удержать надменность императора всея Руси… Это же сильнейший драматический момент!..»
Суриков снова вышел на площадь перед замком. И вдруг ясно увидел то, на поиски чего пришел сюда. По этой аллее каждый раз приезжал к Павлу Суворов. Суворов! Они всегда не ладили с Павлом.
«Солдат есть простой механизм, артикулом предусмотренный», — утверждал Павел.
«Солдат — слово гордое!» — возражал Суворов.
«Солдат не должен рассуждать. Слепое повиновение во всем. За малейшую провинность — шпицрутены. И чем ровнее шаг, тем вернее победа», — так рассуждал Павел.
«Люби солдата, и он будет любить тебя!» — говорил Суворов. Он знал своих солдат и лучшим давал прозвища: Орел, Сокол, Огонь. Он сам себя считал солдатом, держался запросто и часто шутил с ними. Суриков представил себе его лукавую и приветливую улыбку, прищуренные, в морщинках глаза. Чудо-человек, он презирал слепое подчинение и «немогузнайку», требовал, чтобы не только офицер, но и каждый рядовой понимал предстоящий боевой маневр. А как он скакал в полотняной рубахе, раздувавшейся на ветру! Как он скакал в лагерях между полками и кричал:
«Первые, задних — не жди!.. Вытягивай линию!»
Обедал в десять часов утра. Ел щи и кашу, хотя любил и французские соусы так же, как любил вставлять французские фразы в письмах дочке Суворочке в институт… Павел презирал его за эту рубаху, за мужицкие повадки, за национальный русский дух…
Сурикову вдруг пришло в голову, что этот национальный русский дух, конечно, был абсолютно чужд Павлу. Мать Павла — немка Екатерина ввела при дворе французский обиход. Она быстро освободилась от мужа — Петра Третьего, — немца по крови и воспитанию, и тогда Павел, которого унижали и постоянно издевались над ним фавориты матери, стал поклоняться памяти отца и целиком воспринял немецкую культуру. Он ввел немецкую военную муштру. Суриков изучил все военные формы того времени. И его поражало то, что Павел из протеста отказался от «потемкинской» формы, такой удобной во время походов. И заменил эту форму длинными мундирами, треуголками, которые слетали с головы на ветру. Ввел сложные прически на смоченных квасом и присыпанных мукой солдатских головах, с подвязанным сзади железным прутом, к которому прикреплялась коса с буклями, завитыми и приклеенными к вискам. Мученьем было сооружать эту прическу, полночи уходило на нее, а потом до утра надо было сидеть, чтоб, не помять буклей…
А по Суворову, «туалет солдатский должен быть таков, что встал — и готов!»
Суриков шел и улыбался, вспоминая поговорку Суворова: «Пудра не порох, букли не пушки, косы не тесак, и я не немец, а природный русак!» Павел, бывало, в гневе ссылал неугодивший ему полк прямо с плаца: «Шагом марш — в Сибирь!» И шли… в Сибирь. «Вот ведь от века, — думал Суриков, — Сибирью, моей любимой Сибирью наказывали людей, а по мне — лучше Сибири и места-то нет на белом свете!..»
Ветер стал еще резче, а в наступившем рассвете закружились снежинки. Василий. Иванович засунул руки поглубже в карманы и пошел в направлении Михайловского манежа. «Прадед» в латах, с надменным отечным лицом, насупившись смотрел со своего круглого коня вслед удаляющейся одинокой фигуре художника.
«Забежать, что ли, в чайную на Невском, чайку выпить?»
Ему захотелось согреться, утолить голод. Суриков, прибавив шаг, двинулся мимо музея Александра Третьего к Екатерининскому каналу.
«Вот еще один путь на эшафот», — думал он, вглядываясь в решетку набережной, черневшую сквозь снежные хлопья. — Ровно через восемьдесят лет после кровавой расправы в Инженерном замке внук Павла был взорван бомбой возле той решетки…
Он дошел до угла. Справа, громоздясь между четкими линиями набережной, лепился неуклюжий, тяжелый храм «На крови», чуждый по духу, словно вырванный из какого-то иного окружения и насильственно внедренный в гармонию петербургской перспективы.
«Василий Блаженный может стоять только на Красной площади, под Кремлем, и только он один существует в этом роде. Как они этого не поняли!» — подумал Суриков. Он свернул налево и вскоре зашагал по Невскому, уже вступившему в дневную жизнь, зябкую и хмурую.
Тонкий, монотонный звук колокола католической церкви Святой Екатерины вдруг напомнил ему его молодость. Перед глазами возник образ Лили — милое овальное смеющееся лицо под шляпой, тонкая талия, обтянутая серым шелком, округлая рука в длинной перчатке… И тут же облик этот сменился образом Марии Меншиковой, завернувшейся в синюю шубку. Осунувшееся личико больной жены воплотилось в скорбный облик «несбывшейся русской императрицы» — жертвы властолюбия и стяжательства.
«Страшны судьбы тех, кто посягал на трон», — думал Суриков.
Небольшая вывеска чайной, синяя с белым, привлекла его внимание, он отряхнул снег с плеч, потом снял шапку, быстро сбил с нее пушистый белый налет и сбежал по ступенькам в подвальчик.
В тот же вечер, получив последние деньги за «Ермака», Василий Иванович выехал из Петербурга в Москву. В небольшом чемодане лежали драгоценные находки, акварельные наброски образцов оружия, павловских мундиров, треуголок, париков с косами. Среди них начерно нарисованная углем композиция сцены убийства Павла Первого… Он так и не осуществил этот замысел, а впоследствии исчез и этот первый рисунок. И в этом тоже был весь Суриков: не присущи были его творческому духу и вкусу остродраматические моменты. Он был художником трагического темперамента. Великая сила народного духа, раздумье и достоинство, выраженные в его персонажах, участниках исторических столкновений эпох, всегда брали верх над эффектами драматического характера.
Хроника одной семьи
Петр Петрович Кончаловский [10] был типичным представителем революционной интеллигенции шестидесятых годов прошлого столетия. И хотя он не принадлежал к партии народников, он всю свою жизнь был в оппозиции к реакционному правительству, к религии, к мракобесию и к невежеству.
Петр Петрович был личностью редкой внутренней красоты. В нем сочетался высокий интеллект с горячим темпераментом и живостью восприятий. Сын севастопольского морского врача, ходившего в плавание в эскадре Нахимова, Петр Петрович учился в Петербурге на естественном отделении физико-математического факультета, одновременно изучая право. По окончании университета он был оставлен при факультете, но вскоре женился на дочери харьковского помещика Лойко и уехал в имение жены Ивановку, Старобельского уезда.
Идеалист с высокогуманными взглядами, Петр Петрович вступил во владение крестьянами. Эксплуататора из него не получилось, и очень скоро хозяйство Лойко пришло в полный упадок. Будучи знаком с правоведением, он был избран мировом судьей в городе Сватове, Харьковской губернии, и начал ездить по судебным делам во все южные городки и села. Произошло это в 1881 году, в самое тяжелое время, когда после убийства Александра Второго реакция подняла голову.
Оппозиционные настроения Петра Петровича приводили к тому, что все судебные дела он неизменно решал в пользу крестьян. Кончилось это печально. Однажды Петр Петрович сидел на речке и читал газету. Только собрался он искупаться, как вдруг подъехали жандармы, подхватили Петра Петровича под руки, посадили в арестантскую карету и увезли. И только газета осталась в траве шелестеть на ветру.
Вскоре Петра Петровича выслали за «неблагонадежность» в Холмогоры — на родину Ломоносова. К тому времени у него была уже большая семья — ничем не обеспеченных шестеро детей. Жена его — Виктория Тимофеевна — с помощью экономки Акулины Максимовны начала давать обеды и только этим кормила семью. Через полтора года все дети заболели свирепствовавшим тогда в Харькове брюшным тифом, трое из них находились при смерти.
Для «искоренения южнорусской крамолы» губернатором в Харькове был назначен пресловутый Лорис-Меликов. Вот к нему-то и отправилась Виктория Тимофеевна с просьбой освободить мужа, хотя бы для того, чтобы проститься с детьми. Лорис-Меликов разрешил возвратить Кончаловского из ссылки, но при этом добавил: «Я его возвращаю, хоть он такой вредный, что следовало бы его повесить!»
По возвращении в Харьков Петр Петрович еще долгое время оставался под полицейским надзором. Дети его, к счастью, остались живы.
Не было конца оптимизму Петра Петровича. В ссылке он изучил английский язык и сделал новые, полные переводы «Робинзона Крузо» и «Гулливера». Переводы были напечатаны, и с этого времени Петр Петрович, бросив все, с энтузиазмом занялся книгоиздательским делом. Вместе с французом, врачом Кервилли, он открыл в Харькове прекрасный книжный магазин, в котором можно было найти все новинки. Магазин стал очень популярным. Ведала делами магазина Виктория Тимофеевна. Семья Кончаловских материально встала на ноги. Но жандармерия усмотрела здесь вредное влияние революционной интеллигенции, и вскоре магазин был опечатан, доктор Кервилли выслан во Францию, а Виктория Тимофеевна арестована и заключена в харьковскую тюрьму.
Когда все это произошло, Милинйна (так прозвали дети Акулину Максимовну) привезла их в санях к тюрьме, на свидание с матерью. Они прошли гурьбой через тюремный двор, с ужасом глядя на заключенных в гремящих кандалах, которых проводили мимо, и попали в камеру к надзирателю. Два солдата ввели туда Викторию Тимофеевну, и все шестеро детей с громким плачем окружили ее и начали обнимать. Это была такая сильная драматическая сцена, что сам надзиратель не выдержал и стал громко сморкаться.
К счастью, через две недели Викторию Тимофеевну отпустили на волю, и она благополучно вернулась домой.
Виктория Тимофеевна родилась в польско-украинской мелкопоместной семье. В семье царили революционные настроения, вера в прогресс, в грядущую свободу, несущую народу счастье. Виктория Тимофеевна получила широкое образование, знала несколько языков. Встретивши Кончаловского в Петербурге, куда была послана родными заканчивать курсы, она нашла в нем воплощение своего идеала и вышла за него замуж. Вдвоем они создали в семье ту атмосферу, которая привлекала к ним интереснейших людей того времени.
Своим детям они прививали самые глубокие понятия о добре и справедливости. Вечные споры о литературе, искусстве, политике, беспощадная критика всего отсталого, реакционного, горячая защита прекрасного в речах отца очень рано пробудила в детях тяготение к высокому, умение отбирать лучшее, отделять главное от второстепенного, чтобы не засорять душу шелухой пошлости.
Чуть не с пеленок знали дети сказки Андерсена, Перро, затем романы Диккенса, Вальтера Скотта, а еще позднее — Жорж Санд, Лермонтова, басни Крылова и целые страницы из гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Рано познакомились с музыкой, живописью и скульптурой. Рано узнали они имя Чернышевского. Их трогала, заставляла трепетать полная героизма жизнь Желябова, Кибальчича, Перовской. А Веру Фигнер они видели у себя дома: Кончаловские неоднократно прятали ее от полиции. Однажды во время ночного обыска, когда весь дом был поднят на ноги и вся семья собрана в одну комнату, пока городовые обшаривали каждый уголок, один из них показал фотографию Веры Фигнер младшему в семье — пятилетнему Мите: «А ты, миленький, вот ту тетеньку знаешь? Ведь она приходит к тебе?!» Все застыли в ожидании, не смея поднять глаз на Митю. А он, строптивый по характеру, обозленный ночным вторжением городового, поглядел на него зеленоватыми глазами и вдруг крикнул: «Пошел вон, дурак!»
Еще в Петербурге к молодой чете Кончаловских поступила хозяйничать робкая девушка из рабочей семьи, Акулина Копанева. У нее было страстное желание учиться чему-нибудь, но она так и не смогла получить высшего образования и уехала с Кончаловскими на Украину. С этого момента она осталась в семье Кончаловских и взяла на себя ведение хозяйства. Все дети любили ее и называли Милининой.
…Любимицей в семье была старшая дочь — Нина. Красивая и обаятельная, она выросла в революционных традициях «шестидесятников» и постоянно помогала обездоленным, вечно за кого-то хлопотала, а во время частых еврейских погромов прятала у себя женщин и детей.
Нина обладала серьезным драматическим талантом и решила ехать в Петербург, учиться сценическому искусству. Это решение оказалось для нее роковым — через год она захворала чахоткой и вернулась в Харьков неизлечимо больной.
Местное светило, профессор Франковский, поразивший всех детей тем, что волосы на его голове были длинные и, как у женщин, заплетены в косички, заявил, что положение больной безнадежно. Все же родители повезли истаявшую Нину на кумыс, но процесс был скоротечный, и оттуда они возвратились уже одни. Все это так придавило Петра Петровича, что он не мог больше оставаться в Харькове и перевез всю семью в Москву.
Теперь их было пятеро: две сестры, Вита и Леля, и три брата-погодки — Макс, Петя и Митя. Любимцем в семье стал Петя. Ему все давалось легко. Запускали мальчишки змея во дворе — выше и дальше всех взвивался в небо Петин змей. Играли в городки — труднейшие фигуры выбивал первой биткой Петя. Он же был самым лучшим исполнителем в домашних спектаклях, сам превосходно делал декорации, пел, плясал, хорошо декламировал, но учился из рук вон плохо— не потому, что был не способен, а просто ленился. Однако с детства у него появилась страсть к рисованию.
Старший, Макс, до болезненности любил Петю, гордился им, но страдал за его плохие отметки. В гимназию они пошли в один год, сидели за одной партой, и потому Макс вечно решал за брата задачи, подсказывал ему устные ответы, а сочинения Петя просто-напросто списывал у Макса слово в слово. И лишь когда Петю оставили в одном из классов на второй год, он начал учиться всерьез.
Для Макса Петя на всю жизнь остался любимейшим. Связывала их незыблемая дружба и нежность друг к другу даже тогда, когда Максим Петрович стал профессором медицины с мировым именем, а Петр Петрович-младший — художником-академиком. Третий брат, Дмитрий Петрович, человек вспыльчивый, острый, непримиримый бунтарь в студенческие годы, стал впоследствии ученым-историком — исследователем Древнего Рима.
Сестра Виктория смолоду уехала во Францию, приняла французское подданство и впоследствии стала в Париже виднейшим профессором русского языка.
Елена серьезно занималась музыкой, готовилась стать певицей, Но из-за какой-то болезни вдруг потеряла голос, и он навсегда остался у нее сдавленным и сиплым. Но, будучи остроумной, образованной и обаятельной, она являлась в обществе интересным типом женщины того времени, по которой вздыхал не один талант, в том числе и гениальный художник Врубель.
…Врубель появился в семье Кончаловских в 1891 году вместе с группой художников, приглашенных иллюстрировать юбилейное издание Лермонтова. Вел это издание Петр Петрович, руководивший к тому времени издательством Кушна-рева и книжным магазином в Петровских линиях. В магазине помогала ему дочь Леля. Мальчики Кончаловские забегали туда после уроков, потолкаться среди интересной публики, попить чаю с горячими пирожками у Лели, в комнатке за шкафами, где постоянно бывали художники.
Иллюстрировали издание Лермонтова такие мастера, как Поленов, Суриков, Репин, Виктор Васнецов, а из молодых Петр Петрович привлек Серова, Врубеля, Коровина, Пастернака, Аполлинария Васнецова.
С Михаилом Александровичем Врубелем Кончаловские подружились очень тесно. Он умел разговаривать с детьми, как со взрослыми, всерьез, и за это мальчишки Кончаловские его обожали. Для них оригинальный талант Врубеля открылся, раньше, чем для окружающих взрослых.
Врубель снял комнату близ Чистых прудов, на углу Харитоньевского и Машкова переулков, в том же доме, где жила семья Кончаловских, этажом ниже, и стал ежедневно бывать у них, столовался там и постоянно находился в обществе молодых. Он поражал всех своей удивительной культурой и знаниями, с увлечением устраивал маскарады, игры, шарады, спектакли. Они ставили отрывки из «Горе от ума» Грибоедова и «Леса» Островского, и молодежь так увлекалась этим, что вскоре была готова выступать в платных спектаклях. В пользу учащихся той гимназии, где учились мальчики, был устроен спектакль. Врубель поставил «Севильского цирюльника» Бомарше. Вместе с Петей он написал декорации, сам занимался режиссурой. Макс играл Альмавиву, Петя — Фигаро, Вита — Розину. Остальные роли исполняли друзья молодых Кончаловских.
Врубель с увлечением придумывал разные варианты сцен, легко находил выходы из трудных положений. Макс, например, не обладал ни слухом, ни голосом, а по ходу действия ему следовало исполнять серенаду. Тогда Максу — Альмавиве Врубель предложил обратиться к Пете — Фигаро с такими словами: «Спой за меня, сегодня я не в голосе!» И Петя пел и за себя и за брата. Спектакль прошел с успехом.
Большую дружбу водили Кончаловские и с Серовыми. Валентин Александрович с женой часто бывали у них, а молодежь с удовольствием возилась с маленькими детьми Серовых.
Великолепный портрет Лели был написан Серовым в книжной лавке, за шкафами. Позднее он написал превосходный портрет самого Петра Петровича-старшего.
В доме у Кончаловских постоянно бывали писатели, художники, музыканты. Теперь к ним присоединились молодые друзья Кончаловских: талантливый молодой физик Валерий Габричевский, братья Милиотти — двое юристов, третий художник, друживший с Петей, — геолог Давид Иловайский с сестрой Зинаидой. И все так же дом был полон людей, музыки, смеха, шуток, горячих споров, часто доходивших до небольших скандалов.
Сюда-то и привез своих дочерей Ольгу и Елену Василий Иванович Суриков. С Петром Петровичем он был уже давно знаком, ему нравился этот человек своей культурой, вкусом и свободой мышления, нравилось, что в этом «барине», «помещике» начисто отсутствовали барство и мещанство. В отличие от самого Василия Ивановича, Петр Петрович ничего не имел в банке и все, что зарабатывал, тут же тратил на семью, на образование детей, пускал в новое книжное дело, помогал друзьям в беде. Это восхищало Сурикова и в то же время удивляло.
Люди, собравшиеся вокруг Петра Петровича, интересовали Сурикова, но, впервые попав с дочерьми в их круг, 6н был не на шутку встревожен. В шумной, разносторонней компании девушки наравне с юношами громко спорили, смело выражали свои мысли, хохотали, поддразнивали сверстников — словом, вели себя, как показалось Василию Ивановичу, несколько развязно. Пожилые откровенно высказывали свои политические и эстетические взгляды, задевали вопросы морали, и здесь не было границ между интересами пожилых и молодых. Суриков не привык к этому и, пожалуй, был бы даже шокирован, если бы все это не было так интересно, так искренне и свежо. Он внимательно слушал, с любопытством ко всему присматривался и, пожалуй, от этого общества не смог бы «убежать в баньку».
Что же касается дочерей, то они сидели, обе разрумянившись, с блестящими глазами, жадно ловя все на лету. Само собой разумеется, они не могли еще поддерживать разговор в той свободной манере, какая была тут принята. Они не умели с легкостью парировать замечания, острословить, вступать в философские дебаты, но все, что говорилось здесь, представляло для них необычайный интерес.
Нравилось им отнюдь не роскошное, но своеобразное убранство комнат, где больше всего было книг; нравилось необычайно вкусное домашнее угощенье; нравилась седеющая маленькая хозяйка дома, умная, и радушная, умело направляющая беседы, когда дело шло к конфликту; нравилась неслышная суета Акулины Максимовны, худой высокой женщины с папиросой в крепких зубах и красноватыми, хлопотливыми руками. Но совершенно пленили их сестры Вита и Леля, только что вернувшиеся из Парижа. Они были хороши, приветливы, по-парижски элегантно одеты.
А Василий Иванович хоть и поддерживал общую беседу, но где-то в тайниках души побаивался непривычного тона. Симпатичнее всех был ему серьезный и скромный Макс, который молча следил: не слишком ли разошелся задира младший брат Митя? Суриков сидел рядом с Максом и с удовольствием вглядывался в его часто меняющееся, одухотворенное лицо.
— Скажите, Макс, а кто ж это писал вас? — спросил он, глядяна небольшой портрет, висевший как раз напротив, где Макс был изображен в синей бархатной блузе, в коричневом бархатном берете и с розой в петлице. Над ним склонилась ветка липы, и бледное лицо казалось еще бледнее от зеленоватого рхефлекса.
Портрет был написан еще робкой кистью, но были схвачены характер и сходство. На вопрос Сурикова Макс ответил, смущенно улыбаясь:
— А, это писал с меня Петя… Дело в том, что в это лето анархист Казерио совершил убийство французского президента Карно. Так вот Петр решил написать меня в образе такого анархиста, в берете и с розой в петлице…
— Ну, знаете, на анархиста вы, конечно, ни в жизни, ни на портрете не похожи, — засмеялся Василий Иванович. — Но брат ваш очень способный человек. Особенно вот тот портрет хорош, — Суриков указал на висящий рядом небольшой портрет девушки в розовом платье с черными кружевами на плечах.
Она была написана в рост и немного сверху. Вся фигура ее и лицо дышали какой-то угрюмой решимостью. Портрет выражал какую-то непримиримость и суровость, свойственную старшей сестре.
— А это наша Вита. Петя писал ее в Париже…
Суриков даже не представлял себе, какую радость доставил он Максу тем, что похвалил Петину работу…
Домой Суриковы возвращались на извозчике. Был поздний теплый весенний вечер. Всю дорогу Оля и Лена вспоминали все, что слышали в гостях, смеялись, спорили о том, кто лучше, кто красивее, кто умнее. Обе были восхищены Максом, но Оле интереснее всех показался Петя, а Лене — вспыльчивый, как порох, Митя, с густой вьющейся шевелюрой и насмешливыми серо-зелеными глазами.
Василий Иванович слушал дочерей, и казалось ему, что в жизнь вошли новые люди, новые мнения, новые события. Он молча хмуро поглядывал на мерцающие в темноте лица дочерей и, чувствуя их молодое оживление, слыша веселые, счастливые голоса, думал: «Ну вот. Начинается!..»
Неудачная охота
Стоя возле стола, Оля разглядывала новое издание «Царской охоты» — огромную книгу, весом на полпуда, в кожаном переплете, с чеканными наугольниками из серебра. Золотой обрез и множество цветных иллюстраций украшали тот «терем». Все было посвящено царским развлечениям и охоте разных времен.
Были здесь васнецовские благочинные группы, будто роспись иконостаса, были чисто декоративные, раскрашенные мизансцены работы Лебедева, где в шатрах так расставлены ловкие «тенора» и «басы», что, кажется, вот-вот запоют: «Ох ты гой еси!» Были застывшие в стилизованных позах сокольничие с соколами на расписных рукавицах — картинки Рябушкина. Были и чудесные «Выезды русских императриц на охоту» Серова, полные движения, романтики, на фоне тревожных, свинцовых горизонтов и куртуазного изящества XVIII века.
От множества золоченых заставок, виньеток и буквиц Самокиша Олю начало мутить, словно она объелась засахаренными орехами, как вдруг за листком папиросной бумаги, как за матовым стеклом, обозначился лесной пейзаж. На листке было напечатано: «В. И. Суриков. Охота царя Михаила Федоровича на медведя в берлоге». Оля отвела папиросный листок, и на нее словно пахнуло морозной свежестью. Смешной, ощерившийся мишка вылезал из берлоги под отяжелевшие от снежных комьев ели. Две гончих шарахнулись от него, а справа, целясь из пищали, караулил медведя царь в алом кафтане. Из-под синей шапки с собольим околышем глядело молодое лицо с черной бородкой и коротким носом. «С себя царя рисовал, папочка дорогой!» — улыбнулась Оля. За царем приготовились к обороне егеря с рогатинами, поблескивающими в холодном лиловатом рассвете.
Олю поразило живое, подлинное в движениях, в розоватом снеге на вывернутых корягах, в сизом заиндевевшем воздухе лесной глуши. «Будто в окно из душного терема выглядываешь», — думала она, рассматривая рисунок. Потом спохватилась: «Батюшки, да что ж это я, надо же здесь убрать!» Она закрыла книгу и принялась стирать пыль в мастерской.
Дом Полякова, в котором теперь жили Суриковы, выходил одним углом на Тверскую, другим в Леонтьевский переулок. Они занимали на третьем этаже удобную квартиру из четырех комнат. Лестница была освещена газовыми фонарями, у входа внизу стоял швейцар. Самая большая комната, в три окна, была отведена под мастерскую. Как всегда, мебели в ней было мало. Узкая железная кровать, рабочий стол, несколько венских стульев. В углу — крытый ковром кованый сундук, где хранились альбомы, рисунки, этюды. На стеке — овальное зеркало. На одном из подоконников жались друг с дружке пакетики с сухой смородиной и черемухой, — их Василий Иванович постоянно получал из Красноярска от брата Саши.
Суриков вернулся домой к полудню.
— Ну что, убралась, Олечка? — спросил он, входя в мастерскую. — Надо будет открыть окна, проветрить хорошенько.
— А все-таки, папочка, кого ты сегодня ждешь? — любопытствовала Оля, раскрывая окно в Леонтьевский переулок.
Василий Иванович усмехнулся:
— Да тут один сосед высочайший.
Оля не сразу сообразила, а потом удивилась:
— Это что ж, губернатор, что ли?
Суриков кивнул.
— Жаль, у тебя урок музыки, да и Лена в гимназии, а то бы я вас ему представил, он ведь с адъютантами приедет! — Василий Иванович расхохотался.
— Ну вот еще, — покраснела Оля, — очень нужно! — Она вытрясла за окном фланелевую тряпку. — Медведя твоего видела, — улыбнулась она, указывая на книгу, — как напечатано! Живая трущоба, морозом пахнет!..
С улицы донесся топот копыт. Оля увидела в окно, как в пролетке, стоя в рост, к дому подъехал пристав. Пролетка круто остановилась на противоположной стороне переулка. Пристав стоял в ней вытянушись, как на параде. Это означало, что генерал-губернатор подъезжает.
— Едут, папочка!
Оля мгновенно исчезла за дверью в гостиную.
К подъезду подкатила черная лакированная коляска с золочеными фонарями, запряженная парой великолепных вороных. Серый от волнения швейцар распахнул обе створки парадной двери. Конвойный казак спрыгнул с козел, отстегнул кожаный фартук, прикрывавший ноги губернатора, и великий князь Сергей Александрович, в сопровождении адъютанта, не спеша проследовал в подъезд.
Суриков сам открыл на звонок и пригласил гостей в мастерскую. Белый китель с золочеными пуговицами как литой сидел на высокой фигуре князя. Темно-зеленые шаровары с красным кантом были заправлены в сапоги со шпорами. Он весь сверкал золотом погон, аксельбантами, лоснился напомаженным пробором, квадратными носками сапог. На груди у него был орден Владимира, в петлице — Георгиевский крест, и пахло от него английской лавандой. Василий Иванович вглядывался в его «романовские», малохарактерные черты с седеющей бородкой и не мог понять, какого цвета у князя глаза. Вместе с Сергеем Александровичем вошел такой же высокий, почтительно молчаливый адъютант Джунковский.
— Я к вам прямо из Ильинского, — сказал князь, потирая большие холеные руки. — День сегодня превосходный. Перед отъездом прошелся по парку. Такая роса утром выпала!.. Такое сверкание в траве, такая свежесть, ароматы!..
Суриков предложил гостям сесть, пододвинув неказистые свои стульчики, и закрыл дверь в переднюю. Собираясь на урок в музыкальную школу и надевая перед зеркалом пелеринку, Оля заметила на вешалках две шпаги; одна на золотой, другая на серебряной портупее. Все это вместе с изысканным запахом духов и приглушенными голосами из мастерской вносило в их дом что-то стесняюще чужое.
Оля сбежала вниз и увидела у подъезда, на козлах пролетки, кучера в алой косоворотке и бархатной безрукавке; круглую кучерскую шапку украшал веер павлиньих перьев. «Ну просто картинка из «Царских охот», — подумала Оля.
Еще до приезда губернатора Василий Иванович достал из сундука и разложил на столе несколько сибирских пейзажей, этюды к «Взятию городка», к «Ермаку», несколько московских видов на Кремль. Губернатор с интересом разглядывал их, советуясь с адъютантом, восхищался мастерством художника, вспоминал его крупные работы. Беседа затягивалась: губернатор не знал, что выбрать.
— А к «Боярыне» нет ли у вас какого-нибудь этюда? Василий Иванович, я ведь большой поклонник этой вашей работы, — сказал он.
Василий Иванович открыл сундук и, в рассеянности порывшись в нем, достал несколько этюдов к «Боярыне». Он разложил их прямо на полу и вдруг на желтом паркете, среди других этюдов, заметил небольшой портрет начетчицы Настасьи Михайловны. Прозрачное лицо драгоценной жемчужиной засветилось под высоким черным клобуком. «Ох, да что ж это я сделал!» — спохватился Суриков и попытался убрать этюд обратно. Но было поздно.
— Те, те, те!.. Постойте, Василий Иванович, дайте полюбоваться на эту прелесть, — ухватил его губернатор за рукав. — Ах, какая вещь превосходная!
На душе у Сурикова стало тоскливо, и он сразу помрачнел.
А губернатор, склонившись над этюдом, внимательно разглядывал каждый мазок.
— Вот эту вещь я и хотел бы приобрести, — сказал он, довольно улыбаясь.
Сурикова вдруг охватил горячий гнев, но он сдержался и угрюмо, молча покусывал ус.
— Так за сколько же вы могли бы уступить ее мне? — продолжал настаивать князь, потирая тихонько руки и искоса поглядывая на художника.
Суриков почувствовал себя в западне и даже как-то растерялся, мучительно ища выхода. «Ишь ты, тоже понимает, самую хорошую вещь выбрал. Угораздило же меня, шут его возьми!..» И вдруг, овладев собой, в бешенстве сжав зубы, он выговорил:
— А эта вещь стоит десять тысяч рублей!
Великому князю показалось, что он ослышался.
— Как вы сказали? — произнес он, меняясь в лице.
— Десять тысяч рублей, ваше высочество, — уже совершенно твердо повторил Суриков. Небольшие карие глаза его озорно усмехнулись.
— Позвольте, как же так… — заволновался Сергей Александрович, поглядывая на адъютанта, словно ища сочувствия.
Но тот стоял молча, подавленный бестактностью хозяина.
— Не кажется ли вам, господин Суриков, что это слишком большая сумма за такой маленький этюд?
— Неслыханное дело, ваше высочество… — бормотал Джунковский.
Суриков молча стоял у окна. Губернатор достал платок и приложил его к вискам.
— У меня даже денег таких сейчас нету! — возмущенно продолжал губернатор.
Но Суриков уже занесся, как сибирский конь:
— Ну что ж, ваше высочество, копите, копите. А накопите, тогда уж и приезжайте, — сказал он, едва удерживаясь от смеха, и принялся собирать рисунки, разложенные на полу…
Через несколько минут лакированная коляска отъехала от дома Полякова. В ней сидел бледный, сумрачный губернатор. Взволнованный адъютант что-то говорил ему, тот молча слушал, покачивая головой. Василий Иванович постоял у окна, прислушиваясь к удаляющемуся цокоту копыт губернаторских вороных, а потом вдруг тряхнул головой и, раскрыв дверь в гостиную, громко позвал:
— Оля, Лена! Вы дома?..
Письма в Красноярск
«Апрель 1897
Здравствуй, дорогой наш Саша!
Поздравляю тебя с праздником пасхи. Желаю самого главного — здоровья. Береги себя. Мы все здоровы. Про себя пишу тебе, что после пасхи, бог даст, думаю начинать картину «Суворов». Холст уже выписан из-за границы, подрамник готов. Мне дали комнату в Историческом музее. Я ее отгородил дощаной перегородкой, чтобы мне не помешали работать.
Картина будет 7 аршин в высоту и 5 в ширину. Такой комнаты в частной квартире не найдешь…
Я еще не решил, где лето проведем. Мне для картины надо снеговые вершины.
Может быть, надо в Швейцарию ехать на месяц или, два. Только могу наверно сказать в мае, что куда поеду. Не говори покуда никому об этом. Мне бы очень хотелось с тобой повидаться. Как это устроить, узнаю к лету, если не придется ехать в Швейцарию…
Я буду писать тебе почаще, а то все с работой моей приготовительной все время уходит. Целую тебя, дорогой Саша.
Любящий тебя брат твой Вася».
«1897
Здравствуй, милый и дорогой наш Саша! Сегодня был у меня минусинский силач Николай Дмитриевич в сопровождении своей девочки-вожака. Он передал мне, что ты говорил ему, что я тебе долго не пишу, что я сержусь на тебя. Да за что же? Я, кроме сердечной, братской любви, безграничной, ничего не имею к тебе. Ты ведь у меня один, кроме детей, на котором мои привязанности. Не писал потому, что я работаю страшно много и подмалевал всю картину. Теперь буду писать к ней этюды. Поеду в Швейцарию. Уже взял заграничный паспорт сегодня. Снежные горы писать буду для «Суворова». Думаю в середине августа к ученью Лениному вернуться в Москву, картину оставляю в Историческом музее, где мне дали комнату для работы. Запираю на замок… Пришлю из-за границы письмо с адресом швейцарским. Нынешнее лето, видно, не увидимся. Но, бог даст, эту трудную поездку совершу, тогда можно и в Красноярск махнуть. Целую тебя, будь здоров, береги здоровье.
Твой любящий брат В. Суриков».
«Швейцария, Интерлакен, 1897
Здравствуй, дорогой наш Саша!
Ну, вот мы и в Швейцарии. Гор, брат, тут поболее, чем у нас в Красноярске. Пишу этюды для картины. Только дорого в отеле жить. Платим по 6 рублей в день со всех. Вот как дуют. Только я хочу завтра с Олей поискать в деревне тамошней пожить, покуда кончу этюды. Вот уже два дня прошло.
Мы тебе еще будем писать из-за границы.
Думаю здесь прожить месяца полтора, до августа, Потом я тебе опишу здешние виды, когда вернусь в Москву. Я сегодня страшно устал — поднимались на ледники. Ну, будь здоров. Целую тебя.
Любящий тебя брат В. Суриков».
«1897
Здравствуй, дорогой наш Саша!
Я все хожу в горы писать этюды. Воздух, брат, отличный! Как в горах у нас в Сибири. Англичан-туристов пропасть на каждом шагу. Льды, брат, страшной высоты. Потом вдруг слышно, как из пушки выпалит, что значит, какая-нибудь глыба рассыпалась. Это бесконечное.
Жить сравнительно не так дорого, как в Интерлакене (это модное место), однако по 4 рубля в день. Это продолжится 3 недели. 2 недели прожили. Но нельзя — этюды нужны. Назад думаю ехать из Швейцарии на Мюнхен, где знаменитая картинная галерея, где остановимся дня на два. Потом — на Вену, Варшаву и в Москву.
Были в г. Берлине, где останавливались для осмотра примечательных мест, а оттуда ехали в Швейцарию на Франкфурт, Берн и Базель в Интерлакен, где находится знаменитая гора Юнгфрау. 4,5 тысячи футов, вся снеговая. Ну, целую тебя.
Суриков».
«Осень 1897
Здравствуй, дорогой наш Саша!
Мы возвратились из-за границы. Были в Киеве, осматривали замечательное там, и были в Лавре…
Я поработал-таки в Швейцарии. Собрал нужные этюды и теперь начал работать в музее картину.
Квартиру оставлял за собой. Читал по приезде об открытии судов в Сибири. Меня интересует, что, как ты теперь устроишься?.. Ну, да ты молодец, без дела не останешься.
Теперь дым коромыслом — все съезды врачей занимают всех и все. Пропасть иностранцев в Москву приехало. Попадают на улицах такие черные… Это, брат, из Бразилии доктора, и все по большей части с женами понаехали. Кормят их тут и увеселяют…
Напиши поскорее письмо. Давно вести от тебя не имею благодаря путешествию. Береги здоровье. Целую тебя, брат.
Твой В. Суриков.
(д. Полякова, угол Тверской и Леонтьевского пер.)».
«5 ноября 1897
Здравствуй, дорогой Саша!
Посылаю тебе сапоги; кажется, будут хороши для тебя. Мы получили черемуху и ягоды урюк. Спасибо, брат; грызем и день и ночь. Я был в Петербурге, а то давно бы послал сапоги… Достал в Петербурге мундиры настоящие павловского времени. Теперь жду снега, чтобы с натуры писать. Мы, слава богу, здоровы. Я очень рад, что ты шубу завел. По крайней мере, я спокоен, что тебе тепло будет. Если можно, пошли пропастинки с туруханской селедкой. Я уж давно на них зубы грызу. Только пошли, а уж мы справимся на славу. Уж полмешка нету с черемухой. Ох, родина, родина! Правду говорят, что и дым отечества нам сладок и приятен!
Ну, целую тебя, будь здоров.
Твой любящий брат Вася».
«22 декабря 1897
Здравствуй, дорогой наш Саша!
Я все ждал от тебя письма и беспокоился о том, здоров ли ты, не получая так долго письма. Теперь я получил от тебя пропастинку и рыбу. Не знаю, получил ли ты от меня сапоги, посланные 3 ноября. Ты ничего не пишешь. Картину пишу в музее и теперь делаю этюды на снегу. Одеваюсь тепло и выбираю теплые дни для этого. Я изредка хожу в театры и к знакомым, которых у меня мало. Я не охотник до них, как и дорогая наша покойная мамочка…
Твой В. Суриков».
Все эти письма Александр Иванович тщательно хранил в большом деревянном ларце. Их набралось уже много. За тридцать лет он сумел сберечь самые дорогие для него. Иногда он перебирал и перечитывал их, и перед ним проходила вся летопись сурового и могучего таланта, которому и сам-то он готов был отдать всю свою жизнь без остатка…
Вот и сейчас, морозным январским утром, получил он это письмо от Васеньки, коротенькую весточку, озарившую его жизнь, стиснутую чиновничьим мундиром сначала столоначальника, потом протоколиста, затем секретаря губернского суда. А теперь, когда в Красноярске суд стал окружным, Александр Иванович получил должность архивариуса. «Архивариус» — слово-то какое солидное, — думал он, усмехаясь в не тронутые сединой усы и убирая письмо брата в ларец. — Еще одно письмецо, хоть и маленькое, а может быть, Васины внуки когда-нибудь и за него мне спасибо скажут!»
Первое — глазомер
Закутавшись в лиловую ротонду на кенгуровом меху, бежала Оля вниз по Тверской к Историческому музею. Прелюбопытная одежда эта ротонда: длинная, до земли, без рукавов, она делала женщину похожей на столбик, плывущий по улице. Был конец ноября, рано выпал снег, с ним ушел городской грохот, полозья сменили колеса, воздух стал легким и прозрачным, голоса звонче, лица моложе.
Сегодня отец просил Олю заглянуть к нему в полдень в мастерскую и захватить горячих пирожков из булочной Филиппова, что как раз против Леонтьевского. Чем ближе к Охотному, тем теснее и люднее становилась Тверская, словно городскую суету смывало потоком вниз. Все больше вывесок, все чаще магазинчики, а в Охотном ряду торговая сутолока становилась просто поперек главной улицы города, вторгалась в ее парадность и отделяла ее от Кремля, как некогда грязная речонка Неглинная…
За последние два года Суриковы успели побывать в Швейцарии, потом, переждав зиму в Москве, снова успели скатать в Сибирь, без которой Василий Иванович не мыслил жизни.
Швейцария не пленила Олю, она показалась ей придуманной и искусно сделанной людьми, несмотря на грандиозность горной природы. Горных ландшафтов Оля не любила, ей нравились открытые горизонты, степные ветры. «Лошадиная поэзия», с армяками ямщиков, с их кличем в степи «Аля-ля-ляля-ля!» в хроматической гамме и с перезвоном поддужных звонков, была ей куда дороже, чем переливы пастушьих тирольских дудочек, аккуратные тирольские шляпки с перышками на фоне розовых снегов и худые голые колени англичан «а туристских тропинках.
Лена была другого мнения о Швейцарии. Ей нравились картинные озера, альпийские цветы немыслимых оттенков, хоть они и не пахли. Горы с лесистыми тропами, неожиданная панорама Юнгфрау, ущелья с кипящими в безднах речками возбуждали ее романтическую натуру. Она украдкой писала стихи и повести. Настроение ее менялось, как погода, и она часто тревожила отца и сестру таинственными поисками одиночества. Этой весной Лена блестяще закончила гимназию, получила в награду роскошное издание Жуковского и аттестат, дающий права домашней учительницы.
— Ну, Еленчик, — шутил по этому поводу Василий Иванович, — теперь ты можешь дать в газету объявление: «Молодая барышня из хорошей семьи согласна давать уроки детям и впавшим в детство. Отлично знает языки, особенно русский, хорошо считает, умножает и делит, пишет без ошибок. Аппетит хороший».
Лена веселилась, придумывая разные варианты объявлений, а потом вдруг стала сумрачной и всерьез заявила:
— Знаешь, папа, а ведь я буду только актрисой! Только актрисой, только театр!.. Если у Оли — музыка, то у меня будет сцена! Да, да, да! И не спорьте со мной.
Василий Иванович посмеивался, мало веря в Ленино дарование.
— Декламировать — это еще не все. А куда ты пойдешь учиться? Ведь нет же школ для барышень, которые решили стать актрисами…
А между тем существовали драматические курсы, где преподавали Садовская, Федотова, Ленский, Немирович-Данченко и Южин организовали музыкально-драматическое училище. Но Лена была далека от этого мира.
Однажды она прибежала к обеду вся розовая от возбуждения:
— Я нашла, папочка! Я нашла актрису, которая будет заниматься со мной. Это старая актриса Малого театра. Представь, она дает уроки у себя на дому! За каждый урок берет по пять рублей золотом.
Василий Иванович поперхнулся:
— Как? За каждый урок вот это? — Он соединил кружком большой и указательный пальцы руки.
— Да, да, — волновалась Лена, — и заниматься будем два раза в неделю. За две зимы она обещает мне полную подготовку и спротежирует мне выход на сцену Малого театра…
— Но ты подумала о том, во сколько все это обойдется? А потом ты с треском провалишься на дебюте и пропали мои трудовые!.. Нет уж, брось даже мечтать об этом! Иди-ка лучше на курсы. Ты вон как гимназию кончила — с наградой. Учись дальше!
Напрасно Лена молила и плакала, упрекая отца и сестру:
— Оля же занимается музыкой?
Но отец был неумолим:
— Оля в музыкальную школу вносит десять рублей в месяц. И потом, это же музыка. Му-зы-ка! Ты понимаешь или нет? Да что с тобой толковать, — вдруг рассердился он, — ты же бегаешь слушать Вяльцеву!..
Суриков не любил Вяльцеву, не переносил модных романсов. Вкусу его угодить было очень трудно. Он терпеть не мог плохих актрис, дешевых театральных эффектов и драматических поз. Он презирал все это и больше всего боялся, что в его отшельническую рабочую жизнь вторгнется чуждая и противная его высокому духу атмосфера…
Оля вошла в музей со стороны проезда кремлевской стены. Служебным входом поднялась она по лестнице прямо в зал, отведенный Сурикову под мастерскую. Отец ждал ее. Музейный сторож по уговору принес на подносе чайники с кипятком и заваркой, сахар и две чашки.
— Ну, раздевайся, душа! Будем чай пить, — весело встретил ее Василий Иванович.
Оля разделась, стащила с ног теплые ботинки и подсела к маленькому столу возле окна. Невысокая полная фигурка ее в белой кофточке с черным галстуком и широкой черной юбке из тяжелого муара расположилась на фоне высокого окна, за которым розовела старая кремлевская Собакина башня.
Перед Олей громадный холст, уходящий ввысь и уже весь прописанный красками. Вечные льды просвечивали сине-зеленой толщей. По снегу с кручи сползали с пушкой солдаты, стараясь придержать скольжение растопыренными локтями; один лег на бедро, другой, присев, уперся пятками в отрог. Все отчаянно сопротивлялись и все же ползли и катились вниз. Фигуры солдат и лица их были уже написаны, сильно и убедительно. Убедителен был ужас на лице черноусого солдата. Нижняя часть его туловища ушла от глаз зрителя, и это передавало ощущение страшного притяжения пропасти.
Солдат, закрывший лицо плащом, и старик, истово крестящийся, еще задерживались на мгновение, а над ними два молодых смеющихся солдата с обожанием смотрели на полководца. Эти в гуще движения еще не чувствуют той опасности, которая грозит смертью или увечьем. А общее — это решимость и неистовость в отваге, и русская преданность, и доверие своему любимцу — Суворову. Олю поражало безошибочное знание движений человеческого тела у отца в композиции, и внутреннее чувство ритма в общем движении, и объемность этих напрягшихся под одеждой мышц, и напряжение общей воли, общего стремления, общего дыхания катящейся вниз лавины людей. Сподвижники Суворова были все найдены. Не было еще только самого полководца, как в свое время долго не было Меншикова, не было боярыни Морозовой, не было Ермака. Но тех не было как типов, Суворов же как тип был найден.
Суриков изучил все портреты Суворова, и все они были необычайно различны. Но ближе всех к оригиналу был портрет художника Шмидта, которого прислал курфюрст саксонский в Прагу, где остановился Суворов после швейцарского похода. По словам современников, Шмидт рисовал Суворова пастельными карандашами, в десятом часу утра, во время обеда. Он сидел в рубашке и беседовал со своими генералами. Отобедав, Суворов прочел молитву, потом проскакал перед художником на одной ножке, прокукарекал и ушел спать, приказав денщику Прошке вынести портретисту свой мундир с орденами.
Был и скульптурный портрет, бронзовый бюст работы Демут-Малиновского, который оставлял впечатление подлинности суворовского образа. Иронически-вопрошающе приподняты брови, чуть оттопырены уши, над усталыми и добрыми глазами приспущены веки, насмешка и скорбь в складках возле крепкого, мужественного рта. Худая, в широком воротнике, шея придает этому образу что-то трогательное, хрупкое, как и смешной хохол над выпуклым лбом, изрезанным сетью морщин. Эта скульптура была ближе всего к образу гениального полководца, оставившего в веках немеркнущую славу подвигов своих.
И все же Суворов воплотился для Сурикова в живом человеке — старом казачьем офицере, которого он встретил в Красноярске, зайдя случайно к соседу в гости. Художник сначала даже не заметил его. И вдруг за беседой старик повернулся к Василию Ивановичу в профиль, рассказывая что-то смешное. И в том, как собрались пучки морщин на его виске, и в хрящеватом удлиненном носе, и в саркастической улыбке Суриков увидел давно взлелеянный в душе и воображении облик своего героя.
Теперь в мастерской были собраны все этюды Суворова — и крупные, и поясные, и на коне. Надо было его «уставить» в картину. Много раз Василий Иванович уставлял Суворова. Вначале он было думал посадить его на коня, обратив лицом к зрителю, но при такой позе утрачивалось впечатление тесной связи полководца с солдатами. Генералиссимус верхом на коне стоял над обрывом как памятник.
— Помнишь три военных правила Суворова? — говорил Василий Иванович дочери, прихлебывая чай с блюдца. — «Первое — глазомер: как в лагере встать, где атаковать. Второе — быстрота: при сей быстроте люди не устали. Неприятель не знает, считает за сто верст… И вдруг мы на него, как снег на голову. А третье — натиск: нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет… У неприятеля те же руки, да русского штыка не знают!..» Ну-ка, Олечка, отойди в тот угол да посмотри, как я поставил его на уступ… Не пойму пропорции…
Оля отошла в дальний угол мастерской. С левой стороны холст был не закрашен. По белому грунту была нарисована углем конная фигура Суворова. Ее трудно было проверить вне цвета. Оля представила себе серого коня, белые брюки полководца, его синий плащ, и ей показалось, что он наступает на солдат.
— Если хочешь по глазомеру, папочка, то вот что я тебе скажу: Суворов и его конь просто велики, они выпирают, давят. И лица солдат становятся мелки, и горы приплюснуты… — Оля замолчала, встревоженно поглядев на отца темными блестящими глазами.
Он улыбнулся:
— Так и есть! Умница ты моя! И вообще коня надо убрать до половины, чтобы он не мешал общему ритму движения… Вот у тебя глазомер — дар бесценный!
Василий Иванович пододвинул стремянку и через минуту был уже наверху с тряпкой. Он стер Суворова и начал углем врисовывать фигуру в меньшем размере и отступая от катящейся вниз толпы.
— А здесь, слева, казачишку поставлю… Там ведь его коня два казака под уздцы держали. Суворов все рвался соскочить с коня и ринуться вместе со всеми… А они его не пускали: «Сиди, сиди!» — говорили. — Василий Иванович углем набрасывал чуть пригнувшуюся в седле фигуру полководца. — Вот так будет точно! — Он спрыгнул со стремянки и отошел в угол, чтобы проверить.
— А знаешь что, папочка? Боюсь, что верхние солдаты нижним на штыки попадут при таком стремительном движении вниз. — Оля беспокойно смотрела на отца.
— Да. Наверно, так и будет! — засмеялся он.
— Может быть, убрать штыки? — нерешительно предлагает Оля.
— Ни за что! Красота в сверкании. Нельзя русскому солдату без штыка.
Оля вдруг припоминает, как они с Леной переругались, когда отец взобрался на кручу и оттуда катился вниз, собравшись в комок, подминая под себя снег. Через мгновение он оказался возле них, весь в снегу, мокрый, испуганный, но довольный. Он хотел повторить, но дочери вцепились в него и упросили больше не рисковать…
До темноты Оля пробыла у отца в мастерской. Когда они собрались домой, фигура полководца была найдена и уже обведена контуром.
— Завтра напишу его, — уверенно говорил Василий Иванович, моя руки в медном тазу, что стоял в углу на табуретке. — Завтра Суворов в синем плаще будет махать треуголкой своим солдатикам…
Когда отец со старшей дочерью вернулись домой, младшая уже пообедала.
— Что же вы так долго сегодня? — кричала она им из гостиной.
Забравшись с ногами на диван, Лена сидела у стола, на котором уютно горела лампа под розовым абажуром, похожим на кринолин XVIII века. Тут же стояла банка с малиновым вареньем. Лена пила чай и читала в «Ниве» роман Толстого «Воскресение».
Прислушиваясь к голосам из столовой, Лена думала: «Почему папа только Оле показывает незаконченные картины? Почему только Оле? Говорит, у нее превосходный глазомер… И вообще уж эта наша Оля, Олечка-душа! Всегда, во всем первая!»
Сродство духовною начала
На этот раз Василий Иванович остановился в дорогой благоустроенной гостинице «Россия», что помещалась на углу Невского и Мойки. Стояли пасмурные, холодные мартовские дни. Но Василий Иванович не ощущал их неприветливости — почти ежедневно он был приглашен то на завтрак к вице-президенту Академии художеств Толстому, то на обед к Репину, то к петербургскому приятелю — художнику Пономареву, который наконец женился, а то просиживал вечера у свояченицы Софьи Августовны Кропоткиной, где сейчас гостил его шурин — Михаил Августович Шарэ. Странный господин был этот Мишель, — сухонький, небольшого роста, с непропорционально коротким туловищем и длинными ножками, с черной вьющейся бородкой и близко посаженными темными глазами. Был он холост, скуп и чудоковат. Жил в Париже, где-то служил, копил сбережения, говорил по-русски с сильным акцентом, изредка приезжал в Россию навестить сестер. Василию Ивановичу был он не то чтобы неприятен, но совершенно непонятен и даже чужд.
Седьмого марта в залах Императорского общества поощрения художеств открылась двадцать седьмая выставка передвижников. Экспонировались знаменитые «Богатыри» Васнецова, его же сказочные птицы «Сирин и Алконост». Уже умерший к этому времени Шишкин был представлен громадной картиной «Сухостой», производившей гнетущее впечатление: лес был мертв, так же как и художник, написавший его. Художник-демократ Касаткин выставил «Свидание с арестованными». Трагически претенциозную картину «Жертва фанатизма» выставил Пимоненко; она изображала толпу евреев, готовых разорвать в клочья молодую девушку, принявшую христианство, о чем свидетельствовал крестик на ее груди. Небольшие картинки выставил Маковский — «На гастроли», «У часовщика», «Не припомню». Этот жанр всегда находил любителей среди чиновничьей интеллигенции. Очень хороший портрет Римского-Корсажова выставил Серов. Репин ограничился портретом художника Щербиновского; небольшая картина Репина «Дуэль», о которой много говорили среди художников, была еще не закончена, она попала на выставку только в Москве. Интересны были декоративные полотна Аполлинария Васнецова по мотивам сказок Пушкина. Толпа зрителей неизменно окружала прекрасную скульптуру «Камнебоец» работы совсем еще молодого тогда скульптора Сергея Коненкова. Но центром внимания был все же «Переход Суворова через Альпы в 1799 году».
Накануне открытия выставки президент Академии художеств разрешил гвардейцам рано утром, до прихода публики, посмотреть картину Сурикова. Василий Иванович был предупрежден и пришел к этому часу на выставку. Он застал там целый взвод гвардейцев-кавалеристов. От них пахло конюшнями и казармой. Солдаты с интересом разглядывали картину, и хоть им не полагалось откровенно, вслух выражать свои мысли и чувства, все же Суриков видел, что впечатление его картина произвела сильное.
— Ну, что скажешь? — обратился Суриков к молоденькому гвардейцу, стоявшему с краю.
Тот восхищенно выпалил:
— Да-а, тут уж ничего не скажешь!
Василий Иванович расхохотался, и, словно растаяв, задвигались, зашептались, засмеялись близстоящие гвардейцы. Когда «гвардейский визит» окончился, Василий Иванович, проголодавшись, решил пойти в гостиницу позавтракать и, как это бывает в Петербурге, вдруг вышел на освещенную и пригретую солнцем улицу. Это было так неожиданно и радостно, что Суриков даже шапку снял и встряхнул густыми волосами. Потом, снова надев ее, осторожно зашагал по скользкому, притаявшему тротуару. Вернувшись в гостиницу, он заказал самовар, яйцо всмятку, чайную колбасу и свежие бублики. Потом подсел к письменному столику и написал:
«Четверг, 4 марта 1899
Здравствуйте, дорогие мои Олечка и Еленушка! Картину выставил. Тон ее очень хорош. Все хвалят. Она немного темнее музея Исторического, но зато цельнее. Поставил ее при входе в залу, а на том конце залы, где думал поставить, совсем темно. Репин не выставил картину свою. Был вчера у тети Сони. Она вам напишет;, Мишель, должно быть, был у вас в Москве. Я здоров. Погода переменчивая, но все-таки не темно.
Целую вас. Папа ваш В. Суриков.
Р. S. В субботу будет вечер у Маковского, а в воскресенье обед передвижников. Сегодня буду у Пономарева, а в пятницу у Ковалевского, художника-баталиста».
После открытия выставки в газетах появилось много статей. Снова жаркие споры вокруг картины Сурикова «Переход через Альпы». Одни критики льстили и безмерно расхваливали, другие нападали, не находя в картине никаких достоинств.
«Суриков, к сожалению, не является блестящим колористом, все его картины бледны и сухи. Но общее настроение и ряд жизненных типов заставляет зрителя забыть эти погрешности», — писали в газете «Петербургские новости».
А «Русские ведомости» радостно сообщали:
«В этом году у «передвижников» есть своя заглавная картина и свой первенствующий художник. Картина историческая — «Переход Суворова через Альпы в 1799 году». Автор ее В. И. Суриков — художник первоклассный и весьма популярный… На полотне нельзя нагляднее изобразить торжества и влияния идей известного порядка: дисциплины, увлечения, преданности и какой-то гармонии, свойственной духу и темпераменту русского солдата».
«…Наш известный «гениальный практик по военным делам» Василий Васильевич Верещагин печатно указал на отчаянные несообразности в картине: он лично никогда не позволил бы так именно спущать на веревках пушки; верх нелепости примкнутые штыки; спускаясь по снежной горе, не отомкнув предварительно штыков, солдаты должны были переколоть друг друга и т. д. Но ведь на Василия Васильевича, как известно, угодить всегда трудно и особенно в вопросах военного дела…» Так писал критик Сизов в «Московском листке». Приведя неблагожелательное мнение Верещагина, он перешел затем к положительным оценкам: «А ведь картина-то все же осталась, стоит себе и производит сильное впечатление». Тут, подробно рассказав о сюжете, критик делает интересный и убедительный вывод: «Взгляните на этого старика, на этих смеющихся на краю пропасти солдат, и что-то радостно и торжественно зазвучит внутри, а ведь перейдут… Это ясно, что перейдут… Вот в чем все дело! Подите, напишите это и скажите мне — какой тут должен быть рисунок, какие краски, общий колорит?! Тут нужна душа… Тут необходимо простое, но еще «недоследованное» нашей наукой «сродство духовного начала», и никакие «очень умные» рассуждения тут решительно ничему не помогут».
Никто, видимо, в те времена не сознавал, до какой степени верны были эти слова: «сродство духовного начала». А это то самое «сродство» между Суриковым и его героем Суворовым, которое послужило созданию произведения. Это было то сродство, которого не понял даже Лев Николаевич Толстой, вступив в полемику с автором картины на выставке. Спор был отчаянно резким и принципиальным. О нем рассказал в своем дневнике С. И. Танеев:
«…Лев Николаевич возмущен картиной Сурикова, на которой он изобразил Суворова делающим переход через Альпы. Лошадь над обрывом горячится, тогда как этого не бывает: лошадь в таких случаях идет очень осторожно. Около Суворова поставлено несколько солдат в красных мундирах. Л. Н. говорил Сурикову, что этого быть не может: солдаты на войну идут, как волны, каждый в своей отдельной группе. На это Суриков ответил, что «так красивее». «У меня в романе была сцена, где уголовная преступница встречается в тюрьме с политическим. Их разговор имел важные последствия для романа. От знающего человека я узнал, что такой встречи быть в тюрьме не могло. Я переделал все эти главы, потому что не могу писать, не имея под собой почвы, а этому Сурикову (Л. Н. при этом выругался) все равно».
А Суриков был так уверен в своей правоте, что ничто и никто не мог заставить его передумать, изменить, доработать, как это иногда бывало с другими произведениями. И когда через восемь лет, по инициативе коллекционера Цветкова, Суриков написал поясной портрет Суворова, он не смог повторить образа полководца, найденного для картины. Тот был неповторим и запечатлен раз и навсегда, как и все другие детали, что вызывали сомнения и недовольство у многих критиков. Удачей картины было «сродство духовного начала», утраченное в позднейшем портрете Суворова. В сродстве-то и была вся соль!
Так всегда не будет
Картина «Переход Суворова через Альпы» была продана за двадцать пять тысяч рублей, и летом отец с дочерьми впервые поехал на Кавказ. Они побывали во Владикавказе, потом переехали в Боржом; отдохнув там месяц, совершили путешествие по Военно-Грузинской дороге, осмотрели Тифлис. Но Кавказ не пленил и не растревожил воображения художника: Василий Иванович отдал дань кавказским красотам в виде нескольких акварелей. Душа его всегда была полна сибирским духом, а глаз постоянно сравнивал колорит с прозрачностью весенних березовых рощ или с низкими горизонтами тобольских степей…
Зато на следующее лето дочери уговорили Василия Ивановича повезти их в Италию. Два месяца провели они за границей, посетили Венецию, Неаполь, Рим, Флоренцию. Суриков сам водил дочерей по всем «священным» местам, однако вместе с радостью наслаждения любимыми произведениями, вместе с желанием вновь и вновь наглядеться на извечную красоту античных форм Василия Ивановича постоянно тревожили воспоминания о покойной жене. Но он не отгонял их, а, наоборот, сам воскрешал все в памяти, проводя дочерей улочками, мостами, парками, которыми когда-то так восхищалась их покойная мать. Суриков эту поездку посвятил дочерям и, может быть, сам впервые получал удовлетворение, видя их радость, удивление, жажду новых впечатлений. Он с удовольствием смотрел на них, сидящих в гондолах, следил за ними, замирающими от ужаса, когда они осматривали каменные мешки темницы палаццо Дожей. Он смеялся, когда они с опаской, но все же пробовали у продавцов «морской снеди» — всяких креветок, устриц, спрутов, грудами наваленных на лотках набережной в Неаполе. Но он не пропускал ни одного музея, ни одной картинной галереи, ни одной исторической достопримечательности. Все, что было ценного в итальянском искусстве, было показано дочерям, он всюду водил их как самый исправный гид и заставлял запоминать и записывать увиденное. Он с радостью следил за их духовным ростом, настойчиво думал о развитии и воспитании их вкуса, считая, что в молодом, формирующемся сознании навсегда останется тяга к принятию культурных ценностей. Из Италии Суриков писал брату:
«Рим, 10 июня 1900
Здравствуй, дорогой наш Саша! Пишу тебе, брат, из Вечного города. Здесь мы уже 10 дней и много достопримечательностей видели. Сегодня были в соборе Петра, а вчера Св. апостола Павла… Были в Колизее, где во времена римских цезарей проливалась кровь древних христиан. Вообще на каждом шагу все древности 1000-летние. Завтра думаем осмотреть Катакомбы. Собор Св. Петра около 70 сажен высоты, так что люди в нем, как мухи. Колокольня Ивана Великого в Москве поместится в нем вся там, где пишут евангелистов в парусах. Вот разрез (здесь Василий Иванович для вящей убедительности нарисовал собор Петра и колокольню Ивана Великого рядом — Н. К.).
Отсюда поедем во Флоренцию. Жара не особенно сильная, такая бывает и в Красноярске. Получил ли письмо из Неаполя? Будь здоров, целую тебя. Поклонись знакомым.
Твой Вася».
Когда Суриковы собрались домой, папка Василия Ивановича была полна чудесными акварелями, сделанными во время поездки. И все же, весь наполненный щедротами итальянской жизни, пропылившись на тосканских дорогах, надышавшись ароматами Адриатики, наглядевшись густой зелени виноградников, освежившись малахитовой волной Средиземного моря, он не переставал тосковать по дому, по родной земле. Однажды он проснулся под утро в вагоне, разбуженный движением поезда, который едва полз через мост — они только что миновали Пьяченцу. Василий Иванович выглянул в окно и увидел плавное движение вод в перламутровом сиянии. «Что это, уже Волга?» — прошептал он и вдруг возликовал, словно в опьянении. Ему почудилось, что три пары весел взлетели над водой, скрипя в уключинах и роняя брызги… Потом он оглянулся на вагонные полки, едва видные в полумраке: «Фу-ты, да ведь это По!.. Мы же домой едем, домой!..» И он задернул зеленую шторку…
Суриковы вернулись в Москву, в Леонтьевский переулок, все в тот же дом Полякова. Василий Иванович начал готовиться к новой работе — «Степан Разин». В сущности, задуман был этот сюжет четырнадцать лет назад, еще в ту роковую поездку в Сибирь вместе с детьми и Елизаветой Августовной. Теперь «Стенька» рождался заново и виделся по-новому. Суриков снова ушел в работу.
После поездки за границу дочери стали чаще бывать на людях, появились новые знакомые. Лена с осени поступила на женские курсы Герье. Оля вела хозяйство и продолжала заниматься музыкой. Однажды в отсутствие Василия Ивановича забрели к Суриковым братья Кончаловские — Максим, Дмитрий и Петр, только что приехавший на каникулы из петербургской Академии художеств. С ними вместе пришел и неизменный друг их Давид Иловайский. Они явились невзначай, слегка смущенные, и застали Олю с подружкой по музыкальной школе. Девушки разучивали первую часть симфонии соль-минор Моцарта в фортепьянном переложении для четырех рук. После некоторого замешательства гости уговорили хозяйку продолжать игру. И тут музыкантши решили проверить на неожиданных слушателях свое исполнение — они готовились к школьному концерту. Преодолев робость, девушки с таким блеском сыграли первую часть симфонии, что гости пришли в восторг.
Вот тут молодой художник Кончаловский впервые открыл в Ольге Суриковой ту, с которой не могла сравниться уже ни одна девушка в мире. Он стоял, опершись о крышку пианино, необычайно серьезный, побледневший и даже как будто удрученный. Когда девушки закончили, Макс, Митя и Давид наперебой стали расхваливать и поздравлять исполнительниц. А Петя все так же молча стоял поодаль, а потом сказал раскрасневшейся, оживленной Оле:
— Вы даже не представляете себе, Ольга Васильевна, как это превосходно! Как замечательно вы играли… А музыка-то какая!
В этот вечер Макс и Митя не узнавали Петю — постоянного зачинщика всех веселых затей, который везде становился душой общества, едва переступив порог дома.
Сестры пригласили молодых людей к чаю. За столом больше всех острил Митя, он слегка заигрывал с Леной Суриковой. Макс и Давид были тоже оживленны. Один Петя сидел в какой-то задумчивой рассеянности. И Давид, севший рядом с Леной, тихонько сказал ей:
— Ну, пропал наш Петр! Уж я вижу… Глаз не сводит с Ольги Васильевны!
Но Лену занимал в эту минуту только Митя, и она не придала словам Давида никакого значения, хотя после ухода гостей рассказала обо всем сестре.
Потом Петр уехал на занятия в Петербург, и долгое время Кончаловские с Суриковыми не встречались. Лена занялась своими курсами, а Оля заменяла в доме хозяйку, успевая позаботиться обо всех. Но, кроме хозяйства и музыки, она всерьез интересовалась публичными лекциями по истории искусств и философии, занималась французским языком, ходила на все концерты приезжих знаменитостей — в эту зиму в Москве концертировал Артур Никиш, — бывала часто с подругой Соней Келлер в Малом театре. Жизнь ее была разнообразной и наполненной.
В центре жизни Суриковых теперь был «Стенька», как называли дочери новую работу отца. При всем своем уважении и преданной любви к нему они все же не упускали случая немного поддразнить его, когда он уж слишком углублялся в свои мысли. Однажды, застав Василия Ивановича примеряющим парчовый кафтан и усевшимся верхом на стул, они стали хлопать в ладоши и ходить вокруг него, припевая:
Едет пряник на коне, Сам в расшитом зипуне!Василий Иванович хохотал до упаду и сам частенько потом напевал эту прибаутку, сочиненную дочерьми.
Два события нарушили в эту зиму рабочую жизнь Василия Ивановича. Первое — настойчивое приглашение Московского училища ваяния и зодчества на должность преподавателя живописи. Сурикова раздражали эти приглашения, и в этот раз он ответил директору училища Львову резковатым письмом:
«Многоуважаемый князь!
Я получил ваше извещение и благодарю за честь выбора, но согласиться не могу.
Меня даже удивляет это избрание, так как, я думаю, многие художники знают, что я неоднократно уже отказывался от профессорства в Академии и считаю для себя, как художника, свободу выше всего.
Уважающий вас В. Суриков».
Второе событие произошло на пасху. Сурикову был пожалован орден Святого Владимира четвертой степени за две картины: «Покорение Сибири Ермаком» и «Переход Суворова через Альпы». И хоть Василий Иванович орденов не носил, но был доволен тем, что его ценят и о нем помнят. Тут же вскоре пришло письмо от французского правительства — Люксембургский музей желал приобрести одну из исторических картин Сурикова, «отличающихся большим патриотизмом». Василий Иванович снова был польщен: «Наконец-то помаленьку узнают, что я такое!» Но патриотизм его заключался еще и в том, что он хотел видеть свои полотна только в русских музеях. И он ответил отказом.
Наступило лето 1901 года, и впервые за всю свою жизнь Суриков отправился на этюды без дочерей. Оставив Олю с Леной на даче у знакомых, он сел на пароход в Нижнем и поехал вниз по Волге. Впоследствии он пожалел об этой первой попытке воспользоваться свободой художника и оторваться от дочерей.
Из Астрахани Василий Иванович написал дочерям:
«Астрахань, июль 1901
Здравствуйте, Олечка и Еленочка!
Наконец достиг Астрахани. 6 дней езды. Это какая-то Венеция или Неаполь. Шумная жизнь на пристанях. Сегодня нарисовал лодку и наметил на другом рисунке гребцов (шесть весел). Думаю завтра или послезавтра кончить этюд красками (не отделывая, эскизно).
Кое-какие наброски неба с водою дорогой на ходу делал.
Жара не особенная, сегодня был дождик. Думаю дня три пробыть — и назад. Боюсь, если наступят жары, тогда я и марш домой. Ну, как вы поживаете без папы?
Надеюсь привезти для начала работы кое-какие материалы.
Я здоров. Не беспокойтесь. Из окна у меня пристань с пароходами, лодками и барками. Ну, целую.
Ваш папа.
Поздравляю, Олечка, с наступающим днем ангела, а тебя, лапик, с именинницей.
Р. S. Я ужасно рад, что поехал вниз по Волге, настоящую тут я увидел ширь. К 17-му буду, бог даст, дома».
К зиме Василий Иванович снова получил Круглый зал в Историческом музее. Пора было начинать композицию широко задуманной картины. Этюдов было заготовлено множество. Василий Иванович весь ушел в поиски. Он с утра уходил в мастерскую и возвращался к вечеру. Дома его ждали дочери, и он очень любил эти спокойные вечера за чтением и рисованием.
В один из таких вечеров, когда он сидел в своей комнате, перелистывая старинное издание русских народных песен и прислушиваясь к разговору в соседней — гостиной, Оля чему-то вдруг неудержимо рассмеялась. Отец улыбнулся и включился в разговор:
— А хорошо нам здесь троим. Живем дружно, весело… Вот так и будем жить всегда…
В гостиной наступила пауза, которая вдруг прервалась твердым, громким голосом Оли:
— Но ведь всегда так не будет, папочка!
Не ожидая такого возражения, отец выдержал паузу, потом показался в дверях и спросил:
— Почему всегда так не будет?
Оля стояла возле натопленной печки. Стояла, как тринадцать лет назад, позируя для портрета в красном платье. Только сейчас с ней не было куклы Веры и обе ладони ее были прижаты к теплому кафелю. Лицо ее было бледным, и блестели глаза, неподвижно и смело устремленные на отца. Василий Иванович повторил в тревоге:
— Почему всегда так не будет?
— Потому что я выхожу замуж.
— За кого? — тихо спросил оцепеневший Суриков.
— За Кончаловского.
— За какого? — уже в отчаянии закричал отец.
— За художника.
Больше всего боялся Суриков именно этого. И как раз оно-то и грянуло над ним.
— Ты с ума сошла! Какой он тебе муж… — Суриков подошел к дочери, он был страшен.
Целый вечер метался он по квартире, в неистовстве стуча кулаками по столам, опрокидывая стулья, крича, бранясь, даже плача. Ольга была тверда и, не уступая, принимала бой. Не выдержав, Лена кинулась к себе в комнату, и в слезах упала на кровать.
— Она убьет папу! Убьет, жестокая девчонка! — рыдала Лена в подушки.
Было поздно, когда обессиленный, измученный Василий Иванович сел в кресло перед Ольгой, все так же стоявшей возле печки, и, откинувшись, взмолился:
— Олечка… Душечка моя, ну зачем тебе это нужно?
— Я люблю его. — И вдруг, закрыв лицо обеими руками, Оля заплакала, беззвучно, беспомощно.
Василий Иванович был сражен.
— Господи боже мой… Да когда ж ты успела полюбить этого… — Он осекся.
Оля отняла руки от лица — чистого, сияющего и вдохновенного:
— Давно, папочка. Да ведь я всегда только его одного и любила. И буду любить до последнего моего дыхания…
Клятва над Царь-колоколом
А произошло все это так. После посещения Суриковых, после симфонии Моцарта, Петр Петрович-младший видел Ольгу Васильевну всего два раза, но думал о ней непрерывно, словно вынашивая в себе твердое решение.
Приехав из Петербурга на зимние каникулы, он решил написать ей письмо. Оно было кратким, горячим и серьезным. Он предлагал ей свое чувство, вспыхнувшее в тот самый вечер. Он предлагал ей свою жизнь. Он писал, что судьба его теперь в ее руках, и просил, если она согласна, прийти к нему на свидание в Кремль через три дня, в три часа пополудни… Он будет ждать ее на скамейке возле Царь-колокола.
Час, когда почтальон принес это письмо в дом Полякова, решил всю дальнейшую судьбу Оли. Она все поняла, все оценила и решила, не колеблясь ни одной минуты. Свой ответ она не стала посылать по почте, а, наняв извозчика, сама поехала на Каретно-Садовую, где жили тогда Кончаловские. В дом Ольга Васильевна не вошла, а вызвала дворника и попросила передать письмо Петру Петровичу-младшему. Дворник, зная, что ха этими жильцами установлен полицейский надзор, усмотрел в этом посещении нечто подозрительное и, отказавшись передать письмо, вызвал молодого человека к воротам.
Накинув пальто, без шапки, Петя выскочил на улицу и в изумлении оказался перед своей избранницей. Она стояла прямая, строгая. Из-под бархатной шляпки серьезно и твердо на него глядели блестящие глаза. Молча вынув из беличьей муфты конверт, она подала его Кончаловскому. Потом вдруг весело и таинственно улыбнулась и побежала к извозчику, что ждал ее поодаль. Озадаченный, глядел Петр Петрович вслед удаляющимся саням, потом повертел в руках конверт, боясь распечатать его, и вошел в дом.
В условленный день и час они встретились в Кремле. Когда Оля подходила к Царь-колоколу, возле скамьи уже стоял Петр Петрович. Она издали помахала ему муфтой, он побежал к ней навстречу, большой, счастливый. Зимний Кремль сверкал под январским солнцем, легкий морозец держал нетронутым выпавший с ночи снег. Петр Петрович смахнул его шапкой со скамьи. Они сели. И тут имел место «сговор», свидетелем которому был один только Царь-колокол.
Странную клятву дали друг другу двое молодых людей: никогда не превращать будущую жизнь в «обыкновенную супружескую», никогда не жаловаться и не сетовать, что бы ни случилось, никогда ни в чем не упрекать друг друга — ничто не должно мешать творческой жизни, никакие житейские условности.
Любовь истинная, глубокая, самоотверженная не должна превращаться в привычку, а товарищеская поддержка, верность и понимание друг друга должны пройти сквозь всю жизнь.
Они поклялись никогда не разлучаться с детьми, которые у них непременно будут, и куда бы их ни закинула трудовая жизнь, брать с собой своих детей, деля с ними все то, что сами будут узнавать и получать от жизни.
И все, что предлагал он, она сразу принимала, как свои собственные желания, а все то, о чем говорила она, оказывалось святым и дорогим для него. Так они построили свою будущую жизнь, и только одного вопроса не коснулись ни он, ни она — на какие средства они будут жить? Это было для обоих безразлично, как была безразлична вся внешняя обстановка будущего существования. Все строилось на внутреннем — на единстве чувств, воззрений и стремлений. И это было прочнейшим фундаментом для возведения храма их жизни.
Романтика обручения с искусством, которому они оба отдавали свои жизни, была так высока и безупречно чиста, что, пожалуй, Царь-колоколу Ни разу ни до, ни после этого обручения не доводилось присутствовать на таком торжестве.
Они расстались, когда часы на Спасской башне пробили пять. Мороз крепчал. Весь розовый, Иван Великий полыхал главкой, отражая прощальные пунцовые лучи зимнего заката. Обрученные встали со скамьи и скрепили договор, робка прижав похолодевшие уста к устам. Потом она пошла к Спасским воротам, а он — к Боровицким. Ни он, ни она не оглянулись, словно унося в себе друг друга.
Вот тогда-то, придя домой, Оля встала возле печки, чтобы согреться, она изрядно промерзла на скамье под Царь-колоколом. Тут она и приняла бой со своим великим, единственным другом — любимым отцом.
Против течения
Петр Петрович-старший был озабочен и удручен. Он сидел в спальне, глубоко уйдя в мягкое кресло. Виктория Тимофеевна хворала и, полулежа на кушетке, укутавшись пледом, медленно пила из старинной серебряной кружки горячий отвар липового цвета.
— Ты представляешь, Вита, что он ему наговорил, этот бурбон! Он вызвал его к себе и стал отговаривать от женитьбы. Если б Петя хоть раз поделился со мной своими намерениями, я бы не допустил его до такого унижения. Ведь получилось, что ему сказали: нечего, мол, с суконным рылом да в калашный ряд…
— Ну, положим, ты преувеличиваешь, — возразила Виктория Тимофеевна. — Он, наверно, был резок, раздражен, но за что ж было оскорблять Петрушу? Я думаю, это было не так уж обидно.
Петр Петрович покачал большой седой головой:
— Он, конечно, недоволен, что дочь выбрала жениха из такой «неблагонадежной» семьи, как наша. К тому же он нелюдим, подозрителен и скуповат.
Виктория Тимофеевна вдруг громко рассмеялась:
— А он, наверно, сейчас сидит и думает, что ты страшный транжира и мот!
— Можно к вам? — послышался голос за дверью.
Вошел сын Петр. Он очень изменился за последнее время, похудел и повзрослел.
— Ну что, жених? — иронически поглядел на него отец, вскинув густые седые брови.
— В феврале женюсь и увезу Олю в Петербург.
— Э-э-э! Это старуха надвое сказала. Не отдаст Суриков дочь за тебя, придется не солоно хлебавши одному ехать… Я вообще поражаюсь, как ты выдержал весь этот разговор. Я бы плюнул и ушел.
— Папочка, но ты только подумай, ведь он — гений! Гений, каких больше нет у нас. И, как у необычного смертного, у него, конечно, должны быть странности. И я ему все должен извинить, все решительно… — Петя присел на кушетку в ногах у Виктории Тимофеевны. — Он мне сказал: «Ну куда она с вами поедет? У вас ни кола ни двора! Какой из вас муж? И вообще-то быть женой художника незавидная доля», а я ему ответил: «Но ведь вы же ее, Василий Иванович, воспитали для мужа-художника». Он посмотрел на меня так зло, замолчал и только рукой махнул.
— А мне она нравится. — Виктория Тимофеевна поставила кружку на столик и спрятала руки под плед. — В ней такая русская красота, такая здоровая натура, цельная, определенная. Прелестная девушка!
Сын взглянул на нее сияющими глазами.
— Знаешь, мамочка, есть в ней высокое мышление, ум и, потом, необычайная твердость устоев, каких-то своих, собственных, оригинальных, несмотря на такие молодые годы. Я знаю только одно: что для меня вся моя будущая жизнь зависит от того, будет она со мной рядом или нет. Вы даже не представляете себе, насколько это важно!..
Отец молчал, насупившись, он не очень верил в неизбежную необходимость этого брака. Но мать понимала сына и чувствовала, что ему без Ольги Суриковой — не жизнь…
А Василий, Иванович боялся разлуки с дочерью. Он боялся даже думать об этом. Он страдал. И в мастерской за работой он вдруг садился и часами сидел в бездействии и опустошенности, чего с ним никогда не бывало.
«Как удержать ее от этого? — думал он, сидя перед громадным холстом, на котором была уже скомпонована группа людей в струге, что под парусом уходил от зрителя вдаль. — Как удержать?.. Да где уж теперь, поздно! Вот уехал на Волгу и проворонил дочку! — с горечью думал он. — Как он вчера мне заявил: «Мы любим друг друга и врозь жить не можем». Но я-то ведь тоже не могу жить без Оли! Вот ведь она об этом не подумала, променяла отца на какого-то… И еще говорит: «Вспомни, папочку, как ты сам женился! Тоже ведь «хоть единожды, да вскачь» и тут же увез маму из Петербурга в Москву! Ну, а у нас наоборот — Петр Петрович увезет меня из Москвы в Петербург, вот и вся разница!..»
Василий Иванович встал со стула и подошел к окну. Далеко внизу копошился торг Охотного ряда. Словно степная вода, вышедшая из берегов, крутилась толпа на мостовой, мешая проезду извозчиков.
«В будущем году он кончает Академию, — думал Суриков и глядел в окно. — Ну и пусть бы жили в Москве. Могли бы жить у нас, в моей комнате, я все равно мастерскую снимаю. А я бы перешел в гостиную, да и вообще можно снять большую квартиру. Эх, не надо ей приданого давать, тогда будут жить с нами… — Василий Иванович, покусывая ус, глядел на ломового, который, заехав в толпу, никак не мог развернуть полка. Стоя на полке в рост, он, видимо, кричал что-то, дергал лошадь вправо и влево и походил на заехавшего в брод. — И чего он на колесах в январе выехал? — удивился Суриков, но тут же мысли вернулись к своему — к Олечке-душе: — Пусть она уговорит его жить в Москве… А на лето поехали бы к дяде Саше в Красноярск. — Василий Иванович подумал о том, что, пожалуй, будущий зять понравится Саше, он таких любит — серьезных, обходительных. — В сущности-то, может, этот Петя хороший человек…»
И вдруг резкая боль вцепилась в сердце. «Ах, Олечка, Олечка, что ты наделала?» Он вздохнул и со стоном выдохнул эту боль.
Свадьба была назначена на 10 февраля. В доме Суриковых шла предсвадебная суета: за две недели надо было приготовить приданое. Сестры погрузились в радостные заботы и беготню. То и дело домой приносились пакеты, коробки, картонки. В комнате у сестер постоянное оживление, споры, смех. Подруги принимали участие в обсуждении всех предсвадебных приготовлений.
И вот наступил знаменательный день, о котором через 55 лет Ольга Васильевна написала: «…Все это заняло три недели на масленице 1902 года. Мы повенчались в Хамовнической церкви (она и сейчас стоит на том же месте, расписанная букетиками), и я всегда просила Петра Петровича написать эту разноцветную церковку.
Я приехала на венчание в белой фате, со мной приехал маленький сын Валентина Александровича Серова — Юра с образом, а в церкви шафера несли за мной мой огромный шлейф. Шаферами были Максим Петрович Кончаловский, художник Милиотти и Давид Иванович Иловайский. Тут же я увидела Врубеля, он уже тогда был очень странный, видимо, у него начиналась болезнь, которая привела его в больницу для умалишенных. После венчания мы все поехали к нам в Леонтьевский переулок. Потом нас проводили на вокзал, и мы уехали в Петербург».
Все это записала Ольга Васильевна в своей летописи, что служит опорой книге, которую ты, читатель, сейчас держишь в руках.
«Без княжны»
Василий Иванович тосковал. В квартире Суриковых словно все вымерло. Ушла радость из дома. Ушла нежность и энергия. Ушла музыка. Ушел веселый смех. Все унесла с собою Оля.
Когда отца не было дома, Лена садилась на молчаливую Олину кроватку и плакала оттого, что не привыкла жить без сестры, оттого, что не может заменить отцу Олю, оттого, что многого не могла решить одна. Плакала от тоски по содержательной, полной смысла и твердости жизни, бок о бок с которой шла ее собственная жизнь все годы.
По-прежнему Василий Иванович уходил с утра в мастерскую, но работа не двигалась. «Стенька» давался ему, пожалуй, труднее, чем что бы то ни было. «Стенька» проходил сложную эволюцию своего воплощения. В самых первых набросках карандашом и углем была целая флотилия, в струге среди хохочущих сподвижников Разина сидела персидская княжна. Но этот сюжет, так же, видимо, как и «Последние минуты Павла I», был чужд Сурикову, как остродраматический момент, бьющий на внешний эффект. Художник отказался от него, как от несуриковской трактовки исторических событий. Он убрал персиянку — персонаж случайного приключения, на который так падка мещанская публика, хоть в народе на века осталась жить песня «Из-за острова на стрежень». Но чем глубже входит песня в жизнь народа, тем опаснее для художника, работая над той же темой, впасть в иллюстративность, грозящую тривиальностью.
Итак, персиянки не было. Был Степан Разин — типический герой русского народа. Можно было изобразить его в самом начале отважного пути, когда собралась голытьба на Дону.
Можно было пустит его на Волгу в первые набеги на караваны царских стругов с богатыми товарами. Можно было написать сцену взятия Астрахани, когда мятежники подожгли царский корабль «Орел», что шел с двадцатью двумя пушками на бунтарскую рать Степана. Хорош был бы для сюжета бои под Симбирском.
Но Суриков отказался от батальных сцен. Он устал «воевать». Видно, в нем самом появилась потребность в успокоенности и раздумье. И все же успокоенность эта не была старческой, а раздумье бесплодным. В нем самом, как и в Разине, и раздумье и покой были тревожными, словно затишье перед грозой. Это настроение полулежащего в лодке Разина было взято в сильном контрасте с рассеянным затишьем над глубокой гладью реки, с мирным всплеском четырех пар весел и с беззаботным ветерком, пружинящим парус над буйной Стенькиной головой. Таким увидел Суриков Степана Разина.
А была еще одна тема, в те времена совсем не исследованная. К атаманскому шатру, раскинутому на крутом волжском берегу, однажды прискакал конь со странной всадницей — монашенкой в черной рясе и клобуке. Она вошла в шатер, где шумели пять атаманов, и предстала перед Степаном.
Степан принял Алену в атаманы, и она привела ему семитысячную рать, что собрала исподволь, кочуя по всей Руси. Судьба ее была трагична: она попала в плен к царским войскам и была сожжена на костре в городе Темникове, как Жанна д'Арк.
В те времена, когда Суриков писал Разина, никто не знал имени Алены. Монашенка, бежавшая из монастыря к бунтарям, считалась еретичкой и нечестивицей, о таких предпочитали не упоминать. Суриков ничего не знал о ней, иначе эта тема героизма русской женщины, может быть, нашла бы место в его уме и сердце.
Потомки бунтарей
Однажды Владимир Михайлович Крутовский, известный красноярский врач и деятель культуры [11], посоветовал Сурикову прочесть статью Оглоблина «Красноярский бунт 1695 года». Василий Иванович так увлекся этой статьей, что написал брату:
«1901
Здравствуй, дорогой наш Саша!
Пишу тебе, что в «Журнале Министерства народного просвещения», май 1901 года, напечатана статья Оглоблина о Красноярском бунте 1695–1698 годов. Тут многие есть фамилии наших казаков и в том числе имена наших предков с тобой, казаков Ильи и Петра Суриковых, принимавших участие в бунте против воевод-взяточников. «В доме Петра и Ильи Суриковых» были сборища заговорщиков против воеводы «ночные». Здесь бывали Злобины, Потылицыны, Кожуховские, Торгошины, Чанчиковы, Путимцевы, Потехины, Ошаровы, Юшковы, Мезенины и все, все, потомков которых мы знаем. Видно, у нас был большой дом, уже не дом ли Матвея-дедушки? Суриков (Петр) был «в кругу», где решили избить воеводу и утопить его в Енисее, Прочти и покажи знакомым эту статью. Можно достать или в гимназии, или семинарии. Чрезвычайно интересно, что мы знаем с тобой предков теперь своих, уже казаков, в 1690 году, а отцы их, конечно, пришли с Ермаком,
Твой Вася. Посвежее пришли еще урюшку».
Суриков с жадностью прочел о том, как в конце XVII века царь Петр Алексеевич послал в Сибирь на воеводство своих людей. Это были продажные и жестокие лихоманци, притеснявшие красноярцев, обкрадывавшие их. Они тайно перепродавали порох и свинец киргизам, с этим порохом киргизы нападали на русских поселенцев, пока сам воевода отсиживался в крепости. Большей подлости нельзя было совершить! Три года бунтовали красноярцы, по ночам в домах десятников Ильи и Петра Суриковых собиралась на сходку «дума».
Бунтари выбирали посланцев к царю с требованием прислать наконец честного воеводу, потому что двоих прежних пришлось прогнать. Царь послал им третьего — стольника своего Семена Дурново. Видно, чем-нибудь досадил он царю, если так далеко решили его заслать! Стольник распоясался хуже прежних двух. Избивал людей батогами за малейшее проявление недовольства, а взятки брал непомерные.; Красноярцы терпели, терпели да и не вытерпели — ворвались под утро в крепость, выволокли воеводу из пуховиков, избили его и поволокли к Енисею — «сажать на воду», то есть топить. С трудом вызволили слуги воеводу из рук разъяренной толпы. Красноярцы бросили их всех в лодку и пустили без весел по течению. А это верная смерть: попал в водоворот — и поминай как звали. Однако воеводк чудом добрался до Енисейска, а там его подобрали царские дьяки.
Прочитав эту историю, Суриков пришел в восторг: «Это прелесть! Вот это картина! Я представляю себе чудный летний день. Енисей в полном величественном разливе. Огромная толпа взбунтовавшихся на берегу, тут и стар и млад и женщины, посадили свое начальство в дощаник, отпихнули от берега, а с берега летят камни в отъезжающих, а воздух насыщен насмешками и улюлюканьем!..» Так делился Суриков с Крутовским, и так Крутовский и записал этот разговор.
Василий Иванович решил на лето ехать в Сибирь. Он написал Оле в Петербург, предложив совершить путешествие всем вместе — вчетвером. Молодые с радостью приняли предложение. В июне 1902 года Кончаловские прибыли в Москву, чтобы вместе с Василием Ивановичем и Леной отправиться в Красноярск. С «лошадиной поэзией» было покончено, в строй вступила великая сибирская магистраль. Об этом Петр Петрович горько сожалел, слушая дорогой необычные, полные юмора и меткости рассказы Василия Ивановича об этом путешествии на перекладных.
Все четверо чувствовали себя на редкость непринужденно и весело, словно всю жизнь так и проводили вместе. Сильный, большой, добрый, Петр Петрович оказался незаменимым спутникам в дороге, прекрасным собеседником, первым помощником во всем. «Да-а-а! С таким не пропадешь, — думал Василий Иванович, наблюдая, с какой легкостью и готовностью, словно шутя, подхватывал тот тяжелые баулы и чемоданы, едва жена просила что-нибудь достать. — За таким, как за каменной стеной!», И тесть улыбался, глядя на широкую спину; зятя, заслонившую все окно в коридоре вагона.
Каждый раз, когда, поезд надолго застревал среди, пути где-нибудь в тайге, Петр Петрович немедленно пристраивался рисовать, а Оля, выйдя из вагона вслед за мужем, не упускала случая нарвать ярких таежных цветов. Однажды на случайной глухой-стоянке к поезду вышел медведь. Зверь поднялся на задние лапы и стал тянуть в себя воздух. Василий Иванович заметил депо из окна вагона и в первую минуту обомлел от нахлынувших воспоминаний, потом опомнился и в тревоге закричал:
— Эй, дети! Дети! Марш в вагон! Топтыгин на вас вылез из тайги!..
В эту минуту локомотив дал длинный резкий гудок, предупреждая пассажиров, высыпавших на воздух. Медведь так перепугался, что пустился наутек.
— И как вы не боитесь вылезать среди леса? — удивлялась Лена. — Мне тыщу рублей посули — не слезу с подножки в этой глуши. Только на станции, и то на большой!
— Да я уж видел, как ты обедаешь на вокзалах, — смеялся отец, — заглатываешь пельмени, не жуя от страха, что поезд уйдет.
День ото дня Петр Петрович все больше нравился своему тестю, и на шестые сутки, когда поезд подошел к платформе красноярского вокзальчика, где уже маячила сухая, длинная фигура Александра Ивановича в кителе и белом картузе, Василий Иванович, выйдя из вагона, представил ему, сияющему до слез, своего зятя:
— Ну, Саша, вот тебе наш Петр! Принимай гостя, просим любить да жаловать!
И Александр Иванович тут же, на вокзале, принял Петра в объятия и в свое сердце уже навсегда. Они оба тут же просто влюбились друг в друга.
Никогда еще в доме на Благовещенской не было так интересно и хорошо. Молодые Кончаловские внесли в этот старый дом столько доброй жизненной силы, столько радостных надежд и счастья, что все вокруг молодели, глядя на них.
А Василия Ивановича поглотил новый замысел. Он часто встречался с Крутовским, ходил с ним на высокий берег Енисея, куда, по преданиям, притащили бунтари стольника Дурново. Суриков сделал первые наброски этой сцены. Нарисовал и другую сцену, где народ вламывается во двор воеводы для заслуженной расправы с ним. В одной из фигур на первом плане Василий Иванович изобразил своего предка Илью, придав ему фамильное сходство с самим собой. Он сделал еще много набросков для вновь задуманной картины, но замысел этот так и не был осуществлен.
Василий Иванович был очень счастлив этим лётом — в молодом художнике Кончаловском он приобрел бескорыстного, преданного, дорогого друга, никогда ничем не обманувшего его доверия и не омрачившего их священной дружбы.
Раз в крещенский вечерок
Развалившись в легких саночках, запряженных отличным рысаком, закутанный в николаевскую шинель, петербургский барон Нолькен выполнял обязанности градоначальника — совершал ночной объезд Васильевского острова. Был кануне крещения, морозная мгла стояла над Петербургом. Проезжая мимо Академии художеств, барон заметил перед окнами группу людей, услышал крик и звон разбитого стекла. Чья-то с силой запущенная калоша пролетела по воздуху и врезалась В1 окно первого этажа. Барон приказал кучеру остановиться.
— Что тут происходит? — высоким голосом закричал он..
— А тебе какое дело? — отрезал рослый студент. Он не выговаривал буквы «л», и у него получалось «дево».
Барона взорвало. Кучер дал свисток, и тут же появились городовые. Схватили студентов и отвели в полицейский участок.
Бросивший калошу студент Кончаловский был вместе с ближайшим своим другом — скульптором Коненковым; кроме них, в переделку попали еще трое студентов. Все они возвращались ночью из города и, проходя мимо Академии, недовольные последним распоряжением ректора Академии Беклемишева, решили выразить ему свой протест. Вот тут-то и подкатил на своем рысаке барон Нолькен… После допроса в полицейском участке молодых людей отпустили, но дело было передано в суд.
«Бунтари» шли по пустынному Большому проспекту. Всем им было холодно, голодно, но отчаянно весело. Шли хохоча и дурачась. Кто-то начал декламировать:
Раз в крещенский вечерок Девушки гадали. За ворота башмачок, Сняв с ноги, бросали.— Вот тебе и нагадали! Вместо башмачка за ворота — калошу в окно Беклемишеву!..
К счастью, она попала не к ректору в окно, а к профессору Павлу Петровичу Чистякову, к тому самому защитнику всех «искателей истины», издавна помогавшему молодежи тому, у которого учился и Суриков. Когда Чистяков узнал, что калоша предназначалась Беклемишеву и была брошена «талантливыми бунтарями», он вступился за них и уговорил вице-президента Академии Толстого настоять на смягчении приговора. А приговор был суровым: барон Нолькен потребовал исключения из Академии студента Кончаловского за то, что он осмелился говорить ему, барону, «ты».
И все это произошло как раз тогда, когда у Кончаловских родилась дочь! Петр Петрович был так счастлив, что забыл про все свои неприятности. В те годы подобные «неприятности» случались среди студенчества часто. Студенты объединялись в группы и устраивали «заговоры» против неугодных им профессоров, против решений ректора. Академия, которая жестко придерживалась рутины, постоянно находилась в «обороне» против бунтарей. Студенты Коненков и Кончаловский слыли одними из самых отъявленных буянов. Их связывала давняя дружба, общность воззрений. Однажды им вместе случилось ненадолго поехать в Италию. Их пленили великие мастера Возрождения, они изучали античное искусство, а вернувшись на родину, все же принялись искать свое, новое. А новое надо было завоевывать. На этом и выросла, укрепилась их дружба.
Профессору Чистякову все же удалось отстоять «бунтарей». Суд приговорил виновных к штрафу — по восьми рублей с каждого.
В квартиру на Одиннадцатой линии Васильевского острова, где Кончаловские снимали комнату, в самый день крестин новорожденной дочери на праздничный обед явился… околоточный. Все проштрафившиеся были налицо, во главе с крестным отцом — Сергеем Тимофеевичем Коненковым. Тут же восседал и Павел Петрович Чистяков. Околоточный объявил приговор. Объяснив, что здесь происходит, ему поднесли рюмку водки. Он поднял ее:
— Как нарекли-то девицу?
— Натальей! — ответил отец.
— Ну, так за здоровье новорожденной Натальи!
Околоточный опрокинул рюмку, крякнул, поправил усы и, получив сорок рублей штрафу, щелкнул каблуками и исчез…
Так Василий Иванович Суриков стал дедом, и первой внучкой его стала я — автор этой книги. Он привязался ко мне, не успев даже приглядеться как следует, — трех недель от роду я начала путешествовать. Отец — Петр Петрович начал ездить в поисках материала для картины на конкурс. Сначала он повез нас с мамой в Вологду, потом дальше на север, в Архангельск, и я стала тоже получать письма от дедушки.
«23 июля 1903
Здравствуйте, Олечка, Петя и Наташа!
Я очень обрадовался, получив ваше письмо. Очень долго ждали. Вот куда вы заехали! Поклонитесь от меня памятнику Петра Великого и еще поклонитесь в сторону деревни Денисовки, откуда Ломоносов выбрался на свет божий. Желаю Пете побольше этюдов хороших наработать. Наташечку поцелуйте несчетное число раз. Берегите ее — она всем нужна. Будьте здоровы. Целую вас крепко.
Я работаю тоже.
Ваш папа».
Мой отец все же оставил нас с мамой в Архангельске и уехал дальше, в Кандалакшу и в Мурманск. Он решил прямо на берегу написать большую картину «Рыбаки». Возвращался он оттуда чуть ли не с последним пароходом и осенью в Петербург привез большое полотно, от которого все его товарищи и преподаватели пришли в восторг. Но Петр Петрович был взыскателен к себе и, подумав, попросил у Академии два года отсрочки, сдал картину «Рыбаки» на хранение академическому швейцару и уехал с семьей на зиму в Италию. Так одиннадцати месяцев от роду я уже оказалась в Риме. К дедушке в Леонтьевский переулок родители завезли меня проездом, чуть не с вокзала на вокзал, и он успел только отметить мой рост на шкафу, что стоял у них в коридоре.
Зимой в Риме мать моя простудилась и захворала, и встревоженный дед писал в Рим:
«20 декабря 1903
Здравствуйте, дорогие Олечка, Наташечка и Петя!
Зачем ты, душа, не бережешься? Ты ведь давно знала, что нельзя без фуфайки ходить. Боюсь я этой римской лихорадки. Помнишь, тогда простудилась в Риме? А то я буду беспокоиться.
Я не работаю вот уже две недели: картины на выставку таскают. Боюсь простудиться. Здоровье ничего.
Наташечку и вас каждый день вспоминаю. Махочка отмерена на шкапу. Теперь, видно, на 0,5 вершка выше стала.
Целую вас всех.
Твой папа.
Так бы и поносил махочку на руках… страшно я ее люблю… Махочка, махочка!»
Так началась его горячая любовь и привязанность ко мне. И было удивительно для всех окружающих наблюдать, как этот суровый, нелюдимый человек становился мягким, как воск, если я что-нибудь просила у него. Он ни в чем никогда мне не мог отказать.
Я помню…
Фрагмент первый
Я помню майский день в церковном дворике в Москве, в Левшинском переулке. Двор зарос густой короткой травой. Дорожка из каменных плит пересекает его, и в расщелинах плит пробиваются кустики одуванчиков с желтыми звездами. Дедушка «пасет» меня во дворике. Мне три года. На мне белое шерстяное платье, волосы надо лбом подвязаны лентой в смешной торчащий хохол, и вся я толстая, смуглая, курносая.
— Дедушка, покатай меня верхом!
Отказа быть не могло: светло-коричневая шляпа уже лежит в траве, и я сижу у деда на плечах. Сидеть неудобно. Крепкая прямая шея и волосы, стриженные в скобку, колют мои голые коленки. И колко, и щекотно, и смешно. Зато многое стало видно. За каменной церковной оградой слышен цокот копыт и тарахтенье колес по булыжнику, виден плывущий над ней верх дуги с колокольчиком. Он тренькает, а под ним мелькают гнедые уши и черная челка ломовой лошади. Дедушка, покачивая, несет меня на плечах.
— Приехали! — говорит он и осторожно, чтобы не испачкать своего белого, в голубую звездочку пикейного жилета, ставит меня на плиты дорожки…
Старинная дверь парадного с двумя овальными окнами. На третьем этаже была квартира Суриковых.
Когда родился мой брат — это было уже в Москве, в Левшинском переулке, — родители выселили меня на время к дедушке в Леонтьевский. Теперь это улица Станиславского. Здесь было очень хорошо — вольготно. Спала я в комнате у тетки Лены, а играла везде, где хотела.
Интереснее всего было у дедушки в мастерской. Я хорошо помню эту комнату. Там была белая, страшно высокая кафельная печка, узкая дедушкина постель, большой сундук с его этюдами; на столе, если подняться на носки, можно было увидеть массу интересных вещей — карандаши, угольки, коробочки, ящички с красками, свертки бумаги, громадные книги. Стоял в комнате мольберт. На стене висели две репродукции, они всегда были с дедушкой, где бы он ни жил потом. Сначала они были для меня стариком в шапке и белом фартуке с кружевами, а на второй картинке — женщиной с ребенком, ходившей по облакам. Потом я уже знала, что первый был «Папа Иннокентий X» Веласкеса, а вторая — «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Еще висело у дедушки на стене овальное зеркало в дубовой резной раме — он смотрелся в него, когда писал автопортреты. Стулья в комнате были легкие — венские, а на подоконниках ютились пакетики с сушеной смородиной, черемухой и урюком. Эти пакетики всегда притягивали мое внимание. Полезешь, попробуешь, а черемуха сухая, горькая, невкусная, — удивительно, почему дедушка ее так любил?
В притолоку двери были ввинчены два крюка, на них висели мои качели с перекладинами. И вот я качаюсь между мастерской и гостиной. А дедушка сидит на стуле, играет на гитаре, и мы поем вместе:
Вдоль да по речке, Речке по Казанке Сизый селезень плывет.Я вывожу верха, дедушка, легко притопывая в такт ногой, подтягивает второй голос:
Вдоль да по бережку, Вдоль да по крутому Добрый молодец идет.Небольшими красивыми руками дед перебирает струны гитары — чисто, негромко, чтобы не заглушать меня. Качели летают, а мы в самозабвении выводим:
Доставались кудри, Доставались русы Старой бабушке чесать.Дедушка с юмором подтягивает и весело подмигивает мне:
Она их не чешет, Она их не гладит, Только вола-а-сы дерет!Оба хохочем. Вдосталь насмеявшись, дедушка начинает играть какую-нибудь казачью плясовую. Я качаюсь. Тихонько поскрипывают кольца качелей,
Вылетаю в гостиную, где на стене висит дедушкина «Итальянка на римском карнавале». Качели, взлетев, мгновение стоят в воздухе, и я близко вижу улыбающуюся красавицу в блестящем розовом 'атласе. Она подняла руку в белой перчатке и вот-вот бросит прямо в меня букет цветов. Но качели падают, и я улетаю от итальянки к дедушке. Он сидит с гитарой и, притопывая в такт, выводит «барыню» с переборами. Вот он уже подо мной, глядит вверх и смеется. И я снова лечу к итальянке, сейчас поравняюсь с ней, она сверкнет улыбкой, замахнется букетиком, а я улечу к дедушке, который ждет меня, припевая:
Барыня, барыня, Сударыня, барыня!Чудно было летать между дедушкой и его итальянкой…
В гостиной зеленая шелковая мебель — дешевая мягкая мебель, купленная на Сухаревском рынке. На окнах висят зеленые плюшевые шторы с помпонами. Их так интересно щипать и раскручивать — что там у них внутри? За это попадает от тетки Елены Васильевны (она и не подозревает, что эти шторы все равно станут моими через двенадцать лет. В годы революции я, шестнадцатилетняя советская школьница, сошью из них себе теплое пальтишко). Под круглым столом, покрытым плюшевой скатертью, интересно сидеть спрятавшись и угадывать по нотам — кто проходит? Если серые востроносые туфли с бантами — тетка. Если черные ботинки с резинками и петлями на задках — кухарка Поля. Если сапоги с квадратными блестящими носами — дедушка. Его сапоги начищены до блеска, но только внизу; а верх у них серо-желтый, шершавый, некрасивый. Позднее я предлагала несколько
— Дедушка, ну давай я тебе покрашу сапожки гуталином доверху и почищу их как следует!
На что он испуганно отвечал:
— Упаси бог! Испортишь сапоги, они мне брюки, будут пачкать!
Он всегда носил сапоги под брюки. А костюм любил черный. Под жилетом у него была белая рубашка тонкого полотна, выстроченная в мелкую складочку, открахмаленная, с отложным воротником, под которым повязан черный или белый фуляровый галстук. В кармане жилета дедушка носил на цепочке серебряные часы фирмы Габю, с крышкой. Он открывал крышку и давал послушать звон. Однажды я поглядела на циферблат и спросила, что там написано. «Га-бью!» — ответил дедушка. «Кого?» — спросила я. Дедушка расхохотался.
Из гостиной двери вели в столовую. Там на окнах висели тонкие занавеси в широкие полосы, одна — синяя, другая — желтая. За ними хорошо было прятаться. Смотришь сквозь синюю полосу — в комнате ночь. Смотришь сквозь желтую — в комнате день и словно солнце сияет.
Над дубовым столом с толстенными резными ножками висит лампа на черных цепях, под белым фарфоровым абажуром уже горит «молния». От нее идет яркий свет, тепло и чуть-чуть тянет керосином. Стол накрыт к обеду. Больше всего дедушка любит тушеное мясо с овощами и лавровым листом. Оно подается к столу прямо в раскаленной длинной черной латке — гусятнице. Я сижу за столом и думаю: почему они говорят «латка», а не «лотка», ведь это же черная длинная лодка, в которой тушилось мясо. К мясу всегда подавались моченые яблоки. «А яблоки какие-то не румяные, простуженные!» — думалось мне…
Теперь, когда я пишу эти строки, я думаю о том, что совсем недавно схоронила последнюю представительницу рода Суриковых — Елену Васильевну. В одном из ящиков ее шкафа я нашла на самом дне светло-коричневую фетровую шляпу Василия Ивановича, его овальное зеркало, его полотняную рубашку со складочками, его белый пикейный, в голубую звездочку жилет, его серебряные часы, которые он подносил к моему младенческому уху. Его вещи. Он носил их на себе. Часы отмечали драгоценные минуты его жизни. Зеркало отражало его совсем особое, строгое и гордое лицо. Под полотняной рубашкой билось его беспокойное, то гневное, то нежное сердце. Все это — свидетели его трудовых будней. Скорбно думать, что они пережили его, но это — реликвии, и место им в Музее Сурикова в городе Красноярске.
Тридцать пятая передвижная
Может быть, впервые за все существование общества передвижников выставка сначала открылась в Москве, а потом переехала в Петербург. Открытие было назначено на канун нового, 1907 года.
Суриков очень беспокоился. «Степан Разин» был закончен, но не удовлетворял Василия Ивановича — впервые он не чувствовал своей правоты. «Может быть, рама слишком ярко вызолочена?» И он вызывал багетчика — покрыть раму темной бронзой. Показалось, что яркая позолота стала резать туманный волжский горизонт… Как ему сейчас нужна была Оля! Но Оля с мужем снова умчалась на зиму в Париж. Теперь у них было двое детей: недавно родился сын — Миша.
«Разин» должен был экспонироваться тут же, в Круглом зале, где он и создавался. «Может быть, надо стены зала подтемнить, а то колорит сливается с фоном?» Василий Иванович вызвал маляра, зал начали подтемнять коричневым. Тут Сурикову показалось, что перетемнили; рано утром он пришел и украдкой подсыпал в ведро мела. Маляр страшно рассердился, когда кисть пошла по стене выводить полосы, хотел было совсем отказаться, но художник умолил его. Сошлись на цвете, и фон был найден.
И все-таки Василий Иванович был чем-то угнетен. Один из этюдов — гребец в черной шапке, с медным крестиком на распахнутой груди — Василий Иванович повесил в своей комнате и, проснувшись поутру, каждый раз радовался ему. Гребец на редкость удался художнику. Смуглый юноша южного типа был написан в профиль. Лицо его, похожее на лицо античного юноши, выражало тревогу, ожидание, ненависть и тоску. Василий Иванович любил его так же, как любил голову Морозовой — начетчицы. Второй раз так написать невозможно. Часто в больших картинах лицо, переписанное с этюда, либо лучше, ближе к задуманному, либо хуже. Вот и гребец в черной шапке потерял в картине что-то неуловимое. Годы, когда Суриков работал над «Разиным», были временем первых шагов русской революции. Бушевало студенчество, бушевали рабочие, открытая политическая борьба народа с царской властью все разгоралась. На улицах то и дело появлялись демонстрации, разгоняемые полицией. Суриков считал, что его «Стенька» приходит вовремя, и радовался этому. Картина была написана мастерски. Струг уходил от зрителя в ширь и даль Волги, отливающей перламутровой волной под рассеянным светом. На корме бражничают четверо есаулов, поют, играют, смеются, стараясь развлечь Степана, а на носу, плавно раскачиваясь, работают гребцы, вскидывая весла. И каждый взмах дает полет стругу, а ветер помогает, натягивая парус. Между двумя группами сидит Степан. Он полулежит, опершись о седло, словно разделяя надвое эти группы и отвечая за все их поступки и мысли. И такое тревожное и хмурое у него лицо, словно Степан сам всеми помыслами с теми, кто трудится за его спиной, а не с теми, кто верховодит, пьет, бражничает да удаль свою показывает. И отсюда все его опасения, раздумья и тревоги. Куда плывут они? На что обрекают тех, кто им верит и за ними идет?.. На плаху? На погибель?..
Могучая мысль была заложена в этой картине. Мудрая мысль. Но в те времена не дошла она до критиков, и они обрушились на Сурикова, полного сомнений.
«…Один из немногих и истинных художников наших Суриков всегда поражал зрителей, привыкших к академической, бездушной правильности рисунка и к чистенькой опрятности живописи, очевидными нарушениями всех общепринятых правил. Для достижения силы и глубины он, сознательно или бессознательно, но необычайно художественно, подчеркивал важные для него, существенные черты. Искажал перспективу, тискал в сплошную кучу толпу. Писал вдохновенно-грязно, художественно-неряшливо. Страстность темы, глубина чувства необычайно выигрывали от этого. Его техника своеобразно-гениально-мастерская, ибо форма у него в полном соответствии с идеей, не оставляет места спокойному созерцанию, тревожит мысль, будит чувства… Но что хорошо для трагедии, то неуместно в элегии. Новая тема требует нового письма, а у Сурикова оно осталось тем же».
Василий Иванович не мог понять, чего требовал от него Далецкий, усмотревший в «Степане Разине» элегию. Превознося его «вдохновенно-грязную, художественную неряшливость» в трагическом творчестве, быть может, он предлагал ему для элегической темы воспользоваться бездумно-чистенькой, опрятно-академической манерой письма?
Но тем не менее Суриков чувствовал, что Далецкий довольно точно определяет его творческие пути, наряду с враждебным отношением к последней работе. Остальные критики упрекали Сурикова:
в бедной композиции,
в отсутствии содержания,
в бледном образе Разина, который позирует перед зрителями,
в том, что Суриков оторвал героя от народной темы и от ее стихии,
в сухой законности, фотографичности, лени,
в том, что картина эта — непомерно увеличенная иллюстрация.
Теперь Василий Иванович болезненно воспринимал каждую статью: он сам был неуверен и недоволен. А между тем «Степан Разин», несмотря ни на какие нападки, оставался «гвоздем выставки». Однако картина не была куплена, ей было суждено еще «доходить». И не без чувства досады Василий Иванович писал брату:
«4 апреля 1907
Здравствуй, дорогой наш Саша!
Прости, что долго не писал. Все откладывал, думал что-нибудь хорошее сообщить тебе, но его не оказывается. Картина находится во владении ее автора Василия Ивановича и, должно быть, перейдет в собственность его дальнейшего потомства. Времена полного повсюду безденежья, и этим все разрешается. Писали в петербургских газетах, что будто Академия хотела ее приобрести, да откуда у ней деньги-то? Ну, да я не горюю — этого нужно было ожидать.
А важно то, что я Степана написал! Это все».
Василий Иванович твердо решил уйти из Товарищества передвижников.
— Вообще надо бы перебираться мне в Красноярск, — говорил он Лене, одиноко коротая с ней вечера в столовой за самоваром. — Построю над флигелем мастерскую с верхним светом и стану жить и работать там. А в Москву буду ездить только на выставки да с внучатами повидаться…
— А как же я, папочка? — с тревогой спрашивала Лена. — Я же не могу бросить курсы и уехать в Сибирь совсем. Там же скучища адская, и, потом, я не могу жить без театра!..
— Ну и останешься здесь. Снимешь комнату с пансионом, будешь каждый вечер в театр ходить. То-то раздолье тебе будет. А потом за «арциста» замуж выйдешь, — подтрунивал Суриков над дочерью.
В это лето отец с дочерью решили ехать на юг. Крым показался Сурикову ослепительным. Он наслаждался купаньем, солнцем, дальними прогулками в горы и написал множество акварелей в Гурзуфе и Симеизе.
Новые впечатления мало-помалу вытеснили тягостное чувство неудовлетворенности. Суриков снова жадно вглядывался в разнообразие лиц где-нибудь на южном базаре и думал: «Нет, я еще найду Степана Разина! Найду и перепишу заново непременно!»
Он нашел его только через три года. И опять в Сибири, среди своих казаков. Суриков написал тогда Виктору Александровичу Никольскому, своему будущему биографу, поклоннику, исследователю его творчества: «…Относительно «Разина» я скажу, что над этой картиной работаю, усиливаю Разина. Я ездил в Сибирь, на родину, и там нашел осуществление мечты о нем».
Шира
Василий Иванович снова наслаждался. В Красноярске сели они с Леной на пароходик и отправились вверх по Енисею в Минусинский край. Медленно полз пароходик мимо глядящихся в воды крутых, лесистых утесов, мимо цветущих полян, древних скитов и таежных сел. Невозможно уйти с палубы — глаз не отведешь!
— Смотри, Лена, какие краски! Какие чистые, густые, глубокие тона! — восклицал Суриков в упоении.
Народу было много, сибиряки ехали на курорт — лечебное озеро Шира.
Рядом с Василием Ивановичем стоял крупный детина с русой бородкой и глазами узкого разреза, — казалось, у него совсем нет зрачков, просто синие щелки. На пассажире были заправленные в сапоги зеленые плисовые шаровары и ловко сидящая черного сукна поддевка. Разговорились. Он оказался охотником-медвежатником, шестнадцатого медведя недавно запорол.
— Сердце-то у вас дрожит небось, когда на медведя идете? — интересуется Суриков.
— Как не дрожать, — смеется мужик, — однако рогатина выручает.
Суриков в восхищении поглядывает на богатыря.
На маленьких пристанях пароход запасается дровами. Смолистый аромат, смешанный с запахом воды, режет ноздри. Мальчишки, высыпавшие на берег, артистически подражают етароходным гудкам, бабы предлагают молоко, яйца, курятину, пряженики — дешевка! И вот снова отчаливают, снова проплывают удивительной красоты дикие пейзажи, сменяясь один другим.
Лена решила вести дневник путешествия. Уселась на палубе и записывает:
«…Кривошеино. Темнеет. На пригорке над пристанью тесной массой стоит толпа, вырисовываясь силуэтами на вечернем сумраке, за толпой крыши серых изб… Сумрак красив, колоритен, и в нем горят яркие пятна платьев и рубах. Они синие, зеленые, розовые, оранжевые, или, как в Сибири называют этот цвет — рудо-желтый, он особенно силен в гаснущем свете и в прозрачно-чистом воздухе. Это все суриковское. Тот, кто хочет понять Сурикова, должен увидеть Сибирь. На каждой пристани толпы народа выходят встречать пароход — это их единственное развлечение. Наш плавучий дом снова разводит пары. Плеск воды о пристань, резкий свисток, и мы отчаливаем… Завтра в шесть утра — Батени, конечная станция. Оттуда на лошадях 60 верст степью».
Возле небольшого постоялого двора в Батенях Суриковы садились ранним утром в плетеный крытый тарантас, запряженный парой серых лошадей. Возле хлопотал какой-то старичок в рваном зипуне, усаживая путников, подсобляя укладывать вещи, и тут же рассказывал что-то о целебном озере, давая им советы. Когда путники уселись, Василий Иванович протянул ему пятиалтынный. Старик откачнулся: «Да ты чой-то? Я не нуждаюсь!» — и исчез. Василий Иванович с гордостью повернулся к дочери:
— Видала? Сибиряки подачек не любят. Это тебе не Москва!
Степь. Слева вдали голубеют Саяны. Дорога вьется лентой. По сторонам встречаются древние могильные камни, похожие издали на человеческие фигуры, стоящие по пояс в траве. Только телеграфные столбы возвращают к действительности. На столбах часто сидят громадные орлы, созерцающие безлюдье.
— Ишь, отъелся, жирный, — указывает кнутовищем на такого орла возница. — Иной раз глядишь — мчит по степи козуля, а у нее на спине орел; когтями впился в хребет, крылья раскинул и сидит на козочке, пока она не обессилеет, не свалится. Ну уж тогда они налетают, орлы-то, расправятся с ней начисто, один шкелет оставят…
— А волки здесь есть? — спрашивает Лена.
— Как не быть! Где табуны да отары, там и волки.
И он ведет рассказ о том, как кони умеют обороняться от волков: становятся головами внутрь, а задними ногами с силой откидывают волков. Вожак в табуне нужен, он чует волков издали и дает знать коням вовремя, когда им надо в карусель собираться. А нет чуткого вожака — табун бросается в бегство, и волки одного за другим вытягивают коней из табуна.
Лена в тревоге осматривается по сторонам — нет ли волков, и, убедившись в мирном безбрежном цветении трав под солнцем, она берет тетрадь и на трясущихся коленках записывает вкривь и вкось рассказ ямщика.
К вечеру Суриковы добрались до озера Шира. Маленький курорт среди необозримой степи оказывается вполне благоустроенным. Гостиница, курзал, теннисные и крокетные площадки, гигантские шаги, ресторан, кухмистерская. У местных жителей они сняли две комнатки, но через три дня пришлось съехать с квартиры: она выходила окнами в открытую степь. Сумасшедший ветер опрокидывал все на столах, бился в. стекла, не давал спать. Суриковы переехали в глубь поселка.
В жиденьком парке, возле курзала, по вечерам играл доморощенный оркестр, вызвавший у Василия Ивановича приступ неудержимого смеха. Но театр в юрте художнику очень понравился, и он сделал с него превосходный этюд.
С курортной публикой Суриковы не общались, лечиться им было не от чего. Интересовали Василия Ивановича только татары. Он приглашал их к себе, Лена угощала их чаем. Суриков ездил к ним сам в улусы, писал их с натуры. Ему нравилось, как они сидели кучками за беседой прямо на траве женщины отдельно от мужчин. Нравилось, как они пели, — что видят перед собой, о том и поют, заунывно, однообразно. Плясали они не грациозно, но конские игры и скачки были бесподобны.
Очень интересны были у них сказители, весь округ собирался слушать их. Они сидели на ковре под открытым небом, окруженные плотным кольцом слушателей, и по очереди говорили сказки — смешные, печальные, страшные. И, хотя говорили они по-татарски, было понятно, о чем идет речь, по жестам, по интонации рассказчиков, — это были артисты.
Несмотря на то, что все татары края давно приняли христианство, шаманство у них было в силе. Василий Иванович любил наблюдать пляску шаманов.
Однажды попали они с Леной в гости к богатому скотоводу — татарину Спирину. Юрта его была увешана коврами, уставлена шкафами с дорогой посудой, в сундуках лежала богатая одежда. Четыре хозяйки в длинных рубашках из дорогого шелка с пестрыми оплечьями, с волосами, заплетенными в мелкие длинные косички, с понизями коралловых и бирюзовых украшений, встретили Суриковых. Женщины молча поздоровались, протягивая узкие твердые ладони, и тут же все занялись своими делами; одна стала строчить что-то на швейной машинке, другая уселась читать. Лена взглянула на обложку — оказалось «Воскресение» Толстого. Еще две принялись накрывать на стол.
Хозяин стал занимать гостей. Он хорошо говорил по-русски и рассказал, что живет с женой и тремя дочерьми, доволен жизнью, достатком.
Женщины внесли огромный медный, ярко начищенный самовар. Угощенье было хорошим: домашние лакомства, печенья, закуски, конфеты. Суриковы проголодались и с удовольствием принялись за еду. Говорил только хозяин — из женщин трудно было вытянуть слово, но русский язык знали и они: девушки все окончили школу.
После чая Василий Иванович попросил разрешения порисовать. Хозяин, восхищенный и удивленный, с большим вниманием следил за каждым движением художника. Когда два этюда были закончены, хозяин сказал что-то младшей дочери, гибкой девушке с зелеными глазами и хитрой улыбкой. Та открыла сундук и достала из него белую барашковую шубку, крытую пунцовым шелком, и соболью шапку блином, какие носят свахи. Татарин попросил нарисовать дочь в этом. костюме. Василий Иванович быстро сделал акварель молодой татарки в этой шубе и шапке на фоне зеленых холмов. Хозяева были в восторге и провожали гостей с почетом и уважением.
В эту поездку Сибирь дала Сурикову новое, еще не изведанное ощущение, она увела его в глубь веков, к представлениям, что были намного шире, чем местный древний быт.
Как-то возвращаясь из ближнего улуса, Василий Иванович шел под вечер степью. Над ним опрокинулся гаснущий купол неба, без единой звездочки. Над светлым горизонтом висел немыслимо яркий, золотой полумесяц. Доступный и недоступный, он манил к себе, и в мысли пришло «Слово о полку Игореве». А потом показалось Сурикову, что на всем белом свете только и есть, что он сам да этот полумесяц, и больше ничего и никого! Он вдруг потерял ощущение действительности, времени, своей телесности в этом времени. Земля под ногами стала неслышной — казалось, скользишь по воздуху. Он вдруг увидел в себе самом какого-то славянского предка, язычника, наедине с величием мироздания и этим золотым полумесяцем… Так же каменные глыбы стояли между трав, так же ночными шорохами жила степь, так же сильный притеснял слабого… Природа — вечна. Стареют и меняются в ней только люди, подчиняя ее, воюя с ней и друг с другом…
Новый замысел
Все же стяжателем был этот древний князь Игорь Рюрикович. Он брал дружину и отправлялся к древлянам собирать дань, непомерную, бессовестную. Однажды после такого похода, возвращаясь в Киев, он с полпути повернул назад, отослав большую часть дружины домой с добром. Древлянский князь Мал спросил его: «Ведь ты же все взял, княже. Чего ж тебе еще требуется?» Но Игорю показалось, что он может с него еще что-то взыскать. И тут древляне взбунтовались и долго копившаяся ненависть к насилию вылилась сразу. Они схватили Игоря и возле города Коростеня расправились с ним: пригнули два высоких дерева к земле, привязали к их верхушкам ноги Игоря и отпустили деревья. Верхушки стволов прянули в небо, и Игорь был разорван пополам. Жестокой и мучительной казнью отплатили они Игорю за стяжательство. Домой воины пригнали плот с телом Игоря. Когда Ольга вышла на берег встречать распростертое на плоту тело мужа, она тут же поклялась отомстить за его гибель.
Прошло время, и древлянский князь Мал решил, что можно посвататься к вдове, которая продолжала дело покойного Игоря, и, женившись на ней, избавиться от платежа. Двадцать лучших воинов отправились к Ольге сватами. Приняла их княгиня с великим почетом и даже попросила вернуться в ладью, на которой они приплыли: пусть слуги на плечах внесут сватов на Ольгин двор.
Ночью была вырыта во дворе глубокая яма, и по приказу Ольги слуги прямо со своих плеч опрокинули ладью в яму и тут же засыпали сватов землей на глазах у мстительницы.
А древлянам была послана весть, что Ольга-де согласна выйти за князя Мала, но для большего почета надо бы послать вторых сватов — пусть пышнее будет свита жениха. Еще двадцать воинов отправились к Ольге. Для них истопили баню, а потом заперли их там и сожгли живьем.
Когда Ольга приехала со свитой к древлянам, Мал стал спрашивать, где его воины. Ольга ответила, что едут следом с ее приданым. И попросила насыпать курган, наварить медов, нажарить мяса, чтобы справить перед свадьбой тризну по покойному мужу. Курган насыпали, медов наварили, угощенья наготовили. И когда древляне полегли на кургане пьяными, подкралась Ольгина дружина и переколола древлян копьями, порубила мечами.
Так отомстила за Игоря хитрая, мужественная Ольга. Похожа она была больше на мужчину, чем на женщину: охотилась, водила полки в бой, дань собирала, вела дипломатические переговоры. Первой приняла христианство, отправившись, сама в Царьград, к Константину Багрянородному. Царь был так пленен ею, что предложил выйти за него замуж. Но Ольга сказала, что хочет сначала принять христианство, — негоже христианину язычницу в жены брать. Константин был восхищен ее мудростью и смирением и с готовностью сам окрестил Ольгу, после чего она мягко и лукаво заявила ему, что-не полагается по христианским законам крестной дочери выходить замуж за крестного отца. «Перехитрила ты меня, Ольга! Нет конца мудрому коварству твоему!» Восхищенный ее смелостью и находчивостью, отпустил ее Константин домой с богатыми дарами.
Вот такой была княгиня Ольга, пленившая воображение Сурикова. Но видел он ее в самый трагический момент — при встрече с телом убитого мужа. Ольга стоит на берегу в окружении дружинников и плакальщиц, прижав к себе малолетнего сына Святослава и вытянув руку вперед, клянется над телом покойного отомстить за его гибель. Первые наброски общей композиции этой картины Василий Иванович сделал на озере Шира. В них много навеянного татарскими впечатлениями, и лицо-то у Ольги чуть скуластое! Позднее Суриков много раз переделывал эту сцену, но во всех вариантах были использованы этюды, написанные во время поездки на озеро Шира: женские фигуры, сидящие на земле, всадники, держащие коней под уздцы, плоты, связанные из бревен, что видел он на озере, степные дали. Был готов последний вариант картины, продуманный, законченный настолько, что по нему можно было работать большое полотно, — все было найдено. И что помешало художнику, неизвестно. Замысел так и остался: неосуществленным.
Я помню…
Фрагмент второй
Родители мои никогда не нарушали клятвы, данной под Царь-колоколом, — они всюду таскали нас за собой. Мы с моим братом Мишей были удивительно удобными детьми, вроде складных перочинных ножей, — никаких капризов и требований, где бы мы ни спали, что бы ни ели, как бы ни ездили. Ольга Васильевна, сама с младенчества привыкшая жить на колесах, приучала и нас к такой жизни. К тому времени отец Петр Петрович уже мог зарабатывать небольшие деньги — его приглашали в театры писать декорации. Какой-то московский купец поручил ему расписывать плафон в гостиной в новом своем доме. Затем он начал выставляться и продавать свои картины. Но деньги у моих родителей были небольшие, и потому путешествия совершались очень экономно.
Русская интеллигенция того времени была, по выражению Пушкина, «ленива и нелюбопытна», и если какие-то известные артисты, профессора или фабриканты вывозили свои семьи за границу, то больше на курорты в Швейцарию, на воды в Карлсбад или Виши, на купание в Ниццу или Биарриц. Никому бы и в голову не пришло бродить с маленькими детьми по Италии, жить в крохотном городишке Сан-Джиминьяно, под Сиеной, на ферме в сарае, чтобы как можно меньше расходовать на удобства, зато как можно больше увидеть. Ольга Васильевна умела довольствоваться малым, лишь бы Петр Петрович работал и не думал, хватит или не хватит денег, чтобы проехать во Флоренцию и еще раз поглядеть Тициана в галерее Уффици. И потому хижина в оливковой роще, где мылись в деревянной шайке прямо в саду или в мелком ручье, что бежал меж непролазных зарослей ежевики, вполне устраивала наше семейство. Питались в деревенских харчевнях, где за гроши можно было получить вкусные национальные деревенские блюда. Мы, дети, целыми днями проводили на воздухе, среди виноградников и оливковых рощ, бегая босиком по горячей, щедрой итальянской земле, знакомясь с итальянскими ребятами, привыкая к языку, запоминая песни. А отец работал, работал и работал. Очень дорог был проезд, и нам с Мишей покупали один билет на двоих. Нас клали на лавку — меня к окну, Мишу к двери; я была уже довольно крупной девочкой, и потому, когда шел контролер, я должна была казаться «полубилетной».
— Наташа, подбери ноги, кондуктор идет! — бывало, предупреждала мама.
И я живо усаживалась, сложив ноги по-турецки и прикрывшись пледом.
В Италию мы ехали обычно поездом, через Францию. Однажды рано утром Ольга Васильевна открыла на какой-то остановке зеленую шторку и увидела над вокзалом надпись «Арль»… Она разбудила мужа, и, пока поезд не тронулся, они долго смотрели на ван-гоговский городок, решив на обратном пути непременно остановиться в нем хоть на несколько дней. И мы действительно, возвращаясь из Италии, вышли в Арле. Обычно собрать нас было делом одной минуты, и вот уже мы стоим на платформе в синих пелеринах и беретах, поеживаясь под свежим провансальским ветром. Мимо с грохотом пролетают поезда, а мы стережем вещи, пока мать и отец узнают, где можно остановиться, и нанимают извозчика. Мы так привыкли ко всяким чудесам, что нас не удивляла даже извозчичья лошадь в соломенной шляпе, над которой колыхалось страусовое перо.
В Арле мои родители осмотрели все вангоговские места. Посидели в «Ночном кафе», которое он писал, были в «Бильярдной», нашли дом, в котором он жил, с восторгом узнавали типы арлезианских стариков, сидящих под пальмами на скамеечках и созерцающих жизнь вокруг. Однажды зашли в лавчонку, где Ван-Гог покупал краски. Старик хозяин был все тот же. Петр Петрович спросил его, помнит ли он Ван-Гога, на что хозяин ответил, что прекрасно помнит и что у него даже сохранился портрет ребенка, который он оставил в залог за купленные краски. «Вот только, к сожалению, портрет испорчен, а то бы я мог продать его за сто франков!» — сетовал старик. Петр Петрович попросил показать ему портрет. Хозяин полез куда-то на чердак, притащил небольшую картину, написанную в голубоватых тонах и изображавшую девочку. Как раз на щеке девочки холст был прорван насквозь, видно, автор в состоянии невменяемости прибил его гвоздем к стене. Петр Петрович долго смотрел на портрет, а потом попросил одолжить его на один вечер. Хозяин, подумав, что молодой русский художник хочет скопировать неизвестную вещь Ван-Гога, согласился. Родители мои унесли картину к себе в номер гостиницы, и за один вечер мама заштуковала прорванный холст, а папа реставрировал его так точно, что никаких следов от повреждения не осталось. На следующий день они вернули хозяину картину.
— Вот, мосье, — сказал Петр Петрович, — теперь вы сможете продать эту вещь за десять тысяч франков!
Старик был взволнован простотой и щедростью молодого художника, а Петр Петрович простился с ним и беззаботно пошел по улице, ведя нас, детей, за руки и весело переговариваясь с женой.
Мне пришлось побывать в Париже для изучения материалов, которые я собирала для этой книги. Бродя по Лувру в залах импрессионистов, я с удовольствием разглядывала свежие, словно вчера написанные, полные поэзии пейзажи Клода Манэ, Писсарро, Сислея. Все эти улочки маленького городка Аржантейля, лодки в Плезансе, прачки на плоту на Сене, лувенсенский дилижанс в дождливый день. И мне казалось, что французы ничего свежее и новее не придумали, и современные искатели новых форм тщетно бьются в потугах создать новое. Рядом с Ван-Гогом, Матиссом и Гогеном они беспомощны и нелепы. А ведь те жили семьдесят лет тому назад и были современниками Сурикова!
Ван-Гог. Я останавливаюсь перед автопортретом с зелеными глазами — живописью, разложенной на серо-голубые и изумрудные мазки, и думаю, что где-то на свете существует в частном собрании портрет маленькой девочки работы Ван-Гога, заштопанный руками дочери Сурикова и отреставрированный молодым Кончаловским.
Я помню…
Фрагмент третий
Мы зимовали в Париже. Шел 1910 год. В Латинском квартале, на улице Вавэн, мы снимали квартиру в первом этаже старинного дома. Я помню, что меня отдали в первую мою школу. Французские школьницы ходили в черных глухих фартуках с белыми воротничками, а шляпы у них были черные, лакированные, с большими полями, слегка приподнятыми кверху. Мне страшно нравилась эта блестящая, гладкая шляпа. Там, во французской школе, я впервые познакомилась с латинским алфавитом, с черной грифельной доской, парижскими мальчишками и девчонками, которые стрекочут на своем парижском диалекте, как галчата. К весне я свободно читала, писала и стрекотала по-французски не хуже парижских школьников.
В апреле приехал к нам дедушка с Еленой Васильевной. Они сняли квартирку этажом выше. Василий Иванович и Петр Петрович были здесь совершенно неразлучны. Их дружба была удивительной — они понимали друг друга с полуслова. Несмотря на разницу в возрасте, разницу в живописных задачах (отец тогда увлекался французскими импрессионистами, а дед был занят композицией «Княгини Ольги»), несмотря на различие в характерах, они многое в жизни воспринимали одинаково. Одно и то же их смешило, возмущало или радовало. Отец учился у деда искусству живописного видения, дед с интересом относился к его поискам новых путей, к его взыскательности по отношению к себе, к его мятущемуся, вечно ищущему, ненасытному духу. Каждый день бродили они по Лувру. Любимыми картинами деда были «Брак в Канне Галилейской» и «Христос в Эммаусе» Веронезе. Василий Иванович подолгу стоял перед ними.
— Посмотрите, Петя, — говорил он зятю, — как полоски теряются в складках ткани! Как все логично и обобщенно. А как легко написано!
У Тициана Василий Иванович любил «Положение во гроб» и портреты. Он наслаждался, рассматривая, как выписаны нос или ухо. Нравился ему и Делакруа. Внимание его всегда задерживалось на «Смерти Сарданапала» и «Женщине из Марокко».
Вечерами они ходили в студию д'Англада, куда любой человек мог зайти с улицы и, уплатив 50 сантимов, весь вечер рисовать обнаженных натурщиков. Василий Иванович каждый вечер сидел там, с увлечением тренируясь в рисунке, с интересом поглядывая на посетителей студии, часто самых различных национальностей. Сурикова восхищала эта атмосфера свободы, отвлеченности и высокой культуры, царившая в парижских студиях.
К лету дедушка с отцом задумали поехать вдвоем в Испанию. Решили отправиться налегке. И вот впервые в жизни отец оставил нас с мамой одних в Арле, а сам уехал с Василием Ивановичем в путешествие по Испании. Впоследствии Петр Петрович записал все события этого путешествия, и мне ничего не остается, как предоставить читателю его записки:
«Мы взяли места в вагоне первого класса и с комфортом проехали Францию до границ Испании. Поезд подошел к первой испанской станции Порбу. И сразу же пейзаж резко изменился. Перед нашими глазами выросли темные, суровые горы, озеро, к скалам лепились домишки. На станции замелькали интересные типы людей. Оба мы с Василием Ивановичем почувствовали, что в мягком, удобном вагоне, в обществе вялых, холодных англичан нам не усидеть. И тут же в Порбу мы вылезли и пересели в вагон третьего класса — «пуэбло», вагон для простонародья. Сиденья здесь располагались по стенкам, а вся середина была пустой, пассажиры горой наваливали сюда свой багаж — узлы, корзины, тюки.
С первого же момента мы почувствовали прелесть общения с народом. Все тут же перезнакомились, угощая друг друга ужином — оливами, ветчиной, сыром и вином. Вино пили из «пуррона» — это плоская бутыль с носиком, какие бывают у чайника. В узкое отверстие носика, если накренить «пуррон», льется тонкая струйка вина. Бутыль передавалась из рук в руки, и надо было пить, не прикасаясь губами, приноровясь угодить струйкой прямо в горло. Все чувствовали себя как дома и тут же с восторгом приняли в компанию двух русских художников. Появилась гитара, стали петь, а потом, отодвинув багаж в сторону, пустились даже в пляс.
Василий Иванович любовался горцами, у которых через плечо были перекинуты клетчатые пледы. Некоторые из них повязывали их вокруг поясницы: к ночи в горах становилось холодно и пледы служили горцам плащами. Я объяснялся с пассажирами по-испански, а Василию Ивановичу, не знавшему языка, вдруг так захотелось общения с народом, что, заметив сидящего на другом конце вагона пастора, он неожиданно бросил ему первую фразу из речи Цицерона к Каталине по-латыни: «Куоускуэ тандэм абутэрэ патиенциа ностра, о Катилина!» Пастор, знавший эту речь, ответил ему следующей фразой из нее, и так, к обоюдному удовольствию и общему веселью, они перекидывались фразами через весь вагон, создавая впечатление живой беседы.
Весь день проведя в вагоне, к ночи мы прибыли в Мадрид. Мы вышли из вагона в глухую темень вокзала. Тут же какие-то услужливые мальчишки в темноте подхватили наши вещи, повели нас к выходу, посадили в старинную колымагу с фонарями, и кучер повез нас по ночным улицам неизвестно куда.
В каком-то переулке мы остановились. Кучер окликнул кого-то, оказалось — сторожа, хранившего ключи от всех дверей в домах этого переулка. Нам предложили вылезти, оставив вещи в колымаге. Мы проследовали за сторожем, который со звоном открывал одну за другой двери домов и будил хозяев. Они вылезали из перин, сонные, всклокоченные, и, зевая, показывали нам свободные комнаты. Но ни одна из них нам не подошла. И вот мы снова сели в колымагу, и кучер отвез нас в маленькую гостиницу. Заспанный хозяин, с черной курчавой шевелюрой, в ярко-красном халате, повел нас по этажам. Чем-то он вдруг пленил нас с Василием Ивановичем, и мы сняли у него большую комнату. Василий Иванович тут же осведомился — любит ли он бой быков? Тот ответил: «Мучис-симо!» — очень! — что Василий Иванович перевел, как «мучительно». Впоследствии этот пожилой симпатичный человек горячо привязался к нам, особенно когда увидел наши акварели, что мы каждый раз приносили из походов.
Ежедневно мы проводили несколько часов в музее Прадо. Василий Иванович любил зал портретов Тинторетто. Он входил туда с благоговением и каждый портрет рассматривал с любовью и восхищением.
— Смотрите, Петя, — говорил он мне, — как он писал жемчуг, как маляр, кружок и точка, кружок и точка! А живопись получалась первоклассная!..
Однажды мы отправились в знаменитую усыпальницу испанских королей — Эскуриал. Ехать туда нужно было поездом. У нас были взяты железнодорожные билеты по 3000 километров в любом направлении, пока не используешь указанной цифры. От станции, на которую мы прибыли рано утром, надо было подняться пешком на высокую гору, где стоял дворец. Мы добрались до него, осмотрели внимательно все гробницы Эскуриала. Посмотрели эскизы Гойи для ковров и гобеленов и двинулись обратно на станцию.
Дорогой нам захотелось сделать по одной акварели. Я выбрал место и сел рисовать. А Василий Иванович пошел вниз в направлении железной дороги. Едва я закончил рисунок, как небо затянуло тучами, стало темно, подул ветер и пошел снег, что часто бывает летом в высокогорных районах. Тогда я начал вторую — снежную акварель. Закончив ее, я собрал краски в ящик, снег к этому времени прекратился, и я пошел на станцию, рассчитывая по дороге встретиться с тестем. Но на всем протяжении пути я нигде не нашел его. Я сел на вокзале и стал ждать. Жду час, жду другой — его все нет. Растревоженный не на шутку, я стал расспрашивать приходящих на станцию жителей. Никто не мог мне сказать ничего утешительного. В полном отчаянье я сел в последний вечерний поезд и уехал в Мадрид. Всю дорогу я думал — что же теперь делать? Где искать его? Тревогам не было конца. Приехав в Мадрид, я тут же решил с вокзала бежать в русское консульство и заявить об исчезновении тестя. И вдруг вижу: из последнего вагона этого же поезда выходит мой Василий Иванович — жив, здоров и невредим! Радости нашей не было конца — мы обнимались, словно не виделись годами. Оказалось, что, спускаясь с горы, Василий Иванович уклонился в сторону и боковой тропой ушел далеко от станции. Дорогой попалась ему «ганадерия» — загон, для быков, где их держат до боя. Василий Иванович остановился возле них и начал их рисовать. Потом пошел снег. Василий Иванович стал мерзнуть. Мимо проезжал крестьянин на арбе, которую тащил осел. Василий Иванович остановил его, чтобы узнать, далеко ли до станции; не зная языка, он нарисовал испанцу в своем альбоме рельсы, станцию и поезд. Горец предложил довезти его на своей арбе до поворота. Оттуда Василий Иванович прошел еще десять километров пешком до следующей остановки, где сел в тот же последний поезд. Так на билете Василия Ивановича на 3000 десять километров остались неиспользованными: он их отшагал.
Следующим городом, который мы посетили, была Севилья. Мы остановились в гостинице на площади Сан-Фернандо. Каждый день с утра отправлялись на этюды. Но в Испании очень трудно было писать на улицах из-за мальчишек. Испанские мальчишки — это бич! Они совсем не дают художникам работать. Они лезут в палитру, галдят, толкаются, мешают расспросами, хохочут, озорничают.
Однажды мы для них купили вареных креветок, надеясь откупиться от их приставаний. Они слопали креветки и стали приставать еще хуже прежнего. Тогда мы попробовали уговорить одного отгонять остальных, но получилось совсем скверно — все перессорились, разделились на два лагеря, и пошел уже настоящий уличный бой, от которого нам пришлось спасаться за ограду церкви, куда вход мальчишкам без родителей был воспрещен. Там мы уже спокойно работали — мальчишки глазели на нас через решетку, напоминая каких-то диких зверенышей.
Василий Иванович очень любил орган. Как-то мы после работы зашли в собор и попали на торжественное богослужение. Органист исполнял Баха. Потом к органу присоединился хор, это было похоже на ангельское пение, где-то там наверху, под сводами. Епископ в роскошном облачении стал подниматься по витой лесенке на балкончик — трибуну, с которой обычно говорят проповеди. Всем прихожанам в этот момент положено опуститься на колени и смиренно опустить головы. Мы с Василием Ивановичем зазевались на восхождение епископа, как вдруг оба, один за другим, почувствовали довольно сильный удар по затылку — соборный сторож в ливрее подкрался к нам сзади и каждого из нас своей булавой бухнул по голове, — дескать, нечего глазеть вверх, когда следует опустить «очи долу». Все это произошло так неожиданно, что мы оба прыснули и, долго еще переглядываясь, хохотали про себя.
Севилья была для нас наслаждением. Южная роскошь природы, живописность, типы. С утра до трех часов дня там люди не выходили из домов — зной был невыносим. Все уличные работы производились в городе только ночью при свете фонарей или факелов. Особенно мы любили улицу Калье де лас Сиерпос. Она была вся под тентом, натянутым между домами. Сквозь щели тента прорезалось яростно-синее небо. Улица шла вверх — террасами, и на ней сидели цирюльники. Испанцы с утра стриглись, брились, причесывались и потом, надушенные, напомаженные, с расстегнутыми воротами белых рубах, заправленных под широкие красные или черные кушаки, садились пить кофе или шоколад, курить крепкие сигары, балагурить тут же в маленьких кафе. Работа начиналась после трех часов дня.
Выше террасы был рынок цветов. Красотки севильянки покупали там цветы перед боем быков и прикалывали их на кружевные мантильи и косынки, бросали их любимцам публики — прославленным матадорам — под ноги. Двух таких знаменитостей Мачакиту и Бальиту нам с Василием Ивановичем удалось увидеть на арене. Мы не пропускали ни одного боя быков, рисуя акварелью и делая наброски карандашом и углем.
Однажды нам захотелось посмотреть на испанские танцы. Севильянцы посоветовали нам пойти в школу Отеро. Это был брат знаменитой испанской актрисы. Он открыл заведение, где специально для иностранных туристов устраивались какие-то бутафорские танцы под старину. Разумеется, это нас не удовлетворило. Мы взяли извозчика и попросили отвезти нас туда, где танцует народ. Он привез нас в театр «Лас коведадэс», и это было уже совсем иное дело — кабачок-театр с ложами, где сидели зрители, и помост, на котором плясали танцовщицы из народа под аккомпанемент превосходных гитаристов. В те времена выступала там знаменитая «гитана». Она блестяще танцевала и пела народные песни с руладами. Но характер у нее был капризный и дикий — она упиралась, не хотела бисировать и без конца заставляла себя уламывать. Мы с Василием Ивановичем сделали с нее по акварели.
Из Севильи мы перебрались в Гренаду и остановились а гостинице «Альгамбра». Из окон нашей комнаты была видна вся Сьерра-Невада. В этой гостинице было множество туристов. Однажды мы увидели, как англичанин с женой, оба художники, наняли специально обслуживающих эту публику старика «гитано» и молоденькую «гитану», наряженных в цыганские костюмы. Англичанка взгромоздилась на осла с мольбертами и этюдником, и они отправились на поиски соответствующей обстановки для позирования. Мы с Василием Ивановичем пошли следом. Англичане долго выбирали место, наконец нашли пейзаж, на фоне которого стали устанавливать какую-то жанровую сцену. Пока они усаживали старика, Василий Иванович переманил «гитану», увел ее подальше, пообещав ей побольше уплатить, и мы оба нарисовали с нее акварели у фонтана. Как хохотал и потешался Василий Иванович этой проделкой. Вообще он часто смеялся, характер у него был необычайно веселый, и вся наша поездка была пронизана его блестящим, жизнелюбивым юмором.
В Гренаде был целый квартал цыган, и когда мы собрались туда, нам предложили захватить с собой полицейского, так как там постоянно случаются грабежи и убийства. Но мы, понятно, отказались и поехали одни. Приехав на место, мы немедленно же принялись за работу. Обоих нас пленил интересный пейзаж с цепью гор и типы диких, красивых и гордых людей. Устроились мы в тени, возле двери сапожной мастерской. Сапожник вышел посмотреть на нас. Василий Иванович тут же снял с ноги свой прохудившийся сапог и отдал ему в починку. А сапожки он носил особые — с мягкими голенищами, заправляя их под брюки. Сапожник очень удивился фасону русского сапога и добротности работы. Пока он чинил, Василий Иванович сидел без сапога и писал акварель. И все-то у него выходило весело и непринужденно…
После Гренады перебрались мы в Валенсию. Но там, кроме народного праздника и танцев, смотреть было нечего. Зато праздник был великолепен: на площади, на помосте, танцевали испанские крестьяне. Тут же стояли верховые лошади, на которых они приехали. Танцы их были совсем особые — медленные, плавные, они больше походили на греческие движения, чем на буйную испанскую пляску.
Из Валенсии мы вскоре поехали в Барселону. Остановились в гостинице «Пенинсулар». Она была построена по арабскому образцу. Внутри был квадратный двор, и в него выходили все окна гостиницы. Можно было видеть, в какой комнате кто живет. И мы постоянно были свидетелями жизни испанцев. В Барселоне мы видели самые интересные бои быков и сделали множество акварелей.
Однажды, придя в громадный барселонский цирк на 1500 зрителей задолго до начала, мы видели всю подготовку к бою. Интересно, что испанские цирки разделяются на две части — «Соль и сомбра», то есть «Солнце и тень». На солнце места были дешевле, в тени дороже. Мы видели дрессировку лошадей перед боем, врачебную подготовку на несчастный случай. Василия Ивановича всегда привлекало героическое и трагическое, и сильное впечатление произвело на него то, что когда к цирку подъезжали матадоры в каретах, то им подносили их маленьких детей, чтоб они простились с ними на всякий случай. В то время в Барселоне были знамениты два матадора — Педро Лопец и Ломбардини. Как-то нам удалось хорошенько рассмотреть их у стойки кабачка. И когда они вышли оттуда, мы пошли за ними вслед и полдня ходили повсюду, не уставая любоваться их статными фигурами, их бронзовыми лицами…
Последним городом, который мы посетили, был Толедо. Тут мы полностью насладились произведениями Эль-Греко»…
На этом кончаются воспоминания моего отца о поездке в Испанию. Но мне хочется прибавить к ним те небольшие детали, которые я слышала изустно. Вот что говорил отец о первых своих акварельных работах в Испании: «Меня поразила яркость красок, этот желтый песок, синее небо и совершенно изумрудные тени на песке. И когда я потом писал бой быков, я все боялся взять краски в полную силу — никто бы не поверил такой невероятной яркости в цвете».
А вот что он рассказывал о посещении музеев: «До сих пор я знал какого-то, итальянизированного Веласкеса. А в «Пряхах», что висят в Прадо, я увидел подлинного испанского художника: не теплого по колориту, как в портрете папы Иннокентия X, а холодного, сумрачного. Какие потрясающие у испанских мастеров оттенки голубого, мышино-серого, черного цвета! Они меня захватили с такой силой, что, когда мы были в Эскуриале, я прошел мимо чудесных красочных гобеленов Гойи и не оценил их!..»
И еще интересный эпизод рассказывал отец о бое быков в Барселоне, на который они с Василием Ивановичем пришли задолго до начала. Рядом с ними сел какой-то русский художник — турист. Когда начался бой и разъяренный бандерильями бык распорол брюхо первой лошади, русский художник не выдержал и закричал о варварстве, о дикости нравов. Тогда Василий Иванович переругался с земляком и настоял, чтоб тот ушел из цирка. Как и Кончаловский, Суриков также был увлечен ловкостью матадоров, красотой движений в игре плащом, точностью прицела шпагой, и, когда матадор Ломбардини блестяще сразил быка, Василий Иванович, как молодой, перескочил через изгородь и вместе со всеми поклонниками победителя обнял его, всего сверкающего золотым шитьем, разгоряченного, надушенного, с лицом, показавшимся моему отцу очень похожим на врубелевского демона.
Из путешествия по Испании Василий Иванович привез много рисунков и акварелей необычайной силы цвета и выразительности. Он возвращался на родину, полный новых ощущений и впечатлений.
Посещение монастыря
Квартира в доме Полякова стала Суриковым велика. Жизнь их сводилась к постоянным выездам. Больших полотен Василий Иванович не писал. Хозяйство вести было некому. Они решили поселиться в гостинице-пансионе. Таким был «Княжий двор», принадлежавший князю Голицыну, который постоянно жил зимой в Париже, а летом в своем имении Дубровицы, поэтому никто из служащих никогда не видел мифического владельца гостиницы.
Трехэтажное здание «Княжьего двора» находилось на Волхонке, против Музея Александра Третьего, — теперь Музей Пушкина. Внутри было мрачно, тихо, холодно. Широкие длинные коридоры с полами, залитыми асфальтом и натертыми до блеска, были всегда безлюдны, казалось, здесь никто не живет. А жили там в высоких и больших комнатах подолгу — годами. Среди жильцов было много знаменитостей: композитор Гречанинов, скульптор Опекушин, профессор Сезерцез.
Был даже особый корпус, где останавливались проездом исключительно художники. Там, бывало, постоянно жил Репин. В главном корпусе постояльцы были солидные. Жила там, например, одна старуха — помещица Сатина, на зиму она приезжала в Москву, а летом уезжала в деревню. Старуха напоминала гоголевскую Коробочку; от скуки она постоянно звала конторщиков играть с ней в карты — ей было развлечение, а конторщикам прибыль: они уносили в карманах груды орехов и шоколадных конфет.
Суриковы сняли в верхнем этаже главного корпуса две комнаты. Им было удобно, как нигде, — тихо, спокойно, и незачем было хозяйством обзаводиться и держать прислугу.
В комнате у Василия Ивановича был телефон. По вечерам к нему приходили друзья — поэт-художник Максимилиан Волошин, актриса Массалитинова, критик Никольский, большая приятельница танцовщица Наталья Тиан, сестры Пемовы, старый коллекционер Лезин с супругой, госпожа Гречанинова. К. Елене Васильевне приходили ее подруги-курсистки— Коржевина и Легерт, была еще одна худенькая, с густыми черными бровями — Оля Гутоп. Василий Иванович недолюбливал ее за легкость нрава и с иронией спрашивал у дочери:
— А эта, у которой лицо бровями испачкано, тоже придет?
Лена обижалась за подругу, но не могла удержаться от смеха. Она была еще довольно мила, любила пофрантить, причесывалась по моде, близоруко щурилась в лорнет.
Судьба Лены не складывалась, она продолжала жить с отцом. Писала реферат на тему о французских философах-материалистах XIX века, в промежутках пробовала писать романы, рассказы, стихи, пьесы, но все на половине бросала. Мечтала о сцене, часто плакала. Не зная, куда истратить свою энергию, она бросалась то в филантропию, то в философию, то в эстетику и обожала стихи Волошина.
С Волошиным Василий Иванович был связан большой дружбой и рассказывал ему о своей жизни. И тут художник Волошин забывал о стихах и с увлечением записывал все эти беседы, которые впоследствии вылепились в одно из самых лучших и самых близких к Сурикову изображений его человеческого и творческого облика, — ту биографию, без которой не обходился ни один автор научного или художественного труда о Сурикове. Обычно они беседовали вдвоем, пока не приходила Лена, часто с подругами. Появлялись сестры Пемовы, заглядывала госпожа Гречанинова — большая охотница до споров об эстетике, и тогда уже Волошин превращался в поэта и начинал читать стихи. Лену пленяли утонченные мысли эстетов и манера их выражать, а Василий Иванович сидел с гостями за чайным столом и не мешал им вести модный в то время спор об эстетике и витать в облаках в поисках какой-то нереальной красоты. Василий Иванович молча наблюдал за ними, прихлебывая чай из блюдечка, а в углу комнаты стоял мольберт с большим полотном, обернутым простыней. Это была новая картина, далекая от модного упадочничества, от декадентских веяний, так же как и от псевдонационального дешевого стиля начала XX века, стиля, который шел от кустарных выставок прикладного искусства, открыток типа Соломко, пошлых фигурок «молодцев», «троек», «боярышень», рассчитанных на вкус потребителя. Все это было дешевым подражанием подлинному — народному.
Новая картина Сурикова изображала «Посещение царевной женского монастыря». Тема эта пришла не неожиданно, — он много раз читал «Домашний быт русских цариц» Забелина. Там он нашел боярыню Морозову, там нашел княгиню Ольгу, оттуда появилась идея написать царевну Софью, наброски которой уже были сделаны, но что-то останавливало художника, и он увлекся чтением Домостроя и описанием жизни теремов.
Царский терем в жизни русских царевен играл жестокую роль. Каждой самой бедной девушке могла позавидовать царская дочь, потому что в любой русской семье дочерей старались «сбыть с рук» — выдать замуж. Волей или неволей, но она становилась женой, хозяйкой, матерью. Только царевны были лишены всякой возможности самого обыкновенного человеческого счастья. Выйти замуж за человека не царской крови они не могли, — кем бы он ни был, он «холоп». Только в сказках царевен завоевывали герои из народа, преодолевая опасности и злые чары. За принцев царской или королевской крови русские царевны тоже не могли выйти замуж, — иноземцы считались еретиками, да и никто из них не видел этих узниц, живших взаперти, погрязших в невежестве, вечных пленниц душного терема, окруженных мамками, кормилицами, шутихами, ворожеями и сенными девками. Темный, истеричный, подобострастный и лживый мир окружал их, и путь у них был один — только в монастырь. Царевны приносили в монастырь богатое приданое, и монастыри стерегли царевен, словно капкан добычу.
На картине Сурикова царевна, осмотрев обитель и отстояв обедню, выходит из монастырской церкви. Испытующе, выжидательно смотрит сбоку на царевну игуменья: «Понравилось ли ей?» Старые монахини с любопытством заглядывают в светлое прелестное лицо царевны. А молодые послушницы смиренно склонили полные живого и трепетного лукавства лица — трудно убить в молодых существах брожение жизни. И как в скитах, так и в теремах «Житейские грехи можно было всегда прикрыть постническою мантией… Весьма понятно, чем должны были казаться Петру все эти богомольные, постнические подвиги царевны и ее сестер, весь этот старый домострой жизни, прикрывавший своими досточтимыми формами самые растленные нравственные начала». Так говорил историк Забелин, описывая быт русских цариц.
Но та царевна, которую изображал Суриков, еще чиста и по-детски доверчива. Она выходит из церкви, полная восторженного спокойствия и убеждения в чистоте помыслов обитательниц монастыря, «спасающих свои души за его стенами». Недаром боярыня-мамка, знающая все и вся, зорко смотрит за тем, чтобы окружающее царевну благочиние ни в чем не нарушалось. Под озаренными горячим полыханием свечей иконами в золотых окладах вытянулся ряд монахинь, как темная сила, которой суждено затащить, опутать и опустошить душу и ларцы этой юной красавицы, которая медленно плывет в платье серебристого атласа, украшенном расшитым золотом оплечьем с самоцветами и жемчугами. Словно чистое голубое холодное сияние исходит от этого платья.
Василий Иванович писал картину крупными мазками — «по отлипу», как он сам выражался об этой манере накладывать свежие мазки по еще не просохшему, липкому вчерашнему слою краски. Эти крупные мазки придавали блеск рефлексам в лепке лиц, игре самоцветов, полыханию пламени на тяжелых подсвечниках. Конечно, картина эта была не такого крупного значения и масштаба, как предыдущие работы, но она была богата и празднична по колориту, убедительна в своей интимной проникновенности.
Я помню…
Фрагмент четвертый
Каждое воскресенье мы — внуки — ездили к дедушке в «Княжий двор». Мне запомнились широкие коридоры, по которым бесшумно двигались официанты в светло-коричневых фраках, неся высоко над головой подносы с посудой и кушаньем. В таком коридоре разговаривать, казалось, можно было только шепотом. Но зато когда открывалась дверь в дедушкину комнату, мы с шумом, смехом и восклицаниями кидались к нему в объятия. Он раздевал нас, обнимал и целовал в румяные холодные щеки. На столе уже был приготовлен завтрак— в мисочке вареные яйца, колбаса, ветчина, сыр и горячие калачи от Филиппова в огромных пакетах.
Тут открывалась дверь, и Алеша-«самоварщик», мальчик лет четырнадцати, круглолицый, коротко подстриженный, с лукавыми умными глазами, вносил самовар. Одет он был в парусиновую форму с медными пуговицами, держал себя с достоинством, и мы поражались, видя, как ловко несет он высоко поднятый на ладони поднос с кипящим самоваром и чайником на конфорке. Он летел с этим подносом, лавируя, соблюдая равновесие, а самовар над его головой пыхтел, оставляя за собой струйку пара, словно паровоз. Алеша, завидев нас, приветливо улыбался, потом ставил поднос на стол, чинно кланялся и убегал.
Дедушка принимался угощать нас, мазал калачи маслом, резал сыр, разливал чай и приговаривал:
— Ешьте, душечки, ешьте! Обед еще не скоро!
После завтрака мы усаживались возле деда, и начиналось самое интересное — сказки. Это были не обыкновенные сказки, а каждый раз новые импровизации: ни дед, ни мы не знали, чем сказка начнется и чем кончится. Дедушка выдумывал ее и тут же на ходу иллюстрировал на бумажных пакетах от калачей.
— Бежит заяц. Бежит по лесу, по кустам шуршит, через сугробы перепрыгивает… по полю несется… Глядит — большая гора…
И сразу из-под дедушкиного карандаша возникает и заяц, и лес, и кусты, и гора.
— Бежит зайчишка, попрыгивает… — продолжает дедушка. — А за горой-то… живет большущий медведь. Только зайчишка разбежался, глядь, Топтыгин и вылезает! — Тут искусный карандаш в мгновение ока изображает голову медведя с оскаленной пастью и присевшего на задние лапы оторопевшего зайца.
— «Ты куда, косой дурак, бежишь?» — спрашивает Топтыгин.
Мы с братом сидим притихшие и во все глаза смотрим на дедушкин волшебный карандаш.
— «Да домой, к зайчихе. Отпусти, медведюшко!» На пакете нет больше места, и дедушка переворачивает его на другую сторону. Сказка продолжается. Как по волшебству, картинки возникают цепочкой. Вот уже медведь догоняет зайца. Мы сидим молча, встревоженные. Тогда дедушка, жалеючи нас, придумывает смешной конец: заяц, перекувырнувшись, перелетает через медведя, вот он уже на вершине горы. Пока неуклюжий косолапый мишка добирается до верхушки, зайца и в помине нет, одни следы на снегу остались. Й вот сидит медведь на верху горы на задних лапах и думает про зайца: «Дурак, дурак, а меня обставил!» — заканчивает дедушка к нашему удовольствию.
Сколько таких сказок было придумано и нарисовано на пакетах, которые потом официант, убирая со стола посуду, просто комкал, как ненужный мусор, и выбрасывал в корзину!..
Весь день мы проводили у дедушки. Перед обедом он отправлял нас погулять во двор, что находился позади гостиницы. В «Княжьем дворе» обычно с детьми не жили, и потому двор, заваленный сугробами, был пустынным и каким-то чужим. Одно громадное голое дерево стояло посредине, и на дереве с отчаянным карканьем трепыхались большие, жирные вороны.
Мы стоим с братом Мишей посреди сугробов. За решеткой двора — огненно-малиновый закат. Галдят удивленные нашим появлением вороны. Мы ежимся от холода и неуютной незнакомости чужих окон, в которых пылает закат; от зловещего карканья нам не хочется ни лепить снежную бабу, ни кататься по ледяной дорожке. Постояв минут пятнадцать, мы робко возвращаемся к дедушке: «Мы нагулялись!» И снова возле него тепло, весело, уютно.
В сумерках дедушка любил, не зажигая огня, постоять с нами у окна и посмотреть на Волхонку, по которой шел фонарщик с длинным шестом и один за другим зажигал уличные фонари. Когда шел снег, сквозь его завесу смутно вырисовывались очертания кремлевских башен и колокольни Ивана Великого, а внизу по мостовой плелись на понурых лошаденках извозчики или пролетали сани с важным седоком и сытые лошади взрывали копытами снег. По тротуару сновали прохожие. Мы втроем стояли у окна, и за нами притаилась полутемная комната и тишина. Свет с улицы падал на стены косыми квадратами, а углы оставались в тени. II вдруг дедушка поворачивал нас от окна и, указывая в темный угол, тихо говорил: «А во-о-он он!» Мы с визгом начинали лезть под дедушкин пиджак и прижиматься к нему. Видно, ему очень нравилось, что мы ищем защиты от какого-то таинственного его…
В восемь вечера Василий Иванович, старательно укутав нас по самые брови башлыками, «чтобы не простудились, чего доброго», надевал свою черную шубу с каракулевым воротником, высокую каракулевую шапку, теплые суконные боты, и мы выходили на Волхонку.
Дед нанимал извозчика и самым долгим путем, чтоб продлить удовольствие, вез нас на Большую Садовую. Ехали по бульварам до памятника Пушкину, потом по Тверской до Старо-Триумфальных ворот, а там уже по Садовому кольцу до дома. Блаженное было это путешествие! Сидишь возле дедушки — тепло, хорошо. Сани быстро скользят по укатанному пути. Дедушка крепко держит за плечи, чтобы, «чего доброго, не выскочили». Снег летит в лицо, мороз щиплет щеки и нос, полозья скрипят на поворотах, а глаза сами слипаются. Пока до дому доедешь — сколько снов увидишь!
А еще помню, как я несколько раз позировала дедушке для «Царевны в церкви». Он надевал на меня царевнин наряд, взятый напрокат в костюмерной Большого театра, — бармы, оплечье и кокошник. Я стояла, переступая с ноги на ногу, и терпеливо позировала. Бармы и кокошник были тяжелые, платье мне было велико, рукава волочились по полу. Тетка Елена Васильевна все это подкалывала на мне английскими булавками. От кокошника пахло старой окисью меди, весь он изнутри был испачкан гримом, бармы давили плечи.
— Дедушка, тяжело стоять! — кряхтела я.
— Ничего, ничего, бомбочка (он всегда называл меня так), постой! Вон царевны всю жизнь такую тяжесть носили, а ты не можешь десять минут постоять… — говорил он, щурясь на меня и взмахивая кистью.
Рядом за столом сидит мой брат Миша. Мише шесть лет, и больше всего на свете он любит лошадей. Сейчас он пытается «нарисовать лошадку», но лошадиные ноги гнутся в разные стороны. Дедушка видит это и, не опуская палитры, подходит к нему, берет в свою руку Мишину — с карандашом.
— Ну-ка, Мишук, держи крепче карандаш… Вот как ноги-то у лошадки бегут! — И несколькими штрихами выправлены и ноги, и корпус, и голова.
Миша сияет, а дедушка возвращается к моему портрету. Еще несколько минут за мольбертом, потом дедушка видит, что я действительно устала.
— Ну, бомбоша, хватит! На сегодня довольно!
Портрет в кокошнике и оплечье висит у меня в комнате. Чудесный небольшой портрет: из-под кокошника торчат две косички с красными бантами, лицо сосредоточенное, но похоже настолько, что даже сейчас меня можно в нем признать. А недавно пришел ко мне неожиданный гость — Алексей Михайлович Мельников. Он старый пенсионер, прошел тяжелую, школу жизни: работал шахтером в Подмосковном бассейне, воевал на фронтах. Это и был тот самый Алеша, что некогда работал «самоварщиком» в «Княжьем дворе». Я смотрела на него и с удовольствием узнавала в нем, как сквозь туман далекого прошлого, круглолицего мальчика с подносом, на котором кипел самовар.
— Был у меня такой случай с Василием Ивановичем, — вспоминает Алексей Михайлович Мельников. — Как-то раз заметил он, что я хромаю. А мне дядя сапоги купил, а они тесны оказались, сильно натер я ногу. «Что это ты, Алеша, хромать стал?» — спрашивает Василий Иванович. Ну, я ему объяснил, и он вдруг пожалел меня, да так душевно и просто — дал мне три целковых и говорит: «На вот, пойди себе другие сапожки купи!» Я это на всю жизнь запомнил.
В Берлине
«Москва, 28 марта 1912
Я очень был удивлен, что вы уехали, не сказав ни здравствуй, ни прощай своему лучшему другу. Нехорошо, нехорошо! Ну, как вы устроились в Париже?
Пасха здесь холодная, сырая и ни капли солнца! Должно быть, как у вас хорошо. Ходите в Люксембургский музей? Какие там дивные вещи из нового искусства! Монэ, Дега, Писсарро и многие другие.
Лена вам кланяется. Напишите подробно.
Ваш 3. Суриков».
Василий Иванович писал из Москвы Наталье Флоровне Тиан, писал наспех — сильно болела голова, ныла правая скула, беспокоил глаз. Не думал он, что случайный насморк принесет ему столько неприятностей, а это был уже настоящий гайморит. Через несколько дней Василий Иванович начал косить правым глазом.
— Что-то, Петя, стало у меня в глазах двоиться, — жаловался он зятю.
Петр Петрович серьезно забеспокоился, и тут же они с Олей решили показать Василия Ивановича известному окулисту — профессору Степанову. Профессор нашел воспаление гайморовой полости таким запущенным, что необходима была операция. Василий Иванович не возражал, но тут Степанов вдруг заявил:
— Не могу я делать эту операцию. Не могу тронуть глаз, который создал «Боярыню Морозову». Боюсь! Поезжайте в Берлин к профессору Килиону. Он большой специалист по этому делу и сможет вылечить вас без хирургического вмешательства. Он применяет светолечение.
Делать было нечего, и в мае Кончаловские проводили Сурикова в Германию. Решено было встретиться через две недели в Берлине, где Кончаловские остановятся проездом в Италию.
Профессор Килион принял Сурикова необычайно приветливо. Он согласился лечить его. Ежедневно Василий Иванович посещал профессора. Лечение подвигалось успешно, и глаз. вскоре встал на место. Когда Кончаловские приехали в Берлин, Василий Иванович встретил их на вокзале еще с черной повязкой, но уже бодрый и веселый.
Целую неделю прожили обе семьи вместе в гостинице «Москау» на набережной Шпрее.
Ежедневно Суриков с повязанным глазом отправлялся вместе с зятем в Берлинскую картинную галерею, и они наслаждались живописью Тинторетто, Тициана, Веласкеса, Веронезе, Рембрандта.
— Пойдемте, Петя, пойдемте, — тащил Василий Иванович зятя по залам, — я вам сейчас такое чудо покажу!
И он провел его к картине Рембрандта — «Жена Пентефрия обвиняет Иосифа». Это была та самая картина, о которой Василий Иванович, впервые выехав за границу, писал Чистякову: «…у них есть одна вещь, я ее никогда не забуду, — есть Рембрандт (женщина в красно-розовом платье у постели), такая досада — не знаю, как она в каталоге обозначена. Этакого заливного тона я ни разу не встречал у Рембрандта. Зеленая занавесь, платье ее, лицо ее по лепке и цветам — восторг. Фигура женщины светится до миганья. Все окружающие живые немцы показались мне такими бледными и несчастными, и — прости мне, господи, согрешение — я подумал, что никогда немецкая нация не создаст такого художника, как Рембрандт».
Петра Петровича всегда поражало художественное видение Василия Ивановича. Для него оно значило больше, чем ощущение истории, что особенно ценили критики и художники. Кончаловский чувствовал, что для Сурикова весь смысл творчества именно в его живописи. Василий Иванович постоянно пренебрегал замечаниями по поводу того, что в картине «Боярыня Морозова» одежда по времени не сходится: на одних персонажах одежда семнадцатого века, а на других — девятнадцатого. А в картине «Переход Суворова через Альпы» формы на солдатах не соответствуют, да и множество других деталей всегда приводили историки и критики. Василий Иванович был глух к этим придиркам, его интересовало не внешнее, а внутреннее. И главное — это колорит и композиция. Он утверждал, что если нет колорита — нет художника!
В Испании, в Прадо, оба они часами могли стоять возле полотен Тинторетто, слушая, как выражался Суриков, «свист малиновых мантий». В Москве Суриков часто сидел в Румянцевском музее перед картиной Иванова — «Явление Христа народу», изучая соотношение горячих и холодных цветов. Он поклонялся этому художнику за необычайную красоту его колорита.
Еще в первую поездку в Красноярск Петр Петрович замечал, с каким жадным вниманием всматривался Василий Иванович в лица мужиков и баб на базарах или на плашкоуте, что ходил через Енисей, как часто Суриков делал беглые зарисовки этих лиц в дорожный альбомчик. Василий Иванович наслаждался красотой и гармонией лиц, которые обычному глазу казались заурядными и ничуть не красивыми, а он видел в них характеры, жизненную полноту ощущений и настроений и глазом художника проверял свет, тени, воздушные рефлексы. Он любил эти лица и изучал их, где только мог.
— Вспомните, Петя, — говорил он, — ведь когда где-нибудь во Флоренции или Венеции вам приходилось смотреть Тициана или Тинторетто, а потом вы выходили на улицу, то непременно тут же сталкивались с теми же самыми типами итальянских мужчин и женщин, которых в свое время наблюдали и те художники. Только они-то их изображали в виде нимф в облаках или каких-нибудь Гермесов, а то — в виде мадонн и великомучеников. Подлинное всегда идет из народа!
И Петр Петрович думал: «Он видит события в жизни народа в живописной форме, как Пушкин видел в поэтической форме сцену в корчме, а Мусоргский ее же видел в музыкальной форме. Все это неистощимая глубина русского народного духа».
Любил и ценил Кончаловский и портреты Сурикова. Он мог каждый из них бесконечно рассматривать, удивляться, восторгаться и всякий раз находить для себя в них что-то новое.
Несравненные портреты «Итальянки на карнавале», «Дочери возле печки», «Огородника» — старика на бахче, смотрящего из-под ладони в ослепительную, солнечную даль. А целая галерея женских портретов, таких необычных по мастерству живописи, по национальному звучанию, — портретов, которые свидетельствовали о преклонении Сурикова перед русской красотой, что он встречал еще с самой юности в постоянных поездках по Сибири и по всей Руси. И дорого было Петру Петровичу, что много раз писал и рисовал Василий Иванович старшую дочь Олю, наверно, потому, что каждый из них по-своему больше всего в жизни любил ее.
Они великолепно понимали друг друга, эти два художника, несмотря на то, что стояли на разных орбитах русского искусства. Кончаловский в ту пору уже был одним из основателей общества «Бубновый валет» — самой отчаянной, бунтарской группы молодых художников, порывавшей с основами старой живописи и искавшей новых путей. Василий Иванович понимал эту потребность молодых атаковать рутину и разделываться с традициями7 натурализма, понимал он и всю напряженность их живописных исканий. Правда, ему чужда была форма в творчестве молодых, но он одобрял и поддерживал тех из них, в ком видел настоящий талант.
Однажды поэт Волошин был свидетелем того, как в Щукинской галерее западного искусства Василий Иванович сказал какой-то посетительнице, обрушившейся на работы Пикассо: «Вовсе это не так страшно, настоящий художник так и начинает всякую композицию: прямыми углами и общими массами. А Пикассо только на этом остановиться хочет, чтоб сильней сила выражения была. Это для большой публики страшно. А художнику понятно». Так острому и чуткому глазу Сурикова были понятны особенности и тонкости новых дарований.
Пребывание в Берлине было радостным для обеих семей. Они веселились, когда собирались где-нибудь з ресторане за обедом, особенно когда художники, оба не знавшие немецкого языка, пытались объясняться с кельнером на каком-то непонятном наречии. Ольга Васильевна сердилась не на шутку и останавливала их, но Елена Васильевна и внуки получали от этого большое удовольствие и хохотали до слез.
Пришла пора расставания — Кончаловские отправлялись в Италию, на этот раз в Сиену, чтобы попасть на карнавал «Палио», во время которого сиенцы разгуливают по городу в средневековых костюмах и устраивают городские скачки, где победителям, совсем как в древности, золотят копыта их лошадей.
Петр Петрович всегда мечтал прикоснуться к этой связи прошлого с настоящим, в ней можно подметить основные формы человеческой природы, которые вдохновляли творчество великих мастеров живописи.
Суриков стоял на перроне берлинского вокзала, возле вагона, из окна которого высунулись счастливые физиономии отъезжающего семейства, и с завистью поглядывал на них. Он думал о том, с какой радостью он укатил бы вместе с ними в Италию. Но надо было закончить лечение. И, когда поезд отошел, Василий Иванович покорно последовал за Леной в гостиницу «Москау».
А Кончаловские, приехав на два дня во Флоренцию, уже застали там письмо:
«Берлин, 1912
Здравствуйте, дорогие Олечка, Петя, Наташечка и Миша!
Были вчера у доктора Килиона. Он сказал, что носовая и глазная болезнь идет лучше, и определил лечение приблизительно недели на две, и про болезнь он сказал: «es ist einfach» (т. е. простой, несложной). Ну, вот и ладно! Как-то вы доехали, благополучно ли? Поклонитесь от меня Тициановой «Флоре» и «Туалет Венеры» — лежащая. В сундуке горничные достают одежду.
Веронезу низкий поклон и всей нашей обожаемой братии — колористам-дорафаэлистам, если таковые найдутся. Покуда лечусь все, в галерею буду ходить. Единственная отрада. Целую вас всех. Пишите.
В. С.»
Я помню…
Фрагмент пятый
Это было последнее путешествие Василия Ивановича в Красноярск. Мы отправлялись все вместе с Казанского вокзала по великому сибирскому пути, через Самару — Уфу — Челябинск — Омск — Новониколаевск (теперь Новосибирск). Было начало июля 1914 года. Купе наши находились рядом, и мы постоянно сидели у дедушки, или же они с Леной переходили к нам. Как тогда было заведено, обедали на вокзалах, в сутолоке провожавших, уезжавших и приезжавших. Нам, детям, это очень нравилось — гораздо интереснее и вкуснее, чем дома… В поезде было душно, пыльно, жарко, и, если он неожиданно останавливался поблизости от какого-нибудь озерка, папа непременно бежал купаться. Мы с тревогой смотрели, как он плескался, плавал, нырял, пока паровоз не даст длинного свистка. Тогда вся ватага высыпавших на купанье, на бегу натягивая штаны и рубахи, бежала к поезду, порой вскакивая на ходу куда попало. Мы с Мишей волновались за пассажиров и всё глядели, не остался ли кто-нибудь.
Беззаботное, счастливое путешествие наше продолжалось до Омска. В Омске неожиданно сразу, как удар в спину, все кончилось: нас настигло объявление войны с Германией. Смутно помню человека в пенсне, стоявшего на столе и взывавшего к «православным»: «Не посрамим земли русской! Отстоим святую родину от супостата!» И еще что-то о братьях-славянах. Жалкий оркестрик вразброд тянул: «Боже, царя храни…»
Мои родители растерялись — ехать ли дальше или возвращаться назад? Но Василий Иванович настоял на том, чтобы доехать до Красноярска, а там видно будет. Потом все говорили, что он словно в воду глядел!
Как разительно изменилось наше путешествие после Омска. Теперь, когда поезд подползал к станции, уже издали были слышны плач, крики. Провожали новобранцев. Голосили, причитали матери, жены, ревели дети, кричали начальники, и сквозь весь этот хаос пробивались всхлипы гармошки и пьяная песня — «Последний нонешний денечек».
— Смотрите, Василий Иванович, — говорил мой отец деду, — совсем как в «Утре стрелецкой казни».
Василий Иванович, молча прикусывая ус, кивал головой. Все были подавлены. Дети притихли, взрослые вздыхали, а если разговаривали, то какими-то неестественно бодрыми голосами.
Дом! Чудесный красноярский дом и дядя Саша — красивый, сухощавый, с седыми усами. Такой же добрый, как и дедушка, даже, пожалуй, с виду добрее! Теперь мы с Мишей носились по двору и огороду и взбегали по лесенке на верхнюю галерейку, точь-в-точь как когда-то Лена с мамой. В конюшне стоял гнедой конь Мишка. Надо было видеть Мишину гордость уже оттого, что конь был ему тезкой. Брат готов был целыми днями не выходить из прохладной полутени конюшни, где сосредоточились сладчайшие, по его мнению, запахи свежего сена, конского пота, кожаной сбруи, соломы с навозом и столь же сладчайшие звуки: фырканье, вздохи, хрустенье трав на зубах, стук копыт о перегородку. Дяде Саше нравилось Мишино пристрастие к лошадям, он считал, что оно, конечно, унаследовано от предков-казаков, чья кровь бродит в Мишиных жилах!..
Как запомнился мне горький запах отцветавшей черемухи, что заглядывала в наше окно на втором этаже, осыпая лепестками подоконник. В памяти сохранился один эпизод того времени. Однажды Миша с дедушкой стояли у окна. По улице лошадь с усилием тащила телегу, к которой был привязан живой медведь, пойманный где-то за городом. Медведь шел. на задних лапах, переваливаясь, упираясь изо всех сил, положив передние на длинную цепь, которой он был привязан за шею к телеге. Это было занятно, хоть и грустно, и, пока процессия двигалась, дедушка успел зарисовать ее.
Художники наши часто уходили вдвоем на пейзажи. Остались у меня в памяти две фигуры, уходящие со двора или возвращающиеся, — высокий широкоплечий Петр Петрович в сером костюме и в коричневой, твердой, как коробка, шляпе с прямыми полями, которую он привез из Испании, и рядом с ним небольшой, в светлом пиджаке, Василий Иванович, тоже в коричневой фетровой шляпе, только совсем мягкой. У обоих в руках альбомы и этюдники. Две эти фигуры постоянно маячили вместе, где-то на Часовенной или на базаре, или на пристани, или же сидели во дворе на скамейке и о чем-то серьезно беседовали в ожидании обеда.
Дядя Саша задумал покатать нас в шарабане, я хорошо помню этот плетеный, выкрашенный в черный цвет шарабан с двумя сиденьями, обтянутыми кожей, от которой шел неповторимый запах. На козлах сел дядя Саша, рядом с ним Миша (в чаянии, что ему хоть на пять минут дадут в руки вожжи), сзади папа и дедушка, против них, на скамеечке, я.
Сначала поехали на базар за кедровыми орешками. Дядя Саша взял нас с собой по рядам, где продавали кедровые шишки, жевательную серу, мочалу, плетеные корзины, туеса, метлы и прочее. Потом поехали по немощеной Береговой улице. День был прохладный, ветреный. Пыль клубилась за нашим шарабаном, хрустела на зубах, ложилась на мое белое, с синим матросским воротником платье и соломенную, с синей лентой шляпу. Помню эту улицу с угрюмыми сибирскими домами, керосиновыми фонарями на столбах, о которых дедушка говорил, что стоит подуть вечером ветру, как все они гаснут, и на улице — тьма-тьмущая, хоть глаза выколи!
— Недаром старожилы Красноярск Ветродуйском величают. А уж если где загорится на таком ветру, — ну, пиши пропало! Пламя так и перекидывается от дома к дому, только успей выскочить на улицу!.. — говорил дедушка, покачиваясь в шарабане.
Помню громадную вывеску «Торговля мясом госпожи Серебряковой», и по углам вывески — две головы в овалах: одна — бычья, другая — баранья. Помню, уже возле переправы, под горой, на причале множество телег, тарантасов, пролеток, ожидающих плашкоута, который назывался «самолетом». А он еще далеко где-то покачивается на стремнине, везет партию пассажиров с телегами и возами и даже скотом, который на воде всегда тревожно мычит и блеет.
Наконец «самолет» у причала разгружается от приехавших, мы въезжаем на него и плывем по Енисею… сидя в шарабане. Незабываемая, удивительная поездка.
…Отец был призван в армию. Каково же было его удивление, когда, придя на призывной пункт в штаб на Старо-Базарной площади, узнал, что вся «Московская графа Брюса артиллерийская бригада», в которую он был зачислен после отбывания повинности, должна была явиться именно… в Красноярск! Вот что писала моя мать об этом в своей «летописи»:
«Петр Петрович вступил в военные обязанности на три недели раньше своих однополчан. Он встретил их по дороге, когда уже выступил с 8-й сибирской стрелковой дивизией на фронт. Тут же, в Красноярске, дали Петру Петровичу форму, пришлось ему подобрать громадную сильную лошадь, соответственно росту седока! Через некоторое время мы проводили его на фронт. Помню, как военную часть грузили где-то на вокзале в Красноярске — пушки, ящики, коней, солдат. Провожали жены. Это было самое тяжелое, что может быть в жизни, — когда вагоны трогаются в ночь, среди сибирского пейзажа, и в темноту уходит последний красный огонек. Вот тут я села в тарантас и поехала в наш родной сибирский дом. Я все крепилась, крепилась, а приехав, зарыдала, заголосила на весь дом, как голосят бабы на каждой станции, провожая мужей, потому что в этом один только выход их тоске».
Наш поезд на Москву отправлялся одновременно с дивизией папы и то перегонял воинский эшелон, то отставал от него.
На одной из остановок, где оба состава сошлись, мама со свойственной ей решимостью отыскала начальника поезда и попросила разрешения прапорщику Кончаловскому следовать за воинской частью в пассажирском поезде вместе со своей семьей. Разрешение было получено, и вот уже папа в военной форме, с шашкой, скрипя ремнями, сидит с нами в купе. Мы с Мишей по бокам. От него исходит какой-то таинственный запах — смесь французского одеколона, новой кожи, табака, лошади и солдатского сукна. Он возбужден и бодр. Дедушка в тревожном восхищении оглядывает его, беспокоясь, страдая, но стараясь не нарушать стойкости и мужества дочери и зятя, которым предстояло вынести на своих молодых плечах все уготованное им суровым и неизбежным будущим.
Никто из них тогда не знал, что через три года Петр Петрович вернется с войны невредимым. Все скрывали горечь и тревогу друг от друга и гнали ее от самих себя.
Два года назад я была в Красноярске, чтобы снова подышать воздухом дедовой родины и побродить по его следам. Разумеется, трудно теперь отыскать эти следы, их приходится скорее угадывать и нащупывать.
Садясь в современную скоростную водную «ракету», смешно и трогательно вспоминать древний «самолет». Смешно думать о плавучем мосте при виде нового, что перекидывает арку за аркой на мощные спины быков, упершихся в дно черт знает на какой глубине! Странно переходить на правую сторону Енисея, где когда-то жгли костер и пекли в золе картошку, сидя в ивняке у самой воды, — теперь это новый заводской район с многоэтажными домами.
Но больше всего меня поразил Дом-музей Сурикова. Низенькие комнаты с окнами в уровень тротуара… Круглый стол с самоваром, расписными чашками… Мольберт, гитара… Кресла красного дерева, понятно не те, на сафьяновых сиденьях которых оставлял маленький Вася первые рисунки, но это несущественно. Существенно то, что эти стены видели его крепкую, коренастую фигуру с самого детства, когда еще в подвалах дома хранилась старинная казачья амуниция, слышали его голос, его гитару, его песни.
И сейчас стоит этот маленький домик. А вокруг вырастают новые, многоэтажные дома, ложатся новые дороги, поют гудки новых заводов, встающих силой гигантского водопада на Енисее. Сердцем ярые потомки не медлят — отвоевывают у дикой сибирской природы сокровища, заставляя ее служить себе.
И посреди этого лязга, грохота, гула неустанно звенящей симфонии труда маленький деревянный домик-музей стоит как драгоценная музыкальная шкатулка, хранящая старинную казачью песню — песню сердца великого русского живописца.
Солнце, горы, море…
Стоя перед картой, Ольга Васильевна передвигала флажки на булавках, обозначая линию фронта, на котором началось крупное отступление русских войск: немцы теснили русских в Польше.
Сильно похудевшая за этот год, Ольга Васильевна из кругленькой и упитанной превратилась в почти худую. Узкое синее платье с малиновым кантом и большими стеклянными пуговицами подчеркивало ее стройность. На похудевшем лице темные глаза стали больше и горели постоянной тревогой. Военные успехи никогда не вызывали в ней патриотического подъема. Она ненавидела врага, но с такой же силой ненавидела тех, кто под лозунгом «защиты отечества» наживался на этой войне, всех этих Рябушинских, Второвых, Коноваловых, всех тех, кто, зажав в кулаке колоссальные доходы от бессмысленной бойни на границе Польши и Литвы, требовали войны «до победного конца, во славу отечества и православного воинства». Еще бы! Ведь каждая трехдюймовая граната, которую производил владелец машиностроительного завода Михельсон, давала ему полных двенадцать рублей, а контракт с ним был подписан на два миллиона штук!
С детства привыкшая в путешествиях с отцом находиться в гуще народа, сейчас Ольга Васильевна отчетливо понимала и чувствовала, в какую страшную катастрофу ввергает русский народ царская политика. И когда ночью в бессоннице и беспокойстве она подходила к окну и смотрела на темную Садовую, посреди которой стояли занесенные снегом трамваи, остановленные со вчерашнего дня на время забастовки, ока с ожесточенным удовлетворением думала: «Ох и покажет еще вам наш народ!» Ольга Васильевна чувствовала, как нарастают затаенные до поры до временя силы народа. Но душа ее была все время в трудных военных походах, среди взрывов и стонов раненых: «Только бы жив остался! Только бы уцелел!..»
Ольга Васильевна еще раз проверила по газете занятые нашими войсками пункты и прошла в бывшую столовую. Теперь у нее в доме Пигита, на Большой Садовой, жил отец. За последнее время Василий Иванович сильно постарел и потускнел. Он часто хворал, простуживался, и дочери решили, что ему нужен уход и семейная обстановка. Довольно скитаться по гостиницам!
Ольга Васильевна приоткрыла дверь:
— Папочка! Ну как ты? С добрым утром!
Василий Иванович лежал на своей всегдашней узкой железной кровати. Седые волосы, по-прежнему густые, закручивались завитками надо лбом. На стене висели репродукции веласкесовского «Папы Иннокентия X» и «Сикстинской мадонны». Большой обеденный стол был убран, вместо него между окнами стоял суриковский рабочий стол, в углу — мольберт, у стены — сундук, над ним висело большое прямоугольное зеркало.
— Олечка! Здравствуй, душа. Спал сегодня отлично… Выспался. Сейчас буду вставать. Хочется чаю. — Он улыбался ей, радуясь мысли, что она — с ним, и внуки тоже, что он не один, ухожен и окружен вниманием. — Газета есть? Дай-ка посмотреть. А ты пока распорядись с самоваром.
Фронт сильно беспокоил Сурикова. Каждый раз он, с волнением разворачивая газету, сокрушался числу раненых и убитых, подсчитывал, сколько взято в плен. Брату он писал:
«Должно быть, массу пленных ты увидишь в Красноярске. А мне еще в Москве не много удалось увидеть. Случая не было».
Зато раненых Василий Иванович видел множество. Их было полным-полно в госпиталях. Многие барские особняки были отведены под лазареты, кабинеты под палаты для раненых, сами (так и быть) довольствовались помещениями для домочадцев. Раненых перевозили в санитарных фургонах и грузовиках, но самое сильное впечатление производил на Сурикова санитарный трамвай, в котором сидели солдаты, с любопытством глядевшие в окна. Все они, видимо, из дальних захолустий и многие рады-радехоньки несложным ранениям, избавившим их на время от фронта. Поплевывая в окна, они весело переговаривались меж собой. «Этим повезло», — думал Василий Иванович, глядя вслед уходящему трамваю, помеченному вместо номера красным крестом в белом кружке.
Беспокоясь за старшую дочь, он постоянно успокаивал ее:
— Не бойся, Олечка! С Петей ничего не случится — он под счастливой звездой родился! — Василий Иванович был глубоко убежден, что это именно так.
Елена Васильевна теперь поселилась на Новинском бульваре, в комнате с пансионом, и Василий Иванович был доволен, что жил отдельно. Он очень любил Лену и был искренне привязан к ней, но все же уставал от ее постоянных сомнений, нерешенных вопросов и нервозной разговорчивости. Зато внуки доставляли ему радость. Они вносили свежее дыхание в его жизнь, тешили его сердце. Они умели не мешать и не утомлять, когда он их звал, они прибегали к нему со своими радостями и горестями, с классными отметками, но если что-либо раздражало его, они угадывали это по движению бровей и губ и мгновенно исчезали.
Работать Суриков по-прежнему продолжал. Снова была извлечена композиция «Княгини Ольги». Хотелось начать что-то новое. Он начал автопортрет. В большом зеркале он видел себя по пояс и писал себя уже зрелым, седым и в чем-то уверенным. По-прежнему на его казачьей шее твердо сидела голова. Лицо было спокойно, строго, но в глазах вместо прежнего живого блеска и задора была какая-то затаенная тревога и удрученность. Корпусу своему Суриков придал внушительность и даже некоторую монументальность. Портрет этот через сорок лет попал в Русский музей в Ленинграде.
Все было хорошо здесь, на Садовой, если б не единственный и страшный враг Василия Ивановича — пятый этаж. Мученье было зимой, в тяжелой шубе, после прогулки подниматься наверх. Правда, ему приносили стул, он отдыхал на каждой площадке. Но чем выше он поднимался, тем труднее становилось сердцу, и, когда он добирался до верхнего этажа, приходилось сразу ложиться в постель. И гулять-то иной раз не хотелось — тошно думать было о крутой лестнице.
Однако к весне Василий Иванович совсем поправился. Дочери, обсудив дальнейший план действий, решили перевезти отца снова в «Княжий двор», на первый этаж, чтобы он мог почаще выходить на воздух. Василий Иванович невзлюбил новую комнату: она была сырая, и он чувствовал, что легкие его, издавна не переносившие сырости, снова начали тяжелеть. Он старался поменьше бывать дома, часто сидел напротив — в сквере возле храма Христа Спасителя, который когда-то расписывал. Он уезжал в Петровский парк к одному из своих почитателей — критику Якову Тепину. Там можно было сидеть в садике, на чистом воздухе, под солнцем.
На лето Суриков решил ехать в Крым, «подсушить легкие». Хотелось поехать одному — убедиться, что он здоров, что не так уж стар. Ольги в Москве не было, она повезла детей на дачу, и провожала его одна Лена. Василий Иванович был весел, радовался, шутил. В купе с ним оказался какой-то офицер. Лена была очень удивлена, что отец, который всегда так трудно сходился с людьми, на этот раз легко нашел с соседом общий язык, словно всю жизнь был знаком с этим расторопным человечком в военной форме.
Весь жаркий июль пробыл Василий Иванович в Алупке. Жил он на чудной тенистой вилле у каких-то малознакомых людей. Но он был счастлив, чувствовал себя здоровым, писал этюды. Встретив московских друзей, стал бывать у них.
С утра он шел на пляж. Море сверкало, звало к себе, играя волной и полируя мелкие, гладкие камушки. Василий Иванович часами лежал на солнце, пока сердце не начинало стучать часто и надрывно. Тогда он шел в воду, она освежала, бодрила; но, возвращаясь по каменистой тропе домой, он чувствовал теперь такую слабость и изнеможение, что казалось, вот-вот упадет.
Днем он ходил на прогулки в горы, писал этюды, вечером слушал музыку концертной эстрады, встречался с новыми знакомыми, а с утра снова лежал на солнце. Оно подсушивало его легкие, золотило его кожу, но он не замечал, что оно сжигает его мозг и съедает его сердце. Ему нельзя было ни лежать на солнце, ни подниматься в горы, хотя он, спускаясь, летел вниз как на крыльях, радуясь тому, что преодолел высоту. Но какими жертвами! Если б он знал, как износилось его сердце за эти короткие пять недель! Каждая стоила двух лет спокойной, умеренной жизни старого человека, которого он в себе не признавал. И когда поезд из Крыма подошел к платформе Курского вокзала, дочери, приехавшие встречать его, не сразу узнали отца, хотя он держался бодро и весело. Он был худой и темный, но не от здорового загара, а какой-то иссушенный, обгорелый, как дуб, в который попала молния.
И сразу же пошло разрушение.
Сначала Василий Иванович поселился у Оли. Его стал душить кашель. Оля вызвала Максима Петровича, который был уже известным врачом. Макс осмотрел Василия Ивановича и сказал, что положение очень серьезно. Надо было немедля отправлять его в санаторий. Василий Иванович сначала и слушать не хотел, а потом примирился. Выбрали санаторий доктора Соловьева в Сокольниках. Вот что писала об этом в своем дневнике Елена Васильевна:
«Это было четвертого октября. Выдался солнечный, яркий день, какие бывают после проливных дождей. На папе была тяжелая шуба и шапка. Он нес свой желтый саквояж, а я несла его коричневый портплед. Шел он такой расслабленной, медленной походкой и с таким трудом нес полупустой саквояж, что я отняла у него. Только тогда я поняла со всей ясностью, как тяжело он был болен. Мы сели на шестой номер трамвая и поехали в Сокольники. Помню, как мы сидели на скамейке возле самой двери, и никогда не забуду, каким вопрошающим грустным взглядом глядел на меня мой отец, словно хотел узнать — боюсь ли я за него?
Мы доехали до Сокольнического круга и наняли там извозчика. Приехав в санаторий, мы устроили папу и вышли с ним погулять в парк. Под ногами шуршали листья, проходили какие-то девушки, а мы сидели на скамье и даже не разговаривали, до того было тихо, спокойно и лениво. Потом я отвела его в санаторий и уехала. В Сокольниках папа прожил всего две недели — ему стало хуже. Больным полагалось обязательное лежание на открытом воздухе на кушетках с матрасами. Видимо, за папой недоглядели, и он лежал на отсыревшей кушетке. У него сначала заболела нога, а потом начался плеврит».
И вот снова Василий Иванович у Кончаловских. Теперь он уже лежал в комнате внучки, на ее кровати. Было у него воспаление легкого, и дочери ночами дежурили возле него. Когда Василию Ивановичу стало легче, он написал брату ослабевшей рукой:
«3 декабря 1915
Дорогой брат!
Вот уже два месяца лежу в постели. Доктора ходят и нашли расширение аорты. Послали в санаторий, и там меня более простудили, заставляя лежать в конце октября по 2 часа на воздухе. Я бросил и деньги 250 рублей и на автомобиле опять приехал к Оле в квартиру. Вот уже было кровохарканье, прошло, да опять вернулось." Все от сердца (биенышко мамочкино).
Теперь немного получше. Доктора не велели на воздух выходить. Да и высоко с пятого этажа! Думают, что к концу декабря можно будет выходить. Тогда Лена найдет помещение внизу, чтобы не подниматься. Мне это сильно вредило для сердца. Хозяин дома — Пигит умер. Сегодня хоронили.
Его, должно быть, тоже ухайдакали высокие лестницы.
Лена живет теперь в отдельной комнате на Новинском бульваре. Навещает каждый день.
Утомилась она страшно от ухода по ночам за мной. Теперь Оля помогает по ночам. Пиши мне, как-то ты?
Вот она, старость — не радость!
Целую тебя, брат, посылаю всем поклон.
Твой Вася.
Петю Оля все поджидает, да, видно, очередь отпуска не дошла до него».
Василия Ивановича надо было срочно перевозить в более удобные условия. Хорошая большая сухая комната нашлась в гостинице «Дрезден». Окна ее выходили на Тверскую площадь. Справа была пожарная часть, слева дом генерал-губернатора, прямо перед окнами — недавно воздвигнутый памятник генералу Скобелеву — конная статуя с саблей наголо.
Василий Иванович стал поправляться. Гостиница была первоклассная — с лифтом, с ванной и с хорошим столом. Лена все дни проводила возле отца, ходила с ним гулять.
Новый год они встречали вместе с друзьями — Виктор Александрович Никольский с женой Анной Николаевной, коллекционер Лезин с супругой. Был заказан ужин с шампанским.
Василий Иванович медленно возвращался к жизни.
В эти дни весь художественный мир был взбудоражен новой развеской картин в Третьяковской галерее, затеянной Игорем Эммануиловичем Грабарем. Много шума и споров было среди художников и критиков. Суриков знал об их дискуссиях, живо интересовался новой развеской, и 4 февраля 1916 года в газете «Русское слово» появилось открытое письмо:
«Волна всевозможных споров и толков, поднявшаяся вокруг Третьяковской галереи, не может оставить меня безучастным и не высказавшим своего мнения. Я вполне согласен с настоящей развеской картин, которая дает возможность зрителю видеть все картины в надлежащем свете и расстоянии, что достигнуто с большой затратой энергии, труда и высокого вкуса. Раздавшийся лозунг «быть по-старому» не нов и слышался всегда во многих отраслях нашей общественной жизни.
Вкусивший света не захочет тьмы.
В. Суриков».
К весне приехал в отпуск Петр Петрович. Для Василия Ивановича это было большой поддержкой. Они виделись каждый день, и Петр Петрович часто приводил с собой детей. Внуки садились обычно на подоконник и разглядывали памятник Скобелеву и все, что делалось вокруг на Тверской. Мишу больше всего интересовала пожарная часть. Как-то дедушка подробно рассказал ему о выезде пожарных, если где-нибудь горит. Белые кони, по шесть в каждой упряжке, вылетают вскачь из ворот, и на ходу вскакивают на них пожарные в медных касках. И каждый раз Миша ждал:
— Дедушка, а вдруг загорится?
— Ну, тогда тут же раскроются ворота и вылетят кони. Миша сидит и ждет, с тоской поглядывая на заснеженные
московские крыши, но надежды на пожар нет. Василий Иванович, улыбаясь, поглядывает на внука. Миша, вздыхая, слезает с подоконника. Тогда Василий Иванович берется за карандаш и бумагу:
— Ну садись, давай я тебе сейчас все это нарисую. Миша, счастливый, усаживался возле деда.
В конце февраля у Василия Ивановича началось двустороннее воспаление легких. Болезнь сразу приняла угрожающий характер. Были подняты на ноги все лучшие профессора Москвы. Силы Василия Ивановича иссякали с каждым днем, нечем было дышать. Утром б марта в передней у Кончаловских зазвонил телефон. Петр Петрович поднял трубку и услышал Ленин голос, потерянный и рыдающий:
— Немедленно, немедленно приезжайте… Папа зовет…
Пересохшим от волнения голосом Петр Петрович позвал жену. Ольга Васильевна побелела:
— Скорей, скорей, Петечка!..
Она кинулась в переднюю одеваться, для чего-то сунула свои перчатки в карман дочернего пальто, да так и уехала без них.
Я помню, и все помят!
Я с трудом протискивалась сквозь толпу, заполнившую всю площадь перед гостиницей «Дрезден». Яблоку негде было упасть! Мама наказала мне прийти ровно к двенадцати, прямо в церковь Косьмы и Демьяна, что прилепилась в углу за гостиницей. Маме не хотелось, чтобы я присутствовала при тяжелой церемонии выноса тела. И вот я бьюсь, протискиваюсь между людьми, меня не пускают: «Куда ты, девочка? С ума сошла! Тебя же удушат!»
Возле паперти меня увидели знакомые, и через мгновение я уже была рядом с мамой у гроба. Он стоял на возвышении, надо было подняться на ступеньки, чтобы увидеть в этом дубовом гробу, сплошь засыпанном белыми цветами, маленькое дедушкино лицо, которое я в первую минуту не признала. Самое странное было — его гладкие, прилизанные к черепу волосы, это меняло его неузнаваемо. Казалось, это был не он, а хрупкое, недоступное, строго торжественное подобие его. Неужели это он когда-то смеялся до слез, рассказывая сказки, хрустел черемушкой, звал меня «бомбошей»?..
Низкие своды церквушки в озарении тысячи свечей оглашались мощным оперным хором. Голоса гремели, потом замирали, шелестя «господи, помилуй», потом взмывали под купол и опять затихали, волнуя, возвышая и все время напоминая о случившемся.
Мама и Лена, страшно бледные, обе в черном, стояли возле гроба. Только торжественное богослужение держало их в каком-то оцепенении, не давая горю расплескаться. Но плакали многие, куда ни обернешься, плакали, провожая Сурикова в последний путь.
Хор затих, началось прощание. В тишине был слышен треск свечей, сморканье и покашливание. Первой пошла мама, она долго смотрела на отца, потом поцеловала его и пропустила меня. Со стиснутым от страха сердцем я поднялась на носки и увидела близко-близко чужое дедушкино лицо, я дотронулась до его лба губами. Так прикасаешься в детстве к холодному зеркалу, целуя свое отражение. Потом поднялась Лена, она как-то сломалась над гробом, ахнула, но мама крепко сжала ее локоть, Лена молча поцеловала отца и отошла. За ней поднялся папа, неся на руках Мишу, а за ним подходило множество людей, пока наконец не откинули венки с лентами и высоко поднятый на плечи гроб поплыл к выходу между лицами, озаренными трепещущим светом.
Несли гроб художники — Виктор Васнецов, Нестеров, Матвеев, какие-то еще мне неизвестные и мой отец.
Возле паперти ждал белый катафалк с лошадьми, покрытыми белой сеткой с кистями. Цветочный холм на колесах тронулся. Это было величественное зрелище, величественное и печальное.
Я смотрела, как мальчишки (всегдашние дедушкины зрители!) забрались на памятник Скобелеву и, сидя на крупе бронзового коня, глядели на процессию сверху.
Народ провожал Сурикова. Траурное шествие двинулось к памятнику Пушкину. Шли студенты, художники, артисты, дамы в мехах и перьях, господа в дорогих шубах, шли бедно одетые служащие, рабочий люд, солдаты, шли, хлюпая по весенней мартовской грязи ботами, калошами, солдатскими сапогами, дырявыми ботинками. И всю дорогу до самого кладбища студенты пели «Вечную память». За толпой двигались экипажи, сани и фургон с венками.
Многие прохожие, узнав, кого хоронят, приподнимали шапки и, постояв с минуту, вдруг спускались с тротуара и вливались в толпу провожающих.
Я шла вместе с родными.
От Старо-Триумфальных ворот (теперь это площадь Маяковского) процессия свернула налево и темным потоком покатилась по Садовой вниз. Возле дома Пигит катафалк задержался, и импровизированный хор студентов пропел «Со святыми упокой», и снова шествие двинулось в путь до Кудрина, по Пресне — на Ваганьково.
Мы с мамой и Леной сели в какую-то свободную пролетку.
Повалил густыми хлопьями снег. Белый в белесом дневном свете, он отделил нас от толпы, и я сразу потеряла ощущение реальности — едешь неизвестно зачем, неизвестно куда, едешь молча, скованная пустотой внутри. Хлопья снега тают на наших лицах и скатываются по ним холодными слезами. Потом снег кончился.
Я помню яму, куда опускали уже заколоченный гроб… Глубокую ярко-рыжую яму среди белых сугробов, рядом с крестом, на котором написано: «Елизавета Августовна Сурикова».
Помню, как прерывающимся от рыдания голосом Виктор Михайлович Васнецов начал говорить:
— Прощай, дорогой товарищ, дорогой Василий Иванович! Великий, родной русский художник! — Непокрытая голова Виктора Михайловича, голубые глаза, полные слез, седая борода, развевающаяся на мартовском ветру, всем, кто был тогда, запомнились в облике, присущем именно Васнецову. — Спи спокойно последним, вечным сном. Вечная тебе память, вечная тебе слава в роды родов русского народа. Прости!
После него говорил сибирский художник Попов, — хорошо, по-сибирски сурово и крепко. А потом молодой сибиряк студент Заливин читал стихи студента Леонова, и уже в сумерках, среди голых деревьев, памятников и могильных крестов, во влажном весеннем воздухе отчеканивались последние строчки этих неприхотливых, но сердечных стихов:
Тому, кто в творчестве правдивом и свободном страдание вознес на высоту, Охваченные горделивым чувством, Приносим мы, сыны земли родной. Тому, кто дорог нам своим искусством, Поклон земной…И тут старик Васнецов, полный скорби, не выдержал и опустился на колени…
Уже позднее, когда я стала постарше, мама рассказала мне о последних минутах деда. Они стояли втроем возле кровати, с одной стороны — сестры, с другой — Петр Петрович. Василий Иванович лежал высоко на подушках, был спокоен и недвижим, только в горле у него что-то клокотало. Изредка открывал глаза, узнавал кого-нибудь, а потом снова уходил куда-то страшно далеко.
Им казалось, что они стояли часы, а это были минуты. Последние минуты большого, огромного, величайшего русского таланта. Капли холодного пота выступили на лбу умирающего, и Ольга Васильевна, с трудом сдерживаясь, вытирала их своим платком.
Потом он приоткрыл глаза и нашел ими Петра Петровича. Он протянул ему уже холодеющую руку, и, как двадцать три года назад, Петр Петрович взял ее обеими своими. Тихо, но твердо Василий Иванович сказал:
— Я исчезаю.
Человек исчезает, унося с собой в могилу свои горести, радости, надежды. Но бессмертны и никогда не исчезнут великие идеи, слава подвигов и подлинное искусство.
Был дан Сурикову его природой бесценный дар художественного видения. Он вложил его в свои прекрасные, высокие по мастерству русские национальные произведения, которыми вправе гордиться наш советский народ.
Могучий народ — творец величайших свершений.
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Теперь, когда ты прочел эту книгу, мне хочется дополнить твои впечатления необходимыми сведениями о том, как она создавалась.
Многое пришло в книгу из записей моей матери Ольги Васильевны Суриковой, той самой Оленьки, которая трех лет от роду позировала для образа стрелецкой внучки в картине «Утро стрелецкой казни», пока отец рассказывал ей страшную сказку. Если меня спросят, могла ли трехлетняя девочка запомнить сказку, я отвечу за подлинность ее: эту же сказку рассказывал дед нам — внукам. Кое-что я взяла из воспоминаний моего отца Петра Петровича Кончаловского, которого Суриков очень любил и высоко ценил как живописца. Многое развернулось передо мной из рассказов и записей моей тетки Елены Васильевны Суриковой. Широко пользовалась я записями современников Сурикова — поэта Волошина, критика Стасова, искусствоведов Тепина, Никольского, Глаголя, Турунова и Красножёновой. Черты времени черпала я из писем и воспоминаний художников Репина, Чистякова, Грабаря, Нестерова, Минченкова, Бенуа и других. В течение трех лет неизменно работала я в Ленинской библиотеке, перечитывая газеты с 1870 до 1916 года. Это дало мне возможность полностью ощущать современную деду атмосферу.
С чувством искренней благодарности приняла я советы большого исследователя и знатока суриковской живописи — доктора искусствоведческих наук В. С. Кеменова. Во время работы я была теснейшим образом связана с сотрудниками Исторической библиотеки, с научными сотрудниками Русского музея в Ленинграде и Третьяковской галереи в Москве, всегда оказывавшими мне необходимую помощь. В частности, я очень признательна С. Н. Гольдштейн, немало написавшей о творчестве Сурикова.
В Красноярске, на родине деда, я бывала не раз. Изучая окрестности и бродя по его любимым местам, я встречалась с людьми, отцы и деды которых хорошо его знали. В частности, с благодарностью вспоминаю беседы с ныне покойной красноярской художницей К. И. Матвеевой — внучкой Петра Кузнецова, без материальной помощи которого не удалось бы Сурикову окончить Академию. Также была мне предоставлена возможность побывать в Италии и во Франции, где, обращаясь к письмам Сурикова, я могла как бы пройти по его следам и увидеть все то, что его вдохновляло.
Строго придерживаясь подлинности событий, я не ввожу в книгу ни одного вымышленного лица, ни одного придуманного факта. И потому, вкладывая все найденное и изученное мною в художественную форму, я могу назвать мой труд романической былью.
Наталья КончаловскаяПримечания
1
Теперь город Свердловск.
(обратно)2
Ныне улица Кирова.
(обратно)3
Речь идет о картине «Утро стрелецкой казни».
(обратно)4
Зачем это? Я могла бы сама!..
(обратно)5
А где твои малютки? А! Вот они!..
(обратно)6
Копия своего отца!
(обратно)7
«Ласточку».
(обратно)8
Вот он, дворец Дориа Памфили, синьор!
(обратно)9
Так до революции назывались коренные жители Хакасии.
(обратно)10
Дед автора по линии отца.
(обратно)11
В. М. Крутовский после Февральской революции — комиссар Временного правительства по Енисейской губернии. В 1918 году, после чехо-белогвардейского переворота, занял пост министра внутренних дел «Временного Сибирского правительства». Активно поддерживал мероприятия по свержению Советской власти в Сибири. Позднее — отошел от политической деятельности. (Прим. изд.).
(обратно)



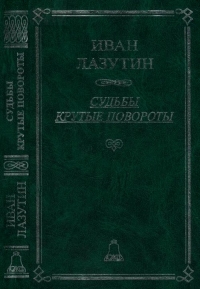

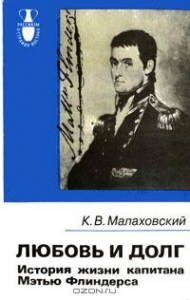
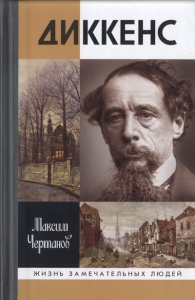
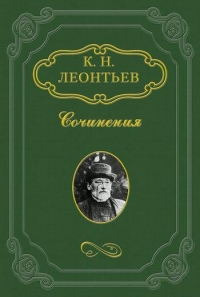
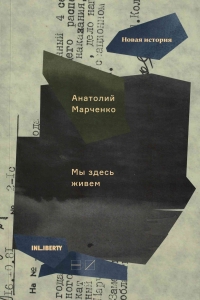
Комментарии к книге «Дар бесценный», Наталья Петровна Кончаловская
Всего 0 комментариев