О русском издании «России в 1839 году»
Настоящее издание является первым полным переводом на русский язык книги маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году». До сих пор книга публиковалась в России только в выдержках или даже пересказах, причем никогда — под авторским заглавием (см.: Россия и русский двор // Русская старина. 1891. № 1–2; 1892. № 1–2. Записки о России французского путешественника маркиза де Кюстина. М., 1910; то же: М., 1990; Маркиз Астольф де Кюстин. Николаевская Россия. Л., 1930; то же: М., 1990; то же (в сокращении: Россия первой половины XIX века глазами иностранцев. Л., 1991). Все эти публикации, исполняя реферативно-ознакомительные функции, не могли, разумеется, дать адекватное представление ни о писательской манере Кюстина, ни о концептуальном объеме его взгляда на Россию.
Публикуемый перевод «России в 1839 году» сделан по тексту второго издания книги (Париж, 1843) которое и получило распространение среди первых русских читателей Кюстина. Перевод сопровожден подробным комментарием (ориентированным на разъяснение культурно-исторических, литературных и политических реалий и контекстов), аналогов которому нет ни в одном издании Кюстина.
Несколько слов издателя о втором издании (1843) (1)[1]
Автор с особенным тщанием выправил это издание; он внес в текст множество исправлений, кое-что выбросил и очень многое добавил, в том числе — несколько весьма любопытных анекдотов; итак, мы не без оснований льстим себя надеждой, что второе, улучшенное издание книги вызовет у публики еще более живой интерес, чем первое, о необычайном успехе которого свидетельствует уже та быстрота, с какой оно было распродано. Не прошло и нескольких месяцев, как у нас не осталось ни единого экземпляра. Благодаря этой нежданной популярности, которой суждено войти в историю книгопечатания, парижскому изданию оказались не страшны такие соперники, как четыре бельгийские контрафакции(3), немецкий перевод(4) и перевод английский(5), вышедший в Лондоне почти одновременно с первым французским изданием; не причинило ущерба и молчание крупнейших французских газет(6). Добавим, что все иностранные издания также полностью распроданы. Новое издание замечательно не только своим текстом, в котором автор в интересах публики произвел значительные перемены, но и исправностью набора вкупе с красотою бумаги; одним словом, оно несравненно выше бельгийских контрафакций; избранный же нами формат(7) сделал книгу дешевле бельгийских. Хотя публика и без того начинает уже разочаровываться в этих неполных, неточных и куцых книжонках, мы считаем своим долгом лишний раз высказать протест против действий их издателей, которые без зазрения совести выставляют на обложке своих подделок наше имя и называют местом издания Париж; не менее предосудительно поступают и те иностранные книгопродавцы, кто, не участвуя впрямую в подобных обманах, поощряют их, торгуя бельгийскими контрафакциями, а не нашими полными и исправными изданиями, отпечатанными в Париже.
Яростные нападки на эту книгу со стороны русских[2] (8), а также нескольких газет, поддерживающих их политику, сделали лишь более очевидными мужество и прямодушие автора: только правда способна вызвать такую вспышку гнева; объедини все путешественники мира свои усилия, дабы представить Францию страной идиотов(9), их сочинения не исторгли бы из уст парижан ничего, кроме веселого смеха; больно ранит лишь тот, кто бьет без промаха. Человек независимого ума, высказывающий свои мысли начистоту, в наш осмотрительный век не мог не поразить читателей; увлекательность темы довершила успех, о котором мы, впрочем, не станем распространяться, ибо здесь не место восхвалять талант литератора, сочинившего «Россию в 1839 году».
Да будет нам позволено кратко ответить лишь на один, самый распространенный упрек — упрек в неблагодарности(10) и нескромности. Автор счел, что он вправе высказать свои мысли без обиняков, ничем не оскорбив приличий, ибо, взирая на Россию лишь глазами путешественника, он не был связан ни долгом чиновника, ни душевными привязанностями, ни светскими привычками. Император принимал его любезно и милостиво, как это и свойственно сему монарху, — но исключительно в присутствии всего двора. Будучи частным лицом, автор вкушал плоды, так сказать, публичного гостеприимства, налагающего на литератора лишь обязательство вести рассказ тоном, подобающим любому хорошо воспитанному человеку; начертанные им портреты августейших особ, принимавших его с высочайшей учтивостью, не содержат ничего, что могло бы унизить их в глазах света; напротив, автор льстит себя надеждой, что возвеличил их в мнении общества. Писательская манера его хорошо известна: он описывает все, что видит, и извлекает из фактов все выводы, какие подсказывают ему разум и даже воображение, ибо он путешествует ради того, чтобы пробудить все способности своей души. Он тем менее почитал себя обязанным менять эту манеру в данном случае, чем более был уверен, что бесстрашная правдивость, которой проникнуто его сочинение, — не что иное, как лесть, лесть, быть может, чересчур тонкая, чтобы быть постигнутой умами заурядными… но внятная умам высшим. Донести до всемогущего властителя обширной империи голоса страждущих подданных, обратиться к нему, можно сказать, как человек к человеку — значит признать его достойным и способным вынести бремя истины без прикрас, иными словами, увидеть в нем полубога, к которому несчастные смертные воссылают мольбы, не выбирая выражений.
Независимость позволила автору пренебречь пустыми предостережениями: он заслужил бы куда более суровые и обоснованные укоризны, если бы, вместо того чтобы извлечь наибольшую пользу из своей безвестности, уступил бы мелочным требованиям моды и стал сочинять бесцветные сказки в лучших традициях любительской дипломатии; бесспорно, именно в этом случае даже завсегдатаи самых умеренных салонов были бы вправе потребовать от него большего мужества и упрекнуть его в отсутствии независимости и искренности — тех достоинств, которые иные критики нынче ставят ему в вину, и мы не сомневаемся, что читатели именно так бы и поступили. Поэтому автор имеет все основания гордиться тем, что повиновался исключительно голосу своей совести и не опасался хулы, которую, в конечном счете, вызывают лишь второстепенные детали, не имеющие решительно никакого касательства к сути книги и убеждениям ее создателя. В самом деле, осмелимся спросить, что сталось бы с историей, если бы ее творцы замолкали из страха быть обвиненными в нескромности. Никогда еще французы так не боялись погрешить против хорошего тона, как ныне, когда у них не осталось ни судей, сведущих в его правилах, ни самих этих правил!(11)
Быть может, уместно будет повторить здесь, что эти путевые заметки сочинялись в два приема: (12) вначале автор, по его собственному признанию, изо дня в день, или, вернее, из ночи в ночь, запечатлевал для себя и своих друзей поразившие его факты и пережитые им ощущения; дневник этот вкупе с размышлениями об увиденном и лег в основу книги. Автор мог бы доказать это, предоставив маловерам, сомневающимся в том, что в столь ограниченный срок он успел увидеть все, о чем пишет, оригиналы своих писем; три года спустя, прежде чем обнародовать эти письма, он тщательно их обработал. Отсюда — причудливая чересполосица непосредственных впечатлений и продуманных выражений, снискавших автору хвалу одних читателей и хулу других. Путешественник не только не сгустил краски и не преувеличил размеры зла, но, напротив, боясь, что ему не поверят, умолчал о множестве достоверных фактов, куда более отвратительных, нежели те, что приведены в его книге. Итак, его изображение русских и их правительства — портрет, схожий с оригиналом, но смягчающий его черты; щепетильность и беспристрастность автора так велики, что он пренебрег всеми историями и анекдотами, слышанными от поляков (13).
В заключение приведем ответ автора заклятым врагам, которых он нажил из-за своей опрометчивой любви к истине: «Если рассказанные мною факты ложны, пусть их опровергнут; если выводы, которые я из них делаю, ошибочны, пусть их исправят: нет ничего проще; но если книга моя правдива, мне, надеюсь, позволительно утешать себя мыслью, что я достиг своей цели, состоявшей в том, чтобы, указав на болезнь, побудить умных людей пуститься на поиски лекарства».[3]
Париж, 15 ноября 1843 года
Предисловие
Каков правитель народа, таковы и служащие при нем; и каков начальствующий над городом, таковы и все, живущие в нем.
Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, 10, 2. (14)Жажда путешествий, которую я ощущал в своей душе от рожденья и начал утолять уже в ранней юности, никогда не была для меня данью моде. Всех нас в той или иной степени мучит желание познать мир, кажущийся нам темницей, ибо мы не выбирали его своим пристанищем, однако я, пожалуй, не смог бы со спокойной душой покинуть этот тесный мирок, не исследовав все его уголки. Чем больше вглядываюсь я в свою тюрьму, тем краше и просторнее становится она в моих глазах. Девиз путешественника — видеть, чтобы знать, — это мой девиз; я не выбирал его, он подсказан мне природой.
Сравнивать образы жизни различных народов, населяющих землю, изучать их манеру мыслить и чувствовать, отыскивать узы, связующие по воле Господа их историю, нравы и облик, одним словом, путешествовать — значит для меня обретать неисчерпаемый запас(15) пищи для любознательности, вечный источник возбуждения для мысли; помешать мне странствовать по свету — все равно, что похитить у книжника ключ от книжного шкафа.
Но, как бы далеко ни заводило меня любопытство, семейственные привязанности возвращают меня домой. Тогда я подвожу итог дорожным впечатлениям и выбираю из своей добычи идеи, которые, как мне представляется, было бы полезно сделать всеобщим достоянием. Пока я ездил по России, душою моей, как всегда, когда я пускаюсь в странствия, владели два чувства: любовь к Франции, заставляющая меня быть суровым в моих суждениях об иностранцах и даже о самих французах, ибо подлинная страсть не ведает снисхождения, и любовь к человечеству. Уравновесить эти два предмета наших земных привязанностей — отечество и род человеческий — вот призвание всякой возвышенной души. Совершить это способна только религия, что до меня, то я отнюдь не могу тешить себя надеждой, что добился этой цели, однако я могу и обязан сказать, что никогда не переставал стремиться к ней изо всех сил, невзирая на капризы моды. Я хранил в своем сердце религиозные идеи, живя среди людей равнодушных, ныне же я не без радостного изумления замечаю, что юные умы нового поколения проявляют немалый интерес к дорогим мне идеям (16).
Я не принадлежу к числу людей, видящих в христианстве священный покров, который разум, беспрестанно совершенствуясь, должен рано или поздно разорвать. Религия пребывает под покровом, однако покров не есть религия; если христианство глаголет символами, то не оттого, что истина темна, но оттого, что она сияет слишком ярко, а глаза человеческие слишком слабы: чем лучше разовьется человеческое зрение, тем дальше проникнут взоры людей, но это не изменит сути дела; во тьме прозябают не предметы, но мы сами. Люди, не исповедующие христианства, живут разъединенно, а если и объединяются, то лишь для того, чтобы образовать политические сообщества, иначе говоря, пойти войной на других людей. Одно лишь христианство способно объединять людей во имя мира и свободы, ибо одному ему ведомо, где искать свободу. Христианство правит и будет править землей тем более успешно, чем более часто будет оно применять свою божественную мораль к человеческим деяниям. Прежде христианский мир более занимала мистическая, нежели политическая сторона религии: теперь для христианства наступает новая эра; быть может, потомки наши увидят Евангелие в основании общественного порядка. Но святотатством было бы почитать подобное положение дел единственной целью небесного законодателя; это — всего лишь средство… Сверхъестественный свет может воссиять человечеству лишь после того, как души воссоединятся вне и сверх всех земных правлений: духовное общество, общество без границ — вот надежда мира, вот его будущее. Иные утверждают, что цель эта непременно будет достигнута и без помощи нашей религии, что христианство, покоящееся на таком гнилом фундаменте, как первородный грех, обветшало и что для исполнения своего истинного, до сего дня еще никем не понятого предназначения человек должен повиноваться одним лишь законам природы.(17)
Первостатейные честолюбцы, с помощью своего вечно юного красноречия вливающие новую жизнь в эти старые доктрины, вынуждены, дабы их не упрекали в непоследовательности, добавлять, что добро и зло — не что иное, как порождения человеческого ума, и человек, сам создавший эти призраки, волен сам же их и уничтожить.
Якобы новые доказательства, какими они подкрепляют свои теории, не удовлетворяют меня; но, будь они даже неопровержимы, что изменило бы это в моей душе?.. Низвергнут ли человек во прах грехом или же пребывает там, куда покорной Господу природе угодно было его поместить, он — не кто иной, как солдат, завербованный помимо его воли с самого рождения и увольняемый в отставку лишь по смерти; впрочем, и тогда набожный христианин лишь меняет одни узы на другие. Вечный закон человеческой жизни, заповеданный Богом, — труд и борьба; трусость кажется человеку самоубийственной, сомнения для него — пытка, победа — надежда, вера — отдых, а повиновение — слава.
Таков человек всех времен и всех стран, но прежде всего таков человек, вскормленный религией Иисуса Христа.
Вы утверждаете, что добро и зло — выдумки самого человека? Но если природа диктует человеку столь навязчивые принципы, как спасется он от самого себя? и как избавится от этой коварной способности выдумывать, если угодно — лгать, — способности, не покидающей его, помимо его и вашей воли, от сотворения мира?
До тех пор, пока вы не замените тревоги моей совести покоем вашей, вы ничем не сумеете мне помочь… Покой!.. Нет, как вы ни дерзки, вы не посмеете утверждать, что он вам ведом!!! И все же… заметьте себе, покой — это право, это долг создания, наделенного разумом, ибо, утратив покой, оно опускается ниже животного, однако вот в чем загадка! загадка, неразрешимая ни для кого — ни для вас, ни для меня: нам никогда не достигнуть покоя своими силами, ибо, что ни говорите, всей природы недостанет для того, чтобы даровать покой одной-единственной душе. (18)
Поэтому, вынуди даже вы меня согласиться с вашими рискованными утверждениями, вы лишь доставили бы мне новые доказательства того факта, что нам потребен лекарь. Искупитель, умеющий врачевать душу человека — этого развращенного создания, постоянно и неизбежно порождающего призраки, постоянно и неизбежно увязающего в борениях и противоречиях и по природе своей бегущего покоя, без которого оно, однако, не может обойтись, создания, во имя мира разжигающего войну, сеющего кругом. иллюзии, хаос и горе. А если нужда в Искупителе не подлежит сомнению, то вы простите мне, если я обращусь за искуплением не к вам, а к Иисусу Христу!!! Вот в чем корень зла! Уму нужно смирить гордыню, разуму признать свое несовершенство. Когда иссякает источник рассуждений, начинают бить ключом чувства; стоит душе признать свою беспомощность, как она становится всемогущей; она не повелевает, но молит — и, преклонив колени, человек близится к цели.
Но если все поникнет, если все будет влачиться во прахе, кто на земле останется стоять гордо и прямо? кто будет повелевать бренным миром?.. Церковь и ее первосвященник…
Если из лона этой Церкви, дщери Христа и матери христианства, вышли отступники, виной тому ее жрецы — ибо и они тоже люди. Но Церковь вновь обретет единство, ибо люди эти, как бы незначительны они ни были, тем не менее являются прямыми наследниками апостолов; из века в век их рукополагали в священники епископы, на которых также из века в век, начиная со Святого Петра и Иисуса Христа, нисходил Святой дух, а с ним — авторитет, необходимый для того, чтобы сообщать благодать возрожденному миру. Вообразите — ведь Господь всемогущ, не так ли?.. — вообразите, что род человеческий всерьез пожелает возвратиться к христианству: неужели он станет искать веру в книгах? Нет, он отыщет людей, которые растолкуют ему смысл этих книг. Итак, авторитет необходим всегда: в нем нуждаются даже проповедники независимости, а из двух авторитетов тот, что избран по произволу, не стоит того, за которым стоит одобрение восемнадцати столетий. Верите ли вы, что российскому императору роль земного главы Церкви подобает более, нежели римскому прелату? Русские обязаны верить в это, но верят ли они на самом деле? И верите ли вы, что они в это верят? А ведь именно эту религиозную истину проповедуют они ныне полякам! Но вы желаете быть последовательными и упрямо отрицаете всякий авторитет, кроме авторитета индивидуального разума? Вы рветесь в бой оттого, что разум питает гордыню, а гордыня сеет раздор. О, христиане не постигают, какого сокровища добровольно лишили они себя в тот день, когда вообразили, что Церкви могут быть национальными!.. Стань все церкви мира национальными, иначе говоря, протестантскими или православными, сегодня у нас не было бы христианства: его место занимали бы богословские системы, подчиненные политике, которая изменяла бы их по своей прихоти, в зависимости от обстоятельств и местных нравов.(19)
Повторюсь: я христианин потому, что судьбы человеческие свершаются не на земле; я католик потому, что вне католической церкви христианство извращается и гибнет.
Сотворив великое зло, нарушив единство, протестанты, сами того не ведая, сотворили великое благо: они преобразовали покинутую ими Церковь. Церковь эта за время, прошедшее после эпохи Лютера и Кальвина, сделалась такой, какой ей подобало быть всегда: более евангелической, нежели политической. Но и протестанты обязаны ей бесценным благом — жизнью: ведь протестантизм, чья сущность — отрицание(20), уже давно зачах бы, не будь у него необходимости бороться против религии положительной. Именно бессмертие римской Церкви стало залогом долговечности тех сект, что вышли из ее лона. Я объехал большую часть цивилизованного мира и во время этих странствий всеми силами старался познать тайные пружины, движущие жизнью империй; я вел наблюдения с великим тщанием, и вот какое мнение составил я о грядущих судьбах мира.
С точки зрения человеческой, впереди у нас — всеобщая разобщенность умов, проистекающая из презрения к единственному законному авторитету в области веры, иначе говоря, уничтожение христианства не как нравственной и философской доктрины, но как религии… — одного этого достаточно для подкрепления моей мысли. С точки зрения сверхъестественной, впереди у нас триумф христианства в результате слияния всех церквей в единую мать-церковь, в церковь поколебленную, но нерушимую, чьи врата с каждым столетием раскрываются все шире, дабы все покинувшие ее могли возвратиться назад. Мир должен стать либо языческим, либо католическим: его религией должно сделаться либо более или менее утонченное язычество, имеющее храмом природу, жрецами ощущения, а кумиром разум, либо католичество, проповедуемое священниками, среди которых хотя бы горстка честно соблюдает завет учителя: «Царство мое не от мира сего» (21).
Вот дилемма, которая вечно будет стоять перед человеческим умом. Все остальное — либо обман, либо иллюзии.
Я знаю это с тех пор, как начал мыслить; впрочем, идеи моего века были так далеки от моих собственных, что мне недоставало не столько веры, сколько отваги; одиночество вселяло в мою душу мучительное ощущение беспомощности; тем не менее я всеми силами пытался отстоять мою веру. Сегодня же, когда вера эта распространилась среди части христианского мира, сегодня, когда мир волнуют именно те великие цели, что всегда заставляли учащенно биться мое сердце, наконец, сегодня, когда ближайшее будущее Европы зависит от решения вопроса, над которым неустанно бился такой темный человек, как я, — сегодня я понимаю, что мне есть место в этом мире, я ощущаю поддержку если не в моем отечестве, все еще зараженном философией разрушения, узкой, отсталой философией, которая отдаляет добрую половину современной Франции от великой битвы за человечество, то по крайней мере в христианской Европе. Именно эта поддержка помогла мне более четко изъяснить мои идеи в этом сочинении и сделать из них окончательные выводы.
Главенство римского первосвященника, ведающего правами и декреталиями церкви, — залог постоянства веры; вот отчего викарий Иисуса Христа останется земным правителем до тех пор, пока христиане не найдут иного способа обеспечить ему независимость. Ему надлежит принимать почести, не злоупотребляя ими; служителю церкви, пережившей столько бедствий, не следует забывать об этом христианском долге. Слабая и ничуть не воинственная власть, которую уступила политика наместнику Бога на земле, является сегодня для этого прелата, стоящего выше всех прочих священников, лишь средством показать миру единственный в своем роде пример апостольских добродетелей на троне; свершить этот сверхъестественный подвиг поможет ему сознание собственного величия. Он знает, что нужен церкви, а церковь нужна для осуществления Господних видов на род человеческий; этого убеждения довольно, чтобы возвысить обычного человека над всем человечеством.
Повсюду, где мне случалось быть, от Марокко до границ Сибири, я прозревал искры грядущих религиозных войн; войн, которые, надо надеяться, будут вестись не посредством оружия (такие войны, как правило, ничего не решают), но посредством идей… Лишь одному Богу ведомы тайные причины событий, но всякий человек, умеющий наблюдать и размышлять, может угадать некоторые из вопросов, ответ на которые даст грядущее: все эти вопросы связаны с религией. Отныне политическое влияние Франции будет зависеть от того, сколь могущественна будет она как держава католическая. Чем дальше отходят от нее революционные умы, тем ближе подходят к ней католические сердца. Сила вещей в этой сфере так подчиняет себе людей, что король, известный своей терпимостью, и министр-протестант(22) прославились во всем мире как самые ревностные защитники католической религии исключительно по той причине, что принадлежат к французской нации.[4]
Таковы были постоянные предметы моих размышлений и попечений во время долгого паломничества, которому посвящена эта книга; рассказ мой разнообразен, как скитальческая жизнь странника, но чаще однообразен, как северная природа, печален, как деспотическая власть, и неизменно исполнен любви к отечеству, а равно и чувствований более общего характера. Как, однако, часто подвергаются сомнению эти идеи, волнующие ныне мир, многие годы прозябавший во власти цивилизации чересчур материальной. Признать божественность Иисуса Христа — это, разумеется, немало; большинство протестантов не способны и на это; однако это еще не значит приобщиться к христианству. Разве язычники не хотели возводить храмы в честь того, кто пришел в мир, дабы разрушить их храмы?.. Разве предлагая апостолам включить Иисуса Христа в число богов, язычники становились христианами? Христианин — прихожанин церкви Иисуса Христа, а это — церковь единая и единственная; ее возглавляет земной владыка, и ей есть дело не только до деяний каждого человека, но и до его веры, ибо власть ее — власть духа. Церковь эта оплакивает странное заблуждение наших дней, когда за христианскую терпимость принимают философическое равнодушие. Превратить терпимость в догму и заменить этой человеческой догмой догматы божественные — значит под предлогом усовершенствования обречь ее на гибель. С точки зрения католической церкви, быть терпимым — не значит предавать свои убеждения; это значит протестовать против насилия и приносить в дар вечной истине молитвы, терпение, любовь и веру; такова ли, однако, современная терпимость?! Равнодушие как принцип, лежащий уже более столетия в основании нового богословия, меркнет в глазах истинных христиан тем стремительнее, чем больший урон наносит оно вере; истинная терпимость, терпимость, ограниченная пределами благочестия, — не обыденное состояние души, но лекарство, каким милосердная религия и мудрая политика врачуют болезни духа. А что означает недавнее изобретение — неокатолицизм? Став новым, католицизм тотчас прекратит свое существование. Конечно, может найтись и находится немало умов, которые, устав плыть по воле всевозможных теорий, укрываются от бурь, рожденных идеями нашего века, под сенью алтаря; этих новообращенных можно назвать неокатоликами, но, говоря о неокатолицизме, мы неизбежно признаемся в непонимании самой сущности религии, ибо в слове этом заложено противоречие.
Нет ничего менее двусмысленного, чем наша вера; она — не философская система, от которой каждый может взять, что хочет, а остальное — отбросить. Человек либо становится католиком, либо не становится им; нельзя сделаться католиком наполовину или на новый лад. Неокатолицизм,(23) скорее всего — не что иное, как секта, которая до поры до времени скрывается под маскарадным платьем, но вскоре отринет заблуждения, дабы возвратиться в лоно церкви; в противном случае церковь осудит его, ибо она гораздо более озабочена сохранением чистоты веры, нежели показным увеличением сомнительного числа своих ненадежных чад. Когда человечество уверует воистину, оно примет христианство таким, каким оно пребыло от века. Главное, чтобы это священное сокровище не оскверняли никакие примеси. Впрочем, католическая Церковь способна меняться в том, что касается нравов и образа жизни духовенства, и даже в некоторых положениях своей доктрины, не связанных с основаниями веры; да что там говорить? ее история, ее жизнь — не что иное, как постоянные изменения, но эти законные и непрерывные изменения непременно должны быть освящены церковным авторитетом и отвечать каноническому праву.(24) Чем более я странствовал по миру, чем более видел различных наций и государств, тем более убеждался в том, что истина неизменна: в варварские эпохи варвары отстаивали ее варварскими средствами; в будущем ее станут защищать средствами более гуманными, но ни сверкание заблуждений, ослепляющее ее врагов, ни преступления ее поборников не способны запятнать ее чистый покров.
Я желал бы послать в Россию всех христиан, не принадлежащих к католической церкви, дабы они увидели, во что превращается наша религия, когда ее проповедует национальное духовенство в национальном храме.
Униженное состояние духовенства в обширной стране, где Церковь всецело подчинена государству, заставило бы ужаснуться самого ярого протестанта. Национальная церковь, национальное духовенство — этим словосочетаниям не место в языке; церковь по сути своей выше любого человеческого сообщества; покинуть вселенскую церковь ради некоей политической церкви — значит не просто заблуждаться, но отринуть веру, уничтожить самое ее основание, пасть с неба на землю.
Меж тем сколько порядочных, превосходных людей в эпоху рождения протестантизма мечтали с помощью новых доктрин очистить свою веру — увы, на деле они лишь ограничили ее пределы!.. С тех пор равнодушие, прославленное под прекрасным именем терпимости, неустанно увлекало людей на ложный путь…
Если сегодня Россия — одно из любопытнейших государств в мире, то причина тому в соединении крайнего варварства, усугубляемого порабощенным состоянием Церкви, и утонченной цивилизованности, заимствованной эклектическим правительством у чужеземных держав. Чтобы узнать, каким образом из столкновения столь разных стихий может родиться покой или неподвижность, надобно последовать за путешественником в самое сердце этой диковинной страны.
Способ, который я употребляю для изображения местностей и описания характеров, кажется мне если не самым удачным для писателя, то по крайней мере самым удобным для читателя, которого я веду за собой, позволяя ему самостоятельно судить о ходе моих мыслей.
Я приезжаю в неведомую мне страну, свободный от всякой предвзятости, кроме той, от которой не в силах освободиться ни один человек: той, которую прививает нам добросовестное изучение истории. Я исследую предметы, наблюдаю за людьми и событиями, с чистой душой отдаваясь ежедневным впечатлениям, которые неминуемо изменяют мои взгляды. Я не обременен политическими идеями, которые, имея надо мной исключительную власть, могли бы помешать этому стихийному превращению; неизменна в моей душе лишь религиозная вера, да и ее читатель может не разделять: это никак не помешает ему отнестись к моему рассказу о событиях и вытекающих из них нравственных итогах без того осуждения, какое я вызываю — и тем горжусь! — у безбожников. Меня можно обвинить в том, что я страдаю предрассудками, но никто никогда не сможет упрекнуть меня в том, что я сознательно исказил истину.
Я описываю увиденное по свежим следам; я пересказываю услышанное в течение дня вечером этого же дня. Поэтому записи бесед с императором, воспроизведенных в моих письмах слово в слово, обладают по крайней мере одним неоспоримым достоинством — они точны. Надеюсь, они помогут публике лучше узнать этого монарха, о кагором и в нашей стране, и повсюду в Европе высказываются самые различные суждения.
Не все письма, предлагаемые здесь вниманию читателей, предназначались для публики; в начале книги много очень личных признаний; устав писать — но не путешествовать, — я намеревался на этот раз наблюдать новые для меня нравы без всякой системы и посвящать в свои наблюдения только ближайших друзей; из дальнейшего изложения станет ясно, какие причины заставили меня изменить решение. Главная из этих причин состоит в том, что знакомство с совершенно неизвестным мне обществом ежедневно изменяло мои убеждения. Я счел, что, сказав правду о России, совершу поступок необычный и отважный: прежде страх или корысть внушали путешественникам лишь преувеличенные похвалы; ненависть вдохновляла на клевету; мне не грозит ни та, ни другая опасность. (25) Я ехал в Россию, дабы отыскать там доводы против представительного правления, я возвращаюсь сторонником конституций. При смешанном правлении нации не так деятельны, но под старость им нет особой нужды в героических деяниях; смешанное правление более всего благоприятствует расцвету промышленности, обеспечивает людям наибольший уют и достаток; оно вдохновляет человеческий ум на открытия в сфере практической, наконец, оно дарует человеку независимость по закону, а не по доброте душевной; бесспорно, все это — немалая награда за немалые неудобства.(26) Чем ближе узнавал я страшное и удивительное государство, узаконенное, чтобы не сказать: основанное, Петром I, тем яснее понимал миссию, возложенную на меня случаем.
Чрезвычайное любопытство, которое вызывал мой труд у русских, явственно встревоженных сдержанностью моих речей, уверило меня в том, что я способен свершить больше, чем думал; я сделался внимателен и осторожен, ибо очень скоро постиг, сколько опасностей навлекла бы на меня искренность. Не осмеливаясь отправлять письма по почте, я хранил эти подозрительные бумаги при себе, пряча их как можно более тщательно, вследствие чего возвратился во Францию с готовой книгой.(27) Тем не менее целых три года я не отваживался обнародовать ее(28) все это время я прислушивался к голосу собственной совести, пытаясь сделать выбор между правдивостью и признательностью!!! В конце концов я выбрал первую из них, заботясь, как мне казалось, об интересах моего отечества. Я никогда не забываю, что пишу прежде всего для Франции, и почитаю своим долгом сообщать ей сведения важные и полезные.
Я думаю, что вправе судить, и судить со всей строгостью, какой потребует моя совесть, страну, где я оставил друзей; вправе исследовать, не допуская оскорбительных выпадов против личностей, характеры государственных мужей; вправе приводить слова политиков, начиная с главы государства, рассказывать об их деяниях и делиться всеми выводами, к которым я пришел, размышляя об увиденном, — лишь бы я сохранял то, что именуется писательской честностью, и, повинуясь прихотливой игре моего ума, не выдавал собственного мнения за мнение большинства.
Но, исполняя свой долг, я, надеюсь, не нарушил никаких условленных приличий, а тот, кто уважает приличия, имеет — я в этом уверен — право высказывать самые жестокие истины; главное здесь — говорить лишь то, в чем ты убежден, не идя на поводу у собственного тщеславия.
Вдобавок, поскольку многое в России восхищало меня, я не мог не выразить в своей книге и этого восхищения. Русские останутся мною недовольны — но кому под силу удовлетворить запросы честолюбия? Между тем никто более меня не был потрясен величием их нации и ее политической значительностью. Мысли о высоком предназначении этого народа, последним явившегося на старом театре мира, не оставляли меня на протяжении всего моего пребывания в России. В массе своей русские показались мне грандиозными даже в отвратительнейших пороках, поодиночке они держались со мной любезно; характер русского народа, по моему убеждению, достоин интереса и сочувствия; на первый взгляд, эти лестные утверждения вполне способны вознаградить за наблюдения куда менее восторженные. Но большинство моих предшественников обходились с русскими как с балованными детьми. Дух их правления, решительно чуждый моим убеждениям и привычкам, а также очевидные противоречия, раздирающие сегодня их общество, исторгли из моих уст упреки и даже возгласы негодования; что ж! тем больше весу приобретают мои похвалы, в той же степени безотчетные. Но эти жители Востока настолько привыкли курить и вдыхать фимиам, настолько привыкли верить льстивым речам, какими они тешат друг друга, что обратят внимание лишь на хулу. Всякое неодобрение кажется им предательством; всякую жестокую истину они именуют ложью; они не разглядят в моих — по видимости критических — наблюдениях робкое восхищение, в моих строгих замечаниях — жалость и даже симпатию.
Русские не обратили меня в свои веры (а вер этих у них несколько, и политическая — не самая нетерпимая из всех); напротив, они заставили меня по-новому взглянуть на монархическую идею и предпочесть деспотизму представительное правление; уже один этот выбор оскорбит их. Я весьма сожалею об этом, но предпочитаю сожаление раскаянию. Не смирись я заранее с несправедливостью их суждений, я не стал бы публиковать эти письма. Вдобавок, на словах русские могут жаловаться сколько угодно, в глубине души они меня простят — этого сознания мне довольно. Всякий русский, если он порядочный человек, подтвердит, что если я, по недостатку времени, и допустил ошибки в деталях, в целом я изобразил Россию такой, как она есть. Они учтут все трудности, с какими я столкнулся, и признают, что я верно и скоро сумел разглядеть под политической маской, вот уже столько веков искажающей исконный характер русской нации, ее превосходные задатки.
События, происходившие на моих глазах, описаны в моей книге пером очевидца; те, о которых я знаю с чужих слов, изложены так, как были мне пересказаны; я не стал обманывать читателя, приписывая себе впечатления других людей. Я постарался не только не называть имен своих собеседников, но даже не намекать на их положение в обществе и происхождение; надеюсь, что скромность моя будет оценена по заслугам; она лишний раз доказывает, что просвещенные умы, разъяснявшие мне суть некоторых происшествий, коих я не мог быть свидетелем, заслуживают всяческого доверия. Нет нужды добавлять, что я приводил лишь те рассказы, какие слышал от людей, чей характер и звание суть ручательство достоверности описанных фактов. Благодаря моей щепетильности читатель сам сможет судить о том, насколько правдоподобны эти второстепенные сведения, занимающие, впрочем, в моем повествовании очень мало места.
ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Прибытие в Эмс цесаревича. — Отличительные черты русских царедворцев. — Их поведение в присутствии повелителя и в его отсутствие. — Портрет цесаревича. — Его облик, его болезненный вид. — Портреты его отца и дяди в его возрасте. — Кареты цесаревича. — Неряшливый выезд. — Скверно одетые слуги. — Превосходство англичан в вещах материальных. — Закат над Рейном. — Река, затмевающая красотой свои берега. — Невыносимая жара.
Эмс, 5 июня 1839 года (29)
Вчера я начал свое путешествие в Россию: наследник российского престола прибыл в Эмс, предшествуемый десятью — двенадцатью экипажами и сопровождаемый толпой придворных.
Увидев русских царедворцев при исполнении обязанностей, я тотчас поразился необычайной покорности, с какой они исполняют свою роль; они — своего рода сановные рабы. Но стоит монарху удалиться, как к ним возвращаются непринужденность жестов, уверенность манер, развязность тона, неприятно контрастирующие с полным самоотречением, какое они выказывали мгновение назад; одним словом, в поведении всей свиты цесаревича, как господ, так и слуг, видны привычки челяди. Здесь властвует не просто придворный этикет, подразумевающий соблюдение условленных приличий, уважение более к званиям, нежели к лицам, наконец, привычное распределение ролей — все то, что рождает скуку, а иной раз и навлекает насмешку; нет, здесь господствует бескорыстное и безотчетное раболепство, не исключающее гордыни; мне казалось, что я слышу, как, бунтуя в душе против своего положения, эти русские придворные говорят себе: «За неимением лучшего возьмем, что дают». Эта смесь надменности с низостью не понравилась мне и не внушила особенного расположения к стране, которую я собрался посетить.
Мне случилось оказаться в толпе зевак, наблюдавших за тем, как цесаревич выходит из экипажа; он остановился у дверей купальни и долго беседовал с русской дамой, графиней ***, что позволило мне как следует рассмотреть его. Ему двадцать семь лет, и выглядит он не старше и не моложе; он высокого роста, но, на мой вкус, полноват для своего возраста; лицо его было бы красиво, если бы не некоторая одутловатость, размывающая его черты и придающая ему сходство с немцем; вероятно, так же выглядел в этом возрасте император Александр; впрочем, наследник ничуть не похож на калмыка.(30) Лицу его предстоит претерпеть еще немало изменений, прежде чем оно обретет свой окончательный вид; нынче оно, как правило, выражает доброту и благожелательность, однако контраст между смеющимися молодыми глазами и постоянно поджатыми губами выдает недостаток искренности(31), а может быть, и какую-то тщательно скрываемую боль. Печали юности — эпохи, когда человек имеет все права на счастье, — суть тайна, хранимая тем более тщательно, что ее не умеет разгадать и сам страдалец. Взгляд юного принца исполнен доброты; походка изящна, легка, благородна; он выглядит так, как и должен выглядеть монарх; держится он скромно, но без робости, и это приятно; принужденность великих мира сего так тягостна для окружающих, что их естественность кажется нам самой любезностью, да, впрочем, и является таковой. Воображая себя священными идолами, властители только и думают, что о мнении, которое имеют о себе они сами и которое отчаиваются внушить окружающим. Великому князю эти глупые тревоги не знакомы; он держится прежде всего как человек прекрасно воспитанный; вступив на престол, он будет повелевать не с помощью страха, но с помощью обаяния, если, конечно, титул российского императора не изменит его характер.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ПИСЬМА
6 июня, вечер
Я еще раз видел наследника и долго рассматривал его с очень близкого расстояния; он расстался с мундиром, который ему тесен и не красит его; штатское платье, на мой вкус, ему больше к лицу; у него приятные манеры и благородная походка, в которой нет ничего солдафонского; вообще его отличает то особое изящество, что присуще славянским народам. Это не страстная живость обитателей южных стран и не бесстрастная холодность жителей Севера, но смесь южной простоты и легкости со скандинавской меланхоличностью. Славяне — суть белокурые арабы; цесаревич больше чем наполовину немец,(32) но в Мекленбурге, равно как и в некоторых областях Голштинии и России, живут немцы славянского происхождения. Лицо наследника, несмотря на его молодость, не так привлекательно, как фигура; он бледен и выглядит больным;[5] полуприкрытые грустные глаза выдают заботы, присущие обычно людям более преклонных лет; изящно очерченный рот свидетельствует, пожалуй, о кротости нрава; греческий профиль напоминает античные медали или портреты императрицы Екатерины, однако, несмотря на добродушный вид, какой почти всегда сообщают красота, молодость и немецкая кровь, во всех чертах великого князя заметна скрытность, пугающая в столь юном существе. Эта его особенность знаменательна; она утверждает меня в мысли, что этот принц призван стать императором. Голос его мелодичен, что в его роду большая редкость; говорят, этим он пошел в мать. Он блистает среди своего окружения, на первый взгляд не отличаясь от сверстников ничем, кроме чрезвычайного изящества. Меж тем изящество есть верный признак тонкого ума: в походке, выражении лица, манерах человека всегда выражается его душа!.. Великий князь держится разом и величественно и любезно. Русские путешественники много говорили мне о его исключительной красоте; не распиши они ее в столь ярких красках, она поразила бы меня сильнее; к тому же я хорошо помню романический, ангельский вид, каким потрясли Париж в 1815 году отец цесаревича и его дядя, великий князь Михаил, прозванные во французской столице северным сиянием;(33) я сужу строго оттого, что испытал разочарование. Но даже и таков, каков он есть, наследник российского престола кажется мне одним из самых красивых государей, каких мне доводилось видеть. Поразила меня убогость его экипажа, беспорядок в его багаже и неряшливость сопровождавших его слуг. Когда, глядя на этот царский выезд, вспоминаешь великолепную простоту английских карет и исключительную аккуратность английских слуг, не оставляющих без внимания ни единой мелочи, понимаешь, что, дабы достичь материального совершенства, каким в наш положительный век блистает Англия, недостаточно заказывать кареты у английских мастеров. Вчера я видел закат на берегу Рейна; это величественное зрелище. В здешнем чересчур прославленном краю самыми красивыми кажутся мне отнюдь не берега с их однообразными руинами и бесплодными виноградниками, которых здесь, на мой вкус, слишком много; мне случалось видеть берега более красивые, более разнообразные, более веселые, случалось любоваться более густыми лесами и более живописными склонами, но что кажется мне истинным чудом, особенно вблизи, так это сама река. Ее бескрайняя водная гладь, неуловимо скользящая вдоль берегов, которые она освещает и оживляет своим блеском, потрясает мой ум, ибо здесь творение выдает изумительную мощь творца. Когда я смотрю на течение этой реки, я напоминаю себе врача, щупающего пульс человеку, дабы узнать, силен ли он: реки — артерии нашей планеты, и я исполняюсь восхищения при виде бьющейся в них могучей всемирной жизни; я чувствую рядом с собой своего повелителя, я вижу вечность, верую в бесконечность, дотрагиваюсь до нее рукой; в этом зрелище скрыта какая-то величественная тайна, между тем если я чего-то не понимаю в природе, это лишь умножает мой восторг; невежество мое укрывается под сенью обожания. Вот отчего я не испытываю такой тяги к науке, какая присуща людям, всем недовольным.
Мы поистине умираем от жажды: вот уже много лет в душной Эмской долине солнце не палило так нещадно; прошлой ночью, возвращаясь с берега Рейна, я видел в лесах целые стаи светящихся мошек; это мои любимые итальянские luccioli; я всегда полагал, что они водятся лишь в южных странах.
Через два дня я уезжаю в Берлин, а оттуда в Петербург.(34)
ПИСЬМО ВТОРОЕ
Успехи материальной цивилизации в Германии. — Прусский протестантизм. — Музыка как средство обучения крестьян. — Поклонение искусству приуготовляет душу к поклонению Богу. — Пруссия под властью России. — Связь между немецким характером вообще и характером Лютера. — Французский посол в Пруссии. — Письма моего отца, хранящиеся в архиве французского посольства в Берлине. — Мой отец в 1792 году, в двадцать два года, получает назначение французским посланником при брауншвейгском и прусском дворах. — Господин де Сегюр. — Удар ножом. — Нескромность императрицы Екатерины. — Неизвестный анекдот, касающийся Пильницкой декларации. — Мой отец заменяет господина де Сегюра. — Его успехи при прусском дворе. — Отца уговаривают изменить Франции. — Он возвращается на родину, несмотря на подстерегающие его там опасности. — В качестве добровольца он. участвует в двух кампаниях под командой своего отца. — Письма господина де Ноая, в ту пору французского посла в Вене. — Моя мать. — Ее поведение во время суда над генералом Костимом, ее свекром. — Она присутствует рядом с ним на всех заседаниях. — Опасность, которой она при этом подвергается. — Лестница Дворца правосудия. — Каким образом моей матери удается избежать смерти. — Две матери. — Смерть генерала. — Его благочестивое мужество. — Камеру моего деда в Консьержери занимает королева. — Воспоминания о Версале у подножия эшафота. — Мой отец печатает речь в защиту генерала де Костина. — Его арестовывают. — Матушка пытается помочь ему бежать из тюрьмы. — Самоотверженность дочери консьержа. — Героизм пленника. — Газета. — Трагическая сцена в тюрьме. — Мой отец — жертва собственного человеколюбия. — Последнее свидание в Консьержери. — Странное происшествие. — Первые впечатления моего детства. — С гувернером моего отца, прочитавшим в газете о смерти его воспитанника, случается апоплексический удар.
Берлин, 23 июня 1839 года (35)
Как это ни стыдно для человечества, следует признать: существует блаженство сугубо материальное — то, которым наслаждаются нынче жители Германии и в особенности — Пруссии. Благодаря содержащимся в отличном состоянии дорогам, продуманной таможенной системе, превосходному управлению эта страна, колыбель протестантизма, сегодня опережает нас в том, что касается материальной цивилизации; здесь царит некая чувственная религия, сделавшая своим Богом — человечество. Мы имеем все основания утверждать, что нынешние правительства покровительствуют этому утонченному материализму, последнему отзвуку религиозной реформации XVI столетия. Заботясь об одном лишь земном блаженстве, они, кажется, видят свою единственную цель в том, чтобы доказать миру: нация может быть счастлива и не помышляя о Боге. Такие правители — старцы, которым довольно того, что они живы.
Тем не менее пруссаки имеют все основания гордиться мудрой и экономной политикой своего государства. В их сельских школах обучение ведется продуманно и под строгим наблюдением. Во всех деревнях музыка служит средством воспитания народа и одновременно источником развлечения: в каждой церкви есть орган, в каждом приходе — школьный учитель, знающий нотную грамоту. В воскресенье он учит крестьян пению, аккомпанируя им на органе; благодаря этому жителям самых отдаленных уголков знакомы шедевры итальянской и немецкой старинной музыки. Строгие эти песнопения рассчитаны не больше чем на четыре голоса: в какой деревне не найдется одного баса, одного тенора и двух мальчишек-альтов? Всякий школьный учитель в Пруссии — сельский Хорон или Вильхем.[6] (36) Сельское хоровое пение воспитывает любовь к музыке, противостоит кабацким радостям и готовит воображение народа к усвоению религиозных истин. Протестанты низвели религию до курса практической морали; однако не за горами то время, когда религия вновь вступит в свои права; создание, наделенное бессмертием, не сможет долее удовлетворяться земными радостями, и народы, более других привыкшие наслаждаться изящными искусствами, первыми услышат голос небес. Итак, справедливость требует признать, что прусское правительство достойным образом готовит своих подданных к грядущему религиозному обновлению, о чьей близости свидетельствуют многие неопровержимые приметы.
Очень скоро Пруссия почувствует, что ее философия не способна даровать душам покой. В ожидании же этого славного будущего город Берлин подчиняется наименее философической из стран, России,(37) что, впрочем, не мешает народам, населяющим другие немецкие княжества, обращать свои взгляды в сторону Пруссии, чья превосходная система управления их пленяет. Они полагают, что именно отсюда придут к ним либеральные установления, которые большинство людей по сей день путает с завоеваниями промышленности, словно роскошь и свобода, богатство и независимость, наслаждения и добродетель суть синонимы! Прошло три года, и с переменой монарха наблюдения мои утратили едва ли не всю свою справедливость.(38)
Главный недостаток немецкого народа, олицетворенный фигурой Лютера, — это склонность к физическим радостям; в наши дни эту склонность ничто не сдерживает; напротив, все поощряет ее. Так, принося свое достоинство, а может быть, и свою независимость в жертву бесплодной мечте о сугубо материальном благополучии, немецкая нация, скованная чувственной политикой и рассудочной религией, изменяет самой себе и всему миру. У каждого народа, как и у каждого индивида, есть свое предназначение: если Германия забыла о своем призвании, виновата в этом прежде всего Пруссия — древняя колыбель той непоследовательной философии, которую здесь из вежливости именуют религией.(39) Сегодня Францию представляет в Пруссии посол, полностью удовлетворяющий всем требованиям, какие в наши дни предъявляются к государственному мужу.(40) Он не напускает на себя таинственности, не прерывает речь деланными паузами, не прибегает к бесполезным недомолвкам, — одним словом, ничем не выдает сознания собственного величия. О занимаемой им должности окружающие помнят лишь оттого, что признают за ним все достоинства, необходимые для того, чтобы с нею справляться. Угадывая с исключительной чуткостью потребности и наклонности современного общества, он спокойно движется в будущее, не презирая уроков прошлого; он принадлежит к узкому кругу людей старого времени, приносящих пользу времени новому.
Уроженец той же провинции, что и я, он сообщил мне множество любопытных подробностей из жизни моих родных, до сей поры остававшихся мне неизвестными; слушая его, я испытал огромное душевное наслаждение и не боюсь признаться в этом, ибо священный восторг, вызываемый в нашей душе героизмом наших предков, не имеет ничего общего с гордыней. Я опишу вам без утайки все чувства, какие испытал, слушая его рассказы, но вначале позвольте познакомить вас с некоторыми сведениями,(41) какие мне ко времени моего приезда в Берлин уже были известны.(42) Я знал, что в архивах французского посольства в Берлине хранятся письма и дипломатические ноты, представляющие большой интерес для всех людей вообще и для меня в особенности: они принадлежат перу моего отца.(43)
В 1792 году в двадцать два года, он был послан правительством Людовика XVI44, уже год как сделавшегося конституционным монархом, ко двору герцога Брауншвейгского (45) с важной и деликатной миссией. Речь шла о том, чтобы склонить герцога отказаться от командования союзными войсками, выступающими против Франции. Французские государственные мужи справедливо полагали, что катаклизмы нашей революции будут грозить королю и стране меньшими опасностями, если чужестранцы расстанутся с надеждой насильственно прервать ее течение.
Батюшка прибыл в Брауншвейг слишком поздно: герцог уже дал согласие встать во главе союзной армии. Тем не менее нрав и таланты молодого Кюстина снискали ему на родине такое уважение, что его не отозвали назад в Париж, но отправили к прусскому двору, дабы он попытался отговорить короля Вильгельма II (46) от участия в коалиции, чьей армией намеревался командовать герцог Брауншвейгский.
Незадолго до приезда моего отца в Берлин господин де Сегюр, представлявший в ту пору Францию при прусском дворе, потерпел неудачу в этих сложных переговорах. Моему отцу предстояло его сменить. Король Вильгельм принял господина де Сегюра плохо, так плохо, что, вернувшись однажды вечером к себе домой в совершенном отчаянии и сочтя свою репутацию ловкого дипломата навсегда запятнанной, посол попытался покончить с собой; лезвие кинжала вошло в его грудь не слишком глубоко, и самоубийца остался жив, но был вынужден покинуть Пруссию. Событие это поразило проницательных политиков Европы: никто из них не мог объяснить причины, по которым прусский король оказал до крайности нелюбезный прием человеку столь знатного происхождения и столь острого ума. Я знаю из надежного источника анекдот, проливающий некоторый свет на этот эпизод, по сей день остающийся загадкой; дело вот в чем: в пору своего триумфа при дворе императрицы Екатерины господин де Сегюр часто забавлял окружающих насмешками над племянником Фридриха Великого, который позднее сделался королем под именем Фридриха Вильгельма II; он глумился над любовными похождениями будущего монарха (47) и над ним самим, а однажды послал императрице записку, где, в согласии со вкусами той эпохи, начертал сатирические портреты Фридриха Вильгельма и его приближенных. После смерти Фридриха Великого политические обстоятельства внезапно переменились, царица стала искать союза с Пруссией и, дабы новый король поскорее решился принять сторону России против Франции, недолго думая послала ему записку господина де Сегюра, которого Людовик XVI только что назначил французским послом в Берлине.
Приезду моего отца в столицу Пруссии предшествовало еще одно любопытное происшествие, свидетельствующее о том, какое сочувствие вызывала в ту пору в цивилизованном мире французская революция. Проект Пильницкой декларации (48) был уже написан, но члены коалиции полагали необходимым как можно дольше скрывать от Франции условия этого союза. Прусский король уже располагал черновиком договора, но никто из французских агентов его еще не видел.
Однажды поздним вечером, возвращаясь пешком домой, господин де Сегюр заметил, что какой-то человек, закутанный в плащ, идет за ним по пятам; посол ускоряет шаг, незнакомец не отстает; он переходит на другую сторону улицы, незнакомец следует его примеру; он останавливается, незнакомец отступает и также останавливается в некотором отдалении. Господин де Сегюр не был вооружен; памятуя о неприязни немцев к нему лично и о сложности политической обстановки, он, вдвойне встревоженный, пускается бежать в сторону дома, но ему не удается опередить таинственного незнакомца, который подбегает к дверям одновременно с ним и, бросив к его ногам довольно толстую связку бумаг, тут же исчезает. Подняв бумаги, господин де Сегюр посылает своих слуг вдогонку за тем, кто их принес, но безуспешно.
В связке бумаг господин де Сегюр обнаружил проект Пильницкой декларации, списанный слово в слово прямо в кабинете короля прусского: вот каким образом благодаря помощи людей, тайно сочувствующих новым идеям, французы получили первые сведения об этом документе, вскоре получившем всемирную известность.
Обстоятельства, против которых бессильны и таланты и воля человеческие, вынудили моего отца отказаться от новых попыток переубедить прусский кабинет, однако, несмотря на эту неудачу, он снискал уважение и даже дружеское расположение всех тех особ, с которыми ему пришлось иметь дело, не исключая короля и его министров, чем вознаградил себя за неуспех своей политической миссии.
Берлинцы до сих пор помнят безупречный такт, с которым мой отец выходил из сложных положений, подстерегавших его в столице Пруссии. Прибыв к прусскому двору в качестве посла тогдашнего французского правительства, (49) он встретил в Берлине свою тещу, госпожу де Сабран, (50) бежавшую сюда от преследований этого самого правительства. В ту пору политика входила в каждый дом, и не только народы, но даже семьи страдали от распрей и разноречий. Когда батюшка собрался возвратиться во Францию, дабы дать отчет о своих переговорах, теща его, прибегнув к помощи всех берлинских друзей, попыталась воспрепятствовать исполнению этого намерения. Некий господин Калкреут, племянник прославленного соратника принца Генриха Прусского, едва ли не на коленях умолял молодого Кюстина не покидать Берлина или, по крайней мере, дождаться в эмиграции того часа, когда он сможет снова служить своему отечеству. Он предсказал моему отцу все, что сулит ему возвращение на родину. События 10 августа потрясли Европу.(51) Людовик XVI томился в заключении, повсюду царил хаос; ежедневно новые ораторы поднимались на трибуну, и каждый опровергал все сказанное его предшественниками; внутри Франции, равно как и за ее пределами, анархия освобождала людей, состоявших на службе у французского правительства, от всяких обязательств. Правительство это, объясняли моему отцу, не умеет ни справиться с собственным народом, ни снискать почтение соседей, ни уважать свои собственные решения; одним словом, доброжелатели всеми возможными средствами пытались внушить моему отцу, что его верность людям, стоящим во главе французского государства, — героизм, достойный не столько восхищения, сколько осуждения. Но батюшка остался глух к их уговорам; он ни в чем не желал погрешить против совести и вел себя так, как приказывал старинный девиз нашего рода: «Исполни свой долг, а там — будь что будет». «Меня послало сюда это правительство, — отвечал он друзьям, — я обязан возвратиться и дать отчет в том, что сделал, тем, кто меня послал; это мой долг». Итак, мой отец, этот безвестный Регул,(52) рожденный в стране, где вчерашний героизм затмевают сегодняшняя слава и завтрашнее тщеславие, со спокойной душой отправился во Францию, где его ждал эшафот. На родине дела обстояли так ужасно, что, отложив в сторону попечение о политике, отец немедленно отправился добровольцем в расположение Рейнской армии,(53) которой командовал мой дед, генерал Кюстин. Он с честью сражался в двух кампаниях, а когда генерал, открывший нашим войскам путь к победе, возвратился в Париж, где его подстерегала смерть, последовал за ним, дабы встать на его защиту. Оба погибли на эшафоте. Но отец на полгода пережил деда: он не был осужден вместе с жирондистами, среди которых, однако, было немало его близких друзей.
Он умер смертью мученика — умер, как и подобает мученику, не признанным современниками.
За просвещенный патриотизм и бескорыстную преданность делу свободы отец и сын получили одинаковую награду.
Вчера наш нынешний посланник при берлинском дворе дал мне возможность познакомиться с дипломатической перепиской, которую вел мой отец в пору его пребывания при этом дворе.
Переписка эта исполнена исключительного благородства и простоты; она — образец дипломатического стиля в том, что касается формы изложения и логики рассуждений, а также достойный пример осторожности и отваги. Читая эти письма, видишь, как, разделенные взаимным непониманием, натравливаемые одна на другую, сталкиваются Европа и Франция, как, несмотря на меры, предлагаемые горсткой мудрых людей, которых их мужественная умеренность обрекает на бесплодную гибель, Францию затопляет хаос. Зрелость ума, деликатность и сила характера, основательность знаний, верность суждений, ясность мысли и скрывающаяся за всем этим душевная мощь отца поразительны, а ведь он был еще совсем молод, да к тому же вырос в эпоху, когда детей никто не принимал всерьез, когда талант почитался следствием опытности.
Господин де Ноай(54), занимавший в то время должность французского посла в Вене и отправивший несчастному Людовику XVI прошение об отставке, известил моего отца о принятом им решении. Письма его, также хранящиеся в нашем берлинском архиве, содержат самые лестные отзывы о новом дипломате, которому он предсказывает блестящую будущность… Как далек был господин де Ноай от мысли, что юному послу отмерен столь короткий срок!!! Отец мой не был тщеславен, но одобрение человека опытного и тем более беспристрастного, что он сам намеревался избрать путь, противоположный тому, которым собрался идти посол в Берлине, не могло оставить равнодушным даже этого стоика.
Влекомый чувством долга, отец мой возвратился в Париж, и это его погубило. Одно обстоятельство, неизвестное широкой публике, позволяет мне сказать, что смерть его была не просто благородна, но величественна. Обстоятельство это достойно подробного рассказа, однако, поскольку в этой истории важную роль играет моя мать, я должен прежде обрисовать вам ее характер. Мои путевые заметки суть мои мемуары: вот отчего я с легким сердцем начинаю книгу о поездке в Россию с истории, волнующей меня гораздо больше, чем любые сведения, которые мне суждено узнать в дальних странствиях. Генерала Кюстина призвали в Париж; доносы завистников обрекли его на гибель.
Еще в армии он узнал о казни короля; газетные статьи вызвали у него негодование, которого он не смог сдержать в присутствии комиссаров Конвента. По их словам, он воскликнул: «Я служил своему отечеству и защищал его от чужеземного нашествия, но разве можно служить тем людям, что правят нами сегодня?»
Восклицание это, пересказанное Робеспьеру Мерленом (55) из Тионвиля и его спутником, обрекло генерала на смерть.
Матушка в эту пору укрывалась вместе со мной в нормандской глуши;(56) я был еще совсем мал. Узнав о возвращении генерала Кюстина в Париж, отважная молодая женщина сочла своим долгом покинуть уединение, оставить младенца сына и броситься на помощь свекру, с которым ее семейство уже несколько лет находилось в ссоре из-за выказывавшихся им с самых первых дней Революции политических симпатий. Ей тяжело было расстаться со мной, ибо она была матерью в полном смысле этого слова, однако сочувствие к чужому несчастью всегда имело исключительную власть над сердцем этой великодушной женщины. Я остался с няней, выросшей в нашем лотарингском имении и безгранично преданной нашему семейству; позже она привезла меня в Париж.
Если что и могло спасти генерала Кюстина, так это самоотверженность и отвага его снохи.
Первая их встреча была особенно трогательна оттого, что явилась для узника полной неожиданностью. При виде матушки старый воитель счел себя спасенным. В самом деле, ее молодость, красота, робость, — не мешавшая ей, однако, проявлять при необходимости львиную отвагу, — очень скоро внушили беспристрастной публике, журналистам, народу и даже судьям революционного трибунала столько сочувствия, что людям, желавшим генералу смерти, пришлось обратить внимание на красноречивейшего из его защитников, его сноху; они решили запугать молодую женщину.
В ту пору правительство еще не опускалось до того бесстыдства, с каким стало действовать позже. Матушку осмелились арестовать лишь после гибели свекра и мужа; однако люди, боявшиеся заключить ее в тюрьму, не побоялись нанять бандитов, которым посулили денег за ее смерть; «сентябристы» (57), как называли тогда этих головорезов, несколько дней подряд ожидали матушку на ступенях Дворца правосудия, а их покровители не преминули предупредить матушку об опасности, какой она подвергается, отправляясь в трибунал. Однако ничто не могло остановить эту женщину; каждое заседание она проводила, сидя у ног свекра, и мужество ее трогало даже палачей. Оставшееся время она употребляла на то, чтобы втайне ходатайствовать за генерала перед членами революционного трибунала и комитетов. Унижения, которые она сносила во время этих визитов, прием, оказанный ей иными государственными мужами того времени, наверняка достойны отдельного описания. Однако я не могу вдаваться в подробности, ибо они мне неведомы. Матушка не любила говорить об этом периоде своей жизни, славном, но мучительном; рассказывать о нем было все равно, что пережить его заново.
Визиты к власть имущим матушка совершала в сопровождении моего отца, облачившегося по этому случаю, согласно тогдашней моде, в простонародное платье; в короткой куртке — «карманьоле», без галстука, с коротко постриженными, ненапудренными волосами, отец обычно ждал матушку на лестнице или в прихожей, если таковая имелась. На одном из последних заседаний трибунала единственный взгляд, брошенный матушкой на женщин из публики, исторг у них слезы, а между тем эти мегеры слыли особами весьма хладнокровными. Их именовали фуриями гильотины и вязальщицами Робеспьера. Знаки сочувствия, выказанные этими бесноватыми негодяйками снохе Кюстина, до такой степени разгневали Фукье-Тенвиля, что он тотчас отдал наемным убийцам, дежурившим у дверей Дворца правосудия, тайный приказ пустить в ход ножи.
Обвиняемого отвели назад в тюрьму; сноха его вышла из Дворца правосудия; ей нужно было спуститься по лестнице и пешком, в одиночестве, дойти до фиакра, ожидавшего ее поодаль. Никто не осмеливался открыто сопровождать матушку из страха умножить грозившую ей опасность. Робкая дикарка, она всю жизнь инстинктивно, беспричинно боялась толпы. Вообразите себе лестницу Дворца правосудия — долгую череду ступеней, покрытых разъяренной, свирепой толпой, которая уже приобрела отвратительную опытность и слишком привыкла безнаказанно проливать кровь, чтобы смутиться очередным убийством. Матушка, трепеща, останавливается на верхней площадке; она ищет глазами место, где несколько месяцев назад погибла госпожа де Ламбаль.(58) Один из друзей отца сумел передать ей в зале суда записку, где предупредил о необходимости держаться еще осторожнее, чем обычно, но предупреждение это лишь ухудшило дело: от ужаса матушка едва не потеряла голову; она решила, что погибла — а именно это и могло ее погубить. «Если я споткнусь, если упаду, как госпожа де Ламбаль, все будет кончено», — твердила она сама себе, а разъяренная толпа меж тем обступала ее все теснее. Отовсюду слышались крики: «Это Кюстинша, сноха изменника!» (59), страшные ругательства и проклятия. Как спуститься вниз, как пройти сквозь эту адскую орду? Одни головорезы с саблями наголо преграждали матушке дорогу, другие, скинув куртки, закатав рукава, отстраняли от себя жен, явно готовясь начать резню; опасность возрастала с каждой секундой. Матушка понимала, что, стоит ей выказать малейшую слабость, убийцы свалят ее на землю и прикончат; она говорила мне, что до крови кусала себе руки и губы, чтобы не побледнеть. Наконец, подняв глаза, она увидела, что к ней приближается одна из самых отвратительных уличных торговок с младенцем на руках. Ведомая Господом, покровителем матерей, «сноха изменника» подходит к этой матери из простонародья (а мать — больше, чем женщина) и говорит ей: «Какой у вас прелестный ребенок!» — «Возьмите его, — отвечает та, понявши все с полуслова и полувзгляда, — я заберу его у вас внизу». Искра материнской любви пронзила сердца двух женщин — и толпа почувствовала это. Матушка взяла ребенка, поцеловала его и пошла сквозь потрясенную толпу, укрываясь этим новоявленным щитом.
Естественный человек взял верх над человеком, изуродованным социальным недугом; варвары, именуемые цивилизованными людьми, склонили головы перед двумя матерями. Сноха предателя, угадывая, что спасение близко, спустилась по ступеням Дворца правосудия, пересекла двор и подошла к воротам; никто ее и пальцем не тронул, никто не выкрикнул ей вслед ни единого бранного слова; у ворот она отдала ребенка его родной матери, и две женщины немедля разошлись, даже не простившись; ни для изъявления благодарности, ни для разговоров место было неподходящее; больше они никогда не виделись и ничего не узнали друг о друге: душам двух матерей суждено было свидеться в ином мире. Однако спасшаяся чудом молодая женщина не смогла спасти своего свекра. Он погиб! Старый воитель увенчал достойную жизнь достойной смертью; он нашел в себе мужество умереть по-христиански: об этой смиренной жертве, труднейшей из всех в эпоху, когда и пороки и добродетели пребывали под эгидой философии, свидетельствует его письмо к сыну; с простодушием святого генерал Кюстин писал моему отцу накануне казни: «Не знаю, как я поведу себя в последнее мгновение; не люблю хвалиться, пока дело не сделано». И эту-то величественную скромность тогдашние слепцы из породы вольнодумцев именовали трусостью!.. Но что же мешало ему похвалиться заранее своей отвагой, а если сил в решающий миг не достанет, нарушить обещание? Что мешало? любовь к истине, заглушающая даже честолюбие; чувство, о котором мелкие душонки не имеют понятия.
По дороге на казнь генерал Кюстин целовал распятие, с которым расстался, лишь сойдя с роковой телеги. Благочестивое мужество украсило его смерть, как воинское мужество украшало его жизнь, но привело в негодование парижских Брутов.(60)
В письме он просил моего отца вступиться за его доброе имя. Возвышенное простодушие солдата, полагающего, что казнь по приказу Робеспьера способна запятнать чью-то репутацию! Что может быть более трогательно, чем эта вера жертвы в могущество палача?
Накануне смерти мой дед в последний раз увиделся со своей снохой; к ее удивлению, свидание состоялось не в камере, а во вполне уютной комнате. «Меня переселили на эту ночь, — объяснил узник, — чтобы поместить на мое место королеву (61): ведь моя камера самая скверная во всей тюрьме». Несколькими годами раньше он однажды зимой проиграл в Версале, на половине королевы, 300 000 франков; в ту пору Мария Антуанетта, блистательная, вызывающая всеобщую зависть, сочла бы безумцем того, кто сказал бы ей, что ее последним приютом станет тюрьма Консьержери. Дед мой, подобно всем придворным обожавший королеву, не мог без боли думать об участи, ожидавшей дочь Марии Терезии;(62) он забывал о собственных горестях, когда вспоминал о превратностях судьбы этой женщины, столь надменной со знатью, столь приветливой с челядью; он не уставал поражаться их удивительной встрече у подножия эшафота.
Во время суда над генералом Кюстином мой отец сочинил и издал защитительную речь, сдержанно, но правдиво характеризовавшую политические и военные деяния его отца. Эта защитительная речь, текст которой он развесил на стенах парижских домов, не возымела никакого действия, но навлекла на ее автора ненависть Робеспьера вкупе с монтаньярами, и без того раздраженными дружбой молодого Кюстина со всеми великодушными и рассудительными людьми того времени. Сын генерала Кюстина был обречен; вскоре после казни отца (63) он очутился в тюрьме. Террор с каждым днем набирал силу; арест был равносилен приговору; суд превратился в пустую формальность. Матушка моя была еще на свободе и, хотя поведение ее во время процесса генерала Кюстина привлекло к ней всеобщее внимание, добилась позволения ежедневно навещать мужа в тюрьме Ла Форс. Понимая, что ему грозит скорая и неминуемая гибель, она употребила все силы на подготовку побега; так велико было ее обаяние, что ей удалось взять в союзницы дочь тюремного смотрителя; впрочем, важнее очарования матушки оказались ее деньги и посулы. План побега, разработанный матушкой в результате многодневных наблюдений, заключался в следующем.
Отец мой был невысок ростом, хрупок и выглядел достаточно молодо и обаятельно, чтобы в женском платье сойти за женщину. Простившись с ним, матушка нарочно всякий раз выходила на улицу в сопровождении дочери тюремного смотрителя, Луизы; обе женщины проходили вместе мимо часовых, стражников и солдат муниципальной гвардии; все эти люди, привыкшие к тому, что дочь тюремщика провожает всех посетителей тюрьмы, доверяли этой юной особе и позволяли ей самостоятельно закрывать за родственниками и друзьями заключенных двери, ведущие на лестницу. После смерти свекра матушка носила траурное платье, черную шляпу и густую вуаль, что было вовсе небезопасно, ибо в ту несчастную эпоху никому не дозволялось выказывать скорбь. Родители мои уговорились, что в назначенный день отец переоденется в платье жены, матушке же отдаст свое платье дочь тюремного сторожа; затем узник вместе с лже-Луизой покинет тюрьму обычным путем, а настоящая Луиза воспользуется черным ходом. Дело происходило в январе; уходить решили в сумерки, незадолго до того часа, когда на улицах зажигаются фонари. Луиза была хорошенькая блондинка, почти такая же очаровательная, как моя матушка, которой недавно исполнилось двадцать два года и которая, несмотря на все обрушившиеся на нее несчастья, не утратила ни красоты, ни здоровья. Матушка условилась с Луизой, что та, попав известным ей одной путем на улицу, подойдет к фиакру одновременно с узником и получит из его рук тридцать тысяч франков золотом, которые доставит к воротам тюрьмы один из матушкиных друзей. Одновременно девушка получит письменное обязательство моего отца выплачивать ей пожизненную пенсию в две тысячи франков. Все было как следует продумано и обговорено, оставалось только назначить день. Выбор предоставили Луизе, которая хорошо знала нрав и привычки муниципальных гвардейцев и почитала некоторых из них менее опасными; наконец настал день, когда медлить было больше нельзя — через сутки батюшке предстояло отправиться в Консьержери, а оттуда в трибунал, иначе говоря, на смерть: стоял январь 1794 года.
Накануне решающего дня заговорщики устроили в камере моего отца репетицию и со всевозможным тщанием примерили костюмы, приготовленные для завтрашнего спектакля.
Матушка возвратилась домой, окрыленная надеждой; ей следовало вернуться в тюрьму лишь на следующий день к вечеру, с тем чтобы уже через час покинуть ее вместе с супругом.
Между тем революционные власти продолжали свирепствовать: как раз накануне дня, на который был назначен побег, Конвент опубликовал декрет, осуждающий на смерть всякого, кто поможет бежать государственному преступнику;(64) Закон гласил, что и пособники беглецов, и те, кто дадут им приют, и — это звучит совсем невероятно — те, кто не донесли о побеге, — будут подвергнуты одинаковому наказанию!..
Газета с текстом этого ужасного закона была не из тех, какие прячут от заключенных. Смотритель тюрьмы Ла Форс, отец Луизы, с умыслом занес ее в камеру моего отца. Это произошло утром того дня, когда должен был состояться побег.
После полудня, немного раньше назначенного часа, матушка отправилась в тюрьму. Под лестницей ее ждала заплаканная Луиза. «Что случилось, дитя мое?» — спросила матушка. — «О, сударыня, — отвечала Луиза, от волнения забыв, что по новым законам следует обращаться ко всем на „ты“, — уговорите его, вы одна можете его спасти; я умоляю его с самого утра: он и думать не хочет об исполнении нашего плана».
Матушка, боясь, как бы кто-нибудь не подслушал их разговора, поднимается по винтовой лестнице, не говоря ни слова. Луиза идет за ней следом. Перед входом в камеру великодушная девушка останавливает матушку и шепчет: «Он прочел газету». Матушка угадывает остальное; зная непреклонную щепетильность моего отца, она не решается отворить дверь; ноги у нее подкашиваются, она трепещет, словно уже видит своего супруга на эшафоте. «Пойдем со мной, Луиза, — говорит она, — ты скорее, чем я, убедишь его, ведь он жертвует своей жизнью, чтобы не рисковать твоей». Луиза входит в камеру, и там, за закрытыми дверями, вполголоса разыгрывается сцена, которую воображение ваше нарисует вам лучше, чем я, тем более, что матушка лишь однажды, много лет назад, отважилась пересказать мне ее, да и то очень коротко.
— Вы отказываетесь бежать, — говорит матушка, входя, — итак, ваш сын останется сиротой, ибо я не переживу вас.
— Я не имею права жертвовать жизнью этой девушки ради собственного спасения.
— Ее жизни ничего не грозит; она спрячется, а затем убежит вместе с нами.
— Во Франции больше негде спрятаться, а покинуть эту несчастную страну безмерно трудно; ты просишь у Луизы больше, чем она обещала.
— Бегите, сударь, — говорит Луиза, — я хочу этого не меньше вашего.
— Ты что же, не читала вчерашнего декрета? И он начинает читать вслух. Луиза перебивает его:
— Все это я знаю, сударь, но повторяю вам: бегите; я умоляю вас об этом, я прошу вас на коленях (и она падает к ногам моего отца), бегите; от исполнения нашего плана зависит мое счастье, моя жизнь, моя честь. Вы обещали озолотить меня, быть может, теперь вам будет трудно сдержать слово. Что ж! я согласна спасти вас даром. Тридцать тысяч франков, которые вы должны были мне заплатить, пойдут на спасение нас троих. Мы спрячемся где-нибудь, мы вместе переберемся за границу, я буду вам прислуживать; мне не нужно никакой награды, только не отказывайтесь от нашего плана.
— Нас поймают, и ты умрешь.
— Пусть! я согласна — что вы на это скажете? Конечно, ради вас мне придется покинуть родину, отца, жениха; мы собирались вскоре обвенчаться, но я не люблю его, к тому же, если все кончится хорошо, с помощью той суммы, которую вы мне посулили, я смогу вознаградить его… А если нам не повезет, я умру вместе с вами, но ведь я иду на это по доброй воле: как вы можете мне возражать?
— Ты не понимаешь, что говоришь, Луиза; ты горько раскаешься.
— Пусть — но вы будете спасены.
— Ни за что.
— Как! — снова вступает в разговор матушка. — Ты тревожишься об этой благородной девушке больше, чем о своей жене, чем о своем сыне?.. Неужели ты забыл, что завтра мне уже не позволят войти сюда, а послезавтра тебя переведут в Консьержери? Неужели ты не понимаешь, то Консьержери — это смерть? И ты хочешь, чтобы я пережила все это? А ведь ты в ответе не только за Луизу. Ничто, однако, не могло поколебать стоическую решимость юного узника; две женщины молили его на коленях, он слышал увещевания обезумевшей матери, заклинания преданной простолюдинки: все было напрасно. Жертва человеколюбия, мой отец был чужд эгоистических помыслов и глух к зову сердца: долг и честь имели куда больше влияния на его душу, нежели любовь к жизни, нежели любовь прекрасной, отважной, нежной женщины, сильной и слабой разом, нежели отцовская любовь. Казалось бы, каждое из этих чувств может быть приравнено к долгу, однако отец мой остался непреклонен: в его хрупком юном теле жила великая душа!.. Как, должно быть, любовались им ангелы небесные! Время, отпущенное для свидания, прошло в напрасных уговорах; матушку пришлось увести из камеры силой — она не хотела УХОДИТЬ. Луиза, объятая почти таким же глубоким отчаянием, проводила ее до дверей тюрьмы, где своих друзей ждал, мучимый легко объяснимой тревогой, господин Ги де Шомон-Китри с тридцатью тысячами франков золотом в кармане.
— Все пропало, — сказала ему матушка, — он отказывается бежать.
— Я в этом не сомневался, — отвечал господин де Китри. Ответ этот, достойный друга такого человека, всегда казался мне почти столь же прекрасным, сколь и поведение моего отца. И все это сгинуло во мраке неизвестности… Сверхъестественное мужество батюшки осталось незамеченным в эпоху, когда Франция была так же богата героизмом, как за полвека до того — умом.
Матушка еще один раз увидела отца вечером, накануне казни; за большую плату ей удалось получить разрешение проститься с ним в Консьержери.
Во время этого замечательного свидания произошел один эпизод, столь странный, что я с трудом отваживаюсь о нем рассказать. Кажущийся созданием трагикомического Шекспирова гения, он, однако, вполне достоверен; жизнь повсюду заходит много дальше вымысла; природа полна противоречий; моя ли вина в том, что иной раз к слезам примешиваются совсем иные чувства? Я уже сказал, что батюшку приговорили к смерти, и на следующий день он должен был отправиться на казнь; ему исполнилось двадцать четыре года. Жена его, Дельфина де Кюстин, урожденная де Сабран, была одной из красивейших женщин своего времени. Самоотверженность, с которой она несколькими месяцами раньше защищала своего свекра генерала Кюстина, снискала ей почетное место в анналах революции, в ходе которой женщины нередко выказывали героизм, искупавший отвратительный фанатизм и жестокость мужчин. Матушка вошла в темницу, храня спокойствие, молча обняла своего супруга и провела подле него три часа. Она не бросила ему ни единого упрека: за дверью стояла смерть. Жена простила мужу безграничное благородство, послужившее причиной трагической развязки; он не услышал от нее ни единой жалобы; она берегла его силы для последнего испытания. Приговоренный к смерти и его подруга подолгу молчали; лишь мое имя несколько раз прозвучало под сводами темницы, и имя это разрывало сердце обоим… Отец мой попросил пощады… матушка умолкла.
В те героические времена казнь была зрелищем, и жертвы считали делом чести не дрогнуть перед лицом палача; моя несчастная мать понимала, что ее юному, прекрасному, благородному супругу, человеку нежной души и острого ума, еще недавно вкушавшему столь безоблачное счастье, необходимо собрать к завтрашнему дню все свое мужество; даже она, эта робкая от природы женщина, стремилась ободрить его перед последним испытанием. Недаром говорится, что честной душе внятно все возвышенное! Трудно было найти женщину более искреннюю, а значит, более стойкую в час великих испытаний, чем моя мать. Приближалась полночь; боясь, что мужество изменит ей, она решила уйти.
Свидание происходило в зале, куда выходили несколько камep — довольно просторной, полутемной комнате с низким потолком. Родители мои сидели подле стола, на котором горела свеча; за широкой застекленной дверью прохаживались часовые.
Внезапно маленькая дверца, на которую родители мои прежде не обращали никакого внимания, отворилась и из нее вышел странно одетый человек с тусклым фонарем в руке; то был узник, навещавший другого узника. На нем был короткий халат, или, точнее, длинный камзол, отороченный лебяжьим пухом, что само по себе смешно; довершали его костюм белые кальсоны, чулки и высокий остроконечный хлопчатый колпак, украшенный ярко-алыми кружевами; он медленными шажками скользил по комнате, как скользили придворные Людовика XV по Версальской галерее.
Подойдя совсем близко к моим родителям, незнакомец молча взглянул на них и продолжил свой путь; тут-то они и заметили, что старец употребляет румяна. Молодые люди в молчании созерцали старца, явившегося им в минуту безысходного отчаяния; внезапно, не догадавшись, что престарелый узник, возможно, прибегнул к румянам не для того, чтобы приукрасить изборожденное морщинами лицо, но для того, чтобы завтра, всходя на эшафот, скрыть предательскую бледность, они разразились ужасным хохотом: нервное напряжение на миг взяло верх над сердечной болью.
Родители мои истратили так много душевных сил на то, чтобы скрыть один от другого мучавшие их мысли, что смешное зрелище — единственное, к которому они себя не готовили, застигло их врасплох; несмотря на все старания сохранить спокойствие, а вернее, по вине этих стараний они предались неумеренному хохоту, вскоре перешедшему в страшные конвульсии. Стражники, имевшие обширный революционный опыт, прекрасно поняли причины этого сардонического смеха и выказали моей матери куда большее сочувствие, чем выказала четыре года тому назад менее опытная парижская чернь дочери господина Бертье.(65) Они вошли в комнату и унесли несчастную женщину, по-прежнему сотрясаемую приступами истерического смеха; отец мой, находившийся в точно таком же положении, остался один.
Таково было последнее свидание моих родителей; таковы были рассказы, слышанные мною в детстве.
Матушка приказала челяди молчать, но простолюдины любят судачить о чужих невзгодах. Слуги наши только и делали, что рассказывали мне о злоключениях моих родителей. Поэтому из моей души никогда не изгладятся ужасные впечатления, встретившие меня на пороге жизни. Первым чувством, какое я испытал, был страх — страх существования, знакомый, вероятно, в большей или меньшей степени всем людям, ибо всем им предстоит испить в этом мире свою чашу бедствий. Без сомнения, именно это чувство приобщило меня к христианской религии прежде, чем мне объяснили ее суть; едва родившись, я уже постиг, что сослан на землю в наказание. Придя в себя, батюшка употребил остаток ночи на то, чтобы совершенно оправиться от ночного приступа; на рассвете он написал жене письмо, исполненное поразительного хладнокровия и мужества. Оно очень скоро сделалось известным, равно как и письмо моего деда,(66) обращенное к этому мужественному юноше, который погиб оттого, что вступился за честь своего отца, оттого, что не пожелал ни остаться при прусском дворе в качестве эмигранта, ни спасти свою жизнь ценою жизни преданной ему девушки.
Господин Жерар, его бывший гувернер, нежно любил своего ученика и гордился им. Во время Террора он жил в Орлеане и узнал о смерти моего отца из газеты; это неожиданное известие так потрясло его, что он скоропостижно скончался от апоплексического удара. Если даже враги моего отца отзывались о нем с невольным почтением, как же должны были восхищаться им друзья? Простота его манер лишь оттеняла его достоинства. Благодаря неподдельной скромности и кротости речей он, несмотря на все свои таланты, не вызывал нареканий даже в эпоху, когда демон зависти безраздельно владел миром. Без сомнения, в ночь перед казнью он не раз вспоминал предсказания берлинских друзей, но я не думаю, чтобы он раскаялся в избранном пути: в те времена жизнь, какими бы радужными надеждами она ни полнилась, казалась пустяком в сравнении с чистой совестью. Пока в стране находятся люди, в чьем сердце голос долга заглушает все чувства и привязанности, эту страну нельзя считать обреченной.
ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
Продолжение рассказа о жизни моей матери. — Враждебное отношение к ней всех партий. — Она собирается эмигрировать. — Ее арест. — Плохо спрятанные бумаги. — Матушка чудом избегает опасности. — Разоренный дом. — Самоотверженность моей няни Нанетты. — Ее неосторожное поведение на могиле Марата. — Поклонение новоявленному святому. — Жизнь моей матери в тюрьме. — Госпожа де Ламет, госпожа д`Эгийон и госпожа де Богарне, в будущем императрица Жозефина. — Характеры этих молодых женщин. — Портрет матушки. — Неизвестные анекдоты той эпохи. — Полишинель-аристократ. — Женщина из народа делит тюремный кров со знатными дамами. — Характер этой женщины. — Ее казнят вместе с мужем. — Бег взапуски. — Конец, декады в тюрьме. — Обыски. — Шутка Дюгазона. — Допрос. — Горбатый председатель-сапожник. — Черта характера. — Башмачок из английской кожи. — Каменщик Жером. — Страшный путь к спасению. — Роковая папка. — 9 термидора. — Окончание Террора. — Ухищрения иных историков, рассуждающих о нраве Робеспьера. — Тюрьмы после падения якобинцев. — Прошение Нанетты, подписанное рабочими. — Канцелярия Лежандра. — Избавление. — Матушка возвращается домой. — Нищета. — Благородный поступок каменщика Жерома. — Здравомыслие этого человека. — Его смерть. — Матушка отправляется в Швейцарию. — Ее встреча с госпожой де Собран, моей бабушкой. — Романс о розе, присланный в тюрьму. — Суждение Лафатера о характере моей матери. — Ее жизнь при Империи. — Ее друзья. — Второе путешествие в Швейцарию в 1811 году. — Она умирает в 1826 году в возрасте пятидесяти шести лет.
Берлин, 28 июня 1839 года (67)
Раз начавши рассказывать вам о несчастьях, обрушившихся на мою семью, я хочу нынче закончить мой рассказ. Мне кажется, что этот эпизод из времен нашей революции, изложенный сыном его главных действующих лиц, представляет для вас интерес не только в силу вашего ко мне дружеского расположения. Матушка лишилась всего, что связывало ее с родиной; теперь долг повелевал ей спасать собственную жизнь и жизнь ее единственного сына. Вдобавок положение ее во Франции было куда хуже, нежели у других отверженных.
Из-за либеральных воззрений нашей семьи имя Кюстин звучало для аристократов не менее отвратительно, чем для якобинцев. Страстные поборники старого порядка не могли простить моим родителям их поведения в начале революции, поборники же Террора не желали простить им умеренность их республиканского патриотизма. В те времена порядочный человек мог погибнуть на эшафоте, не вызвав ничьих сожалений, не исторгнув ничьих слез. Жирондисты, тогдашние доктринеры,(68) встали бы на защиту моего отца, но они были уничтожены или, в лучшем случае, оттеснены с политической арены после того, как к власти пришел Робеспьер.
Итак, матушка жила гораздо более уединенно, чем многие другие жертвы якобинцев. Разделив из преданности мужу его убеждения, она простилась с обществом, в котором выросла, но не нашла другого взамен; тех людей, что принадлежали до революции к старинному светскому кругу, именуемому ныне Сен-Жерменским предместьем, и уцелели при Терроре, не трогали несчастья, постигшие нашу семью; казалось, эти аристократы вот-вот оставят свои укрытия ради того, чтобы в один голос с любителями «Марсельезы» поносить на всех углах предателя Кюстина.
Партия осмотрительных реформаторов, партия людей, преданных своей стране и любящих ее независимо от избранной соотечественниками формы правления, — эта партия, к которой принадлежит сегодня большая часть французской нации, в ту пору еще не существовала. Отец мой пошел во имя нее на смерть, а матушка в свои двадцать два года пожинала гибельные плоды мужества своего супруга — мужества слишком возвышенного, чтобы его могли оценить люди, не постигавшие его побудительных причин. Современники не умели оценить деятельную умеренность моего отца и осыпали упреками его славную тень, обрекая тем самым матушку на нескончаемые муки; эта несчастная молодая женщина, наследница имени, олицетворяющего беспристрастность, чувствовала себя покинутой и обездоленной в мире, объятом страстями. Другим было кому излить свою печаль — матушка плакала в одиночестве. Спустя недолгое время после трагического дня, когда она стала вдовой, матушка поняла, что пора уезжать из Франции; однако для этого требовался паспорт, получить который было очень трудно; даже отъезд из Парижа навлекал на уезжающего большие подозрения, что же говорить об отъезде за границу!
Тем не менее за большие деньги матушка раздобыла себе фальшивый паспорт; она должна была выехать в Бельгию под видом торговки кружевами; тем временем нянюшка моя, та уроженка Лотарингии, о которой я упоминал выше, отправилась бы вместе со мной в Эльзас, а оттуда — в Германию, где и встретилась бы с моей матерью. Нянюшка эта, Нанетта Мальриа, родившаяся в Нидервилле, поместье моего деда, говорила по-немецки гораздо лучше, чем по-французски, и вполне могла сойти за вогезскую крестьянку, странствующую вместе с сыном; местом встречи был избран Пирмонт в Вестфалии, а оттуда матушка намеревалась отправиться в Берлин, чтобы разыскать там свою мать и своего брата.
План этот был известен только моей няне. Матушка не доверяла остальным слугам; вдобавок, заботясь об их безопасности, она хотела дать им возможность с чистым сердцем утверждать, что они ничего не знали о нашем бегстве. Спасая собственную жизнь, она не забыла об интересах челяди. Чтобы не навлечь ни на кого подозрений в пособничестве беглянке, матушка решила, одевшись в простонародное платье, покинуть дом вечером, в полном одиночестве, на полчаса позже, чем мы с няней. К балкону гостиной она собиралась привязать веревочную лестницу, дабы навести преследователей на мысль, что она спустилась на улицу ночью, тайком от слуг. Мы жили во втором этаже дома по улице Бурбон. Вещи первой необходимости, которые могли бы пригодиться матушке в путешествии, были вынесены из дому загодя и отнесены к одному из друзей, обещавшему в назначенный час передать их ей за городской заставой.
Когда все было готово, Нанетта, укрыв меня своим плащом, пошла на стоянку наемных экипажей, отправлявшихся в Страсбург, а матушка осталась дома, с тем чтобы очень скоро последовать за нами и сесть в почтовую карету, едущую в сторону Фландрии.
Она проводила последние минуты в своем кабинете, расположенном в глубине квартиры; благоговейно перебирала она бумаги, желая предать огню лишь те из них, которые могли бы навлечь опасность на людей, остававшихся в Париже и имеющих родственников или друзей в эмиграции. По большей части то были письма ее матери и брата, записки офицеров армии Конде (69) или других эмигрантов с благодарностью за присланные им деньги, тайком переправленные в столицу жалобы провинциальных жителей, подозреваемых в аристократическом происхождении, и мольбы о помощи, пришедшие от бедных родственников или друзей, покинувших Францию; одним словом, и в папке и в ящиках секретера было довольно улик, чтобы гильотинировать в двадцать четыре часа и матушку и еще полсотни человек за компанию.
Усевшись на диван подле камина, матушка начала бросать в огонь самые крамольные из писем; те же бумаги, которые казались ей не столь опасными, она складывала в шкатулку, где надеялась оставить их до лучших времен: ей было нестерпимо жаль уничтожать память о друзьях и родных! Внезапно она слышит, как открывается первая дверь ее квартиры, ведущая из столовой в гостиную; предчувствие, неизменно посещавшее ее в минуты опасности и никогда не обманывавшее, говорит ей: «Все пропало, за мной пришли!», и, не раздумывая ни секунды, понимая, что ей все равно уже не успеть сжечь все валяющиеся на столе и на диване опасные бумаги, она собирает их в кипу и бросает вместе со шкатулкой под диван, к счастью, довольно высокий и покрытый доходящим до самого пола чехлом.
Страх придал ей сил, и, успев сделать все, что нужно, она встретила входящих в кабинет людей с самым безмятежным видом.
Это и вправду были члены комитета общественного спасения и нашей секции города Парижа, явившиеся, чтобы арестовать матушку. Особы эти, столь же смешные, сколь и безжалостные, окружают матушку; перед глазами ее мелькают сабли и ружья, а она думает только о бумагах и заталкивает их ногой поглубже под диван, возле которого стоит.
— Ты арестована,(70) — говорит ей председатель секции. Она молчит.
— Ты арестована, потому что нам донесли, что ты собиралась бежать.
— Это правда, — отвечает матушка, видя в руках у председателя свой фальшивый паспорт, который незваные гости, первым делом обыскавшие ее, вынули у нее из кармана, — это правда, я собиралась бежать.
— Нам это прекрасно известно.
В это мгновение матушка замечает за спинами членов секции и комитета своих слуг.
Она тотчас видит, что у горничной совесть нечиста, и понимает, кто ее выдал. «Мне жаль вас», — говорит она этой особе. Та, плача, шепчет в ответ: «Простите меня, сударыня, я испугалась».
— Если вы бы лучше шпионили за мной, — возражает матушка, — вы бы поняли, что вам ничто не угрожало.
— В какую тюрьму тебя отвезти? — спрашивает один из членов комитета. — Ты свободна… в выборе.
— Мне все равно.
— Тогда пошли.
Однако, прежде чем покинуть квартиру, они снова обыскивают матушку, роются в шкафах, секретерах, комодах, переворачивают все вверх дном — и никому из них не приходит в голову заглянуть под диван! Бумаги остаются в целости и сохранности. Матушка старается не смотреть в сторону дивана, под которым она так стремительно и так ненадежно их спрятала. Наконец ее выводят из дома и сажают в фиакр; трое вооруженных конвоиров отвозят ее на улицу Вожирар, в бывший кармелитский монастырь, превращенный в тюрьму; двумя годами раньше его стены обагрила кровь жертв, растерзанных 4 сентября 1792 года.
Между тем друг матушки, ожидавший ее у заставы, видя, что назначенный час давно прошел, и догадываясь, что матушку арестовали, оставляет на всякий случай в условленном месте своего брата, а сам бросается на почтовую станцию, чтобы предупредить Нанетту; он успевает перехватить нас, и мы возвращаемся домой — но мамы там нет!.. все двери опечатаны, и войти можно только в кухню, где моя бедная нянюшка и устраивается на ночлег подле моей колыбели. Слуги разбежались в полчаса, не преминув, однако, разграбить запасы белья и столового серебра; дом был пуст и разорен, словно после пожара — или удара молнии.
Друзья, родственники, челядь — исчезли все; у парадной двери стоял часовой с ружьем; место привратника назавтра занял национальный гвардеец — холодный сапожник, живущий по соседству; он же был назначен моим опекуном. В этом разоренном гнезде Нанетта пеклась обо мне, как о наследном принце; восемь месяцев она окружала меня истинно материнской заботой.
Ценных вещей у нее не было, поэтому, когда небольшая сумма денег, выданная ей матушкой, подошла к концу, она, приговаривая, что никто не сможет отплатить ей за все ее жертвы, стала продавать один за другим свои убогие наряды.
Она решила, если матушка погибнет, увезти меня в свои родные края, чтобы я рос среди крестьянских мальчишек. Когда мне исполнилось два года, я заболел злокачественной лихорадкой и был на пороге смерти. Нанетта ухитрилась пригласить ко мне трех самых знаменитых парижских врачей: Порталя,(71) Гастальди(72) и третьего — хирурга, чье имя я не могу припомнить. Разумеется, для этих людей много значила репутация моего отца и деда, но они пришли бы и к незнакомому ребенку — ведь бескорыстие и рвение французских врачей славятся во всем мире; гораздо более удивительна самоотверженность моей няни; врачи человеколюбивы по обязанности, их добродетель укрепляется ученостью, и это прекрасно, но нянюшка моя была благородна и великодушна, несмотря на свою бедность, несмотря на свою необразованность, — и это возвышенно! Бедная Нанетта — деятельное существо, которое лучше умело чувствовать, нежели мыслить. Она была женщина заурядная, но с прекрасной душой и благородным сердцем. А как она была предана нам!.. Несчастья, обрушившиеся на нашу семью, сделали лишь более очевидным ее бескорыстие и мужество.
Храбрость ее доходила до безрассудства; когда шел процесс моего деда, глашатаи на рынках и площадях осыпали самой страшной бранью изменника Кюстина; встретив их, нянюшка моя останавливалась посреди толпы и принималась защищать своего хозяина; больше того, ей случалось оспаривать постановления революционного трибунала прямо на площади Революции.
«Кто смеет говорить и писать что-то дурное о генерале Кюстине? — восклицала она, презирая опасность. — Все это ложь; я родилась в его доме и знаю его лучше вас, потому что росла под его присмотром; он мой хозяин, и все вы — слышите, все вы! — его не стоите; будь на то его воля, он покончил бы с вашей паршивой революцией одним ударом своей армии, и вы, вместо того чтобы оскорблять его, валялись бы у него в ногах, потому что вы известные трусы!»
Ведя эти справедливые, но крайне неосторожные речи, Нанетта подвергала свою Жизнь огромной опасности: улицы кишели революционными гарпиями, готовыми растерзать дерзкую защитницу аристократа. Однажды, вскоре после убийства Марата, она проходила по площади Каррузель; я сидел у нее на руках. В силу той путаницы в идеях, которая характерна для смутной революционной эпохи, парижане увековечили память о певце атеизма и бесчеловечности революционным алтарем. В этой усыпальнице покоилось, если я не ошибаюсь, сердце — а может быть, и тело Марата.(73) Женщины преклоняли колена в новом святилище, молясь Бог знает какому богу, а поднявшись с колен, осеняли себя крестом и кланялись новоявленному святому. Эти противоречащие один другому жесты как нельзя более выразительно показывали, какой хаос царил в ту пору в сердцах и делах.
Выведенная из себя увиденным, Нанетта, забыв о сидящем у нее на руках ребенке, бросается к новоиспеченной богомолке и обрушивает на нее град оскорблений; благочестивая фурия в ответ обвиняет злопыхательницу в святотатстве; от слов женщины переходят к делу, удары сыплются с обеих сторон; Нанетта моложе и сильнее, но она боится за меня и потому терпит поражение; она падает на землю, теряет чепец и поднимается простоволосая, но по-прежнему крепко прижимая меня к груди; посмотреть на драку сбегаются люди, и со всех сторон раздаются крики: «Аристократку на фонарь!» Нанетту уже тащат за волосы к фонарю с улицы Святого Никеза (74), как говорили в ту пору. Какая-то женщина уже вырывает меня из рук несчастной, как вдруг мужчина, на вид еще более свирепый, чем все прочие, пробирается сквозь толпу, расталкивает молодчиков, нападающих на бедную женщину, и, нагнувшись, как если бы ему нужно было подобрать что-то с земли, шепчет Нанетте на ухо: «Притворитесь сумасшедшей; притворитесь сумасшедшей, говорю вам, иначе вам конец; думайте только о себе, не беспокойтесь за ребенка, я его сберегу, но если хотите остаться в живых, непременно притворитесь сумасшедшей!» Тут Нанетта начинает петь песенки, гримасничать. «Да она же сумасшедшая», — говорит ее покровитель, и вот уже в толпе раздаются голоса, вторящие ему: «Она просто сумасшедшая, неужели вы не видите; дайте ей пройти!» Поняв, что спасение близко, Нанетта, пританцовывая, пересекает Королевский мост, останавливается в начале улицы Бак и, забрав меня у нашего спасителя, лишается чувств. Получив этот урок, Нанетта стала держаться осторожнее ради меня; однако матушка все равно опасалась ее отваги и горячности.
В тюрьме матушка почувствовала некоторое облегчение; по крайней мере, теперь она была не одинока; очень скоро она сдружилась с несколькими достойными женщинами, разделявшими взгляды моего отца и деда. Дамы эти с трогательной приязнью и даже восхищением встретили особу, которая, не будучи лично им знакомой, уже давно вызывала их сочувствие. Со слов матушки я знаю, что в число ее товарок по несчастью входили госпожа Шарль де Ламет, мадемуазель Пико — девица любезная и даже, несмотря на суровые времена, веселая; прекрасная, как античная медаль, госпожа д'Эгийон, последняя из рода де Навай, сноха друга госпожи Дюбарри герцога д'Эгийона, и, наконец, госпожа де Богарне, прославившаяся впоследствии под именем императрицы Жозефины.
Госпожа Богарне и матушка жили в одной комнате и по очереди прислуживали одна другой.
Эти женщины, такие молодые и такие прекрасные, мужественно и даже гордо переносили свое несчастье. Матушка рассказывала мне, что не засыпала до тех пор, пока не ощущала в себе готовности мужественно взойти на эшафот; она боялась выказать слабость духа, если ночью ее внезапно разбудят и повезут в Консьержери, то есть на смерть. Госпожа д'Эгийон и госпожа де Ламет славились своим хладнокровием, а вот госпожа де Богарне, напротив, пребывала в унынии, удручавшем ее товарок по несчастью. Беззаботная, как все креолки, и чрезвычайно пугливая, она, вместо того чтобы, как остальные узницы, покориться судьбе, жила надеждой, тайком гадала на картах и открыто заливалась слезами, к вящему стыду своих подруг. Однако природа даровала ей красоту, а красота способна заменить все прочие совершенства. Ее походка, манеры и в особенности речь были исполнены удивительного очарования: впрочем, надо признаться, она не могла похвастать ни щедростью, ни искренностью; другие узницы скорбели о ее малодушии; дело в том, что все ати дамы, и прежде всего госпожи де Ламет и д'Эгийон, хотя и были брошены в тюрьму республиканским правительством, по характеру сами были республиканками, что же касается моей матери, то она не блистала республиканскими добродетелями, но таково было величавое благородство ее души, что в каждом самопожертвовании она видела пример для подражания, пусть даже вдохновившие ее предшественников чувства оставались ей чужды. Характер матушки сложился под влиянием единственного в своем роде стечения обстоятельств; никогда больше не встретить мне женщину, в которой величие души так мирно уживалось бы со светскостью манер; она усвоила себе и безупречный вкус тех говорунов, что посещали гостиную ее матери и салон госпожи де Полиньяк (75), и сверхъестественное мужество тех храбрецов, что гибли на эшафотах, воздвигнутых Робеспьером. Пленительное французское остроумие добрых старых времен соединялось в характере матушки с античным героизмом, недаром у нее, женщины с белокурой грезовской головкой, был греческий профиль.
В тюрьме ей пришлось есть из общего котла с тремя десятками узниц, принадлежавших к самым разным сословиям; в прежней жизни йзбалованнейшее существо, она даже не заметила этой новой тяготы, постигшей заключенных в самый разгар Террора. Физические муки се не пугали. Она всегда страдала только от сердечных печалей; все ее болезни были следствиями, причина же коренилась в душе.
О странном образе жизни, какой вели в ту пору обитатели тюрем, написано немало, однако, если бы матушка оставила записки, потомки почерпнули бы из них множество подробностей, по сей день никому не известных. В бывшем кармелитском монастыре мужчины содержались отдельно от женщин. Четырнадцать узниц спали в одной комнате; среди них была англичанка весьма преклонного возраста, глухая и почти слепая. Никто не мог объяснить ей, за что ее арестовали; она донимала окружающих вопросами и в конце концов получила ответ — от палача.
В мемуарах того времени мне довелось читать о старой даме, привезенной под конвоем из провинции в Париж и погибшей такой же смертью. Одни и те же беззакония повторялись многократно: жестокость так же однообразна в следствиях, как и в причинах. Борьба между добром и злом сообщает интерес жизненной драме, но когда ни у кого не остается сомнений в победе зла, монотонность жизни становится невыносимой, и скука отворяет нам адские врата. Данте помещает в один из кругов ада обреченные души, чьи тела по воле демонов продолжают действовать в земной жизни, как живые.(76) Это выразительнейший и в то же время философичнейший способ показать, к чему приводит порабощение сердца человеческого злом. Среди женщин, отбывавших заключение вместе с матушкой, была жена кукольника; ее и мужа арестовали за то, что их полишинель, на вкус властей, отличался излишним аристократизмом и при всем честном народе насмехался над папашей Дюшеном.(77)
Кукольница относилась к низвергнутым знаменитостям с величайшим почтением, благодаря чему высокородные пленницы были окружены в узилище таким же уважением, какое некогда окружало их в собственных домах. Простолюдинка прислуживала аристократкам единственно из желания доставить им удовольствие; она убирала комнату и стелила постели, она даром оказывала товаркам самые разные услуги и изъяснялась так почтительно, что узницы, давно отвыкшие от этой старинной вежливости, некоторое время полагали, что она над ними издевается; однако, когда бедную женщину вместе с мужем приговорили к смерти, она, прощаясь со своими знатными соседками, которых она также полагала обреченными на близкую гибель, прибегнула к тем же старомодным изъявлениям преданности, что и прежде. Слушая ее церемонные речи, можно было подумать, будто дело происходит в феодальном замке, владелица которого помешана на придворном этикете. В ту пору французская гражданка могла позволить себе держаться со столь дерзким смирением только в тюрьме: здесь ей не грозил арест. Было нечто трогательное в несходстве речей этой женщины, впрочем вполне заурядной, с тоном и речами тюремщиков, уверенных, что чем грубее они будут обращаться с узниками, тем больше те будут их уважать.
В определенные часы заключенным дозволялось выходить в сад на прогулку; дамы прохаживались, мужчины бегали взапуски. Обычно революционный трибунал именно в это время дня требовал на расправу очередную жертву. Если выбор падал на мужчину, а мужчина этот участвовал в игре, он без долгих слов прощался с друзьями и покидал их, после чего игра возобновлялась. Если вызывали женщину, она также прощалась с подругами, и ее уход также ничем не нарушал забав узников и узниц. Тюрьма эта представляла собой земной шар в миниатюре, с Робеспьером вместо бога. Ничто так не напоминало ад, как эта карикатура на Божье творение. Один и тот же меч висел над всеми головами, и человек, уцелевший сегодня, не сомневался в том, что его черед наступит завтра. В эту безумную эпоху нравы угнетенных были так же противны природе, как и нравы угнетателей. После пятимесячного заключения именно таким образом, как описано выше, ушел на смерть господин де Богарне.(78) Проходя мимо моей матери, он отдал ей арабское кольцо-талисман, с которым она не расставалась всю свою жизнь; теперь его ношу я.
В ту пору счет времени велся не на недели, а на декады; каждый десятый день соответствовал нашему воскресенью: в этот день никто не работал, включая палачей. Поэтому, дожив до вечера девятого дня, узники могли быть уверены, что проживут еще сутки; сутки эти казались им целым веком, и они устраивали в тюрьме праздник.
Так жила матушка после гибели мужа. Она провела в заключении полгода, до самого конца Террора; сноха одного казненного и жена другого, славная своей отвагой и красотой, арестованная за попытку эмигрировать и считавшая унизительным отрицать свою вину, раз уж ее схватили в дорожном платье и с фальшивым паспортом в кармане, она только чудом избегла эшафота. Спасло ее стечение нескольких необыкновенных обстоятельств. В течение первых двух недель после ареста ее трижды привозили из тюрьмы домой;(79) члены секции ломали печати и просматривали в присутствии обвиняемой ее бумаги. Благодарение Богу, ни один из сыщиков, занимавшихся этим тщательным досмотром, не сообразил заглянуть под большой диван, где валялись самые важные бумаги. Матушка не осмеливалась никого просить забрать их оттуда; к тому же после каждого визита все двери ее квартиры вновь опечатывались. Провидению было угодно, чтобы дознаватели, на глазах у матушки взламывавшие в той же самой комнате секретер и пускавшиеся на самые смехотворные штуки вроде поисков тайника под паркетом, не обратили ни малейшего внимания на диван.
Все это напоминает мне шутку актера Дюгазона.(80) Вы, конечно, ее не знаете, ибо что знают сегодняшние люди о наших тогдашних несчастьях? Они слишком заняты собой, чтобы интересоваться деяниями отцов. Дюгазон, комический актер, служил в национальной гвардии; однажды, обходя дозором окрестности Рынка, он остановился подле торговки яблоками. «Покажи мне свою корзину», — приказал он ей. — «Зачем?» — «Покажи корзину!» — «Да на что тебе сдалась моя корзина?» — «Я должен убедиться, что ты не прячешь под яблоками пушки».
Хотя Дюгазон был якобинцем, или, на тогдашнем языке, доблестным патриотом, подобная эпиграмма, произнесенная публично, могла ему дорого обойтись.
Вообразите же себе, как трепетала матушка, когда кто-нибудь из сыщиков приближался к месту, где лежали опасные бумаги! Она часто говорила мне, что во время этих обысков, при которых ее принуждали присутствовать, она ни разу не осмелилась взглянуть в сторону рокового дивана, хотя боялась и слишком явно отводить от него глаза.
Господь не однажды уберегал матушку от беды. Провидению не было угодно дать ей погибнуть в эти годы, и людские козни оказались бессильны ее погубить. При обысках присутствовала дюжина членов нашей секции. Они усаживались в гостиной вокруг стола и после осмотра помещения всякий раз учиняли узнице долгий и подробный допрос. В первый день этим революционным судом присяжных командовал низкорослый горбатый сапожник, уродливый и злой. Он отыскал где-то в углу башмак, сшитый, как он утверждал, из английской кожи: грозная улика! Матушка вначале возражала; сапожник настаивал. «Возможно, — сказала наконец матушка, — что вы и правы: башмак английский; вам виднее, но в таком случае этот башмак не мой — я никогда ничего не заказывала в Англии».
Обвинители приказали матушке примерить башмак — он пришелся впору. «Кто твой сапожник?» — спросил горбун. Матушка назвала имя мастера, чьи изделия в начале революции пользовались большим спросом; в ту пору он обувал всех придворных дам.
— Он дурной патриот, — сказал горбатый председатель, мучимый завистью.
— Но хороший сапожник, — возразила матушка.
— Мы хотели арестовать его, но этот аристократ где-то прячется, — с досадой воскликнул председатель, — чует кошка, чье мясо съела. Знаешь ты, где его найти?
— Не знаю, — отвечает матушка, — а если бы и знала, все равно не сказала бы.(81)
Мужественные ответы этой робкой на вид женщины; ирония, сквозившая помимо ее воли в вынужденно умеренных речах; усмешка которой она не могла сдержать при виде разыгрывавшихся перед ней сцен, равно шутовских и трагических; ее ослепительная красота, тонкость черт, безупречный профиль, траур, молодость, свежий цвет лица, золотистые кудри; чудесный взгляд, облик равно страстный и меланхолический, смиренный и мятежный; неподдельное благородство и изящная непринужденность манер, вгонявшие в краску людей, чья природная грубость выглядела принужденной и показной; ее горделивая скромность; ее слава, распространившаяся к тому времени по всей Франции; окружавший ее ореол несчастья; несравненное звучание ее серебристого голоса, трогательного и звонкого; ее французская речь, разом и жесткая и мягкая; ее умение ладить с простонародьем, ни в чем, однако, ему не потакая, наконец, женское чутье, это постоянное желание нравиться, которое действует на окружающих безотказно оттого, что является врожденным, а следовательно, естественным, — все это было так пленительно, что не могло оставить равнодушными даже судей, как бы безжалостны они ни были. Поэтому все очень скоро встали на ее сторону — все, за исключением маленького горбуна; эта упрямая злоба существа, обделенного природой, бросает, на мой взгляд, яркий луч света в глубины человеческого сердца.
Матушка прекрасно рисовала; она умела выбирать живописные предметы для картин и придавать изображению большое сходство с оригиналом. Потихоньку набрасывая в спокойные минуты фигуры окружавших ее людей, она создала прелестный эскиз страшного судилища, решавшего ее судьбу. Я видел этот рисунок: он долго хранился у нас, но, к несчастью, потерялся при одном из переездов.
При допросах присутствовал каменщик по имени Жером, один из самых ревностных якобинцев той поры, член всемогущего комитета нашей секции; он отобрал у матушки рисунок и пустил его по рукам: каждый узнал себя, а главное, все с хохотом узнали председателя, который, взобравшись на стул, чтобы казаться повыше ростом, с видом победителя размахивал злополучным английским башмаком; горб художница обозначила едва-едва — лишь постольку, поскольку этого требовала истина.
Эта подчеркнутая снисходительность жертвы к ее мучителю произвела на судей гораздо большее впечатление, чем сама карикатура; я упоминаю об этом, чтобы показать, насколько тонким умом отличались в ту пору французы, к какому бы сословию они ни принадлежали. Эти люди выросли при старом порядке, когда Франция была царством изящного. Внуки их, быть может, куда более рассудительны, но сильно уступают дедам по части вкуса и таланта.
— Глянь-ка! — хором воскликнули грозные судьи. — Глянь-ка, председатель, как гражданка тебе польстила. Да ты тут просто красавец!
И дружный смех довершил исступление сапожника, безобразного, но всемогущего, ибо в разборе преступлений, вменяемых в вину матушке, последнее слово оставалось за ним. Его ярость могла стать для узницы роковой; вышло, однако, так, что именно неосторожность матушки спасла ей жизнь. Рисунок у художницы отобрали и приобщили к документам, которые предстояло передать в революционный трибунал и которые нам возвратили уже после крушения диктатуры. Свирепый каменщик Жером, на первый взгляд сильнее всех ненавидевший обвиняемую и неизменно осыпавший ее страшной бранью, был молод; восхищенный этой женщиной, так не похожей на всех тех, кого ему доводилось видеть раньше, он решил во что бы то ни стало спасти ее от гибели на эшафоте. Он мог это сделать — и сделал.
Действовал каменщик следующим образом: он имел доступ в кабинет общественного обвинителя Фукье-Тенвиля. Там хранились списки всех заключенных, содержавшихся в парижских тюрьмах; каждая фамилия была записана на отдельном листке. Бумаги эти лежали в папке, откуда Фукье-Тенвиль ежедневно извлекал тридцать, сорок, шестьдесят, а иной раз и восемьдесят листков, неизменно беря те, что лежали сверху, и отправлял этих людей на смерть. Ведь публичные казни были в ту пору главным развлечением парижан. Списки ежедневно обновлялись за счет сведений, поступавших из всех городских тюрем. Жером знал, где лежит роковая папка, и целых полгода (82) каждый вечер тайком прокрадывался в кабинет Фукье-Тенвиля, дабы удостовериться, что листок с именем моей матери лежит в самом низу. Общественный обвинитель, большой блюститель законности, всегда клал вновь поступившие бумаги под старые, дабы не нарушать очередности, поэтому Жерому приходилось отыскивать в адской папке листок с фамилией Кюстин и перекладывать его вниз. Уничтожить этот листок было бы слишком опасно. Фукье-Тенвиль не брал на себя труд проверять фамилии, но мог пересчитать листки и обнаружить недостачу; вина пала бы на Жерома, и он в тот же день лишился бы головы; меняя же порядок бумаг, каменщик, разумеется, также совершал преступление, но менее тяжкое и труднее доказуемое. Все это, заметьте, не мои домыслы, но достоверные факты, о которых я не раз слышал в детстве от самого Жерома. Он рассказывал нам, что ночью, когда все уже расходились по домам, он иногда вновь возвращался в кабинет общественного обвинителя, опасаясь, как бы кто-нибудь вслед за ним не переменил порядок бумаг — порядок, от которого зависела судьба матушки. В самом деле, однажды Жером увидел ее фамилию на самом верху; содрогнувшись, он переложил листок вниз.
Ни я, ни те, кто вместе со мной слушали этот страшный рассказ, не осмелились спросить у Жерома, кто были те несчастные, чью жизнь он сократил ради спасения моей матери. Сама она, разумеется, узнала об уловке, избавившей ее от смерти, лишь когда вышла из тюрьмы.
Из-за ежедневных казней к 9 термидора тюрьмы почти совсем опустели и в папке Фукье-Тенвиля оставалось всего три листа бумаги, но лист с именем матушки по-прежнему лежал внизу — впрочем, это не спасло бы ее от смерти, так как кровавые зрелища на площади Революции начали надоедать публике, и Робеспьер намеревался покончить со всеми сторонниками старого порядка, устроив бойню прямо в камерах.
Матушка часто говорила мне, что если на эшафот она была готова взойти, не дрогнув, то мысль об убийцах, которые будут преследовать ее с ножом в руках, приводила ее в трепет.
В последние недели Террора прежних служителей тюрьмы, где томилась матушка, заменили люди куда более свирепые; им-то и предстояло расправиться с узниками. Они не скрывали от жертв своих планов; тюремный распорядок ужесточился, посетителей к заключенным больше не допускали, родные не осмеливались посылать им передачи; наконец, узникам запретили выходить во дворы и сады — там рыли для них могилы; по крайней мере в этом уверяли тюремщики; каждый звук, доносившийся издали, каждый шорох, долетавший со стороны города, казался обреченным людям сигналом к бойне, каждую ночь они считали последней.
Тревоги их прекратились лишь с падением Робеспьера. Приняв в расчет это обстоятельство, нельзя не отвергнуть предположения некоторых чересчур изощренных историков Террора, утверждавших, что Робеспьер пал только оттого, что был лучше своих противников. В самом деле, сообщники его сделались ему врагами лишь после того, как начали бояться за собственную жизнь; их главная заслуга состоит в том, что они вовремя испугались и, спасая себя, спасли Францию, которая, осуществи Робеспьер свои намерения, непременно превратилась бы в логово диких зверей. Переворот 9 термидора был заговором бандитов,(83) бунтом разбойников — согласен, но разве становится главарь банды порядочным человеком оттого, что сообщники однажды взбунтовались и прикончили его? Ложное великодушие ведет к неправому суду; это — опасное чувство, ибо, соблазняя добрых людей, оно заставляет их забыть о том, что порядочный человек должен ставить правду и справедливость превыше всего.
Говорят, что Робеспьер от природы не был жесток, — какая разница? Робеспьер — сама зависть, получившая абсолютную власть. Зависть эта, плод заслуженных унижений, какие аррасский чиновник (84) испытывал при старом порядке, внушила ему идею мести — идею столь ужасную, что, даже зная, какая подлая была у него душа и какое каменное сердце, мы с трудом можем вообразить себе воплощение этой идеи. Робеспьер производил арифметические действия с целой нацией, прилагал алгебру к политическим страстям, писал кровью, считал отрубленными головами — и Франция безропотно сносила все это. Хуже того, сегодня она внимательно выслушивает ученых мужей, ухитряющихся оправдывать подобного человека!!(85) Он не брал чужого… но и тигр убивает не только тогда, когда хочет есть. Робеспьер не был жесток, говорите вы, он не наслаждался зрелищем пролитой крови — но он проливал ее, а это самое страшное. Пусть тот, кто хочет, изобретает новый термин для обозначения обдуманного политического убийства, главное — навсегда заклеймить эту чудовищную добродетель. Извинять убийство тем, что делает его особенно отвратительным, — хладнокровием и расчетливостью убийцы — значит соучаствовать в одном из тягчайших преступлений нашей эпохи, извращении человеческого разума. В наши дни, повинуясь ложной чувствительности, люди беспристрастности ради ставят на одну доску добро и зло; дабы лучше устроиться на земле, они разом отменяют и небеса, и преисподнюю! Дошло до того, что наше поколение почитает преступлением одну-единственную вещь — осуждение преступника, восхищается только одним — отсутствием убеждений. Ведь иметь собственное мнение — значит погрешить против справедливости… не суметь понять другого человека. А нынешняя мода велит понимать всех и вся.
Вот до каких софизмов довело нас так называемое смягчение нравов, смягчение, представляющее собой не что иное, как величайшую нравственную неразборчивость, глубочайшее отвращение от религии и постоянно возрастающую жажду чувственных наслаждений… Впрочем, терпение!! Человечество знавало и времена куда более страшные. Через два дня после 9 термидора почти все парижские тюрьмы опустели.
Госпожа де Богарне (86), приятельница Тальена, вышла на свободу немедленно и была встречена с превеликим почетом; вернулись домой госпожа д'Эгийон (87) и госпожа де Ламет,(88) о матушке же забыли, и она осталась в почти полном одиночестве в бывшем кармелитском монастыре, утратившем к этому времени даже свою страшную славу. На глазах матушки ее благородные товарищи по несчастью сменяли у кормила власти зачинщиков Террора, а те, благодаря происшедшим в политике переменам, заполняли тюрьмы, где еще недавно томились их жертвы. Утверждая, что их цель — отмщение тиранам, якобинцы научили быть тиранами всех французов, и теперь гибли, сраженные своим собственным оружием. Все родственники и друзья матушки покинули Париж; не нашлось никого, кто бы протянул ей руку помощи. Жером, в свой черед объявленный преступником как соратник Робеспьера, вынужден был скрываться от властей и не мог позаботиться о своей бывшей подопечной.
Так, всеми покинутая, страдая едва ли не сильнее, чем в ту пору, когда ей ежедневно грозила смертная казнь, матушка провела два ужасных месяца; она не раз говорила мне, что эти два месяца были самым тяжким из всех выпавших ей на долю испытаний. Меж тем политические партии продолжали борьбу; власть вот-вот могла вновь перейти в руки якобинцев. Если бы не мужество Буасси д'Англа, убийство Феро подало бы сигнал к началу нового Террора, гораздо более страшного, чем предыдущий;(89) матушка знала все это, ибо страшные известия доходят до узников без промедления. Она мечтала увидеться со мной; я был при смерти: няня отвечала, что я болен; матушка плакала и горевала. Наконец, выходив меня и видя, что о моей матери все забыли, Нанетта решила позаботиться о ней сама. На бульваре Тампль находилась в ту пору фарфоровая мастерская богача Диля; сюда поступили полсотни рабочих, трудившихся прежде на фарфоровой мануфактуре моего деда в Нидервилле. Великолепная эта мануфактура долгое время позволяла зарабатывать на жизнь множеству вогезцев; после того как ее конфисковали вместе с остальным имуществом генерала Кюстина, производство остановилось; тех из рабочих, которые отправились в Париж, нанял Диль. Среди них был и Мальриа, отец Нанетты. К этим-то людям, в ту пору пребывавшим на вершине власти, моя няня пришла с просьбой позаботиться об их бывшей хозяйке. В годы Революции рабочие часто слышали имя молодой госпожи де Кюстин; впрочем, память о ней и без того жила в их сердцах. Рабочие охотно поставили свои подписи под прошением, сочиненным Нанеттой, говорившей и писавшей на том французском, какой в ходу у лотарингских немцев, после чего моя няня самолично отнесла эту бумагу к бывшему мяснику Лежандру(90), возглавлявшему в ту пору канцелярию, куда поступали все прошения касательно заключенных, обращенные к коммуне города Парижа.
Бумагу приняли и бросили в шкаф, где уже пылились сотни подобных прошений. Никто и не подумал ее прочесть — а ведь от этого зависела человеческая судьба!!!
Однажды вечером трое молодых помощников Лежандра, Россинье и двое других, чьих имен я не помню, явились в полутемную канцелярию и, будучи слегка навеселе, принялись бегать наперегонки, прыгать по столам, бороться, — одним словом, творить всякие безумства. Разыгравшись, они сильно толкнули шкаф, и оттуда посыпались разные бумаги; Россинье поднял одну из них.
— Что это у тебя? — спросили Россинье приятели.
— Прошение, конечно, — отвечал он.
— Это понятно, но за кого? Шалопаи позвали слугу и приказали принести лампу. Ожидая его возвращения, они смеху ради поклялись тем же вечером заставить Лежандра подписать попавшее им в руки прошение и немедленно сообщить узнику радостную весть об освобождении.
— Клянусь, что я его выпущу, будь он сам принц Конде, — сказал Россинье.
— Давай-давай, — захохотали в ответ его приятели, — тем более что принц Конде не арестован.
Наконец друзья прочли прошение — это оказалась бумага, сочиненная Нанеттой и подписанная рабочими из Нидервилле. Позже участники этой сцены сами пересказали ее во всех подробностях моей матери.
— Какое счастье! — вскричали молодые люди. — Это красотка Кюстинша, вторая госпожа Ролан!(91) Мы втроем вызволим ее из тюрьмы. Тем временем Лежандр, ничуть не более трезвый, чем его помощники, возвращается в час ночи к себе в контору; три шалопая подсовывают пьянице прошение, от которого зависит судьба моей матери, и он ставит на нем свою подпись, после чего трое юнцов отправляются в бывший кармелитский монастырь(92) и в три часа ночи стучат в дверь комнаты, где матушка в ту пору обитала в полном одиночестве.
Она не пожелала ни отворить им дверь, ни покинуть тюрьму. Сколько бы юноши ни настаивали, как бы красноречиво — хотя и кратко — ни расписывали случившееся, узница не соглашалась сесть среди ночи в карету с незнакомыми мужчинами; к тому же она понимала, что Нанетта не ждет ее в такой час, поэтому она не поддалась на уговоры своих избавителей, и те смогли добиться лишь позволения вернуться за ней в десять утра. Так, проведя в тюрьме восемь страшных месяцев, матушка добровольно продлила на несколько часов срок своего заточения. Когда она наконец покинула тюрьму,(93) молодые люди вторично, на сей раз куда более подробно объяснили ей, какие обстоятельства привели к ее освобождению, и убедили, что она никому ничем не обязана. Дело в том, что в ту пору свобода сделалась предметом купли-продажи; стоило несчастным узникам, в большинстве своем вконец разоренным революцией, выйти из тюрьмы, как мошенники, якобы способствовавшие перемене их участи, начинали вымогать у них деньги за услугу. Одна знатная дама, приходившаяся матушке довольно близкой родственницей, не постыдилась потребовать у нее тридцать тысяч франков, которые она, по ее словам, истратила на подкуп лиц, способствовавших матушкиному освобождению. Матушка в ответ рассказала историю, услышанную от Россинье, после чего родственницы и след простыл. Что ждало матушку дома? В разоренной квартире двери были по-прежнему опечатаны; мы с няней ютились на кухне; мне исполнилось два с половиной года; после болезни, едва не сведшей меня в могилу, я оглох и выглядел слабоумным. Груз этих впечатлений оказался матушке не по силам; она мужественно сопротивлялась страху смерти: величие жертвы, которую она готовилась принести, укрепляло ее тело и дух, помогало быть ежедневно готовой к казни; но нищеты она не снесла. На следующий день после возвращения домой она заболела желтухой, от которой оправилась только пять месяцев спустя; с тех пор до конца жизни она страдала болезнью печени, что, впрочем, не мешало ей сохранять превосходный цвет лица.
Через полгода матушка немного разбогатела: ей возвратили тот клочок земель ее мужа, что еще не был продан.(94) К этому времени и она и я выздоровели.
— Как вы думаете, сударыня, на что вы жили после выхода из тюрьмы? — спросила ее однажды Нанетта.
— Не знаю; я ведь была больна. Ты продала серебро?
— Серебра уже давно нет в помине.
— Белье, драгоценности?
— У нас не осталось ровно ничего.
— На что же в таком случае мы жили?
— На деньги, которые каждую неделю присылал мне из своего убежища Жером; он строго наказал мне ничего не говорить вам, но теперь, сударыня, когда вы можете вернуть ему долг, я решила открыть вам этот секрет. Я все записывала: вот счет.
Матушка сумела спасти своего спасителя, заочно осужденного вместе с прочими участниками Террора: она спрятала его, а затем помогла ему бежать в Америку.
Вернулся он на родину лишь в эпоху Консульства; в Америке он сколотил небольшое состояние, которое приумножил, занимаясь в Париже торговлей земельными участками и домами.
Матушка обращалась с ним как с другом; бабушка моя, госпожа де Сабран, и мой дядя, возвратившись из эмиграции, осыпали его благодарностями — и все же он не пожелал стать завсегдатаем нашей гостиной. Он говорил матушке (я не воспроизвожу его слов буквально, ибо он был родом из Бордо и уснащал свою речь грубейшей бранью), так вот, он говорил примерно следующее: «Я зайду вас повидать, когда вы будете одна; вместе с другими гостями я приходить не стану. Ваши друзья примутся глядеть на меня как на диковинного зверя; вы — добрая душа и пригласите меня приходить еще, но я буду скверно себя чувствовать в вашей гостиной, а мне это не по нраву. Я рос не так, как вы, я говорю не так, как вы; нас учили разным вещам. Вы отплатили мне услугой за услугу — мы квиты. Безумные времена на миг сблизили нас; мы всегда сможем положиться друг на друга, но ладить мы не сумеем».
До последних дней своей жизни Жером следовал этим принципам. Матушка всегда оставалась ему верным и обязательным Другом; я перенял от нее чувство признательности к Жерому, и все же его лицо и повадка казались мне удивительными.
Жером никогда не говорил ни о политике, ни о религии; он безгранично доверял матушке и делился с нею всеми своими домашними горестями. Мы видели его не очень часто; умер он, когда я был еще ребенком, — в начале Империи.
Когда размышляешь о несчастьях, обрушившихся на мою мать, и о божественном заступничестве, столько раз спасавшем ее от смерти, исполняешься уверенности, что Господь уберег эту молодую женщину для радостей, способных вознаградить ее за все прошлые муки. Увы! на этом свете награды она не обрела. Разве не следовало мужчинам почтительно склоняться перед той, кого преследовала судьба и спасало небо, разве не следовало им стараться изгладить из ее памяти горестное прошлое? Но мужчины думают только о себе. Прекраснейшие годы своей чудом сохраненной жизни матушка потратила на борьбу с нищетой.
От огромного состояния моего деда, конфискованного и проданного за бесценок в пользу нации, нам остались одни долги. Правительство не утруждало себя расчетами с заимодавцами; оно забирало себе имущество, а уплату повинностей возлагало на Тех, кого само лишило каких бы то ни было средств к существованию.
Два десятка лет тянулись разорительные процессы, и лишь такой ценой мы сумели вырвать, с одной стороны, у нации, а с другой, у огромного числа несговорчивых кредиторов ту часть дедова состояния, что причиталась мне; я был кредитором, а не наследником своего деда, а матушка — моей опекуншей. Из любви ко мне она больше не вышла замуж;(95) к тому же, поскольку супруг ее погиб на плахе, она не чувствовала себя такой же свободной, как другие вдовы. Денежные наши дела, сложные и запутанные, постоянно мучили ее; вся моя юность прошла под знаком хлопот, связанных с нескончаемой ликвидацией имущества, как детство мое прошло под знаком ужаса перед эшафотом. Вечно колеблясь между страхом и надеждой, мы жили, борясь с нуждой; нам сулили богатство, но очень скоро непредвиденное препятствие, хитрость крючкотворов или проигранный процесс снова ввергали нас в нищету. Если я люблю роскошь, то причиной тому — лишения, которые мне пришлось претерпеть в ранней юности и которые на моих глазах сносила матушка. Меня мучила тягота, обычно неведомая детям, — нужда в деньгах; я был так близок с матерью, что видел все ее глазами. Впрочем, и на долю матушки выпадали счастливые мгновения. Через год после освобождения из тюрьмы она получила паспорт и, оставив меня в Лотарингии на попечении неизменной Нанетты, отправилась в Швейцарию, где ожидали ее мать и брат, не осмеливавшиеся пересечь границу Франции. Встреча эта, хотя и оживила воспоминания о прежних горестях, послужила всей семье немалым утешением.
Госпожа де Сабран считала свою дочь погибшей; она вновь увидела ее и убедилась, что несчастья лишь приумножили красоту молодой женщины и уподобили ее розе из романса, который, благодаря его тайному символическому смыслу, пользовался в ту пору в Европе огромной славой. Бабушка моя, живя в эмиграции, не могла во время Террора переписываться с дочерью, но ей удалось переправить в тюрьму трогательные и остроумные строки, написанные на мотив Жан-Жаковой песенки(96):
На мотив: «Я посадил его, взлелеял…»
Куст роз, взращенный мной, люблю я, Но мало тешил он меня! Пришлось бежать мне, негодуя И участь горькую кляня. Прелестный куст, не спорь с грозою: Пред слабостью бессилен гнев. Клонись под ветрами главою, Чтоб выжить, беды одолев. Я часто проливаю слезы, Былые вспоминая дни: Тогда я видел только розы, А ныне — тернии одни. Живу, судьбе моей покорен, Я от тебя вдали, но все ж Пустил ты в сердце прочный корень И в памяти ты не умрешь! Так зеленей и взоры радуй! Хочу, чтоб вынес бурю ты И стал моей зимы усладой, Даря мне пышные цветы.[7]Желание исполнилось, розовый куст расцвел вновь, а дети снова припали к материнской груди.
Поездка в Швейцарию стала одним из счастливейших событий в жизни моей матери. Бабушка моя принадлежала к числу умнейших и любезнейших женщин своего времени; дядя мой, Эльзеар де Сабран, не по годам прозорливый, учил старшую сестру постигать красоты незнакомого ей величественного края. Рассказы матушки об этой поре были исполнены поэтического очарования; на смену трагедии пришла пастораль.
Узы дружбы связывали госпожу де Сабран с Лафатером(97), и она отвезла свою дочь в Цюрих, дабы представить ее оракулу тогдашней философии. Взглянув на матушку, великий физиогномист воскликнул, обращаясь к госпоже де Сабран:
— О сударыня! Вы счастливейшая из матерей! Дочь ваша — само чистосердечие! Никогда еще я не видел лица столь прозрачного — по нему можно читать мысли.
Возвратившись во Францию, матушка поставила перед собой две цели, сливавшиеся для нее воедино: вернуть мне утраченное наследство и дать мне образование. Достижению этих целей она посвятила свою жизнь; ей я обязан всем, что знаю и имею.
Матушка сделалась центром кружка, в который входили замечательнейшие люди того времени, и среди них господин де Шатобриан, остававшийся ее другом до последних дней(98)
Даровитая художница, она ежедневно проводила по пять часов после полудня перед мольбертом. Она чуждалась света: он смущал, утомлял, пугал ее. Она слишком скоро постигла его сущность. Эта ранняя опытность легла в основу ее мрачной философии;(99) впрочем, от рождения до последних дней жизни она отличалась великодушием — добродетелью людей преуспевающих. Робость ее сделалась среди домашних притчей во языцех: родной брат говорил, что гостиная для нее страшнее эшафота. При Империи матушка и ее друзья постоянно находились в оппозиции и не скрывали своих взглядов; после гибели герцога Энгиенского(100) матушка ни разу не бывала в Мальмезоне и не виделась с госпожой Бонапарт. В 1811 году, дабы избавиться от преследований имперской полиции,(101) она отправилась вместе со мной в Швейцарию и Италию;(102) она объездила все уголки обеих этих стран, взбиралась на ледники, в том числе на вершину Мон-Гри, находящуюся между водопадом Точчья и деревней Обергестлен, что в Верхнем Вале, одолевала пешком или верхом самые опасные альпийские перевалы, не выказывая ни страха, ни усталости: ей не хотелось ни помешать мне увидеть все это, ни оставить меня одного. Зиму она провела в Риме, где в ее гостиной стало собираться очаровательное общество; хотя она была уже немолода, чистота ее черт поразила Канову.(103) Ей нравилось простодушие великого скульптора, ее пленяли его венецианские рассказы. Однажды я сказал ей:
— С вашим романическим воображением вы, чего доброго, выйдете за Канову!
— Не дразни меня, — отвечала она, — не будь он маркизом д'Искья, я бы за себя не поручилась.
В этом ответе сполна высказалась вся ее душа. Матушки не стало 13 июля 1826 года. Умерла она от той же болезни, что и Бонапарт.(104) Недуг этот, давно подтачивавший ее здоровье, обострился из-за трагической гибели моей жены и моего единственного сына;(105) она отдавалась страданию так же глубоко, как другие отдаются наслаждению. Именно в ее честь госпожа де Сталь, близко знавшая и нежно любившая ее, назвала героиню своего первого романа Дельфиной.(106)
В пятьдесят шесть лет она была еще так красива, что пленяла чужестранцев, не знавших ее в молодости и потому не подвластных чарам воспоминаний.[8]
ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ
Разговор с любекским трактирщиком. — Его мысли о русском характере. — Различия в настроении русских, покидающих родину и возвращающихся назад. — Поездка из Берлина в Любек. — Безосновательное огорчение. — Мысли обретают реальность. — Дурно употребленное воображение. — Местоположение Травемюнде. — Особенность северных пейзажей. — Образ жизни голштинских рыбаков. — Удивительное величие равнинных пейзажей. — Северные ночи. — Цивилизация учит наслаждаться красотами природы. — Я еду в Россию, чтобы увидеть степи. — Кораблекрушение «Николая I». — Благородное поведение француза- сотрудника датского посольства. — Имя ко остается неизвестным. — Нечаянная неблагодарность. — Император разжалует капитана «Николая I». — Дорога из Шверина в Любек. — Черта характера одного дипломата. — Немцы — прирожденные царедворцы. — Хозяйка травемюндской купальни. — Картина нравов. — Десять лет спустя. — Юная девица стала матерью семейства. — Размышления.
Травемюнде, 4 июля 1839 года (107)
Сегодня утром любекский трактирщик(108), узнав, что я скоро отплываю в Россию, вошел ко мне в комнату с таким сочувственным видом, что я не мог не засмеяться: этот человек гораздо более проницателен, остроумен и насмешлив, чем можно предположить по его жалостливому тону и французской речи. Узнав, что я путешествую исключительно ради собственного удовольствия, он с немецким добродушием начал отговаривать меня от поездки.
— Вы знаете Россию? — спросил я у него.
— Нет, сударь, но я знаю русских; они часто проезжают через Любек, и я сужу о стране по лицам ее жителей.
— Что же такое страшное прочли вы на их лицах, раз уговариваете меня не ездить к ним?
— Сударь, у них два выражения лица; я говорю не о слугах — у слуг лица всегда одинаковые, — но о господах: когда они едут в Европу, вид у них веселый, свободный, довольный; они похожи на вырвавшихся из загона лошадей, на птичек, которым отворили клетку; все — мужчины, женщины, молодые, старые — выглядят счастливыми, как школьники на каникулах; на обратном пути те же люди приезжают в Любек с вытянутыми, мрачными, мученическими лицами; они говорят мало, бросают отрывистые фразы; вид у них озабоченный. Я пришел к выводу, что страна, которую ее жители покидают с такой радостью и в которую возвращаются с такой неохотой, — дурная страна.
— Быть может, вы правы, — возразил я, — зато ваши наблюдения свидетельствуют, что русские вовсе не так скрытны, как о них говорят; я полагал, что они прячут свои чувства гораздо более тщательно.
— Таковы они у себя дома, но нас, простаков-немцев, они не опасаются, — отвечал трактирщик с лукавой улыбкой. «Вот человек, который очень боится, как бы его не приняли за простака», — весело подумал я. Только тот, кто сам много странствовал, способен понять, как сильно зависит репутация народа от суждений путешественников, нередко весьма легкомысленных по лености ума. Нет человека, который не старался бы оспорить мнение, сложившееся у чужестранцев о его нации.
Разве не притязают парижские женщины на простоту и естественность? Вдобавок, нет ничего более противоположного, чем русский и немецкий характеры.
Поездка моя из Берлина в Любек была бесконечно грустна. Надуманная печаль, не имевшая, надеюсь, ни малейших оснований, причинила мне нешуточную боль; воображение — умелый палач. Не могу понять, отчего я так часто думаю, что с теми, кого я люблю, приключилась беда, не сомневаясь при этом, что те, кто мне безразличен, пребывают в полной безопасности. Сердце мое живет грезами.
Посулив написать мне с первой же почтой, вы внезапно замолчали, и молчание ваше стало казаться мне неопровержимым доказательством постигшего вас ужасного несчастья; мне представлялось, что кучер ваш опрокинул карету, что вы ранены, а может быть, даже убиты: ведь кругом ежедневно творятся вещи необычайные и непредвиденные. Стоило этой мысли забрезжить в моем уме, как она завладела мною безраздельно; экипаж мой наполнился призраками. Когда подобная горячка охватывает душу, самые страшные подозрения мигом укореняются в ней; воображение не знает удержу, неопределенность стократ усиливает опасность, всякое мрачное предположение тотчас принимается на веру; после двух недель, проведенных в такой тревоге, жить больше не хочется; так, делаясь добычей расстояния, рождающего иллюзии, бедное сердце терзает самое себя; кажется, оно вот-вот разорвется, так и не узнав о причине убивающего его горя, а если все еще бьется, то лишь для того, чтобы в тысячный раз претерпеть ту же пытку. Все может случиться, значит, несчастье уже случилось: вот логика отчаяния!.. Отчаявшаяся душа видит в собственной тревоге доказательство той беды, вероятность которой и питает эту тревогу.
Кому неведомы подобные терзания? Но никто не страдает от них так часто и так сильно, как я. О! душевные муки вселяют в нас страх смерти, ибо смерть кладет конец лишь мукам телесным.
Вот до чего доводит меня ваша небрежность, ваше нерадение!.. Нет, я не создан для путешествий; во мне живут два человека: ум мой влечет меня на край света, чувствительность приказывает сидеть дома. Я странствую по миру так охотно, словно мне скучно дома; я привязываюсь к людям так крепко, словно мне не по силам покинуть их родные края. Как! говорил я себе, покамест я еду в Петербург для собственного развлечения, в Париже хоронят дорогое мне существо; два эти одновременные события являлись моему взору во всех ужасных подробностях, ярких, как иллюзии, и горьких, как правда. От этого детального сравнения моей жизни и вашей смерти волосы у меня на голове стали дыбом, а ноги едва не отнялись; фантасмагория была столь реальна, что я воспринимал ее всеми пятью чувствами: не химеры, но объемный мир выступал из небытия по зову моего страдания. Для нас грезы действительнее яви, ибо у души больше общего с призраками, рожденными ее воображением, нежели с внешним миром. Я грезил наяву. Переход от подозрений к уверенности свершился так стремительно, что я впал в исступление. Я был безутешен; я испускал вопли ужаса и твердил себе скорбный припев: «Это сон, но сны нередко оказываются вещими…»
О! если бы правящий нами рок был поэтом, кто захотел бы жить? Богатое воображение шутит такие жестокие шутки!.. К счастью, рок — орудие в руках Господа, который больше, чем поэт. Каждое сердце таит в себе собственную трагедию, как и собственную смерть; однако поэт, живущий в глубине нашей души, — пророк, часто путающий тот и этот свет; на земле сбываются далеко не все его предвещания.
Сегодня утром свежий луговой воздух, красота неба и моря, безмятежность и однообразие природы по пути в Травемюнде(109) усыпили этот тайный голос и, как по волшебству, рассеяли те бесконечные грезы, что мучили меня уже три дня кряду. Если перед моими глазами уже не стоит картина вашей смерти, то не оттого, что я прислушался к голосу разума; что может сделать разум против посягательств сверхъестественной силы? Просто я устал от безрассудных страхов и на душу мою снизошел покой — нежданный, а потому весьма непрочный. Боль, не вызванная никакой причиной и так же беспричинно стихнувшая, в любую минуту может воротиться; слово, облако, промелькнувшая птица могут неопровержимо доказать мне, что я успокоился напрасно; убедили же меня сходные доводы, что напрасной была моя тревога.
За последние десять лет Травемюнде украсился многими новыми постройками, которые, к счастью, не изуродовали его облик. Великолепная дорога, уютная, как колыбель, ведет от Любека к морю; по этой грабовой аллее, идущей мимо садов и затерянных в зелени деревушек, почтовые лошади рысцой доставят вас к устью реки. Ни на одном морском берегу не видел я столь пасторальной картины. Деревни показались мне более оживленными, чем прежде, хотя места кругом тихие, безлюдные; луга здесь подходят к самой воде, соленые волны омывают пастбища, по которым гуляют многочисленные стада.
Эти плоские берега придают Балтийскому морю сходство с озером, а всему здешнему краю — сверхъестественную безмятежность; попавший сюда путешественник ощущает себя в Вергилиевых Елисейских полях, населенных счастливыми тенями.(110) Несмотря на бури и рифы, Балтика не внушает мне тревоги. Воды заливов — коварнейшие из всех морских вод, но они не потрясают воображение так сильно, как бескрайняя морская гладь; человека, стоящего на берегу великого Океана, пугает прежде всего идея бесконечности. В порту Травемюнде звяканье коровьих колокольчиков смешивается со звоном пароходных колоколов. Это мимолетное вторжение современной промышленности в жизнь пастушеского края непритязательно, но исполнено поэзии. Здешний пейзаж осеняет душу целительным покоем; здесь можно не опасаться наступления современности; хотя кругом — открытая всем взорам и всем путникам равнина, здесь чувствуешь себя уединенно, как на острове. В этих широтах покой неотвратим: здесь ум дремлет, а время складывает крылья. Жители Голштинии и Мекленбурга красивы покойной красотой, гармонирующей с тихой, безмятежной природой и холодным климатом их родного края. Здесь все взаимосвязано: свежий цвет лица, ровная почва, монотонность привычек и пейзажей.
Тяготы рыбной ловли в зимнее время, когда для того, чтобы добраться до воды, приходится идти не меньше трех миль по льду, перешагивая через страшные трещины, — единственное, что вносит в скучное существование здешних жителей некое поэтическое разнообразие. Не будь этих зимних походов, уроженцы побережья вечно дремали бы подле каминов, укрывшись овчинными полушубками. Летнее нашествие любителей морских купаний дает крестьянину возможность заработать деньги на год вперед и, казалось бы, освобождает от необходимости приниматься зимой за столь опасный и утомительный промысел — однако не хлебом единым жив человек. Для обитателей Травемюнде зимний лов рыбы — излишняя роскошь; добровольно вступая в борьбу с опасностями, подстерегающими их в это суровое время года, рыбаки зарабатывают деньги на покупку вещей, не относящихся к числу насущных: перстней, серег, золотых цепочек для возлюбленных, ослепительных шелковых галстуков для самих себя. Одним словом, травемюндский рыбак рискует жизнью среди волн и льдов не ради того, чтобы обеспечить себе пропитание, но ради того, чтобы украсить себя и тех, кого он любит; не будь он существом, стоящим гораздо выше животного, он не подвергал бы себя этой бесполезной опасности; потребность в роскоши — следствие благородства нашей натуры, и заглушить ее способно лишь чувство еще более благородное. Несмотря на все его однообразие, этот край мне нравится. Кругом великолепная растительность. Нынче 5 июля, а зелень кажется совсем новой и свежей; жасмин в садах только-только начинает цвести. Солнце в здешних ленивых широтах встает поздно, как большой барин, и гостит на небе очень недолго; весна наступает только в июне, а лето, едва начавшись, тотчас кончается; впрочем, если лето здесь коротко, то дни длинны. Вдобавок весь этот горизонтальный пейзаж, где земля едва заметна, а почти все пространство занято небом, исполнен некоего величественного покоя; глядя на эту плоскую землю, расположенную вровень с морем и, кажется, плавно в него переходящую, на эту гладкую поверхность, незнакомую с разрывами земной коры, на эту равнину, которой не грозят ни природные, ни общественные катаклизмы, испытываешь восхищение и нежность, словно перед лицом юного и невинного существа. Здесь я вкушаю очарование идиллии и отдыхаю от драматического бесстыдства наших романов и комедий; эта сельская местность не может похвастать живописными видами, но зато во всей Европе вы не найдете ничего на нее похожего. Прогулка по берегу моря в десять вечера, когда на землю спускаются сумерки, пленительна; в воздухе царит торжественная тишина; жизнь словно приостанавливается, ничто не затрагивает наших чувств, и они отдыхают, недоступные для мира; взор мой, теряясь среди бледных северных светил, покидает землю, или, точнее, упирается в одну точку, отказывается смотреть куда бы то ни было, а ум, расправив крылья в тех смутных просторах, где он парит обычно, вырывается из низших сфер, дабы вольно взмыть выше зримого неба. Но очарование этого края способен оценить лишь тот, кто приехал издалека. Ценить природу по достоинству умеют лишь цивилизованные чужестранцы; неотесанные местные жители не наслаждаются окружающим их миром так, как мы; одно из величайших завоеваний общества состоит в том, что оно помогает горожанам постичь красоту сельского пейзажа; именно цивилизация учит меня наслаждаться зрелищем этого края, открывающего нам, какой была первобытная природа; я бегу салонов, бесед, удобных постоялых дворов, ровных дорог — одним словом, всего, что возбуждает любопытство и восторг людей, рожденных в обществах полуцивили-зованных, и, невзирая на мою нелюбовь к морю, взойду завтра на корабль и с радостью снесу все тяготы жизни на его борту, лишь бы он отвез меня в страну пустынь и степей… степи! уже само это восточное слово(111) вселяет в меня предчувствие природы неведомой и чудесной; оно пробуждает во мне желание, заменяющее молодость и отвагу и напоминающее, что я родился на свет для того, чтобы путешествовать; так судил рок. Признаться ли? Быть может, я никогда не отправился бы в это путешествие, не будь в России степей. Боюсь, что рядом с современниками и соотечественниками я навсегда останусь юнцом!.. Коляска моя уже на палубе, пакетбот, на котором мне предстоит плыть, по словам русских, — одно из прекраснейших паровых судов в мире. Называется он «Николай I». В прошлом году, во время плавания из Петербурга в Травемюнде, на нем случился пожар;(112) наш рейс — второй после ремонта. Воспоминание о катастрофе вселяет в пассажиров некоторый страх. История этого кораблекрушения делает честь нам, французам, ибо один из находившихся на борту наших соотечественников выказал в страшный час исключительное благородство и мужество.
Дело было ночью, судно плыло в виду мекленбургских берегов; капитан безмятежно сражался в карты с пассажирами. Друзья его, стараясь найти ему оправдание, утверждали, что он знал о грозящем кораблю несчастье, но, поняв с первого взгляда, что надежды потушить пожар нет, дал тайный приказ как можно скорее подойти к мекленбургским берегам и посадить корабль на мель, дабы уменьшить опасность. При этом, добавляли те же друзья, он героически хранил хладнокровие, дабы пассажиры как можно дольше оставались в неизвестности и не мешали спасению корабля; вы скоро узнаете, как оценил это хваленое хладнокровие Император!..
На борту «Николая I» находилось три десятка детей и множество женщин. Первой заметила опасность одна русская дама; она подняла тревогу среди экипажа. Огонь уже охватил деревянные части корабля, из-за несовершенства конструкции располагавшиеся слишком близко к топке. Дым начал проникать в каюты. Узнав о неминуемой гибели, моряки в ужасе возопили: «Пожар! Пожар! Спасайся, кто может!» Дело происходило в октябре, стояла глубокая ночь, корабль отделяла от берега целая миля; что бы там ни говорили о тайных приказах, якобы отданных капитаном, огонь, разом показавшийся в нескольких местах, был для всей команды полнейшей неожиданностью; в ту же секунду корабль врезался в песчаное дно и колеса его остановились. В толпе воцарилось гробовое молчание: даже женщины и дети не произносили ни слова, охваченные глубоким оцепенением. К несчастью, мель, на которую село судно, была своего рода островом, со всех сторон окруженным глубокими водами, которые невозможно перейти вброд; хорошо еще, что погода стояла безветренная. Матросы бросились к помпам, принялись таскать воду ведрами, пытаясь остановить продвижение огня; капитан тем временем приказал спустить на море шлюпку и начать перевозить пассажиров на берег. Было ясно, что маленькой шлюпке придется совершить далеко не один рейс. Решили, что вначале следует перевезти на сушу женщин и детей.
Самые нетерпеливые из пассажиров, рискуя жизнью, стали выпрыгивать за борт, на мель; юный француз, о котором я упоминал, прыгнул одним из первых и проявил недюжинную проворность: по своей охоте взяв на себя обязанности матроса, он несколько раз перелезал из шлюпки на корабль и с корабля в шлюпку, помогая женщинам и детям спускаться вниз. Хотя положение с каждой минутой становилось все опаснее, он окончательно покинул охваченный пламенем пакетбот, лишь когда на борту не осталось ни одного пассажира. Несколько женщин обязаны жизнью его самоотверженности: он не раз бросался им на помощь вплавь и позже расплатился за свое великодушие тяжелой болезнью. Говорят, что юноша этот — сотрудник французского посольства в Дании, путешествовавший для собственного удовольствия. Имя его мне неизвестно, но не я тому виной: со вчерашнего дня я пытаюсь узнать его у двух десятков человек, но безуспешно. Не прошло и года с тех пор, как он совершил подвиг человеколюбия, а имя его уже забыто в том самом краю, что был свидетелем его героизма. Я ручаюсь за все подробности своего рассказа; я знаю их от женщины, которая сама была на борту гибнущего судна, и теперь мне кажется, будто катастрофа происходила на моих глазах; собеседница моя, подобно всем другим очевидцам, восхищалась самоотверженностью юного француза, но и она не удосужилась узнать имя человека, спасшего столько несчастных. Вот новое доказательство того, что при любых обстоятельствах беспамятство должников лишь приумножает славу благодетелей и оттеняет их доблесть. Вообразите себе, однако, бедственное положение полуодетых женщин и детей, высаженных холодной осенней ночью на пустынный мекленбургский берег!
Несмотря на силу и самоотверженность нашего соотечественника, чьему примеру последовали несколько матросов разных национальностей, пять человек погибли во время этого кораблекрушения; гибель их объясняют поспешностью, с которой они пытались покинуть охваченный пламенем корабль. Однако великолепный этот пакетбот сгорел не целиком; в конце концов экипажу удалось совладать с огнем, и новый «Николай I», на борт которого я поднимусь завтра, выстроен в большой степени из остатков старого. Люди суеверные боятся, как бы эти роковые остатки не навлекли на судно новых несчастий; я не моряк, и мне чужды подобные поэтические страхи, однако я чту все безобидные суеверия — следствия благородного обычая верить и бояться, неизменно лежащего в основании благочестия и даже при всех его излишествах ставящего человека выше всех прочих созданий Господних. Получив подробный отчет о случившемся, Император разжаловал капитана, русского по национальности, и заменил его голландцем, который, однако, судя по слухам, не пользуется уважением команды. Соседние державы посылают в Россию лишь тех людей, которых не хотят оставлять у себя. Завтра я узнаю, что представляет собой новый капитан. Никто не может составить мнение о командире корабля скорее, чем матрос и путешественник. Любовь к жизни, столь же страстная, сколь и рассудочная, — верный помощник в оценке человека, от которого зависит наша судьба. После ремонта красавец корабль стал так тяжел, что не может доплыть до Петербурга; в Кронштадте мы пересядем на другое судно, а экипажи наши двумя днями позже прибудут в Петербург на барже. Процедура довольно хлопотная, но любопытство — первая обязанность путешественника — превозмогает все. Мекленбургское герцогство благоустраивается: великолепная дорога ведет из Людвигслуста в Шверин, куда нынешний герцог очень кстати перенес свою резиденцию. Шверин — город старинный и живописный; его украшают озеро, холмы, леса, древний дворец; все это овеяно воспоминаниями; Людвигслуст же не может похвастать ни древностью, ни живописностью. Хотите ли вы, однако, узнать, что такое средневековое варварство? Садитесь в карету и езжайте из этой древней столицы великого княжества Мекленбургского в Любек. Если накануне шел дождь, вы завязнете посреди дороги в бездонных рытвинах. С сожалением вспоминая о песчаной и каменистой почве в окрестностях Ростока, вы будете погружаться в выбоины такой глубины, что из них невозможно выбраться, не разбив или не опрокинув экипаж. Заметьте, что я веду речь о так называемой главной дороге из Шверина в Любек; длина ее шестнадцать миль, и вся она совершенно непроходима. Чтобы путешествовать по Германии, нужно как следует разбираться в значениях слов: главная дорога — это еще не шоссе; стоит свернуть с шоссе, и вы возвращаетесь на три столетия назад. А между тем об этой дороге я узнал в Берлине от одного посла, причем узнал довольно забавным образом. «Какой дорогой мне лучше добраться до Любека?» — спросил я его. Я знал, что он только что проделал это путешествие.
— Они все дурны, — отвечал дипломат, — но я бы посоветовал вам ехать через Шверин.
— Коляска у меня легкая, — возразил я, — и если она разобьется, я опоздаю на пакетбот. Если вы знаете дорогу получше, я выберу ее, пусть даже она окажется длиннее.
— Вот что я вам скажу, — торжественным тоном ответствовал посол, — я указал эту дорогу его высочеству *** (племяннику монарха, царствующего на родине этого дипломата); следственно, лучшего пути вы не найдете.
— Быть может, — продолжал я, — экипажи монархов так же отмечены судьбой, как и сами монархи. Вдобавок у монархов железные нервы: я не хотел бы прожить ни дня так, как они живут годами.
Немецкий государственный муж ничего не ответил на эту, по моему разумению, весьма невинную реплику, вероятно, сочтя ее возмутительной.
Этот важный и осторожный господин, вконец опечаленный моей дерзостью, покинул меня, едва представилась возможность сделать это, не нарушая приличий. Что за восхитительная порода людей! Есть немцы, рожденные быть подданными; они делаются царедворцами прежде, чем становятся людьми. Я не мог без смеха наблюдать их угодливую вежливость, хотя она мне куда милее противоположного обыкновения многих французов. Ум мой — насмешник, и всегда пребудет таковым, несмотря на годы и размышления. Впрочем, дорога, настоящая главная дорога между Любеком и Шверином будет, конечно, проложена очень скоро. Прелестная хозяйка травемюндской купальни, которую мы прозвали Моной Лизой, вышла замуж; у нее трое детей. Я побывал в ее новом жилище, порог которого переступил с грустью и робостью; она ждала меня и с сердечным кокетством, характерным для уроженцев Севера, холодных, но в душе чувствительных, повязала на шею косынку, которую получила от меня ровно десять лет назад, день в день, 5 июля 1829 года… Вообразите себе: в тридцать четыре года это очаровательное создание уже страдает подагрой!.. Видно, что некогда она была красива!.. и ничего больше. Красота, остающаяся неоцененной, уходит быстро: она бесполезна. У Лизы уродливый муж и трое детей; старшему мальчику девять лет; красавцем его не назовешь. Этот юный дикарь, по здешним понятиям очень хорошо воспитанный, вошел в комнату набычившись, глядя вперед туманным, но отважным взором. Видно было, что, не опасайся он материнских упреков, он непременно убежал бы — не из страха, но из робости. Он плавает, как рыба, и скучает вдали от воды. Семья живет в собственном доме и, кажется, ни в чем не нуждается, однако как узок круг, которым ограничена ее жизнь! Видя этих родителей и их троих детей и вспоминая, какова была Лиза десять лет назад, я словно впервые столкнулся с тайной человеческого существования. Мне нечем было дышать в этой крохотной клетке, впрочем очень чисто прибранной; я вышел, чтобы глотнуть свежего воздуха. Я знал, что понимают под счастьем в этом краю, и шептал себе свой вечный припев: «Не хлебом единым жив человек». Счастлива душа, обретающая все прочее в религии!.. Но у протестантов сама религия содержит в себе только «хлеб». С тех пор, как красавица Лиза обрекла себя всеобщему жребию, она живет без тягот, но и без удовольствий, а на мой вкус это — мучительнейшая из тягот. Муж ее не ловит рыбу зимой. Жена покраснела, сделав это признание, доставившее мне тайную радость. «Этот урод-муж — трус», — подумал я; тут, словно отвечая на мои мысли, Лиза продолжила: «Скоро этим займется мой сын». Она показала мне висящий в глубине комнаты овчинный тулуп, предназначенный для первой экспедиции, в которую отправится это могучее дитя моря.
Надеюсь, я больше никогда не увижу Мону Лизу из Травемюнде. Отчего действительная жизнь так мало походит на жизнь воображаемую? Зачем дано нам воображение, если оно столь бесполезно? Да что там, не бесполезно, а просто вредно. Непостижимая загадка, разгадать которую может позволить только надежда, да и та проливает на разгадку лишь очень слабый свет! Человек — каторжник, приговоренный к наказанию, но не исправившийся. Его заковывают в кандалы за неведомое преступление; его подвергают пытке жизнью, а точнее — смертью; он живет и умирает в железах, не в силах добиться ни суда, ни обвинительного заключения. О! если такое беззаконие творит природа, что же удивительного в пристрастности человеческого правосудия? Чтобы узнать, что такое справедливость, нужно смотреть на земную жизнь очами веры, которым открыт не только этот, но и тот свет. Справедливость — не от мира сего. Всмотритесь в природу, и вы очень скоро разглядите рок. Творящая сила, которая мстит своим собственным творениям, не всемогуща; но кто положил предел ее могуществу? Чем загадочнее эта тайна, тем величественнее и неизбежнее победа веры!..
ПИСЬМО ПЯТОЕ
Полярная ночь. — Влияние климата на человеческую мысль. — Монтескье и его теория. — Я читаю в полночь без лампы. — Необычайность этого явления. — Награда за тяготы пути. — Северные пейзажи. — Жители под стать ровному краю. — Сплющивание земли возле полюсов. — Кажется, будто взбираешься на альпийскую вершину. — Финские берега. — Косые лучи солнца. — Поэтический ужас. — Меланхоличность северных народов. — Беседа на корабле. — Море излечивает морскую болезнь. — Мой слуга. — Красноречивый ответ горничной, извлеченный из Гримма. — Появление на борту парохода князя К***. — Его внешность и манера знакомиться. — Определение дворянства. — Различие между английским и французским мнением на этот счет. — Князь Д***. — Его портрет. — Анекдот об английском дворянстве. — Император Александр и его врач-англичанин. — Император постигает английских понятий о дворянстве. — Тон, принятый в русском обществе. — Князь К*** защищает от меня власть слова. — Как управлять людьми. — Кончит. — Наполеон. — Аргумент убедительнее слова. — Доверительная беседа. — Взгляд на русскую литературу. — Отчего русские таковы, как они есть. — Герои их легендарных времен. — В них нет ничего рыцарского. — Что такое аристократия. — Рабство научило русских князей быть тиранами. — В то время, когда повсюду в Европе отменяли крепостное право, в России оно было узаконено. — Мои убеждения в сравнении с убеждениями князя К***. — В России политика и религия — одно. — Будущее этой страны и всего мира. — Париж, развенчанный благочестием нового поколения. — Его постигнет участь Древней Греции. — Рассказ князя и княгини Д *** об их пребывании в Грейфенберге. — Лечение холодной водой. — Фанатизм неофита. — Княгиня Л***. — Корабль, на котором она плыла, встретился в Балтийском море с кораблем, на котором плыла ее дочь. — Хороший вкус русских аристократов. — Франция прежних времен. — Умение уважать ближнего, располагающее умы к творчеству. — Портрет французского путешественника, в прошлом улана. — Его игривые шутки. — Чем он забавлял русских дам. — Приятное плавание. — Единственное в своем роде общество. — Русские песни и танцы. — Два американца. — Русские дамы говорят по-французски много лучше польских. — Происшествие с паровым котлом. — Разнообразие характеров дает о себе знать. — Восклицания двух княгинь. — Ложная тревога. — Страх сменяется радостью. — Романическая история, которую я оставляю до следующего письма.
8 июля 1839 года; писано в полночь, без лампы, на борту парохода «Николай I», пересекающего Финский залив
Подходит к концу день, длящийся в этих краях примерно месяц: с 8 июня по 4 июля в этих краях всегда светло. Позже ночь снова начинает вступать в свои права; сначала солнце заходит очень ненадолго, но его отсутствие весьма заметно; чем ближе к осеннему равноденствию, тем ночи становятся длиннее. Они начинают увеличиваться с такой же быстротой, с какой уменьшаются весной, и вскоре заволакивают тьмой север России, Петербург, Швецию, Стокгольм и все районы, соседствующие с арктическим полярным кругом. Для жителей земель, расположенных внутри этого круга, год делится пополам, на один длинный день и одну длинную ночь, по шесть месяцев каждая; что же до сумерек, то их продолжительность зависит от близости к полюсу. Не слишком темная зимняя ночь длится ровно столько же, сколько смутный и меланхолический летний день. Неустанно любуясь полярной ночью, светлой почти как день, я переношусь в новый для меня мир. В моих странствиях я всегда с безграничным любопытством наблюдал за игрой света. В конце года во всех уголках земного шара солнце ежедневно остается на небе одинаковое число часов, но как несхожи эти дни! как сильно различаются они температурой и красками! Солнце, чьи лучи падают на землю отвесно, и солнце, чьи лучи светят косо, — это два разных светила, во всяком случае для нас, зрителей.
Для меня, живущего одной жизнью с растениями, в понятии географической широты скрывается что-то роковое; небо оказывает такое воздействие на мои мысли, что я охотно расписываюсь в почтении к теории Монтескье. Мое настроение и мои способности настолько подвержены влиянию климата, что я не могу сомневаться и в его влиянии на политику. Однако гений Монтескье придал этому факту — впрочем, неопровержимому — преувеличенное значение. Высшие умы нередко оказываются жертвами собственного упорства: они видят лишь то, что хотят; заключая в себе весь мир, они понимают все, кроме мнений других людей.
Час назад солнце на моих глазах опустилось в море на северо-западе, оставив длинный светящийся след, который еще сейчас позволяет мне писать к вам, не зажигая лампы; все пассажиры спят, я сижу на верхней палубе и, оторвав взор от письма, замечаю на северо-востоке первые проблески утренней зари; не успело кончиться вчера, как уже начинается завтра. Это полярное зрелище вознаграждает меня за все тяготы путешествия. В этой части земного шара день — бесконечная заря, вечно манящая, но никогда не выполняющая своих обещаний. Эти проблески света, не становящегося ярче, но и не угасающего, волнуют и изумляют меня. Странный сумрак, за которым не следуют ни ночь, ни день!.. ибо то, что подразумевают под этими словами в южных широтах, здешним жителям, по правде говоря, неведомо. Здесь забываешь о колдовстве красок, о благочестивом сумраке ночей, здесь перестаешь верить в существование тех счастливых стран, где солнце светит в полную силу и творит чудеса. Этот край — царство не живописи, но рисунка. Здесь перестаешь понимать, где находишься, куда направляешься; свет проникает повсюду и оттого теряет яркость; там, где тени зыбки, свет бледен; ночи там не черны, но и белый день — сер. Северное солнце — беспрестанно кружащаяся алебастровая лампа, низко подвешенная между небом и землей. Лампа эта, не гаснущая недели и месяцы напролет, еле заметно распространяет свое печальное сияние под сводом бледных небес; здесь нет ничего яркого, но все предметы хорошо видны; природа, освещенная этим бледным ровным светом, подобна грезам седовласого поэта — Оссиана, который, забыв о любви, вслушивается в голоса, звучащие из могил. Плоские поверхности, смазанные задние планы, еле различимые линии горизонта, полустертые контуры, смешение форм и тонов — все это погружает меня в сладостные грезы, очнувшись от которых чувствуешь себя в равной близости и к жизни и к смерти. Сама душа пребывает здесь подвешенной между днем и ночью, между бодрствованием и сном; она чуждается острых наслаждений, ей недостает страстных порывов, но она не ведает сопутствующих им тревог; она не свободна от скуки, но зато не знает тягот; и на сердце, и на тело нисходит в этом краю вечный покой, символом которого становится равнодушный свет, лениво объемлющий смертным холодом дни и ночи, моря и придавленную грузом зим, укутанную снегом землю. Свет, падающий на этот плоский край, в высшей степени подходит к голубым, как фаянсовые блюдца, глазам и неярким чертам лица, пепельным кудрям и застенчиво романическому воображению северных женщин: женщины эти без устали мечтают о том, что другие осуществляют; именно о них можно сказать, что жизнь — сон тени.
Приближаясь к северным областям, вы словно взбираетесь на ледяное плато; чем дальше, тем это впечатление делается отчетливее; вся земля превращается для вас в гору, вы карабкаетесь на сам земной шар. Достигнув вершины этих огромных Альп, вы испытываете то, чего не чувствовали так остро, штурмуя настоящие Альпы: скалы клонятся долу, пропасти исчезают, народы остаются далеко позади, обитаемый мир простирается у ваших ног, вы почти достигаете полюса; земля отсюда кажется маленькой, меж тем моря вздымаются все выше, а суша, окружающая вас еле заметной линией, сплющивается и пропадает в тумане; вы поднимаетесь, поднимаетесь, словно стараетесь добраться до вершины купола; купол этот — мир, сотворенный Господом. Когда с его вершины вы бросаете взгляд на затянутые льдом моря, на хрустальные равнины, вам мнится, будто вы попали в обитель блаженства, где пребывают ангелы, бессмертные стражи немеркнущих небес. Вот что ощущал я, приближаясь к Ботническому заливу, на северном берегу которого расположен Торнио.
Финское побережье, считающееся гористым, на мой вкус, — не что иное, как цепь еле заметных холмов; в этом смутном краю все теряется в тумане. Непроницаемое небо отнимает у предметов яркие цвета: все тускнеет, все меняется под этим перламутровым небосводом. Вдали черными точками скользят корабли; неугасимый, но сумрачный свет едва отражается от муаровой глади вод, и ему недостает силы позолотить паруса далекого судна; снасти кораблей, бороздящих северные моря, не блестят так, как в других широтах; их черные силуэты неясно вырисовываются на фоне блеклого неба, подобного полотну для показа китайских теней. Стыдно сказать, но северная природа, как бы величественна она ни была, напоминает мне огромный волшебный фонарь, чей свет тускл, а стекла мутны. Я не люблю уничижительных сравнений, но ведь главное — стараться любой ценой выразить свои чувства. Восхищаться легче, чем хулить, однако, истины ради, следует запечатлевать не только восторги, но и досаду. При вступлении в эти убеленные снегом пустыни вас охватывает поэтический ужас; вы в испуге замираете на пороге зимнего дворца, где живет время; готовясь проникнуть в это царство холодных иллюзий и блестящих грез, не позолоченных, но посеребренных, вы исполняетесь неизъяснимой печали: слабеющая мысль отказывается служить вам, и ее бесполезная деятельность уподобляется тем поблескивающим размытым облакам, которые ослепляют ваши взоры.
Очнувшись же, вы проникаетесь дотоле загадочной для вас меланхолией северных народов и постигаете, вослед им, очарование однообразной северной поэзии. Это причащение к прелестям печали болезненно, и все же оно приносит удовольствие: вы медленно следуете под грохот бурь за погребальной колесницей, вторя гимнам сожаления и надежды; ваша облаченная в траур душа тешит себя всеми возможными иллюзиями, проникается сочувствием ко всему, на что падает ваш взор. Воздух, туман, вода- все дарует новые впечатления вашему обонянию и осязанию; чувства ваши подсказывают вам, что вы вот-вот достигнете пределов обитаемого мира; перед вами простираются ледяные поля, прилетевший с полюса ветер пронизывает вас до мозга костей. В этом мало приятного — но много нового и любопытного.
Я не могу не сожалеть о том, что попечения о здоровье так надолго задержали меня этим летом в Париже и Эмсе: последуй я моему первоначальному плану, я теперь оставил бы уже далеко позади Архангельск и находился среди лопарей, на берегу Белого моря; впрочем, в мыслях я уже там: разница невелика.
Пробудившись от грез, я обнаруживаю себя не шагающим по грешной земле, но плывущим по морю на борту «Николая I», одного из прекраснейших и удобнейших судов Европы (я уже рассказывал вам о случившемся на нем пожаре), в окружении изысканнейшего общества.
Возьми новый Боккаччо на себя труд записать те беседы, в которых я уже три дня принимаю посильное участие, он создал бы книгу блестящую и забавную, как «Декамерон», и почти такую же глубокую, как «Характеры» Лабрюйера. Мои рассказы — лишь бледный слепок с этого оригинала, но я все-таки попытаюсь дать вам о нем понятие.
Самочувствие мое уже давно оставляло желать лучшего, но в Травемюнде мне стало так худо, что я едва не отложил отъезд. Однако коляска моя была погружена на корабль еще накануне. Пароход мой отходил в три часа пополудни, пробило одиннадцать утра, а меня била лихорадка, к горлу подступала тошнота, которую, как я опасался, морская болезнь могла только усугубить. Что стану я делать в Петербурге, в восьмистах милях от дома, если всерьез разболеюсь, спрашивал я самого себя. К чему доставлять друзьям столько хлопот, если можно этого избежать?
Разве не безумие пускаться в многодневное плавание, когда тебя треплет лихорадка? Но не безумие ли, да к тому же безумие смешное, в последнюю минуту идти на попятный и на глазах у изумленной публики перегружать свою коляску обратно на берег? Что сказать жителям Травемюнде? Как объяснить мое запоздалое решение парижским друзьям?
Обычно я не придаю подобным доводам большого значения, но болезнь отняла у меня мужество; чтобы свернуть с пути, мне нужно было выказать собственную волю; чтобы продолжить путь, следовало просто положиться на волю Божию. Меж тем дрожь пробирала меня все сильнее; неизъяснимая тревога и совершенный упадок сил свидетельствовали о настоятельной потребности в отдыхе; я не мог смотреть на еду без отвращения, у меня сильно болели голова и бок, и я всерьез опасался, что не вынесу четырехдневного плавания со всеми его неудобствами. Не безрассудно ли, говорил я себе, начинать путешествие в таком состоянии? Однако изменить решение — самое трудное для больного человека… как, впрочем, и для здорового.
Эмские воды излечили меня от одной болезни, но ей на смену тотчас пришла другая. Избавить меня от этого нового недуга мог только покой. Достаточное основание для того, чтобы не ездить в Сибирь, — куда я как раз и направлялся! Я поистине не знал, что предпринять;(113) положение мое было не просто трудным, но — что много хуже — смешным. Наконец я решился разыграть жизнь, которой не умею распорядиться, в орлянку; как ставят деньги на определенную карту, так я позвал слугу(114), поклявшись поступить так, как скажет он. Я спросил его совета.
— Нужно ехать, — отвечал он, — мы уже почти у цели.
— Да ведь обычно вы боитесь моря!
— Я и теперь его боюсь — но на вашем месте, сударь, я не стал бы возвращаться, раз коляска уже на борту.
— Отчего же вы боитесь возвратиться назад и не боитесь, что я совсем разболеюсь? Молчание.
— Скажите же, почему вы хотите, чтобы мы ехали дальше?
— Потому!!!
— В добрый час!.. Ну что ж, в таком случае, едем!
— Но если вы совсем разболеетесь, — воскликнул вдруг этот превосходный человек, начавши постигать, какую он взял на себя ответственность, — я раскаюсь в своей опрометчивости.
— Если я разболеюсь, вы будете за мной ходить.
— Это вам не поможет.
— Не важно!!! Мы едем. Красноречие моего слуги имело немало общего с красноречием той горничной, о которой рассказывает Гримм(115). Другая горничная, находясь при смерти, оставалась глуха к уговорам родственников, хозяйки и священника. Позвали ее старинную подругу; та шепнула ей несколько слов, и умирающая с неожиданной кротостью, с примерным рвением и смирением поспешила причаститься и собороваться. Что же сказала красноречивая горничная? Вот что: «Как же так? Вот еще! Ну и ну! Ну-ка, ну-ка! Давай-ка!»
Переубежденный, подобно той умирающей барышне, я в три часа пополудни поднялся на борт «Николая I», пребывая во власти озноба, тошноты и неизъяснимого раскаяния в собственном малодушии. Тысяча зловещих предчувствий разом обрушились на меня, и перед моим мысленным взором проходили все мрачные сцены, какие они мне пророчили. Моряки поднимают якорь; я в приступе тупого отчаяния опускаю голову и закрываю лицо руками. Но вот колеса начинают вращаться — и во мне свершается перемена столь же внезапная и полная, сколь и необъяснимая. Вы поверите мне, ибо привыкли мне верить; к тому же какой прок мне придумывать случай, который интересен лишь постольку, поскольку правдив? Итак, вы поверите, а если я опубликую эти страницы, читатели мои также поверят мне, ибо они знают, что я иногда ошибаюсь, но никогда не лгу. Одним словом, я выздоровел: боль и озноб утихли, мысли в голове прояснились, болезнь развеялась, как дым; от недуга моего не осталось и следа. Это волшебное исцеление так поразило меня, что я не смог отказать себе в удовольствии описать вам его результаты. Море излечило меня от морской болезни; это называется гомеопатия на широкую ногу. Впрочем, быть может, все дело было в погоде: она с самого нашего отплытия стоит превосходная…
В ту самую минуту, когда матросы начали поднимать якорь, а я еще пребывал во власти мучительнейшей тоски, на палубу нашего судна поднялся пожилой и очень полный человек: он едва держался на чудовищно распухших ногах; голова его, возвышавшаяся над широкими плечами, показалась мне исполненной благородства; это был вылитый Людовик XVI. Вскоре я узнал, что это русский князь К ***, потомок завоевателей-варягов, иначе говоря, отпрыск стариннейшего дворянского рода.(116)
Видя, как он, опираясь на руку своего секретаря, с трудом ковыляет к скамейке, я подумал: от такого попутчика большого веселья ждать не приходится; однако, узнав его имя, я вспомнил, что уже давно слышал о нем,(117) и упрекнул себя за неисправимую привычку судить о людях по внешности. Едва усевшись, этот старей с открытым лицом и лукавым, хотя благородным и честным взглядом, обратился ко мне, назвав меня по имени, хотя дотоле мы никогда не виделись.(118) От изумления я вскочил, но ничего не ответил; князь продолжал говорить со мной тоном истинного аристократа, чья совершенная простота и есть настоящая вежливость,(119) не нуждающаяся в церемониях.
— Вы, объездивший едва ли не всю Европу, — сказал он мне, — вы, я уверен, согласитесь со мной.
— Относительно чего, князь?
— Относительно Англии. Я говорил князю***, - и он, не обинуясь, указал пальцем на человека, которого имел в виду, — что в Англии нет дворянства. У англичан есть титулы и должности, но дворянство, как его понимаем мы, то, которое нельзя ни получить в дар, ни купить, им неизвестно. Монарх может плодить князей; воспитание, обстоятельства, гений, мужество могут создавать героев, но ничто не способно сделать человека дворянином.(120)
— Князь, — отвечал я, — дворянство, как его понимали некогда во Франции и как понимаем его мы с вами, нынче — лишь мечта, а быть может, и всегда было таковым. Вы напомнили мне остроумное выражение господина де Лораге(121), который, возвратившись из собрания маршалов Франции, сказал: «Нас сошлась дюжина герцогов и пэров, но дворянином был я один».
— Он говорил правду, — согласился князь. — На континенте дворянином считают лишь человека благородного происхождения, ибо в странах, где дворянство еще пользуется уважением, принадлежность к нему определяется происхождением, а не богатством, связями, талантами, должностями; оно — продукт истории, и, подобно тому как в физическом мире период образования некоторых металлов кончился, кажется, навсегда, так же в мире политическом истек период появления дворянских родов. Вот чего не могут взять в толк англичане.
— Бесспорно, — отвечал я, — что, сохранив феодальную надменность, они утратили то, что составляло сущность феодальных установлений. В Англии рыцари покорились промышленникам, которые согласились не отменять древние баронские привилегии при условии; что они распространятся и на новые роды. Вследствие этой социальной революции, явившейся результатом революций политических, наследственные права стали сопутствовать не родам, но лицам, должностям и поместьям. Некогда воин, завоевав землю, навеки превращал ее в дворянское владение, сегодня же земля сообщает дворянское достоинство тому, кто ее купил; дворянство, как его понимают в Англии, напоминает мне расшитый золотом кафтан, который всякий человек вправе надеть, были бы деньги, чтобы его приобрести. Эта денежная аристократия, без сомнения, весьма отлична от аристократии родовой; общественное положение, купленное за деньги, выдает человека умного и деятельного, положение же, полученное по наследству, — человека, отмеченного Провидением. В Англии понятия об этих двух аристократиях, денежной и наследственной, до такой степени невнятны, что потомки древнего рода, если они бедны и нетитулованы, говорят: «Мы не родовиты», — меж тем как милорд ***, внук портного, заседающий в палате пэров, гордится своей принадлежностью к высшей аристократии. Вдобавок родовые имена передаются по женской линии, что довершает странность и путаность картины, решительно непонятной чужестранцам.[9]
— Я знал, что мы сойдемся, — сказал князь со свойственной ему очаровательной важностью.
Разумеется, я передал наш первый разговор вкратце, сохранив, однако, все его основные положения.
Пораженный легкостью, с которой произошло наше знакомство, и избавленный, как по волшебству, от недуга, мучившего меня вплоть до самого отплытия, я принялся разглядывать соотечественника князя К ***, князя Д ***, чье славное и древнее имя сразу привлекло мое внимание. Взору моему предстал человек еще не старый, с выпуклым лбом, землистым цветом лица и больными глазами; высокий рост и благородная осанка гармонировали с холодностью его манер, и гармония эта была не лишена приятности. Князь К ***, никогда не позволяющий беседе затихнуть и любящий исследовать интересующие его предметы как можно более тщательно, помолчав, продолжил:
— Дабы доказать вам, что мы с англичанами совершенно розно смотрим на дворянство, расскажу маленький анекдот, который, быть может, вас позабавит. В 1814 году я сопровождал императора Александра в его поездке в Лондон.(122) В ту пору Его Величество удостаивал меня немалого доверия, и мнимое возвышение мое сблизило меня с принцем Уэльским,[10] удостоившим меня многих милостей. Однажды принц отвел меня в сторону и сказал:
— Я хотел бы сделать что-нибудь приятное императору; он, кажется, очень любит своего лейб-медика(123) могу ли я наградить этого человека так, чтобы награда доставила удовольствие и его повелителю?
— Да, сударь, — отвечал я.
— Что же ему даровать?
— Дворянство.
Назавтра доктор *** был произведен в knight (рыцари). Император потребовал у меня, а затем у других приближенных объяснений касательно этого отличия, дающего его лекарю право именоваться сэром, а его жене зваться супругою сэра, то есть леди, однако, несмотря на всю свою проницательность, — а она была велика, — он до самой смерти не мог понять ни наших объяснений, ни сущности нового звания, присвоенного его врачу. Он говорил мне об этом спустя десять лет в Петербурге.
— Император Александр был не одинок в своем неведении, — отвечал я, — так же непонятливы многие умные люди, в первую голову иностранные романисты, выводящие в своих сочинениях англичан, принадлежащих к светскому обществу. В манерах князя было столько изящества, любезности и простоты, выражение его лица и звук его голоса сообщали — как бы помимо воли говорящего — любому его слову столько лукавого остроумия, что мы оба пришли в прекрасное расположение духа, и беседа наша растянулась на несколько часов. Мы коснулись множества замечательных особ и предметов всех времен, в особенности же тех, что принадлежат нашей эпохе; я услышал массу анекдотов, портретов, определений, остроумных замечаний, которыми естественный и просвещенный ум князя К*** невольно одарял меня по ходу беседы; я вкушал редкое и утонченное наслаждение и краснел от стыда, вспоминая первоначальное свое суждение о князе как о скучном подагрике. Никогда еще время не летело для меня так быстро, как в течение этого разговора, в котором я был в основном слушателем, разговора столь же поучительного, сколь и забавного.
В России великосветские дамы и господа умеют вести беседу с той непринужденной учтивостью, секрет которой мы, французы, почти полностью утратили. Даже секретарь князя К***(124), несмотря на свое французское происхождение, показался мне сдержанным, скромным, чуждым тщеславия и, следственно, презирающим неразрывно связанные с ним хлопоты и разочарования. Если таково следствие деспотической власти, да здравствует Россия.[11] Справедливо считается, что хороший тон — не более чем способность уважать того, кто достоин уважения; как же в таком случае могут сохраниться изысканные манеры в стране, где никто ничего не уважает? Будем почтительны без подобострастия — и мы естественно и, так сказать, невольно сделаемся вежливыми.
Как ни старался я в разговоре с князем К *** блюсти осторожность, старый дипломат очень скоро постиг направление моих идей и был им поражен.
— Вы чужды и вашей стране и вашей эпохе, — сказал он мне, — вы — враг слова как движущей силы политики.
— Вы правы, — согласился я, — по мне, любой способ обнаружить истинную ценность человека предпочтительнее, нежели публичное красноречие в стране, столь богатой честолюбцами, как наша. Не думаю, чтобы во Франции нашлось много людей с твердым характером, которым бы не грозила опасность принести свои заветнейшие убеждения в жертву желанию блеснуть прекрасной речью.
— Однако, — возразил русский князь-либерал, — слово всемогуще: весь человек и даже нечто, превосходящее человека, выражается в слове: оно божественно!
— Я того же мнения, — отвечал я, — потому-то я и не хочу, чтобы оно становилось продажным.
— Когда такой гений, как господин Каннинг, приковывал к своим речам внимание первых людей Англии и целого мира, — сказал князь, — тогда, сударь, слово политика было не безделицей.
— Какое же благо сотворил этот блестящий гений? И какое зло мог бы он сотворить, будь его слушатели чуть более пылки? Слово, употребляемое в интимной беседе как средство убеждения, слово, применяемое для того, чтобы втайне переменить ход мыслей, направить поведение одного человека или небольшой группы людей, кажется мне благодетельной опорой либо противовесом власти, в публичных же дискуссиях, ведущихся многочисленными политическими собраниями, слово внушает мне страх. С его помощью идеи близорукие и пошлые не раз одерживали победу над возвышенными мыслями и глубоко продуманными планами. Навязать нациям правление большинства — значит отдать их в распоряжение посредственностей. Если не такова ваша цель, значит, вы напрасно восхваляете власть слова. Толпа почти всегда нерешительна, скупа и ничтожна; вы возразите мне, приведя в пример Англию; я отвечу, что эта страна вовсе не то, за что ее принимают; конечно, в палатах решение принимает большинство, но это большинство — не что иное, как местная аристократия, уже много лет почти беспрерывно находящаяся у кормила власти. Да и к каким обманам не заставляла парламентская форма правления прибегать людей, возглавляющих эту замаскированную олигархию?.. И этим-то английским порядкам вы завидуете?
— Но людьми можно управлять либо с помощью страха, либо с помощью убеждения.
— Согласен, но поступок убедительнее слова. Вспомните прусскую монархию, вспомните Бонапарта: в его царствование свершились великие деяния. В начале своего правления Бонапарт прибегал более к убеждению, нежели к силе, однако слова свои — а ему не откажешь в красноречии — он обращал только к индивидам, с массами же всегда говорил языком поступков; лишь так и можно потрясать воображение людей, не злоупотребляя Божьим даром; публично обсуждать закон — значит заранее отнять у людей возможность уважать его и, следовательно, ему повиноваться.
— Вы тиран.
— Напротив, я боюсь адвокатов и вторящих им газетчиков, чьи речи живут не долее суток; вот тираны, грозящие нам сегодня.
— Приезжайте к нам, вы научитесь опасаться иных тиранов.
— Сколько ни старайтесь, князь, уж вам-то не удастся внушить мне дурное мнение о России.
— Не судите о ней ни по мне, ни по одному из русских, повидавших свет; природа создала нас столь гибкими, что мы становимся космополитами, чуть только покинем пределы отечества; а ведь подобный склад ума сам по себе есть сатира на наше правительство!.. Тут, несмотря на привычку говорить откровенно обо всем на свете, князь испугался меня, себя, а главное, прочих пассажиров и пустился в рассуждения весьма туманные.
Я не стану понапрасну напрягать память, дабы воспроизвести его реплики, утратившие вместе с искренностью и блеск формы, и новизну идей. Князь довершил свой рассказ о характере людей и установлений своей страны позже, когда мы остались одни. Вот что запомнилось мне из его рассуждений: «Всего четыре столетия отделяют Россию от нашествия варваров, Запад же пережил подобное испытание четырнадцать веков назад: цивилизация, имеющая за плечами на тысячу лет больше, создала нравы, несравнимые с нравами русских.
За много столетий до вторжения монголов скандинавы послали к славянам, в ту пору ведшим совсем дикое существование, своих вождей, которые стали княжить в Новгороде Великом и Киеве под именем варягов; эти чужеземные герои, явившиеся в сопровождении немногочисленного войска, стали первыми русскими князьями, а к их спутникам восходят древнейшие дворянские роды России. Варяги, принимаемые за некиих полубогов, приобщили русских кочевников к цивилизации. В то же самое время константинопольские императоры и патриархи привили им вкус к византийскому искусству и византийской роскоши. Таков был, с позволения сказать, первый слой цивилизации, растоптанный татарами, когда эти новые завоеватели обрушились на Россию.
От баснословных эпох российской истории до нас дошла память о святых мужах и женах — законодателях христианских народов. Первые славянские летописи рассказывают о подвигах мужественных и воинственных князей. Память о них пронзает тьму, как пробивается сквозь тучи в грозовую ночь свет звезд. Рюрик, Олег, княгиня Ольга, святой Владимир, Святополк, Мономах — властители, не схожие с великими людьми Запада ни характерами, ни именами. В них не было ничего рыцарского, это — ветхозаветные цари: нация, которую они покрыли славой, недаром соседствует с Азией; оставшись чуждой нашим романтическим идеям, она сберегла древние патриархальные нравы.
Русские не учились в той блистательной школе прямодушия, чьи уроки рыцарская Европа усвоила так твердо, что слово честь долгое время оставалось синонимом верности данному обещанию, а слово чести по сей день почитается священным даже во Франции, забывшей о стольких других вещах! Благодетельное влияние крестоносцев, равно как и распространение католической веры, не пошло далее Польши; русские — народ воинственный, но сражаются они ради победы, берутся за оружие из послушания или корысти, польские же рыцари бились из чистой любви к славе: поэтому, хотя вначале две эти нации, два ростка одного и того же корня, имели между собой очень много общего, история, наставник народов, развела их так далеко одну от другой, что русским политикам потребуется больше столетий на то, чтобы сблизить их снова, чем потребовалось религии и обществу на то, чтобы их разлучить.[12]
Покуда Европа переводила дух после многовековых сражений за Гроб Господень, русские платили дань мусульманам, возглавляемым Узбеком, продолжая, однако, как и прежде, заимствовать искусства, нравы, науки, религию, политику с ее коварством и обманами и отвращение к латинским крестоносцам у греческой империи. Примите в расчет эти религиозные, гражданские и политические обстоятельства, и вы не удивитесь ни тому, что слово русского человека крайне ненадежно (напомню, это говорит русский князь), ни тому, что дух хитрости, наследие лживой византийской культуры, царит среди русских и даже определяет собою всю общественную жизнь империи царей, удачливых преемников Батыевой гвардии. Абсолютный деспотизм, какой господствует у нас, установился в России в ту самую пору, когда во всей Европе рабство было уничтожено. После нашествия монголов славяне, до того один из свободнейших народов мира, попали в рабство сначала к завоевателям, а затем к своим собственным князьям. Тогда рабство сделалось не только реальностью, но и основополагающим законом общества. Оно извратило человеческое слово до такой степени, что русские стали видеть в нем всего лишь уловку; правительство наше живет обманом, ибо правда страшит тирана не меньше, чем раба. Поэтому, как ни мало говорят русские, они всегда говорят больше, чем требуется, ибо в России всякая речь есть выражение религиозного или политического лицемерия.
Автократия, являющаяся не чем иным, как идолопоклоннической демократией, уравнивает всех точно так же, как это делает демократия абсолютная. Наши самодержцы некогда на собственном опыте узнали, что такое тирания. Русские великие князья[13] были вынуждены душить поборами свой народ ради того, чтобы платить дань татарам; нередко по прихоти хана их самих увозили, точно рабов, в глубины Азии, в орду, и царствовали они лишь до тех пор, пока беспрекословно повиновались всем приказам, при первом же неповиновении лишались трона; так рабство учило их деспотизму, а они, сами подвергаясь насилию, в свой черед приучали к нему народы;[14] так с течением времени князья и нация развратили друг друга. Заметьте, однако, что на Западе в это время короли и их знатнейшие вассалы соревновались в великодушии, даруя народам свободу. Сегодня поляки находятся по отношению к русским в точно таком же положении, в каком находились те по отношению к монголам при наследниках Батыя. Освобождение от ига далеко не всегда способствует смягчению нравов. Иногда князья и народы, подобно простым смертным, вымещают зло на невинных жертвах; они мнят, что их сила — в чужих мучениях.
— Князь, — возразил я, выслушав пространные рассуждения своего собеседника, — я вам не верю. Вы выказываете чрезвычайную утонченность ума, пренебрегая национальными предрассудками и расписывая вашу страну чужестранцу таким образом, но я столь же мало доверяю вашему смирению, сколь и гордыне других русских.
— Через три месяца, — отвечал князь, — вы отдадите должное и мне, и власти слова, а пока, воспользовавшись тем, что мы одни (он огляделся по сторонам), — я хочу обратить ваше внимание на самое важное обстоятельство; я хочу дать вам ключ ко всему, что вы увидите в России. Имея дело с этим азиатским народом, никогда не упускайте из виду, что он не испытал на себе влияния рыцарского и католического; более того, он яростно противостоял этому влиянию.
— Вы заставляете меня гордиться собственной проницательностью; я как раз недавно писал одному из друзей, что, судя по всему, тайной пружиной русской политики является религиозная нетерпимость.
— Вы блестяще угадали то, что вам предстоит увидеть: вы даже не можете вообразить себе, как велика нетерпимость русских; те из них, кто наделены просвещенным умом и бывали в европейских странах, прилагают величайшие усилия, дабы скрыть свое мнение о триумфе греческого православия, которое они отождествляют с русской политикой. Не вникнув в существо этого явления, невозможно понять что бы то ни было ни в наших нравах, ни в нашей политике. Не подумайте, например, что разгром Польши есть следствие злопамятства императора; он — результат холодного и глубокого расчета. С точки зрения правоверных русских, эти зверства достойны величайшей похвалы; сам Святой Дух нисходит на самодержца и возносит его душу превыше человеческих чувств, а Господь благословляет исполнителя его высших предначертаний; по этой логике, чем больше варварства в поступках судей и палачей, тем больше в них святости. Ваши легитимистские журналисты не знают, что делают, когда ищут себе союзников среди схизматиков. Скорее в Европе разразится революция, нежели российский император согласится принять сторону католиков; даже протестанты воссоединятся с папой раньше русского самодержца, ибо протестантам, чьи верования выродились в системы, а религия — в философическое сомнение, осталось принести в жертву Риму лишь свою сектантскую гордыню, император же положительно и всерьез обладает духовной властью и добровольно с ней не расстанется. У Рима и у всех, кто связан с Римской церковью, нет врага более страшного, чем московский самодержец, земной глава своей Церкви, и мне странно, что проницательные итальянцы до сих пор не постигли опасностей, грозящих им со стороны России.[15] Это весьма правдивое описание поможет вам понять, сколь ложны иллюзии, которыми обольщаются парижские легитимисты. По этому монологу князя К *** вы можете судить обо всех остальных; замечу, что всякий раз, когда дело доходило до утверждений, рискующих оскорбить московитскую гордость, князь умолкал, если не был совершенно уверен, что никто не может нас услышать. Признания его заставили меня задуматься, а раздумья вселили в мою душу страх.
Этой стране, которую наши нынешние мыслители долгое время не принимали в расчет из-за ее чрезвычайной отсталости, суждено такое же — если не более — великое будущее, как пересаженному в американскую почву английскому обществу, чересчур прославленному философами, чьи теории породили сегодняшнюю нашу демократию, со всеми ее злоупотреблениями.
Если воинский дух, господствующий в России, не создал ничего подобного нашей религии чести, если русские солдаты не так блистательны, как наши, это не означает, что русская нация менее сильна; честь- земное божество, но в жизни практической долг играет не менее важную роль, чем честь, а может быть, и более важную; в нем меньше великолепия, но больше упорства и мощи. Этой земле не суждено родить героев Тассо или Ариосто, но герои, способные вдохновить нового Гомера и нового Данте, могут воскреснуть на развалинах нового Илиона, осажденного новым Ахиллом, воителем, который один стоил всех прочих персонажей „Илиады“.
Я убежден, что отныне миром будут править народы не самые беспокойные, но самые терпеливые:[16] просвещенная Европа склонится только перед силой действительной, меж тем действительная сила наций — это покорство правящей ими власти, подобно тому как сила армий — дисциплина. Впредь ложь будет вредить в первую голову тем, кто станет к ней прибегать; правда заново входит в силу, ибо годы забвения возвратили ей юность и могущество. Когда наша космополитическая демократия принесет свои последние плоды, внушив целым народам ненависть к войне, когда нации, именуемые светочами просвещения, обессилеют от политического распутства и, опускаясь все ниже и ниже, впадут в спячку и сделаются предметом всеобщего презрения, вследствие чего всякий союз с этими обеспамятевшими от эгоизма нациями будет признан невозможным, тогда рухнут преграды, и северные орды вновь хлынут на нас, тогда мы падем жертвами последнего нашествия — нашествия не темных варваров, но хитрых и просвещенных властителей, знающих больше нас, ибо наши собственные злоупотребления научат их, как можно и должно править. Провидение неспроста копит столько бездействующих сил на востоке Европы. Однажды спящий гигант проснется, и сила положит конец царству слова. Тщетно станут тогда обезумевшие от ужаса поборники равенства звать на помощь свободе древнюю аристократию; тот, кто берется за оружие слишком поздно, тот, чьи руки от долгого бездействия ослабели, немощен. Общество погибнет оттого, что доверилось словам бессмысленным либо противоречивым; тогда лживые отголоски общественного мнения, газеты, желая во что бы то ни стало сохранить читателей, начнут торопить развязку, хотя бы ради того, чтобы еще месяц иметь о чем рассказывать. Они убьют общество, дабы питаться его трупом.
Обилие света рождает тьму; блеск на мгновение ослепляет. Германия с ее просвещенными правительствами, с ее добрым и мудрым народом могла бы воскресить в Европе благодетельную аристократию, но правительства германские отдалились от своих подданных: обратив себя в передового стража России,[17] прусский король, вместо того чтобы, опираясь на здравомыслие своих солдат, сделать их естественными защитниками старой Европы, единственного уголка земли, где по ею пору находила прибежище разумная свобода, превратил их в немых и терпеливых революционеров. Немцы еще могли предотвратить бурю; французам же, англичанам и испанцам остается лишь ждать раскатов грома.
Возвращение к религиозному единству спасло бы Европу, однако кто признает это единство, кто внушит к нему уважение, какими новыми чудесами завоюет религия доверие не признающего ее легкомысленного мира? на чей авторитет станет опираться? Сие ведомо только Господу. Дух человеческий задает вопросы; ответы дает божественное деяние, иначе говоря, время.
Я погружаюсь в размышления, и судьба моего отечества внушает мне горечь и страх. Когда мир, устав от полумер, сделает шаг к свободе, когда люди снова признают религию делом важным, единственным, какое должно волновать общество, живущее не ради бренной корысти, но ради ценностей истинных, иными словами, вечных, — что станется тогда с Парижем, легкомысленным Парижем, вознесшимся так высоко в царствование скептической философии, с Парижем, безумной столицей равнодушия и цинизма? Сохранит ли он тогда свое главенство? Ведь кругом будут поколения, воспитанные страхом, освященные несчастьем, разочарованные опытностью и возмужавшие в размышлениях. Парижу следовало бы самому начать перемены: можем ли мы надеяться на такое чудо? Кто поручится, что по окончании эпохи разрушения, когда новый свет воссияет в сердце Европы, центром цивилизации не станет иной город? Больше того, кто поручится, что человечество, возвратившееся к католической религии, не увидит во Франции, всеми покинутой по причине своего безверия, то, что видели в Греции первые христиане, — погасший очаг гордыни и красноречия? По какому праву сможет Франция рассчитывать на иной удел? Нации, подобно людям, умирают, а нации пылкие, как вулканы, умирают быстрее других.
Прошедшее наше столь блистательно, настоящее столь бесцветно, что, вместо того чтобы дерзко торопить будущее, нам следовало бы его опасаться. Признаюсь, сегодня наша судьба рождает в моем сердце не столько надежду, сколько страх, и та нетерпеливость французской молодежи, что при кровавом правлении Конвента сулила нам столько побед, кажется мне нынче знамением упадка.
Нынешнее положение дел со всеми его изъянами гораздо более счастливо для всех, нежели та эпоха, которую оно предвещает и о которой я тщетно пытаюсь не думать.
Мне любопытно увидеть Россию, меня восхищает дух порядка, необходимый, по всей вероятности, для управления этой обширной державой, но все это не мешает мне выносить беспристрастные суждения о политике ее правительства. Пусть даже Россия не пойдет дальше дипломатических притязаний и не отважится на военные действия, все равно ее владычество представляется мне одной из опаснейших вещей в мире. Никто не понимает той роли, какая суждена этому государству среди европейских стран: в согласии со своим устройством оно будет олицетворять порядок, но в согласии с характером своих подданных под предлогом борьбы с анархией начнет насаждать тиранию, как если бы произвол был способен излечить хоть один социальный недуг! Этой нации недостает нравственного чувства; со своим воинским духом и воспоминаниями о нашествиях она готова вести, как прежде, завоевательные войны — самые жестокие из всех, — меж тем как Франция и другие западные страны будут отныне ограничиваться войнами пропагандистскими.
Число пассажиров, плывущих вместе со мной на борту „Николая I“, к счастью, невелико; юная, прелестная княгиня Д ***, урожденная княжна д'А., сопровождает мужа, возвращающегося в Санкт-Петербург; это вылитая героиня шотландского романса.
Очаровательная супружеская пара провела несколько месяцев в Силезии; княгиню сопровождает также ее брат, любезный молодой человек. Все трое испробовали в Грефенберге знаменитое лечение холодной водой, которому подвергают там одних лишь посвященных. Это больше, чем врачевание; это таинство — медицинское крещение.
Объятые ревностным благочестием, князь и княгиня наперебой расхваливали нам поразительные результаты этого нового способа лечения. Открытием его мир обязан некоему крестьянину, который почитает себя могущественнее всех врачей мира и подтверждает свое убеждение практикой; он верит в самого себя: вера эта оказывается заразительной, и многие из тех, кого пользовал новый апостол, вылечили себя сами.
— Толпы иностранцев со всех концов света стекаются в Грефенберг; здесь лечат все болезни, кроме легочных. Вас поливают холодной водой, а затем на пять или шесть часов укутывают фланелью. Больному ничего не остается, кроме как потеть, — сказал князь.
— Или умереть, — добавил я.
— Вы ошибаетесь, — воскликнул князь с пылом неофита, — из множества больных умерли в Грефенберге всего несколько человек. Князья и княгини, исцеленные новым спасителем, жить не могут без воды. Тут князь Д *** прерывает свой рассказ, смотрит на часы и зовет слугу. Тот приносит большую бутыль холодной воды и выливает ее хозяину за шиворот: я не поверил своим глазам.
Князь, не обращая внимания на мое изумление, продолжает:
— Отец великого герцога Нассауского прожил в Грефенберге целый год; когда его привезли туда, он был парализован и совершенно беспомощен; вода вернула его к жизни, но, поскольку он надеется выздороветь окончательно, он попрежнему остается в Грефенберге и не знает, когда сможет покинуть ату деревню. Никто из приезжающих туда не представляет себе, сколько времени ему придется там пробыть; продолжительность лечения зависит от характера болезни и от состояния духа больного: последствия страсти непредсказуемы, а привычка к водолечению превращается у некоторых больных в настоящую страсть, так что они не могут оторваться от источника, дарующего им высшее блаженство.
— В таком случае, лечение становится опасным, ибо, хотя и не принося зла, приносит слишком много удовольствия.
— Вы смеетесь, но поезжайте в Грефенберг, и вы возвратитесь оттуда таким же поборником водолечения, как и я.
— Князь, пока я слушаю вас, я верю вашим рассказам, но стоит мне задуматься над услышанным, как я начинаю сомневаться: ведь чудодейственные врачевания часто приводят к скверным последствиям; столь сильное потение способно изменить состав крови; много ли выиграют больные, сменив подагру на водянку? Вы еще очень молоды; почитай я вас серьезно больным, я не осмелился бы говорить с вами столь откровенно.
— Вы ничуть меня не испугали, — возразил князь, — я настолько уверен в действенности лечения холодной водой, что открою дома заведение, подобное грефенбергскому.
„Славяне помешаны не на одной холодной воде, — подумал я, — но и вообще на всяких новшествах. Ум этого народа-подражателя питается чужими открытиями“.
Кроме князя К *** и семейства Д *** на нашем пароходе плыла также княгиня Л ***. Она возвращалась в Петербург, который покинула неделю назад, чтобы через Германию попасть в Швейцарию, в Лозанну, и повидать там дочь, которая вот-вот должна родить; однако, сойдя на берег в Травемюнде, княгиня скуки ради пожелала взглянуть на список пассажиров, отплывших в Россию на последнем пароходе: каково же было ее изумление, когда она обнаружила в этом списке имя своей дочери! Она наводит справки у русского консула; сомнений быть не может: мать и дочь разминулись в Балтийском море. Теперь мать возвращается в Петербург, куда только что прибыла ее дочь; благо, если она не родила в открытом море.
У этой незадачливой дамы весьма приятные манеры; она скрашивает нам долгие вечера, прелестно исполняя русские песни, вовсе мне неизвестные. Княгиня Д*** иной раз поет с ней дуэтом и даже проходится в танце, показывая, как пляшут казачки. Эти импровизированные национальные концерты развлекают нас, когда смолкают разговоры, и ночи пролетают незаметно.
Истинные образцы хорошего вкуса и светских манер можно отыскать лишь в странах аристократических. Здесь никто не заботится о том, чтобы вести себя, как принято, а ведь именно выскочки, ведущие себя, как принято, и вносят в общежитие фальшивую ноту. У аристократов все, кто находятся в гостиной, находятся в ней по праву рождения; встречаясь ежедневно, они привыкают друг к другу; даже не питая к собеседникам особой приязни, они держатся непринужденно и даже доверительно, ибо знакомы с давних пор; они понимают друг друга с полуслова, ибо узнают в чужих речах собственные мысли. Поскольку им суждено провести бок о бок целую жизнь, они приспосабливаются один к другому, и это покор-ство приносит им радость; путешественники, которым предстоит провести вместе долгий срок, лучше ладят между собой, чем те, что встречаются лишь на мгновение. Из вынужденной гармонии рождается всеобщая учтивость, вовсе не исключающая разнообразия: умам идет на пользу необходимость блистать в мелочах, а изысканность речей все украшает, ничему не вредя, ибо истина чувств ничего не теряет от осторожности в выборе выражений. Так благодаря непринужденности, царящей в избранном обществе, стеснение исчезает, и лишенный грубостей разговор течет с восхитительной легкостью и свободой.
Некогда каждое сословие граждан во Франции могло вкушать подобные наслаждения; то была эпоха отменных бесед. С тех пор мы разучились наслаждаться беседой по многим причинам, о которых я не стану здесь распространяться, и назову лишь главную из них — неумеренное смешение в каждой гостиной людей всех сословий.
Люди эти собираются вместе не из любви к удовольствиям, но из тщеславия. С тех пор, как все стали приняты повсюду, свободы не встретишь нигде; французы забыли, что такое непринужденность манер. Ей на смену пришла чопорная английская важность: в смешанном обществе без этого оружия не обойтись; Но англичане, по крайней мере, научились пускать его в ход, ничем не жертвуя, мы же утратили все то, что составляло очарование нашей светской жизни. Человек, который посещает тот или иной салон оттого, что хочет уверить себя или других, что принадлежит к хорошему обществу, не способен быть любезным и интересным собеседником. Неподдельная тонкость чувств — вещь прекрасная, тонкость же чувств притворная — вещь скверная, как всякая манерность. Наше новое общество основано на идеях демократического равенства, идеях, которые взамен прежних радостей принесли нам скуку. Приятной беседу делает не обилие народа, но избранный круг хорошо и давно знакомых гостей; светская жизнь — не более, чем средство; цель — душевная близость. Радея о благе человека, общество накладывает на него весьма жесткие обязательства. В мире салонов, как в искусстве, необъезженная лошадь портит все дело; я люблю породистых лошадей, но только если они хорошо вышколены; неукротимая дикость — признак не силы, но некоторой неполноценности данной особи, причем физический этот изъян сообщается и душе. Здравое суждение — награда за победу над страстями.
Умы, рождающие на свет шедевры, созревают под сенью цивилизации, к которой питают неизменное уважение и которой обязаны драгоценнейшим из своих преимуществ — равновесием. Руссо, этот могучий разрушитель, выступает, однако, охранителем, когда с восхищением живописует жизнь швейцарских буржуа или когда растолковывает Евангелие безбожным и циничным философам, вносящим в его ум смятение и сомнения, но не способным его переубедить. Русские дамы, мои спутницы, приняли в свой кружок французского негоцианта из числа пассажиров. Это человек более чем зрелого возраста, обладающий крупными предприятиями, пароходами, железными дорогами и достойными юноши притязаниями; человек с приятными улыбками, очаровательными минами, обольстительными гримасами, пошлыми жестами, давно сложившимися убеждениями и заранее сочиненными речами; впрочем, добрый малый, не лезущий за словом в карман и способный даже, говоря о том, что он знает досконально, рассказать нечто интересное; остроумный, забавный, самонадеянный, но очень легко теряющий всю свою живость.
Он едет в Россию, дабы заразить тамошние умы сочувствием к великим промышленным предприятиям; он уполномочен несколькими французскими домами, которые, по его словам, объединились ради этой соблазнительной цели; впрочем, голова его полна не только грандиозными коммерческими замыслами, но и всеми теми романсами, песенками и куплетами, что за последние два десятка лет были модны в Париже. Прежде чем заняться торговлей, он служил в уланах и сохранил с тех пор не лишенные забавности повадки гарнизонного красавца. Он только и делает, что толкует русским о превосходстве французов решительно во всех областях, однако честолюбие его так откровенно, что никого не обижает; он просто-напросто смешон и вызывает только улыбки. Он распевает нам песенки из водевилей, строя глазки дамам; он декламирует „Марсельезу“ и „Парижскую песнь“, живописно укрывшись собственным плащом; репертуар француза слегка игрив, но наши чужестранки от него в восторге. Им кажется, что они попали в Париж; французский дурной вкус нисколько не оскорбляет их, ибо они не знают его источника, и не пугает их, ибо они не постигают его истинного смысла, к тому же люди, в самом деле принадлежащие к хорошему обществу, не обидчивы: они достаточно уверены в себе, чтобы не ударяться в амбицию из-за пустяка. Мы со старым князем К*** в глубине души посмеивались над всем, что приходилось выслушивать нашим спутницам, они же, в свой черед, смеялись над шутками негоцианта с невинностью особ, решительно не ведающих, где во французской светской беседе кончается хороший вкус и где начинается дурной. Начинается же он там и тогда, где и когда люди принимаются чересчур тщательно его избегать, выказывая тем самым полную неуверенность в себе. Заметив, что экс-улан чересчур расшумелся, русские дамы успокаивают его незнакомыми нам народными песнями, меланхоличность и самобытность которых чаруют меня. Более всего поражает меня в этих древних напевах их мелодичность, показывающая, что они родились в далеких краях. Княгиня Л *** исполнила нам несколько цыганских романсов, которые, к моему великому изумлению, напомнили мне испанские болеро. Андалузские и русские цыгане принадлежат к одному племени. Племя это, рассеявшееся неведомо как и когда по всей Европе, повсюду сохраняет свои привычки, нравы и песни. Спрошу еще раз: проводил ли кто-нибудь время на борту корабля более приятным образом?
Это морское путешествие, прежде столь страшившее меня, оказалось таким веселым, что я с неподдельным сожалением думаю о его скором конце. Впрочем, можно ли без содрогания ожидать прибытия в большой город, где у тебя нет никаких дел и где ты окажешься среди совершенно чужих людей — город, однако, достаточно европейский, чтобы в нем ты не был избавлен от так называемого светского общества? Моя пылкая любовь к путешествиям ослабевает, стоит мне вспомнить, что они состоят исключительно из отъездов и приездов. Но зато сколько радостей и преимуществ покупаем мы такой ценой!!! Уже ради одной лишь возможности получать знания, ничему не обучаясь, стоило бы пробегать глазами страны, как пробегаем мы страницы книги: тем более, что одна книга всегда отсылает нас к другой.
Если в одном из паломничеств силы оставляют меня, я говорю себе: цель требует жертв, и пускаюсь дальше; более того, едва вернувшись домой, я начинаю мечтать о следующей поездке. Постоянно путешествовать — неплохой способ провести жизнь, особенно для человека, не разделяющего тех идей, что господствуют в современном ему обществе: менять страны — все равно что менять столетия. В России я собираюсь погрузиться в давно прошедшие времена. История в ее результатах — вот что познает путешественник, и ничто не может сравниться с этим способом открывать уму все многообразие земных происшествий. Как бы там ни было, на борту корабля мне сопутствовало такое приятное общество, какого я, пожалуй, доселе не встречал; для того, чтобы весело проводить время, недостаточно собрать в одном месте несколько любезных особ; потребны еще обстоятельства, позволяющие каждому показать себя в наилучшем свете; наша жизнь на „Николае I“ напоминает жизнь в замке в ненастную погоду: выйти невозможно, и все умирали бы от скуки, если бы каждый не старался развлечь самого себя, развлекая других: таким образом, наше невольное соседство оборачивается всеобщим благом, чему, впрочем, мы обязаны безупречной общежительности нескольких пассажиров, волею судеб оказавшихся на борту нашего корабля, и, прежде всего, любезности и опытности князя К***. Не употреби он с самого первого мгновения свою власть, никто из нас не решился бы сломать лед, и мы провели бы всю дорогу, молча взирая друг на друга, в печальном и тягостном одиночестве на людях, — вместо этого мы болтали дни и ночи напролет, ибо если за окном всегда светло, можно без труда отыскать собеседника в любое время суток; эти дни без ночей отменяют время, люди забывают о сне; я пишу вам с трех часов утра и постоянно слышу доносящиеся из кают-компании смех и разговоры; если я спущусь туда, попутчики заставят меня читать им стихи и прозу, попросят рассказать какую-нибудь парижскую историю. Меня то и дело расспрашивают о мадемуазель Рашель и о Дюпре — двух главных знаменитостях сегодняшнего драматического театра; не имея дозволения видеть и слышать этих прославленных актеров у нас, русские мечтают пригласить их к себе.
При появлении победоносного улана-коммерсанта беседа обычно идет насмарку, наступает время шуток, песен и русских плясок. Как ни невинно наше веселье, оно все же оскорбляет двух американцев, едущих в Петербург по делу. Эти жители Нового Света не позволяют себе даже улыбнуться при виде сумасбродных забав, которым предаются европейские красавицы; они не постигают, что эта свобода — следствие беззаботности, а беззаботность — щит, ограждающий юные сердца. Их пуританство возмущается не только беспорядком, но и веселостью: они — протестантские янсенисты и хотели бы превратить жизнь в бесконечные похороны.
К счастью, спутницы мои не соглашаются умирать от скуки, дабы потрафить этим педантам-купцам. Они держатся проще, чем большинство северных женщин, которые, приезжая в Париж, почитают себя обязанными всячески изощрять свой ум, дабы пленять нас; дамы, находящиеся на борту нашего корабля, напротив, пленяют, вовсе не прилагая к этому усилий; французская их речь, на мой вкус, правильнее, чем у большинства полячек; они говорят не так певуче и, в отличие от почти всех варшавских дам, которых я встречал в Саксонии и Богемии, не рвутся исправить наш язык согласно заветам педантичных гувернанток, выписанных из Женевы. Русские дамы, плывущие вместе со мной в Петербург, стараются говорить по-французски, как мы, и, за очень редкими исключениями, им это удается. Вчера на нашем корабле случилось происшествие, обнажившее скрытую сущность многих характеров.
В этом году, памятуя о недавнем пожаре на борту „Николая I“, пассажиры сделались особенно пугливы; надо признать, что состав экипажа отнюдь не способен придать им бодрости. Капитан — голландец, лоцман — датчанин, матросы — немцы, не являющиеся притом уроженцами прибрежных земель, — вот кому вверено русское судно.
Так вот, вчера после обеда все мы собрались на палубе; светило солнце, дул свежий ветерок, и мы с превеликим удовольствием предавались чтению книги, взятой из судовой библиотеки (это были ранние сочинения Жюля Жанена), как вдруг колеса парохода прекратили вращаться, а из машинного отделения послышался страшный шум; судно остановилось в открытом море, которое, благодарение Богу, было в тот день совершенно спокойным, и замерло, словно модель корабля на мраморном столе. Матросы немедля бросились к топке, капитан с встревоженным видом последовал за ними, ничего не отвечая на вопросы пассажиров.
Мы находились в центре самого широкого участка Балтийского моря; к востоку от нас был Финский залив, к северу — Ботнический; до берега, в какую сторону ни посмотри, было очень далеко. Все хранили суровое молчание, предаваясь мрачным воспоминаниям; больше всех тревожились самые суеверные. По приказу капитана двое матросов бросили лот. „Все ясно, мы сели на мель“, — произнес женский голос; то были первые слова, нарушившие тишину с того мгновения, как машина застопорилась; до этого испуганные пассажиры слышали лишь не слишком уверенные приказы капитана, интонации и поведение которого не внушали надежды на благополучный исход. „В котле слишком много пара, и он вот-вот взорвется“, — добавил другой голос. В этот миг матросы принялись готовить шлюпки к спуску на воду. Я молча вспоминал мучившие меня предчувствия: выходит, не из пустого каприза хотел я отказаться от этого плавания. Взгляды мои обращались в сторону Парижа.
Княгиня Л ***, не отличающаяся крепким здоровьем, разрыдалась; без сил, почти без чувств, она шептала, глотая слезы: „Умереть вдали от мужа!“ — „О, зачем мой муж здесь!“ — воскликнула в ответ юная княгиня Д***, прижавшись к плечу князя; никто не ожидал подобного мужества от этой хрупкой, стройной и изящной женщины с нежными голубыми глазами и тихим, певучим голосом. Тень из поэмы Оссиана перед лицом опасности превратилась в героиню, готовую храбро снести все испытания.
Любезный толстяк князь К*** не шелохнулся, не изменился в лице; свались он со своего брезентового кресла прямо в море, он и тут не утратил бы невозмутимости. Экс-улан, сделавшийся негоциантом и оставшийся комедиантом, строил из себя покорителя сердец, невзирая на лета, и записного весельчака, невзирая на опасность: он принялся напевать арию из водевиля. Молодечество это неприятно поразило меня; мне стало стыдно за Францию, где тщеславие не брезгует никакими способами произвести впечатление; истинное нравственное чувство не преступает границ ни в чем, даже в презрении к опасности. Американцы продолжали читать; я наблюдал за попутчиками. Наконец капитан приблизился к нам и сообщил, что гайка на одном из поршней машины сломалась, но скоро ее заменят и через четверть часа мы продолжим наш путь.
Тут страх, который каждый сдерживал, как мог, вылился во всеобщее веселье. Все принялись рассказывать о своих мыслях и опасениях, все стали смеяться друг над другом; впрочем, чем бесхитростнее люди признавались в своей трусости, тем меньше навлекали на себя насмешек; таким образом, этот вечер, начавшийся очень печально, продолжился с превеликой веселостью; пассажиры пели и танцевали до двух часов ночи и даже позже.
Безграничное почтение, питаемое мною к истине, принуждает меня заметить, что во время всего этого происшествия выражение лица, речи и поведение нашего капитана-голландца лишь подтвердили все то дурное, что я слышал о нем накануне отплытия.
Перед тем, как пожелать мне спокойной ночи, князь К*** любезно поблагодарил меня за внимание, с которым я слушаю его рассказы: хорошо воспитанного человека, сказал он, видно по тому, как он притворяется, что слушает собеседника.
— Князь, — отвечал я, — самый лучший способ притворяться, что слушаешь, — слушать на самом деле.
Князь повторил мой ответ и расхвалил его сверх меры. Когда имеешь дело с людьми остроумными и доброжелательными, ни одна твоя мысль не только не пропадает, но, напротив, начинает играть новыми красками. Очарование старинного французского общества зиждилось во многом на готовности каждого позволить блеснуть другим; между прочим, этому безвозвратно утраченному умению мы обязаны не меньшим числом побед, нежели отваге наших солдат или гению наших полководцев. Хвалить труднее, чем хулить; для этого потребен ум гораздо более тонкий; кто умеет все оценить по заслугам, тот ничего не презирает и чуждается насмешек; завистники же только и знают, что бранить всех и вся; ревность они выдают за здравый смысл, а поддельное здравомыслие всегда насмешливо; именно эти дурные чувства отнимают сегодня у жизни в обществе всю ее приятность. Истинно вежливые люди, притворяясь добрыми, становились таковыми на самом деле.
Не моя заслуга, что я внимательно слушал князя К***; две из рассказанных им историй убедят вас в этом.
Мы проплывали мимо острова Даго, расположенного у берегов Эстонии. Край этот печален, холоден и безлюден; природа здесь выглядит не столько могучей и дикой, сколько голой и бесплодной; она, кажется, грозит человеку не столько опасностями, сколько скукой.
— Здесь случилось одно странное происшествие, — сказал князь К***.
— Когда же?
— Не так давно: при императоре Павле.
— Расскажите же эту историю нам.
Князь начал свой рассказ… но я устал писать; теперь пять часов утра; пойду на палубу поболтать с теми из пассажиров, кто не спит, а затем лягу в постель. А вечером поведаю вам историю барона Штернберга.
ПИСЬМО ШЕСТОЕ
Истерия барона Унгерна фон Штернберга. — Его преступления и наказание, которому он подвергся при императоре Павле. — Герои лорда Байрона. — Сравнение Вольтера Скотта и Байрона. — Исторический роман. — Другая история, рассказанная князем К***. — Женитьба императора Петра I. — Упорство боярина Ромодановского. — Император уступает. — Влияние греческой религии на народы. — Равнодушие русских к истине. — Тирания живет ложью. — Труп Кроя, оставленный в ревельской церкви после Нарвской битвы. — Император Александр становится жертвой обмана. — Защита России от нападок русского. — Русские тревожатся о мнении иностранцев на их счет. — Я вызываю страх. — Я обманываю ученого шпиона.
9 июля 1839 года, восемь вечера, на борту парохода „Николай I“
Напоминаю вам, что пересказываю историю, слышанную от князя К***. „Барон Унгерн фон Штернберг был человек острого ума, объездивший всю Европу; характер его сложился под влиянием этих путешествий, обогативших его познаниями и опытом.
Возвратившись в Санкт-Петербург при императоре Павле, он неведомо почему впал в немилость и решил удалиться от двора. Он поселился в диком краю, на принадлежавшем ему безраздельно острове Даго, и, оскорбленный императором, человеком, который казался ему воплощением человечества, возненавидел весь род людской.
Происходило это во времена нашего детства. Затворившись на острове, барон внезапно начал выказывать необыкновенную страсть к науке и, дабы предаться в спокойствии ученым занятиям, пристроил к замку очень высокую башню, стены которой вы можете теперь разглядеть в бинокль“.
Тут князь ненадолго умолк, и мы принялись рассматривать башню острова Даго.
„Башню эту, — продолжал князь, — барон назвал своей библиотекой, а на вершине ее устроил застекленный со всех сторон фонарьбельведер — не то обсерваторию, не то маяк. По его уверениям, он мог работать только по ночам и только в атом уединенном месте. Там он обретал покой, располагающий к размышлениям.
Единственные живые существа, которых барон допускал в башню, были его сын, в ту пору еще ребенок, и гувернер сына. Около полуночи, убедившись, что оба они уже спят, барон затворялся в лаборатории; тогда стеклянный фонарь загорался таким ярким светом, что его можно было увидеть издалека. Этот лжемаяк легко вводил в заблуждение капитанов иностранных кораблей, нетвердо помнящих очертания грозных берегов Финского залива.
На эту-то ошибку и рассчитывал коварный барон. Зловещая башня, возведенная на скале посреди страшного моря, казалась неопытным судоводителям путеводной звездой; понадеявшись на лжемаяк, несчастные встречали смерть там, где надеялись найти защиту от бури, из чего вы можете сделать вывод, что в ту пору морская полиция в России бездействовала. Стоило какому-нибудь кораблю налететь на скалы, как барон спускался на берег и тайком садился в лодку вместе с несколькими ловкими и смелыми слугами, которых держал нарочно для подобных вылазок; они подбирали чужеземных моряков, барахтавшихся в воде, но не для того, чтобы спасти, а для того, чтобы прикончить под сенью ночи, а затем грабили корабль; все это барон творил не столько из алчности, сколько из чистой любви к злу, из бескорыстной тяги к разрушению.
Не веря ни во что и менее всего в справедливость, он полагал нравственный и общественный хаос единственным состоянием, достойным земного бытия человека, в гражданских же и политических добродетелях видел вредные химеры, противоречащие природе, но бессильные ее укротить. Верша судьбами себе подобных, он намеревался, по его собственным словам, прийти на помощь Провидению, распоряжающемуся жизнью и смертью людей. Однажды осенним вечером барон, по своему обыкновению, истребил экипаж очередного корабля; на сей раз это было голландское торговое судно. Разбойники, жившие в замке под видом слуг, несколько часов подряд перевозили на сушу с тонущего судна остатки груза, не заметив, что капитан корабля и несколько матросов уцелели и, взобравшись в лодку, сумели под покровом темноты покинуть гибельное место.
Уже светало, когда барон и его приспешники, еще не завершив своего темного дела, заметили вдали лодку; разбойники немедля затворили двери в подвалы, где хранилось награбленное добро, и опустили перед чужестранцами подъемный мост. С изысканным, чисто русским гостеприимством хозяин замка спешит навстречу капитану; с полнейшей невозмутимостью он принимает его в зале, расположенной подле спальни сына; гувернер мальчика был в это время тяжело болен и не вставал с постели. Дверь в его комнату, также выходившая в залу, оставалась открытой.
Капитан повел себя крайне неосмотрительно.
— Господин барон, — сказал он хозяину замка, — вы меня знаете, но не можете узнать, ибо видели лишь однажды, да притом в темноте. Я капитан корабля, экипаж которого почти целиком погиб у берегов вашего острова; я сожалею, что принужден переступить порог вашего дома, но я обязан сказать вам, что мне известно: среди тех, кто нынче ночью погубил моих матросов, были ваши слуги, да и вы сами своей рукой зарезали одного из моих людей.
Барон, не отвечая, идет к двери в спальню гувернера и бесшумно притворяет ее. Чужестранец продолжает:
— Если я говорю с вами об этом, то лишь оттого, что не намерен вас погубить; я хочу лишь доказать вам, что вы в моей власти. Верните мне груз и корабль; хоть он и разбит, я смогу доплыть на нем до Санкт-Петербурга; я готов поклясться, что сохраню все случившееся в тайне. Пожелай я отомстить вам, я бросился бы в ближайшую деревню и выдал вас полиции. Но я хочу спасти вас и потому предупреждаю об опасности, которой вы подвергаете себя, идя на преступление.
Барон по-прежнему не произносит ни слова; он слушает гостя с видом серьезным, но отнюдь не зловещим; он просит дать ему немного времени на размышление и удаляется, пообещав гостю дать ответ через четверть часа. За несколько минут до назначенного срока он внезапно входит в залу через потайную дверь, набрасывается на отважного чужестранца и закалывает его!.. Одновременно по его приказу верные слуги убивают всех уцелевших матросов, и в логове, обагренном кровью стольких жертв, вновь воцаряется тишина. Однако гувернер все слышал; он продолжает прислушиваться… и не различает ничего, кроме шагов барона и храпа корсаров, которые, завернувшись в тулупы, спят на лестнице. Барон, объятый тревогой и подозрениями, возвращается в спальню гувернера и долго разглядывает его с величайшим вниманием; стоя возле постели с окровавленным кинжалом в руках, он следит за спящим, пытаясь удостовериться, что сон этот не притворный; наконец, сочтя, что бояться нечего, он решает сохранить гувернеру жизнь“.
— В преступлении совершенство такая же редкость, как и во всех прочих сферах, — добавил князь К***, прервав повествование. Мы молчали, ибо нам не терпелось узнать окончание истории. Князь продолжал:
„Подозрения у гувернера зародились уже давно; при первых же словах голландского капитана он проснулся и стал свидетелем убийства, все подробности которого видел сквозь щель в двери, запертой бароном на ключ. Мгновение спустя он уже снова лежал в постели и, благодаря своему хладнокровию, остался в живых. Лишь только барон вышел, гувернер тотчас же, невзирая на трепавшую его лихорадку, поднялся, оделся и, усевшись в лодку, стоявшую у причала, двинулся в путь; он благополучно добрался до континента и в ближайшем городе рассказал о злодеяниях барона полиции.
Отсутствие больного вскоре было замечено обитателями замка; однако, ослепленный предшествующими удачами, преступник-барон поначалу и не подумал бежать; решив, что гувернер в припадке белой горячки бросился в море, он пытался отыскать его тело в волнах. Меж тем спускающаяся из окна веревка, равно как и исчезнувшая лодка неопровержимо свидетельствовали о бегстве гувернера. Когда, запоздало признав этот очевидный факт, убийца вознамерился скрыться, он увидел, что замок окружен посланными для его ареста войсками. После очередной резни прошел всего один день; поначалу преступник пытался отрицать свою вину, но сообщники предали его. Барона схватили и отвезли в Санкт-Петербург, где император Павел приговорил его к пожизненным каторжным работам. Умер он в Сибири.
Так печально окончил свои дни человек, служивший благодаря блеску своего ума и непринужденной элегантности манер украшением самых блестящих европейских салонов.
Наши матери, возможно, находили его весьма любезным. Подобные происшествия, сколь бы романтическими они ни казались, нередко повторялись в средние века; истории барона придает самобытность то, что она случилась, можно сказать, в наши дни; поэтому я и рассказал ее вам. Куда ни посмотри, Россия во всем отстала от Европы на четыре столетия“. Лишь только князь К*** замолчал, все его слушатели в один голос закричали, что барон фон Штернберг — самый настоящий Манфред или Лара.
— Именно оттого, что Байрон списывал характеры своих героев с живых людей, они кажутся нам столь неправдоподобными, — сказал князь К***, не боящийся парадоксов, — в поэзии правда никогда не звучит естественно.
— Совершенно верно, — согласился я, — и потому ложь Вальтера Скотта кажется более правдивой, чем точность Байрона.
— Возможно; однако различия их этим не ограничиваются, — подхватил князь. — Вальтер Скотт изображает, Байрон творит; один чует правду нутром, даже когда выдумывает, другой не заботится о ней, даже когда рисует с натуры.
— Но не кажется ли вам, князь, — продолжал я, — что инстинктивное постижение действительности, присущее, по вашему мнению, великому романисту, объясняется тем, что он часто мыслит весьма заурядно? Сколько лишних деталей! Сколько пошлых диалогов!.. Точнее всего в его романах описания платья персонажей и их жилищ.
— О! Я встаю на защиту Вальтера Скотта, — воскликнул князь К***, - я не позволю, чтобы в моем присутствии оскорбляли столь занимательного сочинителя.
— Именно в занимательности я ему и отказываю, — продолжал я, — романист, который исписывает целый том ради одной-единственной сцены, менее всего заслуживает титула „занимательный“. Перечтите „Жиль Бласа“, и вы увидите, что такое — роман развлекательный, причем столь же непринужденный, сколь и глубокий. Вальтеру Скотту повезло: он родился в эпоху, когда люди забыли, что такое развлечения.
— Зато как он рисует человеческое сердце! — воскликнул князь Д*** (все восстали против меня).
— Все было бы хорошо, — отвечал я, — не заставляй он своих героев еще и разговаривать; дело в том, что у него недостает слов для изъяснения чувств страстных и возвышенных; он превосходно изображает характеры деятельные, ибо искусен и наблюдателен, но красноречие — не его стихия; он наделен глубоким философическим талантом, методическим и расчетливым умом; он родился вовремя и замечательно сумел высказать самые заурядные и, следовательно, самые модные идеи своей эпохи.
— Он первым разрешил удовлетворительным образом труднейшую задачу создания исторического романа; в этой заслуге вы не можете ему отказать, — произнес князь К***.
— Этот как раз тот случай, когда хочется сказать: лучше бы эта задача оставалась нерешенной! — возразил я. — Сколько ложных представлений усвоили малообразованные читатели из введенной им в обиход смеси истории с романом!!! Союз этот всегда вреден и, что бы вы ни говорили, ничуть не забавен… Что до меня, я предпочитаю, даже для развлечения, сочинения господина Огюстена Тьерри всем этим сказкам об известных исторических лицах… Я прошу у вас прощения за комплимент, недостойный этого почтенного ученого, но имя его пришло мне на ум так же естественно, как пришло бы имя Геродота, которому тоже случалось быть забавным.
— Это дело вкуса, — с улыбкой перебил меня князь К***, - не будем спорить.
С этими словами он оперся на мою руку и попросил меня проводить его в каюту; там он пригласил меня сесть и заговорил шепотом: „Мы одни; вы любите историю — вот случай из жизни особ куда более родовитых, чем те, о ком я говорил недавно; я расскажу его вам одному, ибо в присутствии русских говорить об истории невозможно!.. Вам известно, что Петр Великий после долгих колебаний уничтожил московское патриаршество, дабы украсить свою голову не только короной, но и клобуком. Таким образом, политическое самодержавие открыто присвоило себе духовную власть, о которой уже давно мечтало и которую давно извращало; так создался ужасный союз, неведомый ни одной из современных европейских стран. Несбыточная мечта средневековых пап осуществилась ныне в шестидесятимиллионной империи, часть жителей которой — азиаты, ничему не удивляющиеся и ничуть не смущенные тем, что их царь является также великим Ламой.
Император Петр пожелал жениться на маркитантке Екатерине. Для исполнения этого желания нужно прежде всего приискать будущей императрице родню. В Литве, а может быть, и в Польше находят безвестного дворянина, нарекают его потомственным аристократом, а затем объявляют братом царевой избранницы.
Мало того, что русский деспотизм ни во что не ставит ни идеи, ни чувства, он еще и перекраивает факты, борется против очевидности и побеждает в этой борьбе!!! Ведь ни очевидность, ни справедливость, если они неудобны власть имущим, не находят у нас защитников“.
Смелые речи князя К*** начинали пугать меня. Удивительная страна, рождающая рабов, коленопреклоненно повторяющих чужие мнения, шпионов, вовсе лишенных собственного мнения и на лету схватывающих мнения окружающих, да насмешников, представляющих зло еще более страшным, чем оно есть: последние изобретают еще один, очень остроумный, способ укрыться от испытующего взора иностранцев, однако само их остроумие достаточно красноречиво: какому еще народу придет на мысль прибегать к нему? Пока я предавался этим мыслям, князь продолжал посвящать меня в свои философические наблюдения:
„Народ и даже знать, вынужденные присутствовать при этом надругательстве над истиной, смиряются с позорным зрелищем, потому что ложь деспота, как бы груба она ни была, всегда льстит рабу. Русские, безропотно сносящие столько тягот, не снесли бы тирании, не принимай тиран смиренный вид и не притворяйся он, что полагает, будто они повинуются ему по доброй воле. Человеческое достоинство, попираемое абсолютной монархией, хватается, как за соломинку, за любую мелочь: род людской согласен терпеть презрение и глумление, но не согласен, чтобы ему четко и ясно давали понять, что его презирают и над ним глумятся. Оскорбляемые действием, люди укрываются за словами. Ложь так унизительна, что жертва, заставившая тирана лицемерить, чувствует себя отмщенной. Это — жалкая, последняя иллюзия несчастных, которую, однако, не следует у них отнимать, чтобы раб не пал еще ниже, а деспот не стал еще безумнее!..
В древности на Руси существовал обычай, согласно которому в торжественных процессиях рядом с московским патриархом шли два самых знатных боярина. Царь-первосвященник решил, что во время брачной церемонии по одну руку от него встанет родовитый боярин, а по другую — новоиспеченный царский шурин: ведь в России могущество самодержавной власти так велико, что она не только производит людей в дворянское звание, но и наделяет их родственниками, о которых они прежде даже не слыхали; семьи для нее — все равно что деревья для садовника, который обрезает и обрывает ветки, а также прививает к одному растению другое. Перед нашим деспотизмом бессильна сама природа; Император — не просто наместник Господа, он сам — творец, причем творец. Господа превзошедший: ведь Господу подвластно только будущее, император же способен изменять прошедшее! Законы обратной силы не имеют; не то — капризы деспота. Кроме новоявленного брата императрицы Петр решил поставить подле себя знатнейшего московского боярина, второго после царя человека в империи — князя Ромодановского… Через своего первого министра Петр передал князю, что ему предстоит идти в процессии подле императора и что эту честь боярин разделит с новым братом новой императрицы.
— Прекрасно, — отвечал князь, — но по какую руку от себя намеревается император меня поставить?
— Дражайший князь, — говорит царедворец-министр, — какие могут быть сомнения? разве не ясно, что вы будете идти слева, а справа поместится шурин Его Величества?
— В таком случае я не пойду, — восклицает гордый боярин. Петру донесли об этом ответе, и он повелел вторично передать боярину высочайший приказ — приказ, в котором сполна высказалась деспотическая натура царя:[18]
— Ты пойдешь — или я тебя повешу!
— Скажите царю, — возразил несгибаемый москвич, — что я прошу его начать с моего единственного сына; ему еще только пятнадцать лет, и, быть может, став свидетелем моей гибели, он из страха согласится идти слева от монарха, что же до меня, то я наверняка не опозорю род Ромодановских ни до, ни после казни моего наследника.
К чести царя, он, услышав эти слова, уступил, однако, дабы отомстить проникнутым духом независимости московским боярам, превратил Петербург из простого порта на берегу Балтийского моря в ту столицу, какой видим мы ее сегодня“.
— Николай, — добавил князь К***, - ни за что не уступил бы; он сослал бы боярина вместе с сыном в рудники и объявил бы именем закона, что лишает и отца и сына права иметь детей, а может быть, постановил бы, что отец никогда не был женат; в России подобные вещи творятся довольно часто; о них запрещено рассказывать, но делать их не возбраняется».
Как бы там ни было, гордость московского боярина превосходно показывает разнородность источников, давших начало современному русскому обществу, представляющему собой чудовищную смесь византийской мелочности с татарской свирепостью, греческого этикета с азиатской дикой отвагой; из этого смешения и возникла громадная держава, чье влияние Европа, возможно, испытает завтра, так и не сумев постигнуть его причин.
В истории, которую вы только что прочли, аристократ восстает против деспотической власти и принуждает ее к смирению. Этот случай, наряду со многими другими, позволяет мне утверждать, что аристократия — полная противоположность деспотизму одного человека, автократии, или самодержавию; дух, которым проникнута аристократия, — гордость; это отличает ее и от демократии, чья страсть — зависть.
А теперь я докажу вам, как нетрудно обмануть самодержца. Нынче утром мы прошли Ревель. Эти края, принадлежащие России лишь с недавних пор, хранят память о великом короле Карле XII и Нарвской битве. В битве этой погиб француз князь де Крой, сражавшийся на стороне шведского короля. Тело князя перенесли в Ревель, однако предать его земле оказалось невозможно, поскольку он не успел расплатиться со многими здешними заимодавцами и не оставил денег на уплату долгов. По старинному закону, а точнее, по местному обычаю, тело князя поместили в ревельской церкви, где ему предстояло покоиться до тех пор, пока наследники его не расплатятся с кредиторами. Оно по сей день лежит там, хотя со времени Нарвской битвы прошло более ста лет.
К первоначальному долгу прибавились за это время, во-первых, проценты, а во-вторых, сумма, ушедшая на содержание тела, содержавшегося, впрочем, крайне дурно. Все вместе составляет нынче состояние, какого, пожалуй, не нашлось бы у большинства нынешних богачей.
Меж тем лет двадцать назад император Александр проезжал через Ревель; посетив кафедральный собор, он заметил труп и ужаснулся; ему рассказали историю князя де Кроя, и он приказал завтра же предать тело земле, а в соборе отслужить мессу.
Назавтра император уехал, а еще через сутки тело князя де Кроя, отнесенное было на кладбище, возвратилось на свое прежнее место в соборе. Правосудия в России не существует, зато привычки здесь, как видите, сильнее даже верховной власти.
Самое забавное, что во время нашего недолгого плавания мне постоянно приходилось защищать Россию от князя К***. Суждения мои, которые я высказывал совершенно бескорыстно, исключительно из любви к истине, расположили ко мне всех русских, присутствовавших при наших беседах. Что же до любезного князя К***, то откровенность его суждений об отечестве доказывает мне, что и в России находятся люди, осмеливающиеся бесстрашно высказывать собственное мнение. Когда я поделился с ним этой мыслью, он отвечал мне: «Я не русский!!!» Странное притязание!.. Русский или не русский, он говорит то, что думает; ему это дозволяют потому, что он занимал высокие посты, промотал два состояния и злоупотребил милостями нескольких монархов, потому, что он беден, стар, болен и пользуется покровительством некоей особы, принадлежащей к императорской фамилии и твердо знающей, что острый ум — вещь опасная. Вдобавок, чтобы избежать Сибири, князь, по его словам, пишет мемуары, которые, том за томом, оставляет во Франции. Император боится гласности так же сильно, как Россия боится императора. Я слушаю князя К*** с неизменным вниманием, которого он бесспорно заслуживает; я нахожу, что рассказы его чрезвычайно занимательны, но часто вступаю с ним в спор.
Меня поражает неумеренная тревога русских касательно мнения, какое может составить о них чужестранец; невозможно выказать меньше независимости; русские только и думают, что о впечатлении, которое произведет их страна на стороннего наблюдателя. Что сталось бы с немцами, англичанами, французами, со всеми европейскими народами, опустись они до подобного ребячества? Если эпиграммы князя К*** возмущают его соотечественников, то не столько оттого, что всерьез оскорбляют их достоинство, сколько оттого, что могут повлиять на меня, а я в их глазах- важная персона, ибо, как они слышали, сочиняю путевые заметки.
«Не вздумайте составить мнение о России по рассказам этого скверного русского, не вздумайте поверить его россказням, он просто старается блеснуть французским остроумием на наш счет, на деле же вовсе не думает того, что говорит».
Вот что шепчут мне попутчики десять раз на дню. Ум мой уподобляется сокровищнице, из которой каждый надеется извлечь себе поживу, поэтому к концу дня мои бедные мысли начинают путаться и я решительно теряюсь; это-то и нравится русским; когда мы перестаем понимать, что говорить и думать об их стране, они торжествуют.
Мне кажется, что они согласились бы стать еще более злыми и дикими, чем они есть, лишь бы их считали более добрыми и цивилизованными. Я не люблю людей, так мало дорожащих истиной; цивилизация — не мода и не уловка, это сила, приносящая пользу, корень, рождающий ствол, на котором вырастают цветы и плоды. «Во всяком случае, вы не станете называть нас „северными варварами“, как делают ваши соотечественники…» Вот что они говорят мне всякий раз, когда видят, что какой-нибудь любопытный случай или народная мелодия, какой-нибудь рассказ о патриотическом подвиге русского, о его благородном и поэтическом движении души позабавили или растрогали меня.
Я отвечаю на все подобные фразы ни к чему не обязывающими комплиментами, а сам думаю, что скорее предпочел бы иметь дело с северными варварами, нежели с обезьянами, подражающими жителям Юга. От первобытной дикости избавиться можно, от мании же казаться тем, чем ты не являешься, излечиться нельзя.
Во время плавания некий русский ученый, грамматист, переводчик многих немецких сочинений, преподаватель какого-то училища, изо всех сил старался сблизиться со мной. Он объездил всю Европу и возвращается в Россию, намереваясь, как он говорит, познакомить соотечественников со всем полезным, чем богата современная западная мысль. Вольность его речей насторожила меня; это не блистательная независимость князя К***, но продуманный, расчетливый либерализм, главная цель которого — развязать язык собеседнику. Я уверен, что ученых такого рода немало вблизи русских границ — на любекских постоялых дворах, на борту пароходов и даже в Гавре, где теперь, благодаря морским рейсам по Северному и Балтийскому морям, также проходит граница с Московией. От меня этот человек толку не добился. Он в первую голову желал выяснить, собираюсь ли я описывать свое путешествие, и настойчиво предлагал мне свою помощь. Я не стал его расспрашивать; сдержанность моя немного удивила, но и обрадовала его, и он расстался со мной в уверенности, что я «путешествую исключительно для собственного удовольствия и не намерен в этот раз публиковать рассказ о путешествии, которое будет столь коротким, что у меня недостанет времени запастись любопытными для публики впечатлениями».
Я заверял его в этом и прямо и намеками, так что в конце концов он, кажется, успокоился. Но если его тревога улеглась, то моя пробудилась. Начни я в самом деле вести записи, я наверняка вызову подозрения у проницательнейшего в мире правительства, располагающего превосходнейшими шпионами. Приятного в этом мало; итак, придется прятать свои письма, молчать и не подавать виду, что я догадываюсь о слежке; открытое лицо — надежнейшая из масок. За следующее письмо я примусь уже в Петербурге.
ПИСЬМО СЕДЬМОЕ
Российский флот — предмет гордости русских. — Замечание лорда Дарема. — Будущие моряки учатся своему ремеслу. — Великие труды ради малого результата. — Печать деспотизма. — Кронштадт. — Смехотворное кораблекрушение. — Русская таможня. — Унылые пейзажи на подступах к Петербургу. — Воспоминания о Риме. — Как англичане называют корабли королевского флота. — Упадок духа. — Замысел Петра I. — Генуэзцы. — Остров Кронштадт. — Крепостные батареи. — Их действенность. — Разные типы русских — завсегдатаев салонов. — Сложности при выгрузке на берег экипажей. — Ничтожество нижних чинов. — Допрос в присутствии полицейских и таможенных чиновников. — Медлительность таможенников. — Дурное настроение русских дворян. — Их суждение о России. — Начальник таможни. — Его непринужденные манеры. — Новый досмотр. — Император здесь бессилен. — Неожиданная перемена в поведении моих попутчиков. — От покидают меня, не попрощавшись. — Мое изумление.
Петербург, 10 июля 1839 года
На подступах к Кронштадту, подводной крепости, которой русские по праву гордятся, Финский залив внезапно оживляется: величественные суда императорского флота бороздят его по всем направлениям; полгода этот флот проводит в гавани, вмерзнув в лед, а в течение трех летних месяцев гардемарины учатся судовождению в Балтийском море. Так молодежь углубляет свои познания в те редкие дни, когда солнце проливает свой свет на эти края. До тех пор, пока мы не приблизились к Кронштадту, мы вовсе не встречали кораблей, и лишь время от времени вдали показывались редкие торговые парусники или еще более редкие пироскафы. Пироскаф — ученое название парохода, принятое среди части европейских моряков. Тусклые, пустынные воды Балтийского моря омывают столь же пустынные берега: климат здесь суровый и неблагоприятный для людей. Бесплодная суша и холодное море, печальные просторы земли и неба — все здесь леденит душу странника.
Ступив на этот малопривлекательный берег, путешественник тотчас испытывает желание его покинуть; со вздохом вспоминает он слова, которые сказал императрице Екатерине, жаловавшейся на недуги, порожденные петербургским климатом, один из ее фаворитов: «Господь, сударыня, не виноват в том, что люди имели дерзость построить столицу великой империи в отечестве волков и медведей!»
Спутники мои с гордостью поведали мне о недавних успехах русского флота. Я восхищаюсь этим чудом, хотя и не придаю ему такого значения, как они. Оно — плод дела, а вернее, безделья императора Николая. Сей монарх забавы ради воплощает в жизнь заветную мечту Петра I, но, как бы могуществен ни был человек, рано или поздно ему придется признать, что природа сильнее любого смертного. Покуда Россия не выйдет из пределов, положенных ей природой, русский флот останется игрушкой императоров — и не более!..
Мне объяснили, что во время морских учений самые юные моряки плавают вблизи кронштадтских берегов, самые же опытные осмеливаются доходить до Риги, а иной раз даже до Копенгагена. Да что там говорить! два русских корабля, — управляемые, вне всякого сомнения, иностранцами, — уже совершили или готовятся совершить кругосветное путешествие! Несмотря на подобострастную гордость, с которой русские расхваливали мне чудеса, творимые волею их монарха, пожелавшего иметь собственный флот и обзаведшегося таковым, мне очень скоро наскучили их похвальбы: ведь я уже знал, что все представшие нашим взорам корабли — учебные. Мне показалось, что я попал в школу, и вид залива, превращенного в класс, внушил мне неизъяснимую печаль.
Перемещения кораблей, не вызванные никакой необходимостью, не преследующие ни военных, ни коммерческих целей, показались мне обычным парадом. Меж тем одному Господу — да еще русским — известно, велико ли удовольствие присутствовать на параде!.. В России любовь к смотрам не знает границ: должно же было случиться так, что при въезде в пределы этой империи мне пришлось присутствовать при морском смотре?! Это вовсе не смешно: ребячество в таких размерах кажется мне ужасным; это чудовищная вещь, возможная лишь при тирании и являющаяся, пожалуй, одним из отвратительнейших ее проявлений!.. Во всех странах, кроме тех, где царит абсолютный деспотизм, люди совершают великие усилия, дабы достичь великой цели: лишь народы, слепо повинующиеся самодержцу, идут по его приказу на огромные жертвы ради ничтожных результатов.
Итак, зрелище русского флота, вышедшего в море на потеху царю, гордость его льстецов и маневры его юных подданных на подступах к столице — все это произвело на меня самое тяжелое впечатление. За школьными упражнениями я разглядел железную волю, употребленную впустую и угнетающую людей из-за невозможности покорить стихии. В кораблях, которые через несколько зим придут в негодность, так и не успев послужить для настоящего дела, я увидел не символ великой и могучей державы, но повод для бесполезного пролития народного пота. Самый грозный враг этого военного флота — лед, почти на полгода сковывающий воды: каждую осень, после трехмесячных учений, юноши возвращаются в свои клетки, игрушку убирают в коробку, а имперские финансы терпят поражение за поражением от мороза.
Лорд Дарем сказал самому императору с откровенностью, задевшей чувствительнейшую струну во властолюбивом сердце русского самодержца: «Русские военные корабли — игрушки русского императора». Что до меня, то это колоссальное ребячество не внушает мне ни малейшего расположения к тому, что мне предстоит увидеть в пределах Российской империи. Подплывать к Петербургу с восхищением может лишь тот, кто не подплывал по Темзе к Лондону: там царит жизнь, здесь — смерть. Англичане, делающиеся поэтами, когда речь заходит о море, называют свои военные суда полководцами. Русским никогда не придет на мысль назвать так свои парадные корабли. Немые рабы капризного хозяина, деревянные угодники, эти несчастные суда — не полководцы, а царедворцы, точное подобие евнухов из сераля, инвалиды имперского флота.
Эта импровизация деспота не только не вселяет в мою душу ожидаемого восхищения, но, напротив, исполняет меня некоего страха — страха не перед войной, но перед тиранией. Бесполезный флот Николая I напоминает мне обо всех бесчеловечных деяниях Петра Великого, вобравшего в себя черты всех древних и новых русских монархов… и я спрашиваю себя: куда я еду? что такое Россия? Россия — страна, где великие дела творятся ради жалких результатов… Мне нечего там делать!..
Когда корабль наш стал на якорь в виду Кронштадта, мы узнали, что одно из прекрасных судов, только что маневрировавших неподалеку от нас, село на мель. Кораблекрушение это представляло опасность только для капитана, которому грозило разжалованием, а может быть, и более серьезным наказанием. Князь К*** шепотом сказал мне, что несчастный много выиграл бы, если бы погиб вместе со своим кораблем. Экипаж, несущий меньшую ответственность за судьбу корабля, был иного мнения, равно как и наша спутница княгиня Л***. Сын этой дамы находился в тот день на борту злосчастного судна. Вне себя от волнения княгиня снова, как накануне, во время остановки нашей машины, едва не лишилась чувств, но кронштадтский губернатор очень вовремя успокоил встревоженную мать, известив, что сын ее цел и невредим. Русские беспрестанно твердят мне, что, прежде чем высказывать суждения об их родине, следует провести в России по крайней мере два года, ибо это — страна, которую очень трудно понять.
Однако осторожность и терпение — добродетели, необходимые для путешественников, ученых или для тех, кто жаждет прославить себя книгами тщательно отделанными, что же до меня, то я боюсь сочинений, написанных с трудом, ибо читаются они также с трудом; мое решение твердо: я не стану отделывать свой дневник. До сих пор я писал только для вас и для себя.
Я боялся русской таможни, но меня уверяют, что никто не станет покушаться на мою чернильницу. Вдобавок, чтобы нарисовать Россию такой, какой она предстала передо мной при первом знакомстве, и, согласно моим привычкам, высказать всю правду, невзирая на последствия, пришлось бы, я чувствую, рубить сплеча, а для этого я слишком ленив.
Нет ничего печальнее, чем природа в окрестностях Петербурга; по мере того, как корабль входит в залив, плоские болотистые берега Ингермаиландии вытягиваются в тонкую дрожащую линию на горизонте, между небом и землей; эта линия и есть Россия… иначе говоря, сырая, усыпанная жалкими чахлыми березками низина. Этот однообразный, пустынный пейзаж, безжизненный и бесцветный, не знающий границ и тем не менее лишенный величия, тонет в полумраке. Здешняя серая, забытая Богом земля достойна бледного солнца, чьи лучи падают на нее не сверху, а сбоку, если не снизу. В России ночи на удивление светлы, но дни сумрачны и печальны. Даже в самую прекрасную погоду воздух здесь отливает синевой. Кронштадт с его лесом мачт, подземными постройками и гранитными набережными вносит приятное разнообразие в грезы странника, прибывшего, подобно мне, в эти неблагодарные края в поисках живописных зрелищ. Мне не довелось еще видеть большого города, чьи окрестности были бы так безрадостны, как берега Невы. Римская кампанья пустынна, но сколько прелестных уголков, сколько памятных мест, сколько света, блеска, поэзии и, с позволения сказать, сколько страстей одухотворяют эту древнюю землю! К Петербургу же приближаешься по водной пустыне, окаймленной пустыней торфяной: море, суша, небо — все сливается воедино, все напоминает зеркало, но зеркало столь тусклое и блеклое, что в нем не отражается ровно ничего. Несколько убогих лодок с рыбаками, грязными, словно эскимосы, несколько кораблей, тянущих за собой длинные плоты бревен для строительства имперского флота, несколько паровых пакетботов, по большей части построенных и управляемых чужестранцами, — вот и все, что оживляет здешний пейзаж; таким образом, ничто не отвлекало меня от мрачных мыслей. Таковы окрестности Петербурга; неужели Петр Великий не расчел, что строительство города в этом краю противно законам природы и действительным нуждам великого народа? Море любой ценой: вот о чем он пекся!!! Странная идея — основать столицу славянской империи на финской земле, перед лицом шведов! Сколько бы Петр Великий ни говорил, что хотел просто-напросто увеличить число российских портов, он, если был так гениален, как о нем говорят, обязан был предвидеть последствия своей затеи; и я уверен, что он их предвидел. Политика и, как ни печально, мстительность царя, чье самолюбие было оскорблено независимостью древней Москвы, — вот что решило судьбу России. Россия подобна могучему человеку, которому нечем дышать; ей недостает выходов к морю. Петр I посулил таковые и открыл ей путь в Финский залив, не подумав о том, что море, скованное льдом восемь месяцев в году, — не чета другим морям. Однако для русских слова важнее реальности. Как ни поразительны были старания Петра I, его подданных и преемников, они увенчались не чем иным, как созданием мало пригодного для жизни города, у которого Нева стремится отвоевать землю всякий раз, когда ветер начинает дуть со стороны залива, и который люди мечтают покинуть сразу после того, как завоевания на юге дадут им такую возможность. Бивуак же мог бы обойтись без гранитных набережных.
Финны, обитающие по соседству с русской столицей, — потомки скифов; они по сей день остаются язычниками в душе и полными дикарями; лишь в 1836 году специальный указ предписал священникам прибавлять к имени святого, даваемому ребенку при крещении, фамилию родителей. К чему упоминать семью, если ее не существует?
Нация эта безлика; физиономии у чухонцев плоские, черты бесформенные. Эти уродливые и грязные люди отличаются, как мне объяснили, немалой физической силой; выглядят они, однако, хилыми, низкорослыми и нищими. Хотя они — коренные жители здешних мест, в Петербурге они попадаются на глаза редко; они селятся на заболоченных равнинах или невысоких гранитных скалах и приезжают в город только в базарные дни.
Кронштадт — плоский остров посреди Финского залива; эта морская крепость поднимается над морем ровно настолько, насколько нужно, чтобы преградить путь вражеским кораблям, если они двинутся на Петербург. Ее темницы и башни расположены по большей части ниже уровня моря. Кронштадтская артиллерия размещена, по словам русских, с большим искусством; достаточно одного залпа, и все море окажется вспаханным снарядами; по приказу императора град ядер обрушится на всякого противника, который попытается приблизиться к Кронштадту, так что крепость эта слывет неприступной. Я, впрочем, не знаю, оба ли водных прохода вдоль острова окажутся при обороне под обстрелом; русские, у которых я пытался это выяснить, не пожелали удовлетворить мое любопытство. Чтобы дать ответ на этот вопрос, следовало бы рассчитать дальность и направление полета ядер и измерить расстояние от острова до суши. Хоть я и недавно имею дело с русскими, но опыт подсказывает мне, что не следует доверять их неумеренной похвальбе, вдохновленной чересчур ревностным служением верховному правителю. Национальная гордость, на мой взгляд, приличествует лишь народам свободным. Когда я вижу людей, надменных из подобострастия, причина внушает мне ненависть к следствию; в основе всего этого тщеславия — страх, говорю я себе; в основе всего этого величия — ловко скрытая низость. Открытие это исполняет меня неприязни. Во Франции, как и в России, я встречал две разновидности русских светских людей: одни из осторожности и из самолюбия без меры расхваливают свою страну, другие, желая прослыть особами изысканными и просвещенными, выказывают, когда речь заходит о России, глубочайшее презрение либо безмерную сдержанность. До сего дня ни тем, ни другим не удавалось меня провести; но я мечтаю отыскать третью разновидность — обыкновенных русских; я не оставил надежды найти ее.
Мы прибыли в Кронштадт на заре одного из тех дней без начала и конца, которые мне надоело описывать, но которыми я не устаю любоваться, иными словами, в половине первого пополуночи. Пора белых ночей коротка, она уже подходит к концу.
Мы бросили якорь перед безмолвной крепостью; прошло немало времени, прежде чем пробудилась и явилась на борт целая армия чиновников: полицмейстеры, таможенные смотрители со своими помощниками и, наконец, сам начальник таможни; этот важный барин счел себя обязанным посетить нас, дабы оказать честь прибывшим на борту «Николая I» славным русским путешественникам. Он имел продолжительную беседу с князьями и княгинями, возвращающимися в Петербург. Разговор велся по-русски, возможно, оттого, что касался западноевропейской политики, когда же дело дошло до сложностей с высадкой на берег, до необходимости расстаться с каретами и пересесть на другое судно, собеседники пустили в ход французский. Пакетбот, делающий рейсы до Травемюнде, имеет слишком большую осадку и не может войти в Неву; он с крупным грузом на борту остается в Кронштадте, пассажиры же добираются до Петербурга на скверном грязном пароходишке. Нам позволено взять с собой на борт этого нового судна самый легкий багаж, но лишь после досмотра, который произведут кронштадтские чиновники. Покончив с этой формальностью, мы отправимся в путь с надеждой послезавтра обрести свои экипажи, если это будет угодно Господу… и таможенникам, под чьей командой грузчики переправляют их с одного корабля на другой — процедура всегда довольно рискованная, в Кронштадте же рискованная вдвойне по причине небрежности грузчиков.
Русские князья проходили таможенный досмотр наравне со мной, простым чужестранцем; поначалу подобное равенство пришлось мне по душе, однако в Петербурге чиновники разобрались с ними в три минуты, меня же не отпускали в течение трех часов. Привилегии, на время укрывшиеся под прозрачным покровом деспотической власти, вновь предстали предо мной, и явление это неприятно меня поразило. Обилие ненужных предосторожностей дает работу массе мелких чиновников; каждый из них выполняет свои обязанности с видом педантическим, строгим и важным, призванным внушать уважение к бессмысленнейшему из занятий; он не удостаивает вас ни единым словом, но на лице его вы ч, итаете: «Дайте мне дорогу, я — составная часть огромной государственной машины». Эта составная часть, действующая не по своей воле, подобна винтику часового механизма — и вот что в России именуют человеком! Вид этих людей, по доброй воле превратившихся в автоматы, испугал меня; в личности, низведенной до состояния машины, есть что-то сверхъестественное. Если в странах, где техника ушла далеко вперед, люди умеют вдохнуть душу в дерево и металл, то в странах деспотических они сами превращаются в деревяшки; я не в силах понять, на что им рассудок, при мысли же о том давлении, которому пришлось подвергнуть существа, наделенные разумом, дабы превратить их в неодушевленные предметы, мне становится не по себе; в Англии я боялся машин, в России жалею людей. Там творениям человека недоставало лишь дара речи, здесь дар речи оказывается совершенно излишним для творений государства.
Впрочем, эти машины, обремененные душой, чудовищно вежливы; видно, что их с пеленок приучали к соблюдению приличий, как приучают других к владению оружием, но кому нужна обходительность по приказу? Сколько бы ни старались деспоты, всякий поступок человека осмыслен, только если освящен его свободной волей; верность хозяину чего-нибудь стоит, лишь если слуга выбрал его по своей охоте; а поскольку в России низшие чины не вправе выбирать что бы то ни было, все, что они делают и говорят, ничего не значит и ничего не стоит. При виде всевозможных шпионов, рассматривавших и расспрашивавших нас, я начал зевать и едва не начал стенать — стенать не о себе, но о русском народе; обилие предосторожностей, которые здесь почитают необходимыми, но без которых прекрасно обходятся во всех других странах, показывало мне, что я стою перед входом в империю страха, а страх заразителен, как и грусть: итак, я боялся и грустил… из вежливости… чтобы не слишком отличаться от других.
Мне предложили спуститься в кают-компанию, где заседал ареопаг чиновников, в чьи обязанности входит допрос пассажиров. Все члены этого трибунала, внушающего скорее ужас, нежели уважение, сидели за большим столом; некоторые с мрачным вниманием листали судовой журнал и были так поглощены этим занятием, что не оставалось сомнений: на них возложена некая секретная миссия; ведь официально объявленный род их занятий никак не располагал к подобной серьезности. Одни с пером в руке выслушивали ответы путешественников, или, точнее сказать, обвиняемых, ибо на русской границе со всяким чужестранцем обходятся как с обвиняемым; другие громко повторяли наши слова, которым мы придавали очень мало значения, писцам; переводимые с языка на язык, ответы наши звучали сначала по-французски, затем по-немецки и, наконец, по-русски, после чего последний и самый ничтожный из писцов заносил в книгу свой приговор — окончательный и, быть может, совсем незаконный. Чиновники переписывали наши имена из паспортов; они самым дотошным образом исследовали каждую дату и каждую визу, сохраняя при этом неизменную вежливость, призванную, как мне показалось, утешить подсудимых, с трудом сносящих эту нравственную пытку.
В результате долгого допроса, которому меня подвергли вместе с другими пассажирами, у меня отобрали паспорт, а взамен выдали карточку, предъявив которую я якобы смогу вновь обрести свой паспорт в Санкт-Петербурге. Кажется, полиция осталась всем довольна; чемоданы и люди находились уже на борту нового парохода; вот уже четыре часа мы изнывали в виду Кронштадта, но ничто по-прежнему не предвещало отъезда. Черные и унылые лодчонки поминутно выходили из города и направлялись в нашу сторону; хотя мы стояли на якоре неподалеку от крепостных стен, кругом царила полная тишина… Ни один голос не звучал в недрах этой могилы; тени, скользившие вокруг нас по воде, были немы, как те камни, которые они только что покинули; казалось, перед нами похоронная процессия, медлящая в ожидании покойника, который заставляет себя ждать. Мрачными, неопрятными лодками правили люди в грубых шерстяных балахонах серого цвета, смотревшие прямо перед собой ничего не выражающими глазами; их безжизненные лица отливали желтизной. Мне сказали, что это матросы местного гарнизона; по виду они походили на солдат. Уже давно рассвело, но светлее не стало; воздух сделался душен, солнце еще не поднялось высоко, но лучи его отражались от воды и слепили мне глаза. Некоторые лодки молча кружили около нас, не подходя близко; другие, приводимые в движение шестерками либо дюжинами оборванных гребцов в грязных тулупах, приставали к нашему борту, дабы высадить очередного полицейского чиновника, офицера местного гарнизона либо запоздавшего таможенника; суета эта, никак не ускорявшая наш отъезд, навела меня на печальные размышления об исключительной неряшливости жителей севера. Южане проводят всю жизнь под открытым небом или в воде; они вечно ходят полуодетые; северяне же, вынужденные почти никогда не расставаться с одеждой, сочатся жиром и кажутся мне гораздо менее чистоплотными, нежели жители юга, рожденные для того, чтобы греться в солнечных лучах.
Томясь от скуки из-за русской дотошности, я имел случай заметить, что знатные подданные Российской империи весьма критически оценивают устройство их общества, если устройство его причиняет им неудобства.
«Россия — страна бесполезных формальностей», — шептали они друг другу, однако шептали по-французски, опасаясь, как бы их не поняли низшие чины. Я запомнил эту мысль, в справедливости которой успел уже тогда убедиться на собственном опыте. Судя по тому, что я мог услышать и увидеть позже, сочинение под названием «Русские о самих себе» оказалось бы книгой весьма суровой; для русских любовь к родине — не более чем средство польстить их государю; стоит им убедиться, что государь их не слышит, и они принимаются обсуждать все кругом с откровенностью тем более опасной, что ответственность за нее они разделяют со своими слушателями. Наконец нас оповестили о причине столь долгого промедления. Главный из главных, верховный из верховных, начальник над всеми начальниками таможни предстал перед нами: его-то прибытия мы и ожидали все это время, сами того не зная. Верховный этот владыка ходит не в мундире, но во фраке, как простой смертный. Кажется, ему предписано играть роль человека светского: для начала он стал любезничать с русскими дамами; он напомнил княгине Д*** об их встрече в доме, где княгиня никогда в жизни не бывала; он стал толковать ей о придворных балах, на которых она его ни разу не видела; одним словом, он ломал комедию перед всеми нами, а более всего передо мной, чужестранцем, даже не подозревавшим, что в стране, где вся жизнь расписана, где место каждого определено раз и навсегда его шляпой и эполетами, человек может притворяться куда более влиятельным, чем он есть на самом деле; впрочем, по сути своей человек везде одинаков…
Наш светский таможенник меж тем, продолжая блистать придворными манерами, изящнейшим образом конфискует у одного пассажира зонтик, а у другого чемодан, прибирает к рукам дамский несессер и, храня полнейшую невозмутимость и хладнокровие, продолжает досмотр, уже произведенный его добросовестными подчиненными.
У русских чиновников усердие нисколько не исключает беспорядка. Они предпринимают великие усилия ради ничтожной цели, и служебное их рвение положительно не знает пределов. Соперничество чиновников приводит к тому, что, выдержав допрос одного из них, иностранец может очень скоро попасть в руки другого. Это тот же разбой: если путника ограбили одни бандиты, это никак не значит, что назавтра он не повстречает других, а три дня спустя — третьих, причем каждая из этих шаек сделает с ним все, что ее душе угодно.
Судьба чужестранца-путешественника зависит лишь от характера чиновника, в руки которого он попадает. Если этот последний не грешит излишней робостью и у него возникнет желание придраться, чужестранцу никогда не доказать своей правоты. И эта-то страна желает прослыть цивилизованной на западный манер!.. Верховный владыка имперских тюремщиков осматривал судно не спеша; он вершил свой суд медленно, бесконечно медленно; необходимость поддерживать беседу отвлекала этого слащавого цербера — слащавого не только в переносном, но и в прямом смысле слова, ибо он источал приторный запах мускуса — от выполнения его непосредственных обязанностей. Наконец мы избавились от таможенных церемоний и полицейских любезностей, от военных приветствий и созерцания беспредельной, немыслимой нищеты, воплощением которой являются гребцы, перевозящие господ чиновников. Поскольку я ничем не мог помочь этим несчастным, вид их сделался мне отвратителен, и всякий раз, когда они привозили на наш корабль посланцев таможни и морской полиции, самой суровой из всех, я отводил глаза. Эти матросы в рубище, эти немытые каторжники, в чью обязанность входит доставлять кронштадтских чиновников и офицеров на борт иностранных судов, позорят страну. Глядя на их лица и размышляя о том, что эти обездоленные существа считают жизнью, я задавался вопросом, за какие грехи Господь обрек шестьдесят миллионов смертных на вечное пребывание в России. Перед самым отплытием я приблизился к князю К*** и сказал ему:
— Вы русский, выкажите же любовь к своей стране и уговорите министра внутренних дел или министра полиции переменить все это: пусть он однажды притворится простым чужестранцем, вроде меня, и отправится в Кронштадт, дабы на собственном опыте убедиться, что значит — въезжать в Россию.
— Это бесполезно, — отвечал князь, — император здесь бессилен.
— Император — да, но министры!
Наконец мы снялись с якоря, к великой радости русских князей и княгинь, предвкушавших близкую встречу с родными и отечеством; счастье, написанное на их лицах, опровергало наблюдения любекского трактирщика, но, возможно, то было исключение, которое, как известно, лишь подтверждает правило. Что же до меня, то я не только не радовался, но, напротив, со страхом думал о том, как прощусь с очаровательным обществом, окружавшим меня на борту, и останусь один в городе, окрестности которого наводят на меня такое уныние; впрочем, наше созданное по воле случая общество более уже не существует; лишь только на горизонте замаячила гавань, хрупкие узы — плод мимолетной прихоти путешественников — тотчас распались.
Так бывает с небом: вечерний ветерок нагромождает на его краю облака; лучи заходящего солнца освещают их причудливые формы, какие не выдумать человеку с самым буйным воображением; взору нашему являются волшебные дворцы, населенные фантастическими существами, нимфы и богини, водящие в вышине свой веселый хоровод, гроты, служащие пристанищем сиренам, и острова, плывущие по огненному морю; одним словом, перед вами предстает новый мир; если же рядом со всеми этими прелестными созданиями и возникает какое-нибудь чудовище, какая-нибудь безобразная тварь, уродство их лишь подчеркивает совершенство прочих видений; стоит, однако, ветру перемениться или просто стихнуть, а солнцу зайти, и все исчезает… грезам приходит конец, холод и пустота прогоняют детей света, сумерки с их чередой иллюзий тают — наступает ночь. Жительницы Севера великолепно умеют делать вид, что выбрали по своей воле ту жизнь, которую ведут по воле рока. Это — не ложь, но утонченное кокетство, любезность по отношению к собственной судьбе. Это — проявление высшего изящества, изящества, которое всегда естественно, что не мешает людям прикрывать им обман: изящные женщины и наделенные поэтическим даром мужчины умеют обходиться без жестокости и принуждения в тех обстоятельствах, где эти качества кажутся почти неизбежными; те и другие — величайшие обманщики: одним мановением руки они прогоняют сомнения, и все создания их воображения тотчас обретают жизнь; речи их принимаются на веру любыми собеседниками; даже не обманывая других, они лгут сами себе, ибо их стихия- репутация; их счастье — иллюзия; их призвание — удовольствие, зиждущееся на видимости. Бойтесь женского изящества и мужских стихов — оружия тем более грозного, что его мало кто опасается!
Вот о чем думал я, покуда корабль наш удалялся от кронштадтских стен: все мы еще находились на его борту, но уже не составляли единого целого; от общества, еще вчера животворявшегося тайной гармонией, столь редко осеняющей человеческие сообщества, отлетела душа. Мало что вселяет в сердце такую печаль, как эта внезапная перемена; я прекрасно знаю, что так кончаются все мирские радости, ибо уже сотню раз убеждался в этом, но далеко не всегда прозрение наступало столь стремительно; к тому же, что может быть горше беды, в которой некого обвинить? На моих глазах каждый готовился продолжить свой путь; каждого из странников, возвращавшихся к повседневности, ждала проторенная дорога; простившись со свободой, даруемой путешествием, все они возвращались в мир действительный, я же оставался в царстве химер; я только и делаю, что скитаюсь по разным странам, а вечно скитаться — еще не значит жить. Меня охватило чувство глубочайшего одиночества: я сравнивал свое странническое сиротство с домашними радостями своих спутников.
Одиночество мое было добровольным, но разве становилось от этого более радостным?.. В тот миг любое состояние казалось мне предпочтительнее моей независимости, и я с завистью помышлял даже о заботах семейственных. Остальные же пассажиры думали кто о дворе, кто о таможне; ведь, несмотря на время, потерянное в Кронштадте, основной наш багаж еще не прошел досмотра; пассажиров тревожила судьба украшений и предметов роскоши, а может быть, даже книг; вчера эти люди бесстрашно бороздили волны, а сегодня вздрагивают при виде чиновника!.. В глазах женщин я читал предвкушение встречи с мужьями, детьми, портнихами, парикмахерами и придворными на балах; читал я в них и другое: несмотря на давешние заверения, дамам больше не было до меня никакого дела. У жителей Севера неверные сердца и обманчивые чувства; привязанности их зыбки, словно бледные лучи их солнца; не дорожащие ничем и никем, без сожаления покидающие родную землю, созданные для набегов, народы эти призваны лишь к тому, чтобы по воле Господней время от времени покидать полюс и охлаждать народы Юга, палимые огнем светил и жаром страстей. В Петербурге, не успели мы пристать к берегу, как мои титулованные друзья обрели свободу; они покинули тюрьму, давшую им приют на время пути, даже не простившись со мной — чужестранцем, остающимся в полицейских и таможенных оковах. К чему прощания? я был для них мертвец. — Какое дело матери семейства до дорожного спутника?.. Я не удостоился ни приветливого слова, ни взгляда, ни воспоминания!.. Волшебный фонарь погас; представление окончилось. Повторяю: я предвидел эту развязку, но не думал, что она причинит мне такую боль, — недаром говорится, что главный источник неожиданностей для нас — мы сами! Три дня тому назад две любезные путешественницы взяли с меня слово, что я посещу их в Петербурге; двор нынче в городе, я еще не был представлен; я подожду.
ПИСЬМО ВОСЬМОЕ
Вид Петербурга со стороны Невы. — Архитектура. — Противоречие между характером местности и стилем зданий, заимствованным у южной цивилизации. — Бессмысленное подражание памятникам Греции. — Природа в окрестностях Петербурга. — Препятствия, чинимые таможней и полицией. — Допрос с пристрастием. — У меня отбирают книги. — Трудности высадки на берег. — Вид улиц. — Памятник Петру Великому. — Он не заслуживает своей славы. — Зимний дворец. — Его перестроили за один год. — Какой ценой? — Цитата из Герберштейна. — Карамзин. — Из тщеславия русские не замечают бесчеловечности своего правительства. — Политика самодержавия отвечает духу нации.
Петербург, 4 июля 1839 года, вечер
Петербургские улицы непривычны для французского глаза; я попытаюсь описать их вам, но вначале хочу рассказать о виде на Петербург со стороны Невы. Вид этот славится во всем мире, и русские по праву им гордятся; впрочем, мне показалось, что восторги зрителей в данном случае слегка преувеличены. Несколько колоколен, предстающих взору издалека, вызывают не столько восхищение, сколько удивление. Узкая полоска земли на горизонте кое-где утолщается — вот и все, а между тем эти еле заметные неровности почвы суть грандиозные памятники новой российской столицы. Кажется, будто видишь линию, проведенную неуверенной рукой ребенка, обучающегося геометрии. Подплыв поближе, вы начинаете различать колокольни православных храмов, позолоченные купола монастырей и творения менее давнего времени: фронтон Биржи, белые колоннады школ, музеев, казарм и дворцов, стоящих вдоль гранитной набережной; уже в самом городе вы проплываете мимо сфинксов, высеченных также из гранита; размеры их колоссальны, облик величествен. Как произведения искусства эти копии античных творений не стоят ровно ничего, но мысль выстроить город, состоящий из одних дворцов, великолепна! Тем не менее подражание классическим памятникам неприятно поражает вас, когда вы вспоминаете о том, в каких широтах находитесь. Впрочем, очень скоро взор ваш поражают многочисленные и разнообразные шпили, башни, иглы; тут, по крайней мере, вы знакомитесь с национальной архитектурой. Вокруг Петербурга расположено множество просторных построек, увенчанных колокольнями, — это монастыри, священные поселения, опоясывающие поселение мирское. Русские церкви сохранили свой самобытный облик. Не русские изобрели тот тяжеловесный и прихотливый стиль, что именуется византийским. Но религию свою русские получили от греков; с Византией их связывают национальный характер, верования, образование, история, поэтому заимствовать что-либо у Византии для них совершенно естественно; что ж, пусть берут за образец архитектуру Константинополя — но не Афин. С борта корабля петербургские набережные кажутся величественными и роскошными, но, ступив на сушу, вы тотчас обнаруживаете, что эти самые набережные мощены скверными булыжниками, неровными, уродливыми, столько же неприятными для глаза, сколько и опасными для пешеходов и экипажей. Несколько золоченых шпицев, тонких, словно громоотводы; портики, основание которых едва не уходит под воду; площади с колоннами, теряющимися среди громадных пустых пространств; античные статуи, чьи черты, стиль и облик так разительно противоречат здешней почве, цвету неба и климату, а равно лицам, одеждам и привычкам местных жителей, что статуи эти напоминают пленных героев в стане врага; здания, стоящие не на своем месте, храмы, неведомо отчего перенесенные с вершин греческих гор в лапландские болота и утратившие все свое величие, — вот что прежде всего поразило меня в Петербурге.
Великолепные дворцы языческих богов, храмы, прекрасно венчающие своими горизонтальными линиями и строгими очертаниями отроги ионийских гор, святилища, чьи мраморные стены сверкают под лучами солнца на пелопонесских скалах, среди развалин древних акрополей, превратились здесь в груды гипса и известки; несравненные детали греческой скульптуры, великолепные уловки классического искусства уступили место смехотворному современному украшательству, которое слывет у чухонцев доказательством безупречного вкуса. Подражая созданиям совершенным, мы их портим; следует либо повторять образцы в точности, либо творить самостоятельно. Вдобавок копии афинских памятников, как бы ни были они верны оригиналу, неминуемо потеряются среди расположенной ниже уровня моря болотистой равнины, которой всякую минуту грозит опасность быть затопленной водой. Природа здесь требует от человека решительно противоположного тому, что он создал; следовало не подражать языческим храмам, но окружить себя зданиями, которые, дерзко устремляясь сквозь туман ввысь, к северному мутному небу, нарушали бы однообразие бескрайних сырых и серых степей, простирающихся вокруг Петербурга. Этой стране под стать не колоннада Парфенона и не купол Пантеона, но пекинская пагода. В краю, которому природа отказала в малейшей возвышенности, возводить горы должен человек. Я начинаю понимать, отчего русские так настойчиво приглашают иностранцев посетить их страну зимой: снежный покров толщиной в шесть футов может скрыть все, что угодно, летом же местность предстает перед путешественником во всей своей наготе. Объехав весь Петербург и его окрестности, путешественник, как я слышал, даже оставив позади сотни миль, не найдет ничего, кроме широких луж, чахлых сосен и берез с мутно-зеленой листвой. Конечно, зимний саван больше к лицу этой серой растительности, нежели летний наряд. Одна и та же низина, украшенная одним и тем же кустарником, — этот вид ждет вас повсюду, если только вы не направите свои стопы в сторону Швеции или Финляндии. Там вашему взгляду предстанут нагромождения поросших соснами гранитных глыб, которые если и не вносят в пейзаж большого разнообразия, все же меняют облик местности; что же до зданий, украшенных небольшими колоннами, которые местным жителям вздумалось построить в этом ровном голом краю, они, разумеется, не сообщают ему особого веселья. Греческим перистилям основанием служили горные вершины — здесь же между творениями человека и окружающей природой отсутствует какая бы то ни было связь, и это отсутствие гармонии неприятно поражает меня на каждом шагу; прогуливаясь по этому городу, я испытываю ту неловкость, какую чувствую, разговаривая с жеманным человеком. Портик, украшение легкое и воздушное, в этом краю, и без того мрачном по вине климата, лишь утяжеляет здания; одним словом, Петербург основан и выстроен людьми, имеющими вкус к безвкусице. Бессмыслица, на мой взгляд, — главная отличительная черта этого огромного города, напоминающего мне уродливый павильон, возведенный посреди парка; парк этот, однако, занимает треть мира, а имя архитектора — Петр Великий. Поэтому, как бы ни оскорбляли взор вздорные подражания, уродующие облик Петербурга, невозможно без восторга созерцать этот город, возникший из моря по приказу человека и живущий в постоянной борьбе со льдами и водой; возведение его — плод недюжинной воли; даже тот, кто не восхищается им, его боится — а от страха недалеко до уважения.
Кронштадтский пакетбот бросил якорь посреди Петербурга, напротив таможни, перед гранитной набережной, именуемой Английской, откуда рукой подать до знаменитой площади, где на обломке скалы высится памятник Петру Великому. Путешественник надолго запоминает это место; вы скоро поймете, отчего.
Я желал бы избавить вас от подробного описания тех гонений, которые под именем простых формальностей обрушили на меня полицейские и их верные друзья таможенники; однако мой долг — дать вам представление обо всех трудностях, которые ожидают чужестранца, попадающего в Россию морским путем: говорят, с приезжающими по суше обходятся не так сурово.
От силы три дня в году петербургское солнце палит нещадно: вчера, когда я прибыл в Петербург, был как раз один из таких дней. Вначале нас, меня и остальных приезжих-иностранцев, довольно долго держали на верхней палубе. Мы находились на самом солнцепеке, не имея возможности укрыться в тени. Было восемь утра, рассвело же еще в час ночи. Говорят, что термометр показывал 30 градусов по Реомюру;(125) заметьте, что на Севере такую жару переносить гораздо труднее, ибо воздух здесь душный и влажный.
Нам надлежало предстать перед новым трибуналом, заседавшим, как и прежний, кронштадтский, в кают-компании нашего судна. С той же любезностью мне были заданы те же вопросы, и ответы мои были переведены с соблюдением тех же церемоний.
— С какой целью прибыли вы в Россию?
— Чтобы увидеть страну.
— Это не причина. (Как вам нравится смирение, с которым подается реплика?)
— Другой у меня нет.
— С кем вы намерены увидеться в Петербурге?
— Со всеми особами, которые позволят мне с ними познакомиться.
— Сколько времени намереваетесь вы провести в России?
— Не знаю.
— Но все же?
— Несколько месяцев.
— Имеете ли вы дипломатические поручения?
— Нет.
— А тайные цели?
— Нет.
— Научные планы?
— Нет.
— Может быть, вы посланы вашим правительством для изучения общественного и политического положения в нашей стране?
— Нет.
— Значит, вас послала торговая компания?
— Нет.
— Итак, вы путешествуете по своей воле и из чистого любопытства?
— Да.
— Отчего же вы избрали именно Россию?
— Не знаю, и т. д., и т. д., и т. д.
— Имеются ли у вас рекомендательные письма (126) к кому-нибудь из российских подданных?
Предупрежденный о неуместности чересчур откровенного ответа на этот вопрос, я назвал только своего банкира.
Перед этим судом предстали и многие мои сообщники-чужестранцы, подвергнувшиеся самому суровому допросу в связи с некими неправильностями, вкравшимися в их паспорта. У русских полицейских ищеек тонкий нюх, и они изучают паспорта более или менее пристально, смотря по тому, как понравились им их владельцы; мне показалось, что они относятся к пассажирам одного и того же корабля далеко не одинаково. Итальянского негоцианта, который проходил досмотр передо мной, обыскивали безжалостно, хочется сказать — до крови; его заставили даже открыть бумажник, заглянули ему за пазуху и в карманы; если они поступят так же со мной, я вызову у них большие подозрения, думал я. Карманы мои были набиты рекомендательными письмами, часть из которых я получил непосредственно от русского посла в Париже, а часть — от особ не менее известных, однако письма эти были запечатаны, и это обстоятельство принудило меня не оставлять их в чемодане; итак, при виде полицейских я застегнул фрак на все пуговицы. Однако они не стали обыскивать меня самого, зато проявили живой интерес к моим чемоданам и тщательнейшим образом осмотрели все мои вещи, в особенности книги. Они изучали их нестерпимо долго и, наконец, конфисковали все без исключения, держась при этом так же необычайно любезно, но не обращая ни малейшего внимания на мои протесты. У меня отобрали также пару пистолетов и старые дорожные часы; напрасно я пытался выяснить, что противозаконного нашли стражи порядка в этом последнем предмете; все взятое, как меня уверяют, будет мне возвращено, но лишь ценою множества хлопот и переговоров. Итак, мне остается повторить вслед за русскими аристократами, что Россия — страна ненужных формальностей.
Я нахожусь в Петербурге уже более суток, но еще ничего не смог вырвать из лап таможенников, в довершение же всех бедствий моя коляска была отправлена из Кронштадта в Петербург на день раньше, чем мне обещали, но не на мое имя, а на имя некоего русского князя;(127) в России, куда ни кинь, везде одни князья. Теперь придется потратить массу сил на бесконечные объяснения с таможенниками; дело в том, что князь, к которому прибыла коляска, в отъезде, и мне предстоит самому доказывать таможенникам, что они ошиблись. Из-за этой злосчастной путаницы я вынужден буду, боюсь, еще долго обходиться без всех тех вещей, что остались в коляске. Около десяти я наконец освободился от таможенных пут и смог ступить на петербургскую землю, где случайно повстречал на набережной немецкого путешественника, тотчас предложившего мне свои услуги. Если это и шпион, то, во всяком случае, весьма любезный: он говорит по-русски и по-французски, он отыскал мне дрожки и помог моему слуге довезти на телеге до гостиницы Кулона(128) ту ничтожную часть моего багажа, которую мне возвратили. Я наказал слуге ни в чем ему не перечить.
Кулон — француз, а гостиница его слывет лучшей в Петербурге; это, впрочем, никак не означает, что жить у него удобно и уютно. В России иностранцы очень скоро утрачивают национальные черты, хотя и никогда не растворяются среди местных жителей. Добросердечный немец отыскал мне даже проводника, говорящего по-немецки, который уселся позади меня в дрожки, дабы отвечать на любые мои вопросы; человек этот называл мне все памятники, мимо которых пролегал наш путь от таможни до постоялого двора, — путь, кончившийся не так уж скоро, ибо Петербург велик.
Прежде всего взору моему предстала хваленая статуя Петра Великого, вид которой показался мне крайне неприятен;(129) по воле Екатерины она стоит на обломке скалы, украшенном фразой простой, но исполненной в своей мнимой простоте немалой гордыни: «Петру I Екатерина II». Эта конная фигура не может быть названа ни древней, ни новой; Петр здесь — римлянин времен Людовика XV. Конь, равновесия ради, попирает копытами огромную змею: неудачная эта выдумка лишь подчеркивает беспомощность скульптора.
Эта статуя и площадь, среди которой она совершенно теряется, — самые замечательные памятники, встретившиеся мне на пути с таможни на постоялый двор.
Я ненадолго задержался возле здания, еще не достроенного, но уже известного всей Европе, — собора Святого Исаака(130); наконец, я увидел фасад нового Зимнего дворца — еще один чудесный плод воли одного человека, подвигающего других людей на борьбу с законами природы. Борьба эта увенчалась полным успехом, ибо за один год Зимний дворец — пожалуй, огромнейший из всех в мире, ибо он равен Лувру и Тюильри вместе взятым, — возродился из пепла.(131)
Для того чтобы закончить этот труд в срок, определенный императором, потребовались неимоверные усилия: внутренние работы велись во время страшных морозов; стройке постоянно требовались шесть тысяч рабочих; каждый день уносил с собой множество жертв, но на их место тотчас вставали, дабы в свой черед погибнуть в этой бесславной битве, новые борцы, так что потери не были заметны. Меж тем единственной целью стольких жертв было удовлетворение прихоти одного человека! В странах, для которых цивилизация — вещь естественная, то есть давно знакомая, человеческую жизнь подвергают опасности лишь ради всеобщего блага, признаваемого за таковое большинством нации. В России же пример Петра I оказался пагубным для множества монархов! В дни, когда мороз достигал 26, а то и 30 градусов, шесть тысяч безвестных, бесславных мучеников, покорных поневоле, ибо покорство у русских — добродетель врожденная и вынужденная, трудились в залах, натопленных до 30 градусов тепла, — чтобы скорее высохли стены. Таким образом, входя в этот роковой дворец, ставший благодаря их подвигу царством суетности, роскоши и наслаждений, и выходя оттуда, рабочие становились жертвами пятидесяти-, шестидесятиградусного перепада температур.
Такой опасности не подвергаются даже каторжники в Уральских рудниках, а между тем люди, работавшие в Петербурге, вовсе не были злоумышленниками. Мне рассказали, что тем несчастным, кто красили стены в самых жарких комнатах, приходилось надевать на голову своего рода ледяные колпаки, дабы не впасть в безумие от невыносимой жары. Нет лучшего способа внушить отвращение к искусству, позолоте, роскоши и прочему придворному великолепию. Тем не менее все эти люди, отданные на заклание ради императорского тщеславия, звали своего монарха батюшкой.
С тех пор, как я увидел этот дворец и узнал, скольких человеческих жизней он стоил, я чувствую себя в Петербурге неуютно. За достоверность своего рассказа я ручаюсь: я слышал его не от шпионов и не от шутников. Версаль обошелся во много миллионов, но при постройке его заработали на хлеб столько же французских рабочих, сколько славянских рабов погибли за эти двенадцать месяцев, ушедших на восстановление Зимнего дворца; зато по слову императора свершилось чудо: дворец заново отстроен и будет, ко всеобщей радости, торжественно открыт во время бракосочетания великой княжны, которое вот-вот должно состояться в Петербурге.(132) В России монарх может быть любим народом, даже если он недорого ценит человеческую жизнь. Ничто колоссальное не созидается без труда, но когда один человек воплощает в себе и нацию и правительство, ему следовало бы взять за правило пускать в ход великую машину, управление которой ему доверено, лишь ради цели, достойной таких усилий. Мне кажется, что даже в интересах своего правления — пойми он их правильно — император мог бы положить на восстановление дворца, пострадавшего от пожара, на год больше.
Абсолютному монарху не пристало говорить, что он торопится: в первую голову ему следует опасаться усердия своих подданных, способных по слову повелителя, на первый взгляд совершенно невинному, бросить в смертный бой целую армию рабов! Это дорогая цена, пожалуй, даже чересчур дорогая, ибо и Господь и люди рано или поздно мстят за эти бесчеловечные чудеса; неосторожно — чтобы не сказать больше — со стороны монарха тешить свою гордыню таким разорительным способом; однако русские цари ставят славу среди чужестранцев превыше всего, даже превыше собственной пользы. Общественное мнение их поддерживает; к тому же там, где послушание сделалось условием жизни народа, ничто не может подорвать доверия к власти. Древние люди поклонялись солнцу; русские поклоняются солнечному затмению: разве могли они научиться смотреть на мир открытыми глазами?
Я не хочу сказать, что их политическое устройство не способно принести никакой пользы; я хочу лишь сказать, что полезные эти плоды обходятся слишком дорого.
Чужестранцы не сегодня начали изумляться привязанности русского народа к своему рабскому состоянию; я сей же час предоставлю вам возможность прочесть отрывок из переписки барона Герберштейна(133), посланника императора Максимильяна, отца Карла V, при дворе царя Василия Ивановича. Я прекрасно помню этот отрывок, ибо отыскал его в истории Карамзина(134), которую читал вчера на борту парохода. Том этот ускользнул от бдительного ока полиции, ибо находился в кармане моего дорожного плаща. Самым хитрым шпионам случается зазеваться: я уже говорил, что одежду мою не обыскивали. Знай русские, что могут извлечь мало-мальски внимательные читатели из рассказа историка-царедворца, чья книга внушает им восхищение, а иностранцам — недоверие, по причине его льстивой пристрастности, они возненавидели бы эту книгу и, раскаявшись в привязанности к просвещению, роднящему их с нынешней Европой, бросились бы в ноги императору, умоляя его запретить все сочинения по истории, начиная с труда Карамзина, дабы их прошлое оставалось покрытым тьмой, равно споспешествующей и покою деспота и благоденствию подданных, которые становятся особенно достойны сожаления, когда их жалеют. Бедняги почитали бы себя счастливыми, не именуй их неосторожные чужестранцы вроде меня несчастными жертвами. Порядок и покорство — два божества русской полиции и русской нации — требуют, как мне кажется, этого последнего приношения.
Итак, вот что писал Герберштейн, возмущенный деспотизмом русского монарха:
«Царь скажет, и сделано: жизнь, достояние людей, мирских и духовных, вельмож и граждан, совершенно зависит от его воли. Нет противоречия, и все справедливо, как в делах Божества: ибо Русские уверены, что Великий Князь есть исполнитель воли Небесной. Обыкновенное слово их: так угодно Богу и Государю, ведает Бог и Государь. Усердие сих людей невероятно. Я видел одного из знатных великокняжеских чиновников, бывшего послом в Испании, седого старца, который, встретив нас при въезде в Москву, скакал верхом, суетился, бегал, как молодой человек; пот градом тек с лица его. Когда я изъявил ему свое удивление, он громко сказал: ах, господин Барон! мы служим Государю не по-вашему! Не знаю, свойство ли народа требовало для России таких самовластителей, или самовластители дали народу такое свойство».(135)
Письмо это написано более трех веков назад, но русские, которые в нем изображены, ничем не отличаются от русских сегодняшних, которых вижу я. И я, по примеру посла короля Максимильяна, задаюсь вопросом, характер ли народа создал самодержавие, или же самодержавие создало русский характер, и, подобно немецкому дипломату, не могу отыскать ответа.
Впрочем, я склоняюсь к мысли, что влияние было взаимным: русские правители могли появиться только в России, но и русские не стали бы такими, как они есть, живи они под властью иных правителей. Приведу другую цитату из того же Карамзина: он пересказывает отзывы иностранных путешественников XVI века, побывавших в Московии. «Удивительно ли, — пишут иноземцы, — что Великий князь богат? он не дает денег ни войску, ни послам, и даже берет у них, что они вывозят драгоценного из чужих земель:[19] так, князь ярославский, возвратясь из Испании, отдал в казну все тяжелые золотые цепи, ожерелья, богатые ткани, серебряные сосуды, подаренные ему императором и Фердинандом Австрийским. Сии люди не жалуются, говоря: Великий князь возьмет, Великий князь и наградит».136 Вот как отзывались русские о своем царе в XVI веке.
Сегодня и в Париже и в России немало русских, восхищающихся чудесными плодами, какие принесло слово императора, причем, гордясь результатами, ни один из них не сожалеет о затраченных средствах. «Слово царя всемогуще», — говорят они. Да — но, оживляя камни, оно умерщвляет людей. Несмотря на это маленькое уточнение, все русские гордятся возможностью сказать чужеземцам: «Вот видите, вы три года спорите о том, как перестроить театральную залу, а наш император за один год поднял из руин величайший дворец мира» — и полагают, что гибель нескольких тысяч рабочих, принесенных в жертву высочайшему нетерпению, прихоти императора, выдаваемой за потребность нации, — жалкий пустяк и совсем не дорогая цена за этот ребяческий восторг. Я, француз, вижу во всем этом одно лишь бесчеловечное педантство. Что же до жителей всей этой бескрайней империи, среди них не находится человека, который возвысил бы голос против разгула абсолютной власти.
Здесь народ и правительство едины; даже ради того, чтобы воскресить погибших, русские не отреклись бы от чудес, свершенных по воле их монарха, — чудес, свидетелями, соучастниками и жертвами которых они являются.(137) Меня же более всего удивляет не то, что человек, с детства приученный поклоняться самому себе, человек, которого шестьдесят миллионов людей или полулюдей именуют всемогущим, замышляет и доводит до конца подобные предприятия, но то, что среди голосов, повествующих об этих деяниях к вящей славе этого человека, не находится ни одного, который бы выбился из общего хора и вступился за несчастных, заплативших жизнью за самодержавные чудеса. Обо всех русских, какое бы положение они ни занимали, можно сказать, что они упиваются своим рабством.
ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ
Дрожки. — Наряд простолюдинов. — Кафтан. — Русская упряжь. — Усовершенствованные дрожки. — Деревянные мостовые. — Петербург утром. — Город, похожий на казарму. — Противоположность России и Испании. — Курьеры с депешами. — Шахматная партия. — Определение тирании. — Намеренное смешение тирании и деспотизма. — Чин. — Особенности русского правительства. — Дисциплина вместо порядка. — Постоялый двор. — Опасности, которые грозят там путешественнику. — Походная кровать посреди комнаты. — Прогулка куда глаза глядят. — Два Михайловских замка. — Воспоминания о смерти Павла I. — Обманутый шпион. — Памятник Суворову. — Нева, набережные, мосты. — Неудобное расположение Петербурга. — Хижина Петра I. — Крепость, ее могилы и казематы. — Монастырь Святого Александра Невского и его могила. — Спальня царя Петра, превращенная в часовню. — Русские ветераны. — Спартанский образ жизни царя. — Вера русских в будущее — Оправданная гордость. — Москва объясняет Петербург. — Величие Петра I. — Сравнение Петербурга с Мюнхеном. — Внутреннее убранство крепости. — Могилы императорской фамилии. — Политическое идолопоклонство. — Мучения узников. — Различия между европейскими замками и русской крепостью. — Несчастье русских. — Их нравственное падение. — Католическая церковь. — Доминиканцы в Петербурге. — Ненадежная терпимость. — Могила последнего польского короля. — В той же церкви, что и Понятовский, похоронен Моро.
Петербург, 12 июля 1839 года (138), утро
Вчера, около десяти утра, я получил право на беспрепятственное передвижение по Петербургу.
В этом городе встают поздно: в десять утра на улицах пустынно. Лишь изредка мне попадались навстречу дрожки (большинство русских говорят «дрожки», но жители Петербурга, по-моему, произносят «дрожка» (139), как в Варшаве — «бричка»). Дрожками управляет кучер в русском платье. Поначалу забавнее всего показалась мне необычная внешность этих людей, их лошадей и экипажей.
Вот как обычно одеты петербургские простолюдины — не грузчики, но ремесленники, мелкие торговцы, кучера и проч., и проч.: на голове у них либо суконная шапка, либо плоская шляпа с маленькими полями и расширяющейся кверху тульей;(140) немного напоминающая дамский тюрбан или баскский берет, она к лицу юношам. Стар и млад, все носят бороды; у щеголей они шелковистые и расчесанные, у стариков и нерях — спутанные и блеклые. Выражение глаз у русских простолюдинов особенное: это — плутовской взгляд азиатов, при встрече с которыми начинаешь думать, что ты не в России, а в Персии.
Длинные волосы свисают по обеим сторонам лица, закрывая уши, на затылке же они коротко острижены. Благодаря этой оригинальной прическе шея у русских простолюдинов всегда открыта: галстуков они не носят. У некоторых из них борода подстрижена довольно коротко, у других спускается на грудь. Русские придают большое значение этому украшению, гораздо больше подходящему к их наряду, чем к воротничкам, фракам и жилетам наших нынешних модников. Русская борода выглядит величественно, сколько бы лет ни было ее владельцу; недаром художники так любят изображать седобородых попов.
Русский народ чувствителен ко всему красивому: его обычаи, мебель, утварь, наряды, облик — все живописно, поэтому в Петербурге на каждом углу можно отыскать сюжет для прелестного жанрового полотна. Чтобы завершить разговор о национальном костюме, добавлю, что наши рединготы и фраки заменяет здесь кафтан — длинный и очень широкий суконный халат синего, а иной раз зеленого, коричневого или светло-желтого цвета; воротника у кафтана нет, и он оставляет шею обнаженной; в талии он перехвачен ярким шелковым или шерстяным поясом. Кожаные сапоги у русских широкие, с закругленными носками; их складчатые голенища облегают ногу с немалым изяществом.
Вы знаете, что дрожки — экипаж весьма своеобразной конструкции; нынче повсюду можно видеть более или менее точные подражания им. Дрожки — самый маленький из всех мыслимых экипажей; стоит двум или трем ездокам усесться в него, как он становится почти не виден; вдобавок, в дрожках вы движетесь чуть не вровень с землей, ибо экипаж этот до смешного — или до ужаса — низок. Дрожки состоят из мягкого сиденья и четырех крыльев лакированной кожи. Кажется, перед вами — некое крылатое насекомое: сиденье покоится на четырех небольших рессорах, а те в свой черед — на четырех колесах. Кучер сидит впереди, едва ли не упираясь ногами в подколенки лошади, а совсем рядом с ним, верхом на сиденье, ютятся пассажиры — иной раз в одних дрожках едут двое. Женщин я в дрожках не видел ни разу. Как ни легки эти странные экипажи, в них впрягают одну, двух, а иной раз и трех лошадей; коренник, идущий в центре, запряжен в деревянный, довольно высоко поднятый полукруг — нечто вроде подвижной арки. Это не ошейник, так как дерево не облегает шею лошади; скорее, это обруч, в котором животное гордо идет вперед: такой способ запрягать надежен и красив. Части сбруи прочно и изящно соединяются с деревянной дугой, на которой укреплен колокольчик, предупреждающий о приближении дрожек. Видя, как этот самый маленький и низкий в мире экипаж скользит по улице, окаймленной двумя ровными рядами самых низких в мире домов, вы забываете, что находитесь в Европе. Вы не понимаете, в какой мир и в какой век попали, и задаетесь вопросом, каким образом люди, которые, кажется, не столько едут в экипаже, сколько ползут по мостовой, уносятся вдаль на полной скорости. Вторая лошадь, идущая в пристяжке, более свободна, чем коренная; голова ее всегда повернута налево; пристяжная бежит галопом, даже когда коренник идет рысью; недаром ее зовут бешеной.
Вначале дрожки представляли собой просто-напросто деревянную доску, положенную безо всяких рессор на четыре маленьких колеса, соединенных двумя осями; с годами этот примитивный экипаж усовершенствовался, но сохранил первоначальную легкость и диковинный вид; усаживаясь верхом на доску-сиденье, вы чувствуете себя так, словно оседлали какое-то дикое животное, если же вы не хотите ехать верхом, вам ничего не остается, как устроиться на сиденье боком и ухватиться за рукав кучера, а он все равно пустит лошадей вскачь. Существуют дрожки новой конструкции, где скамейка расположена не вдоль, а поперек, кузов же формой напоминает тильбюри; он покоится на четырех рессорах, однако все равно едва поднимается над землей. Русские стремятся уподобить свои экипажи каретам других народов, в частности, подражать англичанам; тем хуже: на мой вкус, самое лучшее в каждой стране — ее национальные обычаи, и я сожалею об их утрате. Теплицы, где томятся и хиреют растения, привезенные издалека и слывущие бесценными, вначале приводят меня в смущение, а затем навевают скуку. Мне больше по душе хаос девственного леса, где деревья, произрастая на родной земле, под лучами родного солнца, черпают из этой естественной среды невиданную силу. Национальное для общества — то же, что природное для местности; существуют первобытная краса, сила и безыскусность, которые ничто не может заменить. Пассажиры дрожек выдерживают на ухабистых петербургских мостовых ужасную тряску; впрочем, в некоторых кварталах улицы выложены по обоим краям сосновыми брусками, по которым лошади бегут с огромной быстротой, особенно в сухую погоду: в дождь дерево становится скользким. Эти северные мозаики — дорогое удовольствие, ибо нуждаются в постоянной починке, однако они куда удобнее булыжных мостовых.
Движения людей на улицах показались мне скованными и принужденными; в каждом жесте сквозит чужая воля; все, кто мне встретился, были гонцы, посланные своими хозяевами с поручениями. Утро — время деловое. Никто не шел вперед по своей воле, и вид всех этих несвободных людей вселял в мою душу невольную грусть. Женщин мне встретилось мало, хорошенькие личики и девичьи голоса не оживляли улиц; повсюду царил унылый порядок казармы или военного лагеря; обстановка напоминала армейскую, с той лишь разницей, что здесь не было заметно воодушевления, не было заметно жизни. В России все подчинено военной дисциплине. Попав в эту страну, я преисполнился такой любви к Испании, словно я — уроженец Андалусии; впрочем, недостает мне отнюдь не жары, ибо здесь теперь поистине нечем дышать, но света и радости.
Мимо вас то проносится верхом офицер, везущий приказ командующему какой-нибудь армией, то проезжает в кибитке — небольшой русской карете без рессор и мягкого сиденья — фельдъегерь, доставляющий приказ губернатору какой-нибудь отдаленной области, расположенной, быть может, на другом краю империи. Кибитка, которой правит старый бородатый кучер, стремительно увозит курьера, который по своему званию не имеет права воспользоваться более удобным экипажем, даже если таковой окажется в его распоряжении, а тем временем вдалеке показываются пехотинцы, которые возвращаются с учений в казармы, дабы получить приказ от своего командира; повсюду мы видим только выше- и нижестоящих служащих: первые отдают приказы вторым. Эти люди-автоматы напоминают шахматные фигуры, двигающиеся по воле одного-единственного игрока, невидимым соперником которого является все человечество. Здесь действуют и дышат лишь с разрешения императора или по его приказу, поэтому все здесь мрачны и скованны; молчание правит жизнью и парализует ее. Офицеры, кучера, казаки, крепостные, царедворцы, все эти слуги одного господина, отличающиеся друг от друга лишь званиями, слепо исполняют неведомый им замысел; такая жизнь — верх дисциплины и упорядоченности, но меня она ничуть не прельщает, ибо порядок этот достигается лишь ценою полного отказа от независимости. Я словно воочию вижу, как над этой частью земного шара реет тень смерти. Этот народ, лишенный досуга и собственной воли, — не что иное, как скопище тел без душ; невозможно без трепета думать о том, что на столь огромное число рук и ног приходится одна-единственная голова. Деспотизм — смесь нетерпения и лени; будь правительство чуть более кротко, а народ чуть более деятелен, можно было бы достичь тех же результатов менее дорогой ценой, но что сталось бы тогда с тиранией?.. люди увидели бы, что она бесполезна. Тирания — мнимая болезнь народов; тиран, переодетый врачом, внушает им, что цивилизованный человек никогда не бывает здоров и что чем сильнее грозящая ему опасность, тем решительнее следует приняться за лечение: так под предлогом борьбы со злом тиран лишь усугубляет его. Общественный порядок в России стоит слишком дорого, чтобы снискать мое восхищение. Если же вы упрекнете меня в том, что я путаю деспотизм и тиранию, я отвечу, что поступаю так нарочно. Деспотизм и тирания — столь близкие родственники, что почти никогда не упускают возможности заключить на горе людям тайный союз. При деспотическом правлении тиран остается у власти долгие годы, ибо носит маску.
Когда Петр Великий ввел то, что называют здесь чином, иначе говоря, применил военную иерархию ко всем служащим империи, он превратил свой народ в полк немых солдат, а себя назначил командиром этого полка, с правом передавать это звание своим наследникам.(141)
Можете ли вы вообразить себе борьбу честолюбий, соперничество и прочие страсти военного времени в стране, не ведущей никаких военных действий? Представьте себе это отсутствие всего, что составляет основу общественного и семейственного счастья, представьте, что повсюду вместо родственных привязанностей вы встречаете порывы честолюбия — пылкие, но тщательно скрываемые, ибо преуспеть можно, лишь если не обнажать этой страсти; представьте, наконец, почти полную победу воли человека над волей Господа — и вы поймете, что такое Россия.
Российская империя — это лагерная дисциплина вместо государственного устройства, это осадное положение, возведенное в ранг нормального состояния общества.
Днем город понемногу оживляется, но, делаясь более шумным, он, на мой вкус, отнюдь не становится более веселым; в неуклюжих экипажах, запряженных двумя, четырьмя или шестью лошадьми, проносятся на полной скорости вечно спешащие люди, чья жизнь проходит в дороге. Бесцельное развлечение — а развлечение только и бывает, что бесцельным, — здесь никому не знакомо. Поэтому все великие художники и артисты, приезжавшие в Россию, дабы пожать здесь плоды завоеванной в других краях славы, оставались в пределах Российской империи лишь недолгое время; если же они медлили с отъездом, то промедление это вредило их таланту. Воздух этой страны противопоказан искусствам: все, что произрастает в других широтах под открытым небом, здесь нуждается в тепличных условиях. Русское искусство вечно пребудет садовым цветком.
Гостиницей Кулона управляет выходец из Франции; нынче заведение его почти полностью заселено благодаря приближающемуся бракосочетанию великой княжны Марии, так что он, как мне показалось, был едва ли не огорчен необходимостью принять еще одного постояльца и не слишком утруждал себя заботой обо мне. Тем не менее после долгих хождений по дому и еще более долгих переговоров он поселил меня на третьем этаже в душном номере, состоящем из прихожей, гостиной и спальни, причем ни в одной из этих комнат не было ничего похожего на шторы или жалюзи, а между тем солнце сейчас в этих краях покидает небосклон от силы на два часа и косые его лучи проникают в помещения дальше, чем в Африке, где они падают отвесно и, по крайней мере, не достигают середины комнаты. В воздухе стоит решительно невыносимый запах штукатурки, извести, пыли, насекомых и мускуса. Ночные и утренние впечатления вкупе с воспоминаниями о таможенниках взяли верх над моей любознательностью, и вместо того, чтобы, по своему обыкновению, отправиться бродить куда глаза глядят по улицам Петербурга, я, не снимая плаща, бросился на огромный кожаный диван бутылочного цвета, прямо над спинкой которого висело украшавшее гостиную панно, и заснул глубоким сном… который продлился не более трех минут. Проснулся я оттого, что почувствовал жар, оглядел себя и увидел… что бы вы думали? шевелящийся коричневый покров поверх моего плаща; отбросим иносказания: плащ мой был усеян клопами, и клопы эти ели меня поедом. В этом отношении Россия ничем не уступает Испании. Однако на юге у вас есть возможность искать спасение и утешение на свежем воздухе, здесь же вы остаетесь взаперти, один на один с врагом, и ведете борьбу не на жизнь, а на смерть. Я сбросил с себя одежду и принялся бегать по комнате, громко зовя на помощь. «Что же будет ночью?» — думал я и продолжал кричать что есть мочи. На мой зов явился русский слуга; я втолковал ему, что хочу видеть хозяина гостиницы. Хозяин заставил себя ждать, но наконец пришел, однако, узнав причину моего огорчения, расхохотался и тотчас удалился, сказав, что я скоро привыкну к своему пристанищу, ибо ничего лучше я в Петербурге не найду; впрочем, он посоветовал мне никогда не садиться в России на диваны, ибо на них обычно спят слуги, а им сопутствуют легионы насекомых. Желая успокоить меня, он поклялся, что клопы не тронут меня, если я не буду приближаться к мебели, в которой они мирно обитают. Утешив меня таким образом, он удалился.
Петербургские постоялые дворы имеют много общего с караван-сараями; дав вам приют, хозяин предоставляет вас самому себе, и, если вы не привезли с собой собственных слуг, никто о вас не позаботится; мой же слуга не знает русского, и потому не только не сможет быть мне полезен, но, напротив, будет меня стеснять, ибо мне придется печься и о себе и о нем.
Однако благодаря своей итальянской изобретательности он очень скоро разыскал в темных коридорах пустыни, именуемой гостиницей Кулона, здешнего слугу, ищущего работу. Человек этот говорит по-немецки; хозяин гостиницы ручается за его честность. Я поведал ему о своей беде. Он тотчас притаскивает мне железную походную кровать русского образца; я покупаю ее, набиваю матрас свежайшей соломой, и, велев поставить ножки своего ложа в кувшины с водой, устанавливаю его в самой середине комнаты, откуда распоряжаюсь вынести всю мебель. Позаботившись таким образом о ночлеге, я одеваюсь и, приказав местному слуге следовать за мной, покидаю роскошную гостиницу — снаружи дворец, изнутри позолоченное, обитое бархатом и шелком стойло. Гостиница Кулона выходит на нечто вроде сквера, по здешним меркам довольно оживленного. Рядом с этим сквером расположен новый Михайловский замок — роскошная резиденция великого князя Михаила, брата императора. Решетка этого дворца тотчас привлекла мое внимание, и я направился к ней. Дворец был выстроен для императора Александра, который, однако, никогда в нем не жил. От площади, окруженной с трех других сторон прекрасными домами, лучами расходятся прекрасные улицы. Странная случайность! Не успел я отойти от нового Михайловского замка, как оказался перед старым. Это — просторное квадратное здание, мрачное и во всех отношениях отличное от своего изящного и современного тезки. Если люди в России молчат, то камни говорят и стонут. Не удивительно, что русские боятся своих старинных памятников и оставляют их в небрежении; памятники эти — свидетели их истории, которую они чаще всего желали бы забыть; увидев темные ступени, глубокие каналы, массивные мосты, пустынные перистили этого мрачного замка, я осведомился о его названии, название же это не могло не напомнить мне о катастрофе, возведшей на престол Александра; я тотчас представил себе во всех подробностях роковую сцену, положившую конец царствованию Павла I.
Но это еще не все: кровавая ирония судьбы состоит в том, что при жизни владельца этого мрачного замка перед главным входом установили конную статую его отца Петра III, другой несчастной жертвы, чье имя император Павел стремился окружить почетом, дабы унизить имя своей славной матери. Сколько бесстрастных трагедий разыгралось в этой стране, где честолюбие и даже ненависть тщательно скрываются под маской спокойствия!! Жители юга исполнены страстей, и эта страстность до какой-то степени примиряет меня с их жестокостью; однако расчетливая сдержанность и хладнокровие жителей севера набрасывают на преступление покров лицемерия: снег — маска; в здешних краях человек кажется добрым, потому что он равнодушен, однако люди, убивающие без ненависти, внушают мне гораздо большее отвращение, чем те, чья цель — месть. Разве культ отмщения не более естественен, чем предательство из корысти? Чем менее преднамерен злой поступок, тем меньше он меня ужасает. К несчастью, убийцы Павла руководствовались не гневом, но расчетом; они действовали весьма предусмотрительно. В России находятся добряки, которые утверждают, что заговорщики намеревались всего-навсего арестовать царя. Я видел потайную дверь, выходящую в сад неподалеку от широкого рва, и потайную лестницу, ведущую к покоям императора: этим путем Пален привел убийц.
Вот что он сказал им накануне вечером: «Либо завтра в пять утра вы убьете императора, либо в половине шестого я выдам вас ему». Сомневаться в успехе этой выразительной и лаконической речи не приходилось. Сказав эти слова, Пален, боясь запоздалых приступов раскаяния, ушел из дома и возвратился лишь поздно ночью; чтобы наверняка не встретиться ни с кем из заговорщиков прежде назначенного часа, он принялся объезжать городские казармы: его интересовали настроения в войсках. Назавтра в пять утра Александр стал императором и прослыл отцеубийцей, хотя дал согласие (я в это верю) лишь на арест своего отца, ибо хотел спасти свою мать, да и самого себя, от тюрьмы, а может быть, и от смерти, а всю страну — от приступов ярости и безумных прихотей самодержца. Сегодня русские проходят мимо старого Михайловского замка, не осмеливаясь поднять на него глаза: в школах, да и вообще где бы то ни было запрещено рассказывать о смерти императора Павла; более того, запрещено принимать на веру этот эпизод, объявленный выдумкой.
Мне странно, что замок, пробуждающий столь неудобные воспоминания, не снесли: для путешественника увидеть старинное здание в стране, где по воле деспота повсюду царят новизна и единообразие, где мысль правителя ежедневно уничтожает следы прошлого, — большая удача. Впрочем, именно изменчивость мнений и спасла Михайловский замок: о нем забыли. Эта квадратная громада, окруженная глубокими рвами, этот замок, овеянный трагическими воспоминаниями, с его потайными дверями и лестницами, вдохновляющими на преступление, имеет величественный вид, что в Петербурге встречается не так уж часто; вдобавок — и это тоже большая редкость — он устремлен ввысь, в отличие от всех прочих здешних построек, распластавшихся по земле. На каждом шагу я с изумлением замечаю, что петербургские архитекторы смешивают воедино два таких различных искусства, как возведение зданий и постройка декораций. Петр Великий и его преемники приняли столицу за театр.
Меня поразила растерянность, с какой мой проводник выслушивал мои вполне естественные вопросы касательно событий, происшедших некогда в старом Михайловском замке. На лице у этого человека было написано: «Сразу видно, что вы у нас недавно».
Как видите, здесь есть вещи, о которых все думают, но никто не говорит вслух. Изумление, ужас, недоверие, деланная невинность, притворное неведение, опытность старого пройдохи, которого трудно провести, — все эти чувства выражались поочередно на лице слуги, помимо воли этого человека превращая его лицо в забавную и поучительную книгу.
Шпион, обезоруженный вашим мнимым спокойствием, становится смешон, ибо, поняв, что вы не боитесь его, начинает бояться вас; шпион верит только в шпионство и, если вам удается выскользнуть из его сетей, воображает, что сам немедленно попадется в ваши.
Прогулка по петербургским улицам под охраной местного слуги — вещь, уверяю вас, крайне увлекательная и ничуть не похожая на поездки по столицам других стран цивилизованного мира. В государстве, управляемом с той железной логикой, какая лежит в основе русской политики, нет ничего случайного. Покинув трагический и старинный Михайловский замок, я пересек широкую площадь, просторами и безлюдностью напоминающую парижское Марсово поле. Общественный сад по одну сторону, несколько домов по другую, посередине песок и повсюду пыль — вот и вся площадь; форма ее неопределенна, величина огромна; она подходит к самой Неве; там, ближе к воде, установлен бронзовый памятник Суворову.
Нева, ее мосты и набережные составляют истинную славу Петербурга. Она так широка, что рядом с ней все кажется крохотным. Нева — сосуд, наполненный до краев водой, которая готова во всякое время выплеснуться за эти края. По-моему, Венеция и Амстердам куда лучше защищены от моря, нежели Петербург. Я не люблю плоских городов; без сомнения, соседство с рекой, широкой, как озеро, и текущей по заболоченной равнине среди небесных туманов и морских испарений, ничуть не на пользу столице. Рано или поздно вода покарает человека за его гордыню: даже гранит бессилен противостоять зимним морозам, свирепствующим в этом сыром леднике; стены и основания крепости, возведенной Петром Великим, уже дважды терпели поражение в битве с природой. Их восстановили — и придется восстанавливать еще не раз, дабы сохранить это чудесное творение гордыни и воли.
Мне захотелось тотчас же перейти на другой берег и получше рассмотреть знаменитую крепость; для начала слуга привел меня к расположенному перед ней домику Петра Великого; от крепостных стен его отделяет пустырь, пересеченный дорогой. Хижина эта, как утверждают русские, выглядит сегодня точно так же, как выглядела при Петре. В крепости погребают императоров и содержат государственных преступников — странный способ чтить мертвецов!.. Размышляя обо всех слезах, которые проливаются там, под могилами русских самодержцев, начинаешь думать, что попал на похороны какого-нибудь азиатского властителя. Даже могила, омытая кровью, представляется мне меньшим святотатством; слезы текут дольше избыть может, причиняют больше мучений. Живя в хижине, император-работник наблюдал за строительством своей будущей столицы. В похвалу ему следует сказать, что тогда он больше заботился о городе, чем о дворце. Одна из комнат этой прославленной лачуги — та, что служила царю-плотнику мастерской, — нынче превращена в часовню; люди входят в нее с таким же благоговением, как в самые прекрасные храмы империи. Русские охотно делают из своих героев святых. Им нравится смешивать воедино устрашающие добродетели своих повелителей и чудотворную мощь их небесных заступников; они стремятся освятить жестокости истории авторитетом веры. Другой русский герой, на мой вкус нимало не заслуживающий восхищения, провозглашен греческим духовенством святым: это Александр Невский, образец осторожности, но не жертвенности. Русская церковь канонизировала этого монарха, скорее мудрого, чем отважного. Это — Улисс среди святых. Мощи его покоятся в построенном для этой цели огромном монастыре. Могила князя-святого в соборе Александра Невского — сама по себе настоящий памятник; на ней установлен массивный серебряный алтарь, увенчанный серебряной же пирамидой, устремленной к сводам этого просторного храма. Монастырь с его церковью и гробницей — одно из русских чудес. Расположен он в конце улицы, которая называется Невский проспект, в части города, противоположной крепости. Я разглядывал гробницу Александра Невского скорее с изумлением, нежели с восхищением; искусства в этом памятнике нет и в помине, но роскошь его поражает воображение. Одна мысль о том, сколько людей и слитков серебра потребовалось для возведения такого мавзолея, исполняет душу ужасом. Я побывал в монастыре час назад.
Возвратимся к хижине царя. Мне показали построенный им ботик и некоторые другие вещи, принадлежавшие ему и сберегаемые с благоговейным почтением; подле них несет караул солдат-ветеран. В России при церквях, дворцах и многих общественных заведениях, а равно и частных домах служат сторожами отставные солдаты. Эти несчастные покидают казарму в столь преклонных летах, что им не остается ничего другого, кроме как сделаться привратниками. На новом посту они продолжают носить солдатскую шинель — грубый шерстяной балахон тусклого, грязного цвета; у дверей любого дома, у ворот любого общественного заведения вас встречают люди, одетые таким образом, — призраки в мундирах, напоминающие вам, что вы живете в царстве дисциплины. Петербург — военный лагерь, ставший городом.
Проводник мой не оставил без внимания ни одну картину, ни одну деревушку в императорской хижине. Охраняющий ее ветеран, зажегши несколько свечей в часовне — иными словами, прославленной конуре, показал мне спальню Петра Великого, императора всея Руси: нынешний плотник постыдился бы поселить в ней своего ученика.
Эта блистательная скромность дает нам понятия об эпохе, стране и человеке; русские выбивались из сил ради будущего, ибо те, кому предназначались великолепные дворцы, тогда еще не родились на свет, те же, кто их строили, не испытывали никакой нужды в роскоши и, удовлетворяясь ролью просветителей, гордились возможностью приготовить палаты для своих далеких потомков, неведомых властителей будущего. Спору нет, в желании народа и его вождя укрепить могущество и даже потешить тщеславие грядущих поколений выказывается немалое величие души; подобная вера в славу внуков благородна и своеобычна. Это чувство бескорыстное, поэтическое и намного превосходящее чувства обычных людей и наций, питающих почтение не к потомкам, но к предкам. В других краях великие города строятся в память о великих деяниях прошлого или вырастают сами по воле обстоятельств и истории, без видимого вмешательства людских расчетов, Петербург же с его роскошными постройками и необъятными просторами — памятник, который русские возвели во славу своего будущего могущества; надежда, подвигающая людей на такие труды, кажется мне величественной! Со времен постройки Иерусалимского храма вера народа в свою судьбу не создавала ничего более чудесного, чем Санкт-Петербург. Самое же замечательное в этом наследстве, завещанном императором его честолюбивой державе, состоит в том, что история его не отвергла. Пророчество Петра Великого, воплощенное в гранитных глыбах посреди моря, в течение целого столетия сбывается на глазах всего мира. Когда понимаешь, что подобные фразы, остающиеся в любой другой стране простыми словами, здесь служат совершенно точным описанием достоверных фактов, исполняешься почтения и говоришь себе: такова Господня воля! Впервые гордыня кажется трогательной: всякое деяние, в котором сполна выказывается могущество человеческой души, достойно восхищения.
Впрочем, история России, что бы ни утверждала на этот счет невежественная и легкомысленная Европа, начинается отнюдь не при Петре I: Санкт-Петербурга не понять, не зная Москвы; явление императора Петра подготовили цари Иваны. Освобождение Московии от многовекового чужеземного ига; осада и взятие Казани Иваном Грозным; ожесточенные сражения со шведами и многие другие более или менее блистательные происшествия — вот на чем держались гордыня Петра и смиренная вера в него русского народа. Поклонение неведомому всегда почтенно. Этот железный человек имел право положиться на будущее; люди с таким характером свершают то, о чем другие мечтают. Я представляю себе, как с простотой истинного вельможи, более того, истинного гения, сидел он на пороге этой хижины, наблюдая, как по его велению созидаются на страх Европе город, нация и история. Величие Петербурга исполнено глубокого смысла; этот могущественный город, одержавший победу над льдами и болотами, дабы впоследствии одержать победу над миром, потрясает — потрясает не столько взор, сколько ум! А между тем это чудо обошлось в сотню тысяч человеческих жизней: русские крестьяне безропотно принесли их в жертву смертоносным болотам, ставшим сегодня столицей России.
В Германии нынче рождается научный шедевр: одну из столиц умело превращают в город, подобный городам Греции или старинной Италии; однако новому Мюнхену недостает древнего народа: русским недостало бы Петербурга. Выйдя из домика Петра Великого, я вновь миновал мост через Неву, ведущий на острова, и вошел в петербургскую крепость. Я уже говорил, что, хотя крепости этой, само название которой наводит ужас, не исполнилось еще и ста сорока лет, ее гранитные основания и стены уже дважды требовали обновления! Что за страшная борьба! Здесь камни так же страждут от насилия, как и люди. Мне не позволили заглянуть в казематы, ни в те, что находятся под водой, ни в те, что расположены под крышей; все они полны узников. Меня допустили лишь в собор — усыпальницу царствующей фамилии. Я стоял перед этими могилами и продолжал искать их глазами, не в силах вообразить, что эти покрытые зеленым сукном с императорским гербом простые каменные плиты, длиной и шириной не больше постели, скрывают под собой прах Екатерины I, Петра I, Екатерины II и многих других монархов вплоть до императора Александра. Греческая религия изгнала скульптуры из храмов, которые по этой причине утратили немалую долю роскоши и великолепия, но не сделались особенно аскетичными, ибо византийская религия мирится с позолотой, резьбой и даже живописью, и не стали больше располагать к молитве. Греки — потомки иконоборцев, но раз уж они сочли возможным немного смягчить в России суровые взгляды их отцов, они могли бы проявить и еще большую снисходительность.
В этой мрачной цитадели мертвые, как мне показалось, куда свободнее живых. Я задыхался в ее стенах. Если бы мысль поместить в одной могиле пленников императора и пленников смерти, заговорщиков и монархов, против которых они злоумышляли, была продиктована философическими взглядами, я отнесся бы к ней с уважением, но здесь я не вижу ничего, кроме цинизма абсолютной власти, кроме грубой самонадеянности деспотизма. Сверхъестественная мощь позволяет тирану пренебрегать мелкими человеческими чувствами, присущими любому другому властителю: российский император настолько преисполнен почтения к самому себе, что вершит свой суд, не вспоминая о суде Божьем. Мы, жители Запада, роялисты-революционеры, видим в государственном преступнике, заключенном в петербургскую крепость, лишь невинную жертву деспотизма, русские же видят в нем отверженного. Вот до чего доводит политическое идолопоклонство. Россия — страна, где беда покрывает незаслуженным позором всех, кого постигает.
Во всяком шорохе мне слышалась жалоба; камни стенали под моими ногами, сердце мое разрывалось от сочувствия к страдальцам, претерпевающим жесточайшие из всех мучений, какие человек когда-либо причинял себе подобным. О! как мне жаль узников этой крепости! Если судить о существовании русских, томящихся взаперти под землей, по жизни тех русских, что ходят по земле, нельзя не содрогнуться…
Мне приходилось видеть крепости в разных странах, но там это слово означает совсем не то, что в Петербурге. Я не в силах без ужаса думать о том, что люди, отличающиеся самой безответной преданностью, самой безукоризненной честностью, могут в любую минуту очутиться в подземных казематах петербургской крепости; сердце мое едва не выскочило из груди, когда я вновь перешел по мосту ров, окружающий эти печальные стены и отделяющий их от мира. О! кто не преисполнился бы сострадания к этому народу? Русские — я имею в виду тех, кто принадлежит к высшим сословиям, — выказывают нынче невежество и предрассудки, на самом деле им уже не свойственные. Притворное смирение кажется мне величайшей гнусностью, до какой может опуститься нация рабов; бунт, отчаяние были бы, конечно, более страшны, но менее подлы; слабость, которая пала так низко, что не позволяет себе даже жалобного стона — этого утешения невольников; страх, изгоняемый страхом еще более сильным, — все это нравственные феномены, которые невозможно наблюдать, не проливая кровавые слезы.
Посетив усыпальницу русских самодержцев, я возвратился в квартал, где расположена моя гостиница, и велел отвести меня в католическую церковь, где службу отправляют монахи-доминиканцы. Я хотел, чтобы они отслужили мессу по случаю годовщины, которую я всегда, где бы ни оказался, отмечал в католической церкви. Доминиканский монастырь находится на Невском проспекте, прекраснейшей улице Петербурга. Церковь скромна и не отличается особым великолепием; монастырские помещения пустынны, дворы загромождены обломками камня, и повсюду царит печаль: кажется, несмотря на благоволение властей, община живет небогато и не чувствует уверенности в завтрашнем дне. В России религиозная терпимость не имеет опоры ни в общественном мнении, ни в государственном устройстве: как и все прочее, она — результат милости одного человека, способного завтра отнять то, что ему заблагорассудилось пожаловать сегодня.
Ожидая, пока освободится настоятель, я принялся осматривать церковь и внезапно увидел под ногами камень, на котором прочел имя, живо меня взволновавшее: Понятовский!.. Жертва собственного фатовства, этот легковерный любовник Екатерины II погребен здесь, в безвестной могиле; однако, лишенный того величия, какое сообщает власть, он в полной мере сохранил то величие, какое даруется несчастьем; бедствия этого монарха, его слепота, за которую он так жестоко поплатился, коварство его политических противников — все это будет вечно привлекать к его могиле всех путешественников-христиан.
Подле короля-изгнанника предано земле изувеченное тело Моро(142). Император Александр приказал доставить его сюда из Дрездена. Мысль воссоединить останки двух столь достойных жалости людей, дабы возносить единую молитву в память об их несчастьях, представляется мне одной из самых великодушных идей монарха, который — не забудем об этом! — сохранил, благородство при въезде в город, только что покинутый Наполеоном.(143)
Около четырех часов пополудни я наконец вспомнил, что прибыл в Россию не только для того, чтобы осматривать более или менее любопытные памятники и предаваться более или менее философическим размышлениям, и бросился к французскому послу.(144)
Там меня постигло жестокое разочарование: я узнал, что бракосочетание великой княжны с герцогом Лейхтенбергским состоится послезавтра(145) и я уже не успею представиться императору прежде этой церемонии. Меж тем побывать в стране, где все самое важное вершится при дворе, и не увидеть придворного празднества — значит не увидеть ровно ничего.
ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ
Поездка на острова. — Своеобразие пейзажа. — Искусственные красоты. — Протяженность русских городов. — Русские «украшают улицы». — Их манера располагать цветы в доме. — Англичане поступают наоборот. — Самые заурядные растения наших лесов здесь редкость. — Воспоминания о пустом в глубине садов. — Цель цивилизации на Севере. — Счастье в России невозможно. — Жизнь светских людей на островах. — Мимолетность хорошей погоды. — Переселение в город в конце августа. — В других больших городах жизнь куда более основательна, нежели в Петербурге. — Равенство при деспотической власти. — Суровость правительств, действующих чересчур логично. — Деспотизм в полный рост. — Чтобы жить в России, следует быть русским. — Основные черты русского общества. — Деланная верность монарху. — Несчастье всемогущего властителя. — Источник частных добродетелей абсолютного монарха. — Павильон императрицы на островах. — На что похожа толпа, ожидающая появления императрицы. — Клопы на постоялых дворах. — Они встречаются и в императорском дворце. — Портрет славянина-простолюдина. — Его красота. — Красивых женщин здесь меньше, чем красивых мужчин. — Национальный головной убор женщин. — Неуклюжие типажи. — Состояние русских крестьян. — Взаимоотношения крестьян с помещиками. — Они выкупают себя сами. — Богатство частных лиц зависит от императора. — Помещики, убитые крепостными. — Размышления. — Живой товар. — Отвратительная роскошь. — Различия между положением рабочих в свободных странах и участью крепостных крестьян в России. — Торговля и промышленность изменят нынешнее положение. — Обманчивая видимость. — Никто не желает разъяснят, вам истинное положение дел. — Старания скрыть истину от чужестранцев. — Петр I узурпировал религиозную власть: этого зла не искупить всем тем добром, какое совершил этот император. — Русская аристократия не исполняет своего долга перед самой собой и перед народом. — Недоверчивые взгляды русских. — Их поведение по отношению к путешественникам-литераторам. — Состояние медицины в России. — Всеобщая скрытность. — Русские доктора не слишком хорошие врачеватели, но из них вышли бы неплохие летописцы. — Позволение присутствовать на свадьбе великой княжны Марии. — Особая милость.
Петербург, 12 июля 1839 года, вечер
Меня повезли на острова; это — прелестное болото; никогда еще никому не удавалось так удачно скрыть тину цветами. Вообразите себе сырую низину, откуда, однако, в летнее время вода отступает благодаря осушительным каналам: низину эту засадили великолепной березовой рощей и выстроили здесь множество очаровательных загородных домов. Видя здешние березовые аллеи (а березы и сосны — единственные деревья, произрастающие в северных ледяных пустынях), воображаешь, будто попал в английский парк. Острова — не что иное, как огромный сад, усеянный виллами и коттеджами и заменяющий жителям Петербурга загородную местность; бивуак царедворцев, густо населенный в течение недолгой летней поры и пустующий во все остальное время года.(146) Туда ведут несколько очень красивых дорог и переброшенные через разные рукава реки мосты.
Гуляя по тенистым аллеям, чувствуешь себя за городом, однако загородная эта местность однообразна и лишена естественности. Почва повсюду совершенно ровная, а деревья одни и те же: откуда же взяться живописным видам? Старания людей лишь в очень малой мере исправляют изъяны природы. Усовершенствуя Господне творение, люди сделали здесь все, что могли, но добились очень немногого. В северных широтах тепличные растения, экзотические плоды, даже подземные сокровища — золото и драгоценные камни — не так редки, как самые обычные деревья, произрастающие в наших лесах: за деньги здесь можно раздобыть все, что добывается из-под земли и выращивается под стеклом; для волшебной сказки этого достаточно, для парка — нет. Каштановая или дубовая роща из тех, что украшают наши холмы, показалась бы в Петербурге чудом: дома итальянской архитектуры, окруженные лапландскими деревьями и украшенные цветами, которые привезены со всех концов света, производят впечатление странное, но не слишком приятное. Парижане, никогда не забывающие свой родной город, назвали бы эту аккуратную сельскую местность русскими Елисейскими полями (147), однако петербургские острова обширнее, имеют вид одновременно и более деревенский, и более разукрашенный, более искусственный. Кроме того, они гораздо дальше от аристократических кварталов, чем парижские Елисейские поля. Острова — разом и город, и загородная местность; иной раз, увидев луга, отвоеванные у торфяных болот, вы начинаете верить, будто попали в настоящую деревню, с лесами и полями, однако дома в виде храмов, теплицы, украшенные пилястрами, колоннады перед дворцами, театральные залы с античными перистилями напоминают вам, что вы находитесь в городе.
Русские по праву гордятся садами, ценой бесчисленных усилий разбитых на пористой петербургской почве, однако природа, даже побежденная, не забывает о своем поражении и подчиняется человеку с большой неохотой: за оградой парка простирается неухоженная земля. Счастливы страны, где земля и небо соревнуются в щедрости, украшая и облегчая жизнь людей!
Я не стал бы упоминать о недостатках этой обделенной Богом земли, не стал бы, путешествуя по северной стране, скучать о южном солнце, не подчеркивай русские своего полного презрения ко всему, чего лишено их отечество: они довольны всем, вплоть до климата, вплоть до почвы; фанфароны от природы, они хвастают не только обществом, но и природой своей страны; притязания их изгоняют из моей души смирение, каковое я почитал своим долгом и каковое намеревался выказать, странствуя по северному краю. Нынче все пространство, отделяющее город от одного из устьев Невы, занято своеобразным парком, входящим, однако, в пределы Петербурга: всякий русский город — целая страна. Острова сделались бы очень многолюдным кварталом, если бы наследники Петра более точно следовали его плану. Однако мало-помалу в надежде спастись от наводнений жители нового города начали отодвигать строительство к югу, а болотистые острова отвели исключительно для загородных домов богатейших и элегантнейших придворных; в течение девяти месяцев эти дома остаются наполовину залиты водой и покрыты снегом; в эту пору подле летнего дворца императрицы воют волки. Зато в оставшиеся три месяца на месте льдов расцветают роскошнейшие цветы; впрочем, сквозь эту искусственную элегантность просвечивает туземная природа; стремление блистать — главная страсть русских, поэтому цветы в своих гостиных они зачастую располагают не так, чтобы сделать комнату уютнее, но так, чтобы произвести впечатление на прохожих; совершенно противоположным образом поступают англичане, не желающие украшать улицу. Англичанам лучше, чем любому другому народу земли, удалось заменить стиль вкусом: их памятники смехотворны, зато частные дома их — образцы изящества и здравого смысла. На островах все дома и дороги похожи. Впрочем, чужестранец гуляет здесь, не испытывая скуки, по крайней мере в первый день. Тень, отбрасываемую березами, не назовешь густой, однако от северного солнца и не хочется укрываться. На смену озеру приходит канал, на смену лугу — роща, на смену хижине — вилла, на смену аллее — другая аллея, в конце которой вас ждут виды, в точности похожие на те, которыми вы наслаждались только что. Картины эти пленяют воображение, хотя и не вызывают живого интереса, не возбуждают любопытства: здесь царит покой, а покой для русских придворных вещь драгоценная, хотя они и не умеют его ценить. В течение нескольких месяцев русских аристократов, переселившихся на летние квартиры, развлекает театр. Театральная зала окружена искусственными реками, тенистыми каналами, образующими своего рода водные аллеи, причем вода эта иногда растекается в небольшие озера, берега которых поросли травой… впрочем, разве это трава?! это — чудесное творение искусства, торжествующего победу над землей, способной рождать лишь вереск и лишайники; глазу путника предстает множество домов, утопающих в цветах и прячущихся среди деревьев, словно беседки в английском парке; увы, несмотря на все эти чудеса, бледная и однообразная северная растительность придает этому городу-саду печальный вид! Самая разорительная роскошь здесь не может считаться излишней, ибо для того, чтобы получить вещи, в других широтах совершенно естественные и почитающиеся предметами первой необходимости, здесь приходится тратить миллионы и прибегать ко всевозможным ухищрениям мастеров. Кое-где позади дощатых, но покрашенных под кирпич вилл высятся вдалеке тощие и печальные стволы сосен. Эти символы пустынных просторов разрушают нестойкую красоту садов, лишний раз напоминая о суровых зимах и соседстве Финляндии.
На севере цивилизация преследует цели далеко не шуточные. В этих широтах общество созидается не любовью к удовольствиям, не интересами и страстями, которые нетрудно удовлетворить, но могучей волей, осужденной беспрестанно преодолевать препятствия и подвигающей народы на невообразимые усилия. Если личности здесь объединяются, то в первую голову для того, чтобы бороться с мятежной природой, плохо поддающейся любым попыткам людей преобразить ее. Печальный и суровый облик физического мира вселяет в души местных жителей тоску, которой, на мой взгляд, объясняются политические трагедии, столь часто происходящие при русском дворе. Драмы здесь разыгрываются в действительной жизни, на сцене же идут водевили, нисколько никого не пугающие; здесь из театров предпочитают «Жимназ» (148), из писателей Поля де Кока(149). В России дозволены лишь те развлечения, что начисто лишены смысла. При такой суровой жизни серьезная литература никому не нужна. На фоне этой страшной действительности успех могут иметь лишь фарс, идиллия или весьма иносказательная басня. Если же в этом невыносимом климате деспотическая власть еще усугубит тяготы существования новыми указами, человек навсегда утратит всякую возможность вкушать счастье и покой. Безмятежность, блаженство — здесь эти слова звучат так же неопределенно, как слово «рай». Лень без отдыха, тревожное бездействие — вот к чему неминуемо приводит северное самодержавие. Русские не умеют наслаждаться жизнью в той загородной местности, которую сами создали у своего порога. Женщины ведут летом на островах точно такой же образ жизни, как зимой в Петербурге: встают поздно, днем занимаются своим туалетом, вечером ездят в гости, а ночь проводят за карточными столами; забыться, одурманить себя — вот явная цель всех здешних жителей. Весна на островах начинается в середине июня и продолжается до конца августа; на эти два месяца обычно — кроме нынешнего года, являющегося исключением, — приходится в общей сложности семь-восемь жарких дней; вечера здесь промозглые, ночи светлые, но туманные, дни пасмурные; в таких условиях предаваться раздумьям — значит обречь себя на невыносимую тоску. В России разговор равен заговору, мысль равна бунту: увы! мысль здесь не только преступление, но и несчастье.
Только ради того, чтобы улучшить свою участь и участь себе подобных, но если ему не дано изменить что бы то ни было в своем и чужом существовании, бесполезная мысль растравляет душу и от нечего делать пропитывает ее ядом. Вот, кстати, отчего русские аристократы танцуют на балах в любом возрасте.
Лишь только кончается лето, в Петербурге начинает моросить дождь, и его острые, как иголки, струи недели напролет падают на острова. В первые же два дня непогоды с берез облетают листья, цветы увядают, а дома пустеют; по улицам и мостам без остановки тянутся в город грязные телеги, на которые со славянской небрежностью навалены в беспорядке мебель, ковры, доски, сундуки; летний этот обоз тащится на другой конец города, а тем временем владельцы всех перевозимых сокровищ спешат на зимние квартиры в элегантных дрожках или экипажах, запряженных четверкой лошадей. Таким образом, северные богачи, очнувшись от мимолетных летних грез, отступают под натиском Борея, а острова остаются в распоряжении медведей и волков — законных владельцев этого края! Над ледяными болотами воцаряется молчание, а легкомысленное общество на девять месяцев прерывает свои представления на театре пустыни. Актеры и зрители покидают деревянный город и переселяются в каменный, почти не замечая разницы, ибо зимними петербургскими ночами снег блестит почти так же ярко, как солнце летними днями, а русские печи греют теплее, чем косые солнечные лучи. Представление оканчивается: рабочие сцены разбирают декорации и гасят свечи, цветы, росшие на театре по прихоти актеров, вянут, и в течение следующих девяти месяцев лишь редкие деревья изнывают в одиночестве над поросшими камышом торфяными болотами, которые прежде звались Ингрией и из которых каким-то чудом явился Петербург.
То, что ежегодно происходит с островами, рано или поздно произойдет с целым городом. Стоит монарху на один день забыть эту столицу, не имеющую корней ни в истории, ни в почве, стоит ему под влиянием новых политических веяний обратить взор в иную сторону, и сдерживающий реку гранит искрошится, низины вновь покроются водой и вся эта безлюдная местность отойдет к ее первоначальным хозяевам.(150)
Подобные мысли посещают всех иностранцев, прогуливающихся по улицам Петербурга; никто не верит в долголетие этой волшебной столицы. Плох тот путешественник, кто не склонен к раздумьям, а между тем стоит задуматься, как понимаешь, что достаточно России начать войну или переменить политический курс, и творение Петра лопнет, как мыльный пузырь. Нигде я так ясно не ощущал непостоянства всего земного, как Автор лично наблюдал эту неприглядную картину на обратном пути из Москвы в Петербурге; и в Париже и в Лондоне мне случалось сказать себе: настанет день, когда эти шумные торжища сделаются молчаливее Афин и Рима, Сиракуз и Карфагена, однако когда речь идет о европейских столицах, очевидно, что ни времени, ни непосредственных причин этого превращения не дано знать ни одному смертному, тогда как исчезновение Петербурга предсказать нетрудно; оно может произойти хоть завтра, под звуки победных песен торжествующего народа. У других столиц закат следует за истреблением жителей, эта же столица погибнет в ту самую пору, когда положение русских в мире упрочится. Я столько же верю в долговечность Петербурга, сколько в жизнестойкость политических систем и людское постоянство. Ни об одном другом городе мира этого сказать нельзя.
Что за страшная сила — та, которая, возведя столицу в пустыне, может одним словом возвратить дикой природе все, что было у нее отнято! Здесь собственной жизнью распоряжается только монарх: судьба, мощь, воля целого народа — все пребывает в руках одного человека. Российский император — олицетворение общественного могущества; среди его подданных в теории — а может быть, и на практике — царит то равенство (151), о каком мечтают нынешние галлоамериканские демократы, фурьеристы и проч. Однако для русских существует причина грозы, неведомая иным народам, — гнев императора. Тирания, республиканская ли, монархическая ли, вселяет в души ненависть к абсолютному равенству. Ничто так не пугает меня, как железная логика, примененная к политике. Если Франция уже десять лет живет в материальном довольстве, то, быть может, оттого, что за видимой бессмысленностью ее деятельности скрывается высшая практическая мудрость; к счастью для нас, нами правит реальность, пришедшая на смену умозрительным построениям.
В России деспотическая система действует, как часы, и следствием этой чрезвычайной размеренности является чрезвычайное угнетение. Видя эти неотвратимые результаты непреклонной политики, испытываешь возмущение и с ужасом спрашиваешь себя, отчего в деяниях человеческих так мало человечности. Однако не стоит путать трепет с презрением: мы не презираем то, чего боимся. Глядя на Петербург и размышляя о страшном существовании жителей этого гранитного лагеря, можно усомниться в Господнем милосердии, можно стенать и возносить проклятия, но невозможно соскучиться. Это непостижимо, но великолепно. Деспотизм, подобный здешнему, представляет собой неисчерпаемый источник наблюдений и размышлений. Эта колоссальная империя, представшая моему взору на востоке Европы, той самой Европы, где повсюду общество страждет от отсутствия общепризнанной власти, кажется мне посланницей далекого прошлого. Мне кажется, будто на моих глазах воскресает ветхозаветное племя, и я застываю у ног допотопного гиганта, объятый страхом и любопытством.
Всякому, кто въезжает в пределы Российской империи, первым делом бросается в глаза, что общество, устроенное так, как здесь, пригодно только для здешних жителей: чтобы жить в России, следует быть русским; впрочем, по видимости все здесь вершится так же, как и в других странах. Не то — по сути. Сегодня вечером на островах я мог лицезреть здешний модный свет; говорят, модный свет повсюду одинаков, но я обращал внимание лишь на детали, характерные для здешнего света: дело в том, что у каждого общества есть душа, и, сколько бы эта душа ни брала уроков у феи, именуемой цивилизацией и являющейся просто-напросто модой данного века, она сохраняет свой природный нрав.
Нынче вечером весь Петербург, иными словами, двор, включая его непременную свиту — челядь, собрался на островах — не ради того, чтобы бескорыстно насладиться прекрасной прогулкой (бесчисленным русским царедворцам такое времяпрепровождение показалось бы пошлым), но ради того, чтобы взглянуть на пакетбот императрицы: подобные забавы здесь никогда не наскучивают. В России всякий правитель — бог, всякая монархиня — Армида и Клеопатра. За этими изменчивыми божествами следует кортеж вечно преданных слуг, пеших, конных и восседающих в экипажах; самодержец в этой стране всегда почитается всемогущим и никогда не выходит из моды.
Однако, что бы ни говорили эти покорные подданные, что бы они ни делали, восторг их остается принужденным: это — любовь стада к пастуху, который кормит его, чтобы зарезать. У народа, лишенного свободы, есть инстинкты, но нет чувств, инстинкты же нередко дают о себе знать в форме грубой и навязчивой: покорство подданных не может не утомлять российских императоров; порой и кумиру надоедает ладан. По правде говоря, поклонение это не раз нарушали чудовищные измены. Русское правительство — абсолютная монархия, ограниченная убийством(152), меж тем когда монарх трепещет, он уже не скучает; им владеют попеременно ужас и отвращение. Деспоту в его гордыне потребны рабы, человек же ищет себе подобных; однако подобных царю не существует; этикет и зависть ревностно охраняют его одинокое сердце. Он достоин жалости едва ли не в большей степени, нежели его народ, особенно если он чего-нибудь стоит. Все кругом наперебой расхваливают семейственные радости, которые вкушает император Николай, однако мне видится в этом скорее утешение прекрасной души, нежели доказательство безоблачного счастья. Утешение — еще не блаженство; напротив, необходимость лечения доказывает наличие болезни; если у российского императора великая душа, то придворная жизнь не может полностью занять ее; отсюда — частные добродетели императора Николая. Нынче вечером императрица покинула Петергоф и морем прибыла на острова; здесь в своем загородном доме она пробудет до бракосочетания ее дочери, которое состоится завтра в новом Зимнем дворце. Когда императрица находится на островах, под сенью деревьев, окружающих ее дом, с утра до вечера несет караул полк кавалергардов(153) — один из прекраснейших полков в русской армии.
Мы прибыли слишком поздно и не смогли увидеть, как государыня сходит на сушу со своего священного корабля, однако толпа, мимо которой только что промелькнула коронованная звезда, еще не оправилась от потрясения. В России единственный дозволенный шум суть крики восхищения. Явление императрицы оставило среди царедворцев след, какой оставляет в море большое судно. Бурлящее человеческое море в тот вечер было точь-в-точь похоже на волны, продолжающие пениться позади мощного военного корабля уже после того, как корабль этот, гордо мчащийся вперед на всех парусах, достигнет гавани. Итак, я наконец вдохнул воздух двора! Однако до сей поры я еще не лицезрел ни одного из тех божеств, чьей волей вдыхают этот воздух простые смертные! Самые замечательные загородные дома выстроены вокруг императорской усадьбы или по крайней мере в соседстве с ней. Человек здесь черпает силу во взглядах повелителя, как растение черпает силу в солнечных лучах; воздух — собственность императора, каждый вдыхает его ровно столько, сколько ему дозволяется: у истинного царедворца легкие так же гибки, как и стан. Всюду, где есть двор и общество, люди расчетливы, но нигде расчетливость не носит такого неприкрытого характера. Российская империя — огромная театральная зала, где из всякой ложи видно, что творится за кулисами. Теперь час ночи; скоро взойдет солнце; я еще не сплю и окончу ночь так же, как ее начал, сочиняя письмо к вам 6 м света. Хотя русские и притязают на элегантность, во всем Петербурге невозможно найти сносную гостиницу. Знатные вельможи, приезжая в столицу из глубины империи, привозят с собой многочисленную дворню: поскольку люди являются их собственностью, они держат их за предметы роскоши. Оставшись одни в господских покоях, слуги как истинные уроженцы Востока немедленно разваливаются в креслах и на диванах, оставляя повсюду клопов, которые из-под диванной обивки переползают в деревянные подлокотники и ножки мебели, а оттуда — на стены, пол и потолки; несколько дней спустя они заполняют все жилище, причем невозможность проветрить комнаты в зимнее время лишь усугубляет зло. Новый императорский дворец, восстановленный такой дорогой ценой, уже кишит этими тварями; можно подумать, будто несчастные рабочие, расстававшиеся с жизнью ради того, чтобы поскорее отделать палаты своего повелителя, заранее отомстили за свою гибель, заразив эти гибельные стены мерзостными насекомыми; некоторые комнаты дворца пришлось закрыть еще прежде, чем в них вселились хозяева. Если эти ночные супостаты не миновали даже дворца, каково же придется мне у Кулона? Отчаяние овладевает мной, но белые ночи заставляют забыть обо всех невзгодах.
В полночь я вернулся с островов и тотчас вновь покинул гостиницу; я отправился бродить по улицам, чтобы собраться с мыслями и вспомнить самые интересные из бесед, которые вел сегодня; я скоро дам вам о них краткий отчет. Прогуливаясь в одиночестве, я вышел на прекрасную улицу, называемую Невский проспект. Вдали поблескивали в лучах заката колонны Адмиралтейства. Шпиль этого христианского минарета — длинная металлическая игла острее любой готической колокольни — сверху донизу покрыт золотом; Петр I пустил на позолоту дукаты, присланные ему в дар Голландскими Соединенными Штатами.(154)
Моя невыносимо грязная комната на постоялом дворе и этот сказочно роскошный памятник — вот Петербург. Как видите, в этом городе, где Европа показывает себя Азии, а Азия — Европе, нет недостатка в контрастах.
Народ здесь красив; чистокровные славяне, прибывшие вместе с хозяевами из глубины России или ненадолго отпущенные в столицу на заработки, выделяются светлыми волосами и свежим цветом лица, но прежде всего — безупречным профилем, достойным греческих статуй; восточные миндалевидные глаза, как правило, по-северному сини, а взгляд их разом кроток, мил и плутоват. Радужная оболочка этих беспокойных глаз переливается разными цветами от змеино-зеленого до серого, как у кошки, и черного, как у газели, в основе своей оставаясь синей;[20] золотистые пушистые усы топорщатся надо ртом безупречно правильной формы, в котором сияют ослепительно белые зубы, почти всегда совершенно ровные, но иной раз остротой своей напоминающие клыки тигра или зубья пилы. Наряд этих людей почти всегда самобытен; порой это греческая туника, перехваченная в талии ярким поясом, порой длинный персидский халат, порой короткая овчинная куртка, которую они носят иногда мехом наружу, а иногда внутрь — смотря по погоде. Женщины из народа не так хороши;(155) на улице их немного, а те, кто мне попадались, мало привлекательны; вид у них забитый. Странная вещь! мужчины заботятся о своем туалете, женщины же относятся к нему с небрежением. Быть может, причина в том, что мужчины прислуживают знатным вельможам. У простолюдинок тяжелая поступь; ноги их обуты в уродливые сапоги грубой кожи; и лица, и стан их лишены изящества; даже у молодых землистый цвет лица, особенно бросающийся в глаза на фоне свежих лиц мужчин. Женщины из народа носят короткую куртку, распахнутую на груди и отороченную мехом, чаще всего рваным и свисающим клочьями. Наряд этот был бы неплох, умей они его подать, как говорят наши торговцы, и не отличайся большинство его владелиц уродливой фигурой и отвратительной нечистоплотностью; национальный головной убор русских женщин красив, но нынче почти совершенно вышел из употребления; я слышал, что его носят лишь кормилицы да светские женщины в дни придворных церемоний(156); убор этот — расширяющаяся кверху картонная башенка, расшитая золотом.(157)
Упряжки здесь весьма живописны, кони быстры, горячи, норовисты, однако все экипажи, которые я видел сегодня на островах, не исключая и карет самых знатных вельмож, неуклюжи, а иной раз и грязны. Теперь я понимаю, отчего слуги наследника, которых я видел в Эмсе, были так неаккуратны и неопрятны, отчего его кареты выглядели такими тяжеловесными и уродливыми. Русские вельможи любят пускать пыль в глаза, поражать роскошью и позолотой; к изяществу и чистоте они равнодушны. Одно дело — потрясать своим богатством воображение прохожих, другое — наслаждаться им втайне, пытаясь таким образом скрыть от самого себя ничтожный удел рода человеческого.
Нынче вечером я узнал много любопытного относительно того, что именуется русским крепостным правом.
Нам трудно составить верное представление об истинном положении русских крестьян, лишенных каких бы то ни было прав и тем не менее составляющих большинство нации. Поставленные вне закона, они отнюдь не в такой степени развращены нравственно, в какой унижены социально; они умны, а порой и горды, но основа их характера и поведения — хитрость. Никто не вправе упрекать их за эту черту, естественно вытекающую из их положения. Хозяева постоянно обманывают крестьян самым бессовестным образом, а те отвечают на обман плутовством. Взаимоотношения крестьянина с помещиками, владеющими землей, равно как и с отечеством, — иными словами, с императором, воплощающим в себе государство, — могли бы стать предметом целого исследования; ради одного этого стоило бы пробыть в сердце России длительное время. Во многих областях империи крестьяне считают, что принадлежат земле, и такое положение дел кажется им совершенно естественным, понять же, каким образом люди могут принадлежать другим людям, им очень трудно. Во многих других областях крестьяне думают, что земля принадлежит им. Это — не самые послушные, но самые счастливые из рабов. Встречаются среди крестьян такие, которые, когда хозяин собирается их продать, умоляют какого-нибудь другого помещика, слывущего добрым, купить их вместе с детьми, скотом и землей, если же этот барин, славящийся своим мягкосердечием (не говорю: справедливостью, ибо понятие о справедливости неведомо даже тем из русских, кто лишены какой бы то ни было власти), если же этот вожделенный барин нуждается в деньгах, они готовы ссудить его необходимой суммой, лишь бы принадлежать ему. Тогда добрый барин, отвечая на просьбы крестьян, покупает их на собственные деньги, и они становятся его крепостными, а он на некоторое время освобождает их от оброка. Таким образом, зажиточный раб, можно сказать, вынуждает неимущего помещика приобрести в вечную собственность самого этого раба и его потомство, ибо предпочитает скорее принадлежать ему и его наследникам, нежели быть купленным хозяином, ему неизвестным, либо таким, который слывет в округе жестоким. Как видите, русские крестьяне не слишком прихотливы.
Величайшее несчастье, которое может приключиться с этими людьми-растениями, — продажа их родной земли; крестьян продают обычно вместе с той нивой, с которой они неразрывно связаны; единственное действительное преимущество, какое они до сих пор извлекали из современного смягчения нравов, заключается в том, что теперь продавать крестьян без земли запрещено.(158) Да и то запрет этот можно обойти с помощью всем известных уловок: так, вместо того чтобы продать все поместье вместе со всеми крестьянами, продают лишь несколько арпанов, а в придачу крестьян, по сто — двести на арпан. Если власти узнают об этом обмане, они наказывают виновного, однако возможность вмешаться предоставляется им очень редко, ибо преступников отделяет от высшей власти, то есть императора, целая череда людей, заинтересованных в том, чтобы злоупотребления никогда не прекращались и совершались под покровом тайны…
Помещики, особенно те, чьи дела расстроены, страдают от такого положения дел не меньше крестьян. Продать землю трудно, — так трудно, что человек, отягощенный долгами и желающий их заплатить, кончает тем, что закладывает свои земли в имперский банк. Таким образом, император становится казначеем и кредитором всех русских дворян (159), а дворяне, попав в зависимость от высшей власти, утрачивают возможность исполнять свой долг перед народом. Однажды один помещик хотел продать некий участок земли; узнав об этом намерении, крепостные встревожились; они направили к барину старейших крестьян, которые бросились к его ногам и со слезами признались, что не хотят, чтобы их продавали. «Ничего другого не остается, — отвечал помещик, — не в моих правилах увеличивать сумму оброка; с другой стороны, я не так богат, чтобы владеть землей, не приносящей мне почти никакой прибыли». — «Значит, все дело в этом, — воскликнули крепостные депутаты, — в таком случае, вы можете не продавать нас: мы достаточно богаты». И они немедленно и совершенно добровольно увеличили вдвое тот оброк, какой платили барину с незапамятных времен.
Другие крестьяне, не столь кроткие и наделенные куда более извращенным и хитрым умом, восстают против барина с единственной целью сделаться казенными крестьянами. Это — мечта всех русских крестьян. Дать этим людям свободу внезапно — все равно что разжечь костер, пламя которого немедля охватит всю страну. Стоит этим крестьянам увидеть, что землю продают отдельно, что ее сдают внаем и обрабатывают без них, как они начинают бунтовать все разом, крича, что у них отнимают их добро. Недавно в одной отдаленной деревне начался пожар; крестьяне, давно страдавшие от жестокости помещика, воспользовались суматохой, которую, возможно, сами и затеяли, и, схватив своего супостата, посадили его на кол, а затем изжарили живьем в пламени пожара; они почитали себя невиновными в этом преступлении, ибо могли поклясться, что злосчастный помещик хотел сжечь их дома и они просто-напросто защищались.
Чаще всего в подобных случаях император приказывает сослать всю деревню в Сибирь; вот что подразумевают в Петербурге под заселением Азии.
Размышляя о подобных происшествиях и тысяче других более или менее тайных жестокостей, свершающихся постоянно в глубине огромной Российской империи, где расстояния благоприятствуют и бунту и гнету, я проникаюсь ненавистью к этой стране, ее правительству и всему населению; меня охватывает неизъяснимая тоска и желание бежать отсюда.
Прежде меня забавляло обилие цветов и ливрейных лакеев в богатых домах; теперь оно меня возмущает, и я упрекаю себя в давешней радости как в преступлении: здесь состояние помещика исчисляется душами крестьян. Человек здесь лишен свободы и превращен в деньги; он приносит своему барину, почитаемому свободным оттого, что он владеет рабами, около десяти рублей в год, а в иных областях в три-четыре раза больше. Цена на человеческий товар меняется в России так, как меняется у нас цена на землю в зависимости от того, как выгодно можно сбыть выращиваемые на ней плоды. Живя здесь, я помимо воли постоянно подсчитываю, во сколько семей обошлась какая-нибудь шляпка или шаль; войдя в дом и увидев розу или гортензию, я смотрю на нее не теми глазами, что всегда; все кругом кажется мне политым кровью; я замечаю только обратную сторону медали. Я больше думаю о том, сколько душ было замучено до смерти ради того, чтобы купить ткань на обивку кресла или на платье хорошенькой придворной дамы, чем об уборе этой дамы и ее прелестях. Эти печальные расчеты так увлекают меня, что я сам чувствую, как становлюсь несправедливым. Личико той или иной очаровательной особы вдруг, сколько бы я в глубине души этому ни противился, напоминает мне о карикатурах на Бонапарта, распространявшихся в 1813 году во Франции и во всей Европе. Издали император выглядел на рисунке совсем как живой, но приглядевшись, вы замечали, что вместо штрихов здесь использованы изуродованные человеческие трупы. Повсюду бедняк работает на богача, а тот ему платит; но этот бедняк, отдающий свое время другому человеку в обмен на деньги, не проводит всю жизнь в загоне для скота и, несмотря на необходимость трудиться для того, чтобы добыть пропитание своим детям, пользуется некоторой свободой хотя бы по видимости, — а ведь для созданий с ограниченным кругозором и безграничным воображением видимость — это почти все. У нас наемный работник имеет право переменять хозяина, жилье и даже род занятий; никто не смотрит на его труд как на ренту нанявшего его богача; иное дело русский крестьянин; он — вещь, принадлежащая барину, он вынужден от рождения до смерти служить одному и тому же хозяину, поэтому хозяин видит в его жизни не что иное, как мельчайшую долю той суммы, что потребна для ежегодного удовлетворения его прихотей; без сомнения, в государстве, устроенном таким образом, страсть к роскоши перестает быть невинной забавой; здесь она непростительна. Всякому обществу, где не существует среднего класса, следовало бы запретить роскошь, ибо единственное, что оправдывает и извиняет благополучие высшего сословия, — это выгода, которую в странах, устроенных разумным образом, извлекают из тщеславия богачей труженики третьего сословия. Если, как утверждают иные русские, Россия скоро станет промышленной страной, отношения крепостных с их владельцами не замедлят измениться; между помещиками и крестьянами вырастет сословие независимых купцов и ремесленников, которое сегодня еще только начинает создаваться, причем исключительно из иностранцев. Почти все фабриканты, коммерсанты, купцы в России — немцы.
Здесь очень легко обмануться видимостью цивилизации. Находясь при дворе, вы можете почитать себя попавшим в страну, развитую в культурном, экономическом и политическом отношении, но, вспомнив о взаимоотношениях различных сословий в этой стране, увидев, до какой степени эти сословия немногочисленны, наконец, внимательно присмотревшись к нравам и поступкам, вы замечаете самое настоящее варварство, едва прикрытое возмутительной пышностью.
Я не упрекаю русских в том, что они таковы, каковы они есть, я осуждаю в них притязания казаться такими же, как мы. Пока они еще необразованны — но это состояние по крайней мере позволяет надеяться на лучшее; хуже другое: они постоянно снедаемы желанием подражать другим нациям, и подражают они точно как обезьяны, оглупляя предмет подражания. Видя все это, я говорю: эти люди разучились жить как дикари, но не научились жить как существа цивилизованные, и вспоминаю страшную фразу Вольтера или Дидро, забытую французами: «Русские сгнили, не успев созреть» (160). В Петербурге все выглядит роскошно, великолепно, грандиозно, но если вы станете судить по этому фасаду о жизни действительной, вас постигнет жестокое разочарование; обычно первым следствием цивилизации является облегчение условий существования; здесь, напротив, условия эти тяжелы; лукавое безразличие — вот ключ к здешней жизни. Вы хотите узнать наверняка, что в этом большом городе достойно вашего внимания? Не надейтесь отыскать хоть один путеводитель(161), кроме Шницлера;[21] ни один книгопродавец не торгует полным перечнем достопримечательностей Петербурга, а просвещенные люди, которых вы станете расспрашивать, не заинтересованы в том, чтобы вы узнали правду, или же не располагают временем, чтобы беседовать с вами; Император, его местопребывание, его планы — вот единственный предмет, занимающий мысли тех русских, кто умеют мыслить. Этого придворного катехизиса им довольно. Все они жаждут угодить своему господину, укрыв от чужестранцев хоть какую-нибудь долю истины. Никто не печется здесь о благе любознательных путешественников; их охотно морочат поддельными документами; чтобы узнать Россию, нужно обладать превосходным критическим чутьем. При деспотической власти любопытство — синоним нескромности; империя — это нынешний император; если он в добром здравии, вам не о чем беспокоиться; вам есть чем занять сердце и ум. Если вы знаете, где пребывает и как живет этот зиждитель всякой мысли, этот движитель всякой воли и всякого деяния, то, русский вы или иностранец, не вздумайте спрашивать о чем-нибудь еще, даже о том, как пройти к месту вашего назначения, — а ведь в таких вопросах бывает острая нужда, поскольку на плане Петербурга обозначены только самые главные улицы.
И тем не менее даже этого страшного могущества царю Петру показалось мало; он захотел стать не только разумом, но и душой своего народа; он осмелился вершить судьбами русских в вечности, как командовал их деяниями в земной жизни. Эта власть, не оставляющая человека даже в мире ином, кажется мне чудовищной; монарх, не убоявшийся подобной ответственности и, несмотря на свой длительные колебания, мнимые или подлинные, запятнавший себя столь беззаконным самозванством, принес больше зла всему миру этим покушением на права священнослужителя и свободу совести паствы, нежели добра России своим полководческим даром, талантами государственного деятеля и предприимчивостью. Характер этого императора, послуживший образцом для подражания императорам нынешним, представляет собой причудливое смешение величия и мелочности. Властный, как жесточайшие тираны всех времен и народов, искусный, как лучшие механики его времени; дотошный и грозный, соединяющий в себе льва и бобра, орла и муравья, этот неумолимый монарх является памяти потомков; наподобие некоего святого и, словно ему недостаточно было при жизни самовластительно распоряжаться поступками своих подданных, желает из могилы так же самовластительно распоряжаться их мнениями; сегодня высказывать беспристрастные суждения об этом человеке небезопасно(162) даже для иностранца, вынужденного жить в России; здесь это почитается святотатством. Впрочем, я постоянно нарушаю этот запрет, ибо из всех повинностей для меня самая несносная — восхищение по обязанности.[22]
Как ни безгранична власть российских монархов, они до крайности боятся неодобрения или просто откровенности. Из всех людей угнетатель сильнее всех страшится правды; для него единственный способ избежать насмешек — наводить ужас и хранить таинственность; отсюда следует, что в России невозможно говорить ни о личностях, ни вообще о чем бы то ни было; под запретом не только болезни, приведшие к смерти императоров Петра III и Павла I, но и тайные любовные похождения, которые злые языки приписывают ныне царствующему императору.(163) Забавы этого монарха почитаются здесь… не более чем забавами! А раз так, то, какие бы беды ни принесли эти похождения некоторым семействам, о них следует молчать, дабы не навлечь на себя обвинение в величайшем преступлении, какое может вообразить себе народ рабов и дипломатов, — в нескромности. Мне не терпится увидеть императрицу. Говорят, она очаровательна; впрочем, здесь ее почитают ветреной и надменной. Чтобы вести такую жизнь, какую ей приходится вести, потребны возвышенные чувства и легкий характер. Она ни во что не вмешивается, ничем не интересуется; кто ничего не может сделать, тому всякое знание — обуза. Императрица поступает так же, как все прочие подданные императора: все, кто родились в России или желают здесь жить, дают себе слово молчать обо всем, что видят; здесь никто ни о чем не говорит, и, однако же, все все знают: должно быть, тайные беседы здесь бесконечно увлекательны, но кто их себе позволяет? Размышлять, исследовать — значит навлекать на себя подозрения. Господин Репнин управлял империей и императором;(164) господин Репнин уже два года как отставлен, и за эти два года ни один русский не произнес имени, которое прежде не сходило с языка у всех здешних жителей. Однажды он низвергся с вершины власти в полную безвестность: никто не осмеливается не только вспоминать о нем, но и верить в его существование, как настоящее, так и прошлое. В России стоит министру потерять должность, как друзья его тотчас глохнут и слепнут. Прослыть впавшим в немилость — значит заживо себя похоронить. Я говорю «прослыть», потому что никто не дерзает сказать о человеке, что он уже впал в немилость, даже если дело к этому идет. Открыто заявить о немилости — значит убить человека. Вот отчего русские не уверены сегодня в существовании министра, правившего ими вчера. При Людовике XV отставка господина де Шуазеля стала его победой;(165) в России отставка господина Репнина стала его смертью.
К кому воззовет однажды народ, устав от немоты вельмож? Каким взрывом ненависти чревато для самодержавия трусливое самоотречение аристократов? Чем заняты русские дворяне? Они обожают императора(166) и становятся соучастниками его злоупотреблений, дабы по-прежнему угнетать крестьян, которых они будут истязать до тех пор, пока их кумир не вырвет кнут из их рук (заметьте, что кумир этот ими же и сотворен). К этой ли роли предназначены дворяне Провидением? Они занимают самые почетные должности в огромной империи. Но что сделали они, чтобы это заслужить? Чрезмерная и постоянно растущая власть монарха — более чем заслуженная кара за слабость дворян. В истории России никто, кроме императора, испокон веков не занимался своим делом; дворянство, духовенство, все сословия общества изменяют своим обязанностям. Если народ живет в оковах, значит, он достоин такой участи; тиранию создают сами нации. Или цивилизованный мир не позже, чем через пять десятков лет, вновь покорится варварам, или в России свершится революция куда более страшная, чем та, последствия которой до сих пор ощущает европейский Запад. Я замечаю, что вызываю у здешних жителей страх, ибо известно, что писания мои убедительны. Всякий иностранец, ступающий на здешнюю землю, непременно подвергается строгому суду. «Это человек честный, — думают судьи, — а значит, опасный». Вот в чем разница: в стране, где правят адвокаты, честный человек всего-навсего бесполезен! «Французы ненавидят деспотизм, впадая в преувеличения, не имея о нем понятия ясного и просвещенного, — говорят русские, — поэтому их ненависть нам не страшна; но если однажды путешественник, чьему слову верят, ибо сам он — верующий, расскажет о подлинных наших злоупотреблениях, которые непременно бросятся ему в глаза, все увидят нас такими, каковы мы есть. Сегодня Франция лает на нас, толком нас не зная, но если завтра она нас узнает, то непременно искусает».(167)
Разумеется, своей тревогой русские оказывают мне честь, которой я не заслужил, однако озабоченность их очевидна, как ни пытаются они ее скрыть. Не знаю, стану ли я высказывать все, что думаю об их стране, но знаю, что, опасаясь моих правдивых суждений, они оценивают себя по заслугам. У русских есть названия для всех вещей, но нет самих вещей; они богаты только на словах: прочтите объявления, и вы увидите, что в России имеются цивилизация, общество, литература, театр, изящные искусства, наука, но нет ни единого врача; юному обществу глубокие познания неведомы. Вы больны, у вас жар? лечитесь сами или зовите врача-иностранца. Если вы по случайности пригласите к себе врача, пользующего обитателей вашего квартала, вы подпишете себе смертный приговор, ибо русская медицина еще не вышла из пеленок. За исключением лейб-медика, которого, несмотря на его русское происхождение,(168) мне отрекомендовали как человека весьма ученого, единственные доктора, чей приход не грозит вам смертью, — немцы, пользующие великих князей; однако великие князья не сидят на месте, а выяснить точно, где они находятся в данную минуту, нет возможности; итак, по сути дела, вы не можете рассчитывать на медицинскую помощь. Все это не выдумки, но результат моих многодневных наблюдений, которые я не хочу продолжать, дабы никого не скомпрометировать. Кто станет посылать слугу за двадцать, сорок или даже шестьдесят верст (два французских лье равняются семи верстам), чтобы узнать причину своей болезни? Вдобавок может случиться так, что ваш посланник не найдет врача в резиденции великого князя. В этом случае надеяться вам будет не на что. «Господина доктора нет дома» — другого ответа вы не дождетесь. Что же предпринять? Обратиться с вопросом к кому-нибудь другому? Но в России все покрыто тайной, на всем лежит печать главной здешней добродетели — сдержанности; всякий почитает большой удачей лишний раз выказать свою скромность. Какой русский откажется от этой удачи, если она, вдобавок, сама идет ему в руки? Никому не следует знать о намерениях и маршрутах вельмож и их приближенных, к числу которых принадлежит и врач; все, о чем эти люди не считают нужным известить официально, должно оставаться в секрете. Здесь молчание — золото; итак, если однажды вас выпроводили, дав уклончивый и неясный ответ, не вздумайте возвращаться и возобновлять расспросы. Вы больны? Ну и прекрасно: либо вы поправитесь самостоятельно, либо умрете, либо дождетесь возвращения вашего врача.
Вдобавок, самый ловкий из этих великокняжеских докторов сильно уступает худшему из наших лекарей; ученейшие знатоки своего дела после многолетнего пребывания при дворе не могут не утратить мастерства. Пусть двор и заменяет петербуржцам все на свете, врачу ничто не может заменить опыт, приобретаемый у постели больного. С живейшим интересом прочел бы я секретные и правдивые записки российского придворного врача, но предписания его выполнять бы не стал; эти люди созданы скорее для того, чтобы сочинять летописи, нежели для того, чтобы лечить больных. Итак, вот мой совет: если вы заболеете во время своего пребывания среди этого якобы цивилизованного народа, самое верное будет признать, что вас окружают дикари, и положиться на волю природы.
Вернувшись домой сегодня вечером, я обнаружил письмо, которое меня приятно удивило. Благодаря ходатайству нашего посла я смогу присутствовать завтра в дворцовой церкви на бракосочетании великой княжны. Появиться при дворе, не будучи представленным, — значит нарушить все законы этикета; я на это и не надеялся. Но император удостаивает меня этой милости. Граф Воронцов(169), обер-церемониймейстер, не предупредив меня, послал в Петергоф, находящийся в десяти лье от Петербурга, курьера с письмом, в котором умолял Его Величество решить мою судьбу; я ничего не знал об этом, ибо граф не хотел дразнить меня смутными надеждами. Его любезные хлопоты не остались напрасными. Император ответил, что я смогу присутствовать на бракосочетании в придворной церкви, а вечером без лишних церемоний представлюсь ему на балу.(170) Итак, завтра, вернувшись из дворцовой церкви, я продолжу свой рассказ.
ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ
Сопоставление двух дат: 14 июля 1789 года — взятие Бастилии, 14 июля 1839 года — свадьба внука господина де Богарне. — Дворцовая церковь. — Первое впечатление от облика императора. — Следствия деспотизма для деспота. — Портрет императора Николая. — Выражение его лица. — Императрица. — Ее болезненный вид. — Всеобщее рабство. — Императрица не имеет права быть больной. — Опасность, которой чреваты для русских подданных путешествия. — Подступы к дворцу. — Смешное происшествие. — Императорская церковь. — Великолепие церемоний и нарядов. — Появление императорской фамилии. — Ошибки против этикета исправляются: кем? — Господин Пален держит венец над головой жениха. — Отступление. — Волнение императрицы. — Ханжество, царящее в современном языке. — Отчего то происходит? — Музыка в придворной церкви. — Старинные греческие песнопения, обработанные некогда итальянскими композиторами. — Чудесное действие этой музыки. — Te Deum. — Архиепископ. — Император целует ему руку. — Невозмутимость герцога Лейхтенбергского. — Его обманчивый вид. — Ложное положение. — Воспоминание из эпохи Террора. — Талисман господина де Богарне. — Нынче им владею я. — Русские не знают, что такое толпа. — Громадность городских площадей. — В стране бескрайних просторов все кажется маленьким, — Колонна Александра. — Адмиралтейство. — Церковь Святого Исаака. — Площадь, огромная, как равнина. — Русским недостает художественного чутья. — Какая архитектура была бы уместна в их стране и при их климате. — Восточный гений реет над Россией. — Гранит не выдерживает петербургских зим. — Триумфальная колесница. — Надругательство над античным искусством. — Русские архитекторы. — Деспотизм не притязает на победу над природой. — Гроза, разразившаяся во время бракосочетания. — Император. — Меняющееся выражение его лица. — Особенности того лица. — Что означает по-гречески слово «актер». — Император никогда не выходит из роли. — Внушаемая им привязанность. — Русский двор. — Император достоин жалости. — Его беспокойная жизнь. — Жшнь sma губит императрицу. — Влияние этого пустопорожнего времяпрепровождения на воспитание царских детей. — Меня представляют. — Оттенки вежливости. — Слова императора. — Звук его голоса. — Императрица. — Ее приветливость. — Ее речи. — Придворное празднество. — Изумление, с которым придворные вошли во дворец, впервые открытый после пожара. — Влияние атмосферы, царящей при дворе. — Царедворцы на всех ступенях общественной лестницы. — Танцы при дворе. — Полонез. — Большая галерея. — Положительные умы восхищаются деспотизмом. — Условия, какие обязано выполнять каждое правительство. — Франция не похожа на свое правительство. — Удовольствие не является целью существования. — Еще одна галерея. — Ужин. — Киргизский хан. — Грузинская царица. — Ее лицо. — Смешное несчастье. — Внешность не так обманчива, как кажется. — Русский придворный наряд. — Национальный головной убор. — Женевец за императорским столам. — Любезность монарха. — Маленький столик. — Невозмутимость и хладнокровие швейцарца. — Вид из окна на заходящее солнце. — Новое чудо: северные ночи. — Их описание. — Контраст города и дворца. — Неожиданная встреча. — Императрица. — Новый взгляд на внутренний двор Зимнего дворца. — Его заполнил онемевший от восторга народ. — Обманчивая радость. — Заговор против истины. — Реплика госпожи де Сталь. — Бескорыстные радости простонародья. — Философия деспотизма.
14 июля 1839 года (171) (ровно пятьдесят лет после взятия Бастилии 14 июля 1789 года)
Прежде всего, взгляните на эти две даты: их соседство кажется мне любопытным. Начало нашей революции и свадьба сына Евгения де Богарне172 произошли в один и тот же день с разницей в пятьдесят лет. Я только что вернулся из дворцовой церкви, где присутствовал на венчании великой княжны Марии и герцога Лейхтенбергского по греческому обряду. Я по мере сил постараюсь описать вам все увиденное, но вначале хочу рассказать вам об императоре.
На лице его прежде всего замечаешь выражение суровой озабоченности — выражение, надо признаться, мало приятное, даже несмотря на правильность его черт. Физиогномисты справедливо утверждают, что душевное ожесточение пагубно сказывается на красоте лица. Впрочем, судя по всему, ато отсутствие добродушия в чертах императора Николая — изъян не врожденный, но благоприобретенный. Обычно мы с невольным доверием взираем на благородное лицо; какие же долгие и жестокие муки должен претерпеть красивый человек, чтобы его лицо начало внушать нам страх?
Хозяин, которому вверено управление бесчисленными частями огромного механизма, вечно страшится какой-нибудь поломки; тот, кто повинуется, страждет лишь в той мере, в какой подвергается физическим лишениям; тот, кто повелевает, страждет, во-первых, по тем же причинам, что и прочие смертные, а во-вторых, по вине честолюбия и воображения, стократ увеличивающих его страдания. Ответственность — возмездие за абсолютную власть. Самодержец — движитель всех воль, но он же становится средоточием всех мук: чем больший страх он внушает, тем более, на мой взгляд, он достоин жалости. Тот, кто все может и все исполняет, оказывается во всем виноватым: подчиняя мир своим приказаниям, он даже в случайностях прозревает семя бунта; убежденный, что права его священны, он возмущается всякой попыткой ограничить его власть, пределы которой кладут его ум и мощь. Муха, влетевшая в императорский дворец во время церемонии, унижает самодержца… Природа, считает он, своей независимостью подает дурной пример; всякое существо, которое монарху не удается покорить своему беззаконному влиянию, уподобляется в его глазах солдату, взбунтовавшемуся против своего сержанта в самый разгар сражения; такой бунт навлекает позор на всю армию и даже на ее полководца: император России — ее главнокомандующий, и вся его жизнь — битва.
Впрочем, порой во властном или самовластном взгляде императора вспыхивают искры доброты, и лицо его, преображенное этой приветливостью, предстает перед окружающими в своей античной красе. Временами человеколюбие одерживает в сердце родителя и супруга победу над политикой самодержца. Монарх, позволяющий себе отдохнуть и на мгновение забывающий о том, что его дело — угнетать подданных, выглядит счастливым. Мне весьма любопытно наблюдать за этой битвой между природным достоинством человека и напускной важностью императора. Именно этим я и занимался, покуда длилась брачная церемония.
Император на полголовы выше среднего роста; он хорошо сложен, но немного скован; с ранней юности он взял привычку, вообще распространенную среди русских, туго утягивать живот ремнем; обыкновение это позволяет ему выступать грудью вперед, однако не прибавляет ни красоты, ни здоровья; живот все равно выпирает и нависает над поясом.
Этот изъян, виной которому сам император, стесняет свободу его движений, портит осанку и придает всем его манерам некую принужденность. Говорят, что, когда император распускает пояс, внутренности его мгновенно возвращаются в обычное положение, и это причиняет ему сильнейшую боль. Живот можно замаскировать, но нельзя уничтожить.(173)
У императора греческий профиль, высокий лоб, слегка приплюснутый сзади череп, прямой нос безупречной формы, очень красивый рот, овальное, слегка удлиненное лицо, имеющее воинственное выражение, которое выдает в нем скорее немца, чем славянина.
Император очень заботится о том, чтобы походка и манеры его всегда оставались величавы.
Он ни на мгновение не забывает об устремленных на него взглядах; он ждет их; более того, ему, кажется, приятно быть предметом всеобщего внимания. Ему слишком часто повторяли и слишком много раз намекали, что он прекрасен и должен как можно чаще являть себя друзьям и врагам России. Большую часть жизни он проводит на свежем воздухе, принимая парады или совершая короткие путешествия; поэтому летом на его загорелом лице заметна белая полоса в том месте, куда падает тень от армейской фуражки; след этот производит впечатление странное, но не тягостное, ибо нетрудно догадаться о его происхождении.
Внимательно вглядываясь в прекрасное лицо этого человека, распоряжающегося по своему усмотрению жизнями стольких людей, я с невольной жалостью замечаю, что, когда глаза его улыбаются, губы остаются неподвижны, если же улыбка трогает его губы, серьезными остаются глаза: это несовпадение выдает постоянную принужденность, которой вовсе не было видно в лице его брата Александра, быть может, менее правильном, но куда более располагающем. Император Александр был всегда очарователен, но иногда неискренен;(174) император Николай более прям, но неизменно суров, причем суровость эта иногда сообщает ему вид жестокий и непреклонный; в нынешнем самодержце меньше обаяния, но больше силы; впрочем, по этой причине ему чаще приходится пускать эту силу в ход. Обаяние приумножает могущество, предупреждая непокорство: этот способ сберегать силы императору Николаю неведом. Для него главное — повиновение подданных; предшественники его ждали от подданных любви.
Императрица в высшей степени изящна, и, несмотря на необычайную худобу, вся ее фигура дышит неизъяснимым очарованием. Манеры ее отнюдь не надменны, как мне рассказывали; они выказывают гордую душу, привыкшую смирять свои порывы. В церкви она была так взволнована, что, как мне показалось, могла каждую минуту лишиться чувств; несколько раз по лицу ее пробегала судорога, а голова начинала мелко трястись; ее глубоко посаженные нежные голубые глаза выдают жестокие страдания, сносимые с ангельским спокойствием; ее взгляд исполнен чувства и производит впечатление тем более глубокое, что она об этом впечатлении совершенно не заботится; увядшая прежде срока, она — женщина без возраста, глядя на которую невозможно сказать, сколько ей лет; она так слаба, что, кажется, не имеет сил жить: она чахнет, угасает,(175) она больше не принадлежит нашему миру; это тень земной женщины. Она так и не смогла оправиться от потрясения, которое пережила в день вступления на престол(176): весь остаток своих дней она принесла в жертву супружескому долгу. Она даровала России слишком много кумиров, а императору — слишком много детей.(177) «Всю жизнь только и делать, что плодить великих князей: жалкий жребий!..» — сказала одна польская дама,(178) не считающая себя обязанной хвалить на словах то, что она ненавидит в душе.
Все кругом видят состояние императрицы; никто о нем не говорит; император любит ее; у нее жар? она не встает с постели? он сам ходит за ней, как сиделка, бодрствует у ее изголовья, готовит и подносит ей питье; но стоит ей встать на ноги, и он снова начинает убивать ее суетой, празднествами, путешествиями, любовью; по правде говоря, если ее здоровье в очередной раз резко ухудшается, он отказывается от своих планов, но предосторожности, принятые заранее, внушают ему отвращение; в России все — женщины, дети, слуги, родители, фавориты — должны до самой смерти кружиться в вихре придворной жизни с улыбкой на устах.
Все должно повиноваться замыслам императора, этого солнца умов; его замысел, замысел одного, становится судьбою всех; чем ближе стоят подданные к монарху, тем сильнее они от него зависят: императрицу эта зависимость губит. Есть одна вещь, о которой здесь всякий знает, но никто не говорит, ибо здесь вообще никто не произносит ни единого слова о предметах, могущих живо заинтересовать кого бы то ни было: ни один из собеседников, ни тот, кто говорит, ни тот, кто слушает, не должен показывать, что тема их беседы достойна неослабного внимания и способна возбудить неподдельную страсть. Все могущество языка говорящие пускают в ход ради того, чтобы изгнать из речей мысль и чувство, не подавая притом вида, что скрывают их, ибо это выглядело бы неестественно. Величайшая принужденность, являющаяся следствием этих изумительных стараний — изумительных прежде всего по той тщательности, с которой они скрываются, — отравляет существование русских. Стараниями этими они расплачиваются за добровольный отказ от двух величайших даров Господа, вложившего в человека душу и даровавшего ему слова, чтобы выражать движения этой души, иначе говоря, давшего человеку чувство и свободу.
Чем больше я узнаю Россию, тем больше понимаю, отчего император запрещает русским путешествовать(179) и затрудняет иностранцам доступ в Россию. Российские политические порядки не выдержали бы и двадцати лет свободных сношений между Россией и Западной Европой. Не верьте хвастливым речам русских; они принимают богатство за элегантность, роскошь — за светскость, страх и благочиние — за основания общества. По их понятиям, быть цивилизованным — значит быть покорным; они забывают, что дикари иной раз отличаются кротостью нрава, а солдаты — жестокостью; несмотря на все их старания казаться прекрасно воспитанными, несмотря на получаемое ими поверхностное образование и их раннюю и глубокую развращенность, несмотря на их превосходную практическую сметку, русские еще не могут считаться людьми цивилизованными. Это татары в военном строю — и не более. Их цивилизация — одна видимость; на деле же они безнадежно отстали от нас и, когда представится случай, жестоко отомстят нам за наше превосходство.
Нынче утром я поспешно оделся и отправился в дворцовую церковь; покуда коляска моя катилась следом за экипажем французского посла, я с любопытством глядел по сторонам. На подступах к дворцу я увидел войска, показавшиеся мне вовсе не столь великолепными, как о том говорят; впрочем, лошади у военных в самом деле превосходные. По огромной площади перед императорским дворцом сновали во всех направлениях экипажи придворных, люди в ливреях и солдаты в разноцветных мундирах. Красивее всех выглядят казаки. Хотя народу собралось много, собравшихся никак нельзя было назвать толпой, они терялись среди здешних просторов.
Молодые государства, особенно те, которыми правят абсолютные монархи, изобилуют безлюдными пространствами; люди, лишенные свободы, обитают в печальных пустынях. Густо населены лишь страны свободные. Выезды придворных, на мой вкус, вполне приличны, хотя и не слишком элегантны и опрятны. Кареты, дурно выкрашенные и еще более дурно отлакированные, тяжеловесны; в них запряжены четверки лошадей в безмерно длинных постромках.
Лошадьми, идущими в дышле, правит кучер; мальчишка в длинном персидском халате наподобие кучерского армяка,[23] именуемый, насколько я мог расслышать, фалейтером (по-видимому, от немецкого Vorreiter), едет верхом на передней лошади, причем, заметьте, на правой, в противоположность обычаям всех других стран, где форейтор седлает левую лошадь, чтобы оставить свободной правую руку; седло у форейтора очень плотное, мягкое, как подушка, и сильно приподнятое спереди и сзади. Вид русских экипажей поразил меня своей необычностью: живость и норовистость лошадей, не всегда красивых, но неизменно породистых, ловкость кучеров, пышность нарядов — все это вместе предвещает зрелища, о великолепии которых мы не имеем ни малейшего понятия; в России двор — реальная сила, в других же державах даже самая блестящая придворная жизнь — не более, чем театральное представление. Я обдумывал эти различия, а также предавался размышлениям о многих других предметах, навеянным новыми для меня картинами, когда карета моя остановилась перед грандиозной крытой колоннадой и я увидел шумную разряженную толпу, составленную из царедворцев чрезвычайно изысканного вида. Их сопровождали слуги, с виду — да и на деле — весьма дикие, но одетые почти так же роскошно, как и господа.
Стараясь поскорее выйти из коляски, чтобы не отстать от людей, вызвавшихся быть моими провожатыми, я зацепился шпорой за подножку и сильно стукнулся об нее ногой; поначалу я не обратил на это внимания, но вообразите, какой ужас испытал я в тот миг, когда, ступив на нижнюю ступеньку великолепной лестницы Зимнего дворца, увидел, что потерял одну из шпор и, хуже того, каблук одного из сапог, оторвавшийся вместе с нею! Таким образом, я оказался наполовину разут. А между тем я вот-вот должен был предстать перед человеком, слывущим столь же придирчивым, сколь надменным и могущественным: ввиду этого случившееся со мной незначительное происшествие вырастало в подлинную беду! Как быть? вернуться к выходу и заняться поисками каблука? Но подъезжающие экипажи наверняка уже раздавили его. Отыскать потерянный каблук можно было только чудом, но даже отыщи я его, что бы я стал с ним делать? Понес его во дворец? На что же решиться? Проститься с французским послом и вернуться домой? Но поступить так значило бы сразу привлечь к себе внимание; с другой стороны, показавшись императору без каблука, я рисковал погубить себя в его глазах и в глазах преданных ему царедворцев, а добровольно выставлять себя на посмешище — не в моих правилах. Я слишком хорошо знаю, чем это кончается… Уехать за тысячу лье от дома для того, чтобы по своей воле навлечь на себя неприятности, — это, на мой взгляд, непростительно. Я не выношу людей, которые делают глупости, когда у них есть возможность не делать вовсе ничего.
Краснея от стыда, я решил, что попытаюсь скрыться в толпе, однако толпы в России, как я уже сказал, не существует, особенно же одиноко я чувствовал себя на лестнице нового Зимнего дворца, напоминающей декорацию к опере «Гюстав». Дворец этот, пожалуй, самый просторный и великолепный из всех дворцов в мире. Природная робость моя только возросла по вине случившегося со мной смешного происшествия, но внезапно страх придал мне смелости, и я, хромая, устремился в глубь огромных зал и богато украшенных галерей, великолепие и протяженность которых проклинал в душе, ибо и то и другое отнимало у меня всякую надежду укрыться от пристальных взоров придворных. Русские холодны, лукавы, насмешливы, остроумны и, как все честолюбцы, не склонны к излишней чувствительности. Вдобавок они не доверяют иностранцам, ибо, сомневаясь в их расположении, опасаются их суда, поэтому, еще не узнав путешественника, они сразу смотрят на него враждебно, тая под внешним гостеприимством язвительность и хулу.
Наконец, хотя и не без труда, я добрался до дворцовой церкви, где забыл обо всем, включая свое дурацкое злоключение, тем более что народу в церкви собралось очень много, и никто не мог заметить непорядок с моей обувью. Предвкушение нового для меня зрелища возвратило мне хладнокровие и самообладание. Я краснел, вспоминая о том смущении, в какое повергло меня ущемленное тщеславие царедворца; я вновь вошел в роль простого путешественника, и ко мне вернулось беспристрастие наблюдателя-философа. Скажу еще несколько слов о своем наряде: накануне он стал предметом серьезных споров; молодые дипломаты, состоящие при французском посольстве, советовали мне надеть мундир национальной гвардии, но, побоявшись, что этот мундир придется императору не по нраву, я остановился на другом: то был мундир штаб-офицера с эполетами подполковника, ибо таков мой чин. В ответ я услышал, что наряд мой будет выглядеть непривычно и вызовет у членов императорской фамилии и у самого императора множество вопросов, иные из которых могут привести меня в замешательство. Одним словом, предмет совершенно незначительный привлек к себе неслыханное внимание. Венчание по греческому обряду продолжительно и величественно. Пышность религиозной церемонии, как мне показалось, лишь подчеркнула роскошество церемоний придворных.
Стены и потолки церкви, одежды священников и служек — все сверкало золотом и драгоценными каменьями; люди самого непоэтического склада не смогли бы взирать на все эти богатства без восторга. Картина, представшая моему взору, не уступает самым фантастическим описаниям «Тысячи и одной ночи»; при виде ее вспоминаешь поэму о Лалла Рук или сказку о волшебной лампе Алладина — ту восточную поэзию, где ощущения берут верх над чувствами и мыслью.
Дворцовая церковь невелика по размерам; в ее стенах собрались посланцы всех государей Европы и, пожалуй, даже Азии; подле них стояли несколько чужестранцев, которым, подобно мне, было дозволено присутствовать при церемонии вместе с дипломатическим корпусом, супруги послов и, наконец, видные придворные сановники; балюстрада отделяла нас от ограды, окружающей алтарь. Алтарь этот имеет вид довольно низкого квадратного стола. Места перед алтарем, предназначенные для членов императорской фамилии, были пока свободны…
Никогда прежде не случалось мне видеть зрелища столь же великолепного и торжественного, что и появление императора в этой сверкающей золотом церкви. Он вошел в сопровождении императрицы; двор следовал за ними; взгляды всех присутствовавших, включая и меня, обратились вначале на высочайшую чету, а затем на прочих членов императорской фамилии, среди которых молодожены затмили всех. Брак по любви между обитателями богатых палат, облаченными в роскошные одежды, — большая редкость, и это, по всеобщему убеждению, придавало грядущему событию особый интерес. Что до меня, я мало верю в подобные чудеса и невольно ищу во всем, что здесь делается и говорится, политическую подоплеку. Быть может, император и сам искренне верит, что им движет одна лишь отцовская любовь, однако я не сомневаюсь, что в глубине души он надеется рано или поздно извлечь из этого брака какую-нибудь выгоду. С честолюбием дело обстоит так же, как со скупостью: скупцы подчиняются расчету даже в тех случаях, когда думают, что действуют бескорыстно. Хотя церковь невелика, а придворных на церемонии присутствовало множество, все совершалось в безупречном порядке. Я стоял среди членов дипломатического корпуса, подле балюстрады, отделявшей нас от алтарной части. Времени у нас было достаточно, и мы могли исследовать черты и жесты всех особ, которые пришли сюда, повинуясь чувству долга или любопытству. Ничто не нарушало почтительную тишину. Яркое солнце освещало внутренность церкви, где, как мне сказали, жара дошла до тридцати градусов. В свите императора находился татарский хан — данник России, свободный лишь наполовину; на нем был длинный, расшитый золотом халат и остроконечный колпак, так же сверкающий золотыми блестками. Этот царек-раб, поставленный в двусмысленное положение завоевательной политикой его покровителей, счел уместным явиться на церемонию и просить императора всея Руси принять в число его пажей своего двенадцатилетнего сына, которого он привез в Петербург, дабы обеспечить его будущность. Этот падший властитель, оттеняющий славу властителя торжествующего, напомнил мне о Древнем Риме. Самые знатные придворные дамы и супруги послов всех держав, среди которых я узнал мадемуазель Зонтаг, ныне графиню Росси, стояли полукругом, украшая своим присутствием брачную церемонию; императорская фамилия находилась в глубине, в прекрасно расписанной ротонде. Позолоченная лепнина, вспыхивая в ослепительных лучах солнца, окружала своего рода ореолом головы государя и его детей. Дамские брильянты сверкали волшебным блеском среди азиатских сокровищ, расцвечивающих стены святилища, где царь в своей щедрости, казалось, бросал вызов Богу, ибо поклоняясь ему, не забывал о себе. Все это прекрасно и, главное, необычно для нас, особенно если вспомнить, что еще не так давно Европа не обращала никакого внимания на свадьбу царской дочери, а Петр I утверждал, что имеет право завещать престол тому, кому сочтет нужным. Какой путь проделан за столь короткое время! Вспоминая о дипломатических и прочих завоеваниях этой державы, которую правительства цивилизованных стран еще недавно не принимали в расчет, спрашиваешь себя, не грезишь ли ты наяву. Самому императору, кажется, еще в новинку то, что происходит на его глазах, ибо он поминутно отрывается от молитвенника и, делая несколько шагов то вправо, то влево, исправляет ошибки против этикета, допущенные его детьми или священниками. Отсюда я делаю вывод, что и двор в России тоже совершенствуется. Жених стоял не на месте, и император заставлял его то выходить вперед, то отступать назад; великая княжна, священники, вельможи — все повиновались верховному повелению, не гнушавшемуся мельчайшими деталями; на мой вкус, ему более подобало бы оставить все как есть и, находясь в церкви, думать о Боге, а не об отклонениях от религиозного обряда или придворного церемониала, допущенных его подданными и родственниками. Но в этой удивительной стране отсутствие свободы сказывается повсюду, даже у подножия алтаря. В России дух Петра Великого вездесущ и всемогущ.
Во время венчания по греческому обряду наступает минута, когда молодые супруги пьют из одной чаши. Затем в сопровождении священника, совершающего богослужение, они трижды обходят вокруг алтаря, держась за руки в знак своего соединения в браке и грядущей верности друг другу. Все эти действия тем более величавы, что напоминают об обрядах первых христиан. Затем над головами жениха и невесты поднимают венцы. Венец великой княжны держал ее брат, наследник престола, которому император, в очередной раз оторвавшись от молитвенника, сделал замечание относительно его позы, причем в лице государя непонятным для меня образом соединились в этот миг добродушие и мелочная требовательность; венец герцога Лейхтенбергского держал граф Пален, русский посол в Париже, сын чересчур прославленного и чересчур усердного друга Александра. Нынче никто в России не говорит, а может быть, и не вспоминает ту давнюю историю, что же до меня, то я не мог не думать о ней, покуда граф Пален с присущей ему благородной простотой исполнял свой долг, вызывая, без сомнения, зависть всех царедворцев, алчущих монаршьих милостей. По роли, отведенной графу Палену в церемонии венчания, он должен был испрашивать благословения небес для внучки Павла I. Странное сближение, но, повторяю, никто, как мне кажется, о нем не думал, ибо в этой стране политика имеет обратную силу.
Лесть видоизменяет в интересах настоящего даже само прошедшее. Кажется, здесь в чувстве меры нуждаются лишь те, кто не имеет власти. Если бы то воспоминание, что занимало меня, посетило императора, он не поручил бы держать венец над головой своего зятя графу Палену. Но в стране, где никто не пишет и не разговаривает, между сегодняшним и вчерашним днем пролегает пропасть, отчего власти совершают оплошности и попадают впросак, лишний раз доказывая, что ощущают себя в безопасности, которая, однако, не всегда оправданна. Русской политике не помеха ни мнения, ни даже действия подданных; здесь все зиждется на милости властителя; она заменяет тому, кто ее удостоился заслуги, честь и, более того, невинность; утратив же ее, человек утрачивает решительно все. Мы с неким тревожным восторгом смотрели на неподвижные руки, державшие венцы. Сцена эта длилась долго и, должно быть, тяжело далась ее участникам.
Невеста дышит изяществом и чистотой; у нее белокурые волосы и голубые глаза; лицо ее сияет блеском юности и обличает острый ум и чистое сердце. Эта принцесса и ее сестра, великая княжна Ольга, показались мне прелестнейшими из всех дам, увиденных мною при дворе: они равно отмечены и природой и обществом.
Когда священник подвел молодоженов к их августейшим родителям, те с трогательной сердечностью расцеловали их. Мгновение спустя императрица бросилась в объятия супруга; этот порыв нежности был бы куда более уместен в дворцовой зале, нежели в церкви, но в России государи везде чувствуют себя, как дома, даже в доме Божьем. Вдобавок порыв императрицы был, кажется, совершенно непроизволен и потому не мог никого задеть. Горе тем, кто сочтет смешным проявление искреннего чувства. Подобные порывы заразительны. Немецкая сердечность никогда не исчезает бесследно; впрочем, для того, чтобы сохранить подобную непосредственность на престоле, нужно иметь чистую душу.
Перед благословением в церкви, по обычаю, выпустили на волю двух серых голубей; они уселись на золоченый карниз прямо над головами молодых супругов и до самого конца церемонии целовались там.
В России голубей очень любят: их почитают священным символом Святого Духа и не разрешают убивать; к счастью, их мясо русским не по вкусу.
Герцог Лейхтенбергский — высокий, сильный, хорошо сложенный молодой человек; черты его лица вполне заурядны; глаза красивы, а рот чересчур велик, да к тому же неправильной формы; герцог строен, но в осанке его нет благородства; ему удается скрыть природный недостаток изящества с помощью мундира, который очень идет ему, но делает его больше похожим на статного младшего лейтенанта, нежели на принца. Ни один родственник с его стороны не прибыл в Петербург на его свадьбу. Во время богослужения ему, казалось, не терпелось остаться наедине с женой; что же до всех гостей, то их взгляды невольно обратились к голубкам, ворковавшим над алтарем.
Я не обладаю ни цинизмом Сен-Симона, ни его слогом, ни простодушной веселостью писателей доброго старого времени, поэтому увольте меня от изложения подробностей, как бы забавны они ни были. В эпоху Людовика XIV авторы изъяснялись вольно оттого, что обращались лишь к людям, говорящим на том же языке и ведущим тот же образ жизни, что и они сами; тогда существовало общество, но не существовало публики. Сегодня у нас есть публика, но нет общества. Во времена наших отцов всякий рассказчик в своем кругу мог позволить себе быть искренним, не опасаясь последствий; сегодня, когда в салонах смешиваются все сословия, говоруны не находят себе доброжелательных слушателей и чувствуют себя неуютно. Откровенность выражений, характерная для старого времени, кажется дурным тоном людям, имеющим иные понятия о французском языке. Щекотливостью буржуа отмечены сегодня и речи французов, принадлежащих к самому отменному обществу; чем к большему числу людей вы обращаетесь, тем большую серьезность следует вам хранить: нация требует к себе большего почтения, чем домашний кружок, как бы изыскан он ни был.
В том, что касается языковых приличий, толпа куда более требовательна, нежели двор: чем больше слушателей у дерзких речей, тем менее они приличны. Вот отчего я не стану рассказывать вам о том, что вызвало улыбку у многих важных господ и добродетельных дам, собравшихся сегодня утром в дворцовой церкви. Но я не мог и вовсе не упомянуть об этом забавном эпизоде, так резко противоречившем величию церемонии и вынужденной серьезности зрителей. Во время долгого венчания по греческому обряду наступает мгновение, когда все должны пасть на колени. Император, прежде чем сделать это, оглядел присутствующих придирчивым и не слишком ласковым взглядом. Казалось, он хотел убедиться, что никто не нарушил обычая, — излишняя предосторожность, ибо, хотя в церкви находились и католики, и протестанты, ни одному из этих чужестранцев, разумеется, не пришло на мысль уклониться от формального следования всем требованиям греческого обряда.[24]
Появление у императора сомнений в благонадежности гостей лишний раз подтверждает то, что я сказал выше о суровой озабоченности, постоянно гложущей императора.
Сегодня, когда бунт, можно сказать, носится в воздухе, даже самодержцы, судя по всему, боятся за свое могущество. Страх этот составляет неприятную и даже пугающую противоположность с понятием самодержца о его правах, которое остается неизменным. Абсолютный монарх, испытывающий страх, слишком опасен. Видя нервную дрожь, слабость и худобу императрицы, размышляя о том, что пришлось снести этой прелестной женщине во время бунта, совпавшего с ее вхождением на престол, я говорил себе: «За геройство надо платить!!!» Это — проявление силы, но силы губительной.
Я уже сказал вам, что все опустились на колени и последним — император; венчание окончилось, молодые стали мужем и женой, все поднялись с колен, и в этот миг священники вместе с хором затянули Те Deum, а на улице раздались артиллерийские залпы, возвестившие всему городу о завершении церемонии. Не могу передать, какое действие произвела на меня эта небесная музыка, смешавшаяся с пушечными выстрелами, звоном колоколов и доносящимися издалека криками толпы. В греческой церкви музыкальные инструменты под запретом, и хвалу Господу возносят здесь при богослужении только человеческие голоса. Суровость восточного обряда благоприятствует искусству: церковное пение звучит у русских очень просто, но поистине божественно. Мне казалось, что я слышу, как бьются вдали шестьдесят миллионов сердец — живой оркестр, негромко вторящий торжественной песни священнослужителей. Я был взволнован: музыка заставляет забыть обо всем, даже о деспотизме. Я могу сравнить это пение без сопровождения только с Miserere исполняемым в Страстную неделю в Сикстинской капелле в Риме хотя капелла эта нынче — лишь бледная тень того, чем была прежде. Это руина среди прочих римских руин. В середине прошедшего столетия, в пору, когда итальянская школа находилась в самом расцвете своей славы, старинные греческие песнопения были очень бережно переделаны композиторами, выписанными для этой цели в Петербург из Рима; чужестранцы эти создали шедевр, ибо все силы своего духа и ума употребили на то, чтобы не повредить древним творениям. Их труд сделался классическим, под стать ему и исполнение: партии сопрано, которые исполняются мальчиками-певчими, ибо женщины в дворцовой церкви не поют, безупречны; басы сильны, чисты и торжественны.
Любителю искусств стоит приехать в Петербург уже ради одного русского церковного пения; piano, forte, самые сложные мелодии исполняются здесь с глубоким чувством, чудесным мастерством и восхитительной слаженностью; русский народ музыкален: тот, кто слышал здешний хор, в этом не усомнится. Я слушал его затаив дыхание, и горевал о том, что рядом со мной нет нашего ученого друга Мейербера, ибо он один смог бы указать мне источники красот, которые я чувствую, но не понимаю; он же почерпнул бы в них вдохновение, ибо для него единственный способ восхититься образцом — сравняться с ним. Во время исполнения Te Deum, в то мгновение, когда оба хора слились воедино, раскрылись алтарные врата, и нашим взорам явились священники в тиарах, усыпанных сверкающими драгоценными камнями, в расшитых золотом одеждах, на которых величественно покоились их серебристые бороды, иные из которых доходят до пояса; так же роскошно, как и священники, была одета и паства. Российский двор великолепен; военные мундиры предстают здесь во всем своем блеске. Я с восторгом наблюдал, как земное общество с его роскошью и богатством приносит дань своего уважения царю небесному. Светская публика слушала священную музыку в молчании и сосредоточении, которые сообщили бы благолепие и менее возвышенным мелодиям. Божье присутствие освящает даже придворную жизнь; все мирское отходит на второй план, и всеми помыслами завладевает небо.
Архиепископ, совершавший богослужение, не нарушал величия представшей перед нами картины. Этот старец, сухонький и щуплый, словно ласка, некрасив, однако он кажется усталым и больным, волосы его посеребрил возраст: старый и слабый священник не может не внушать почтения. В конце церемонии император склонился перед ним и почтительно поцеловал ему руку. Самодержец никогда не упустит случая показать пример смирения, если ему это выгодно. Я восхищенно взирал на несчастного архиепископа, который, казалось, еле-еле держался на ногах в миг своего триумфа, на статного императора, склонявшего голову перед религиозной властью, на молодоженов, на императорское семейство и, наконец, на толпу придворных, заполонивших церковь; будь на моем месте живописец, он нашел бы здесь сюжет, достойный своей кисти. До богослужения мне казалось, что архиепископ вот-вот лишится чувств; двор, презрев завет Людовика XVIII: «точность — вежливость королей» — заставил себя ждать.
Несмотря на лукавое выражение лица, старец этот внушал мне если не уважение, то жалость: он был так слаб, так терпеливо сносил все тяготы, что вызвал у меня сочувствие. Какая разница, отчего он был терпелив — из благочестия или из честолюбия? так или иначе, терпение его выдержало серьезное испытание.
Что же до юного герцога Лейхтенбергского, то, сколько бы я ни смотрел на него, я не мог проникнуться к нему симпатией. У этого юноши хорошая армейская выправка, вот и все; облик его доказывает то, что я прекрасно знал и прежде: в наши дни принцев куда больше, чем дворян. Юный герцог, на мой вкус, выглядел бы куда уместнее в императорской гвардии, нежели в семействе императора. Ни одно чувство не отразилось на его лице во время церемонии, которая, однако, показалась трогательной даже мне, стороннему наблюдателю. Я пришел сюда из любопытства, но увиденное заставило меня задуматься, императорский же зять, главное действующее лицо этой церемонии, казался чуждым всему происходящему. У этого юноши нет собственного лица. Можно подумать, что ему совершенно не интересно то, что он делает, а собственная его особа ему в тягость. Видно, что он не ждет доброжелательства от русского двора, где люди расчетливее, чем при любом другом дворе, и где его внезапное возвышение сулит ему не столько друзей, сколько завистников. Уважения добиваются не вдруг: я ненавижу ложные положения и не могу не осуждать — даже сознавая, что я чересчур строг, — человека, который по какой бы то ни было причине соглашается поставить себя в подобное положение. Между тем юный принц имеет некоторое сходство с отцом, чье лицо было изящным и умным; хотя он затянут в русский мундир, столь тесный, что в нем нельзя не выглядеть скованно, у него, как мне показалось, легкая походка истинного француза; проходя мимо меня, он и не подозревал, что я ношу на груди предмет, драгоценный для нас обоих, но гораздо больше — для сына Евгения Богарне. Это арабский талисман, который господин де Богарне, отец вице-короля Италии и дед герцога Лейхтенбергского, подарил моей матери в тюрьме, устроенной в бывшем кармелитском монастыре, накануне казни.
За венчанием по греческому обряду должна была последовать вторая, католическая церемония в нарочно отведенной для этого зале дворца. Затем молодоженов и всю императорскую фамилию ждал обед; что же до меня, не приглашенного ни на католическое богослужение, ни на обед, я вместе с большинством придворных последовал к выходу и, вдохнув свежий воздух, выгодно отличавшийся от спертого воздуха внутри церкви, еще раз порадовался тому, что беда, приключившаяся с моим сапогом, осталась незамеченной. Правда, пару раз мне со смехом указали на несовершенство моего туалета, но этим дело и ограничилось. Хорошее ли, плохое ли, ничто из того, что касается только нас самих, не имеет такого большого значения, как мы думаем. Вернувшись в гостиницу, я, вместо того чтобы отдыхать, принялся за письмо к вам. Такова жизнь путешественника.
Выйдя из дворца, я без труда отыскал свою коляску; повторяю вам, в России нигде не встретишь большого скопления народа. Она так огромна, что здесь всюду просторно; это — преимущество страны, где нет нации. Первая же давка, которая возникнет в Петербурге, окончится плачевно; в обществе, устроенном так, как это, толпа породит революцию.
Из-за царящей здесь повсюду пустоты памятники кажутся крошечными; они теряются в безбрежных пространствах. Колонна Александра благодаря своему основанию считается более высокой, чем Вандомская колонна; ствол ее высечен из цельного куска гранита — это самое огромное из всех гранитных изваяний в мире. И что же? эта громадная колонна, возвышающаяся между Зимним дворцом и зданиями, стоящими полукругом на противоположном краю площади, напоминает вбитый в землю колышек, дома же, окружающие площадь, кажутся такими низкими и плоскими, что могут сойти за изгородь. Вообразите себе огороженное пространство, на котором могут провести маневры сто тысяч человек и при этом останется много свободного места: на таких просторах ничто не может выглядеть огромным. Эта площадь, или, точнее сказать, это русское Марсово поле, ограничено Зимним дворцом, фасад которого был недавно восстановлен в том виде, в каком существовал при императрице Елизавете.(180) Фасад этот имеет хотя бы то преимущество, что позволяет глазу отдохнуть от грубых и пошлых подражаний афинским и римским памятникам; он выполнен во вкусе регентства, являющемся не чем иным, как выродившимся стилем Людовика XIV; впрочем, вид его весьма величествен. Напротив дворца стоят полукругом здания, где размещаются некоторые министерства; здания эти построены по большей части в древнегреческом стиле. Что за странная прихоть — возводить храмы во славу чиновников! Рядом с этой площадью расположено и Адмиралтейство; оно живописно: его невысокие колонны, золоченый шпиль и приделы радуют глаз. С этой стороны площадь окаймлена зеленой аллеей, придающей ей некоторое разнообразие. На одном из краев огромного поля высится громада собора Святого Исаака, бронзовый купол которого наполовину закрыт лесами; еще дальше виднеются дворец Сената и другие подражания языческим храмам, в которых, впрочем, размещается военное министерство; тут же, ближе к Неве, глаз видит — или по крайней мере старается увидеть — памятник Петру Великому на обломке гранитной скалы, затерянный среди площади, словно песчинка на морском берегу. Статуя героя снискала незаслуженную славу благодаря шарлатанской гордыне воздвигнувшей ее женщины: статуя эта куда ниже своей репутации.(181) Всех поименованных мною зданий достало бы на застройку целого города, в Петербурге же они не заполняют одну-единственную площадь(182) — эту равнину, где произрастают не хлеба, но колонны. С большим или меньшим успехом подражая прекраснейшим творениям всех времен и народов, русские забывают, что людям не превозмочь природу. Русские никогда не принимают ее в расчет, и она в отместку подавляет их. Какую область искусства ни возьми, шедевры всегда создавались людьми, которые вслушивались в голос природы и понимали ее. Природа есть мысль Господа, а искусство — отношение человеческой мысли к силе, сотворившей мир и продлевающей его дни. Художник пересказывает земле то, что услышал на небесах: он не кто иной, как переводчик Господа, те же, кто творят по собственному разумению, рождают чудовищ.
В древности архитекторы громоздили памятники на крутых склонах и в ущельях, дабы живописность пейзажей умножала впечатление от творений человеческих. Русские, полагающие, что следуют за древними, а на деле лишь неумело им подражающие, поступают иначе: они рассеивают свои так называемые греческие и римские памятники на бескрайних просторах, где глаз едва их различает. Поэтому, хотя строители здешних городов брали за образец римский форум, города эти приводят на память азиатские степи.[25] Как ни старайся, а Московия всегда останется страной более азиатской, нежели европейской. Над Россией парит дух Востока, а пускаясь по следам Запада, она отрекается от самой себя.
Здания, стоящие полукругом напротив императорского дворца, — не что иное, как неудачное подражание античному амфитеатру; смотреть на них следует издали; вблизи видишь только декорацию, которую каждый год приходится штукатурить и красить, дабы не был так заметен урон, нанесенный суровой зимой. Древние возводили здания из вечных материалов под ласковым небом, здесь же, в губительном климате, люди строят дворцы из бревен, дома из досок, а храмы из гипса; поэтому русские рабочие только и делают, что поправляют летом то, что было разрушено зимой; ничто не может противостоять здешней погоде — даже здания, кажущиеся очень древними, были перестроены не далее, как вчера; камень здесь живет столько, сколько в других краях известь. Гранитный ствол колонны Александра, этого поразительного творения человека, Россия в 1839 году уже потрескался от морозов; в Петербурге на помощь граниту следует призывать бронзу — и, несмотря на все это, жители русской столицы неустанно подражают в своих постройках архитектуре южных городов! Северные пустыни покрываются статуями и барельефами,(183) призванными запечатлевать исторические события навеки, — а ведь в этой стране у памятников век даже короче, чем у воспоминаний. Русские занимаются всем на свете и, кажется, еще не кончив одного дела, уже спрашивают: когда же мы примемся за другое? Петербург подобен огромным строительным лесам; леса падут, как только строительство завершится. Шедевр же, который здесь созидается, принадлежит не архитектуре, но политике; это — новый Византий(184), который русские в глубине души почитают будущей столицей России и мира.
Напротив дворца ряд расположенных полукругом псевдоантичных зданий прорезает огромная арка, через которую можно пройти на улицу Морскую; этот огромный свод с неумеренной пышностью венчает запряженная шестеркой бронзовых коней колесница, управляемая некоей неведомой мне аллегорической или исторической фигурой. Не знаю, можно ли отыскать творение более безобразное, чем эти колоссальные ворота, зияющие на фасаде дома и окруженные со всех сторон постройками, вполне буржуазный вид которых не мешает воротам в силу их колоссальных размеров притязать на звание триумфальной арки. У меня нет ни малейшего желания разглядывать с близкого расстояния этих позолоченных коней, колесницу и возничего; будь они даже изваяны с безупречным мастерством — в чем я отнюдь не уверен, — местоположение их выбрано так неудачно, что они наверняка не вызовут у меня восхищения. Главное для памятника — его общий облик; интересоваться деталями имеет смысл лишь тогда, когда прекрасно целое; что значит тонкость исполнения там, где нет величия замысла? Впрочем, произведениям русского искусства недостает и того и другого. До сего дня искусство это держалось по большей части терпением; секрет его в том, чтобы, худо ли, хорошо ли, подражать другим народам(185) и, не выказывая ни разборчивости, ни вкуса, переносить на свою почву то, что было изобретено в других краях. Архитекторам, желающим повторять античные постройки, следовало бы изготовлять точные копии, да и это уместно, лишь если окружающий пейзаж похож на греческий или римский. Иначе подражания, как бы колоссальны они ни были, выйдут ничтожными: ведь в архитектуре величие созидается не размерами стен, но строгостью стиля. Скульптуры, установленные в Петербурге под открытым небом, напоминают мне экзотические растения, которые осенью приходится уносить в помещение; ничто так мало не подобает обычаям и духу русского народа, русской почве и климату, как эта фальшивая роскошь. Жителям страны, где разница между летней и зимней температурой доходит до 6о градусов, следовало бы отказаться от архитектуры южных стран. Однако русские привыкли обращаться с самой природой, как с рабыней, и ни во что не ставить погоду. Упрямые подражатели, они принимают тщеславие за гений и видят свое призвание в том, чтобы воссоздавать у себя, многократно увеличивая в размерах, памятники всего мира. Этот город с его гранитными набережными — чудо; но и ледяной дворец,(186) где императрица Елизавета устроила некогда бал, тоже был чудом; он прожил столько, сколько живут снежные хлопья, эти сибирские розы.
Во всех созданиях российских монархов, что мне довелось видеть, просвечивает не любовь к искусству, но человеческое честолюбие. Русские обожают хвастаться; от многих из них я слышал среди прочего уверения в том, что климат в их стране смягчается. Неужели Господь покровительствует этому тщеславному и алчному народу? Неужели он согласен даровать ему южное небо и южный воздух? Неужели на наших глазах Лапландия обзаведется собственными Афинами, Москва станет Римом, а Финский залив сравняется с Темзой? Разве история народов зависит только от широты и долготы? Разве на разных театрах вечно разыгрываются одни и те же сцены? Притязания русских, какими бы смехотворными они ни выглядели, показывают, как далеко простирается честолюбие этих людей.
Коляска моя, удаляясь от дворца, быстро катилась по огромной прямоугольной площади, которую я вам только что описал; внезапно сильный ветер поднял с земли тучи пыли; сквозь эту движущуюся завесу я едва различал экипажи, во всех направлениях бороздившие булыжные мостовые города. Летняя пыль — бич Петербурга; она так ужасна, что я, пожалуй, готов променять ее на зимний снег. Не успел я вернуться в гостиницу, как разразилась гроза, напугавшая всех суеверных обитателей города, которые увидели в ней более или менее ясные предзнаменования; тьма среди бела дня, изнуряющая жара, гром и молния, вслед за которыми не пролилось ни капли дождя, ветер, едва не сорвавший крыши с домов, пыльная буря: вот зрелище, которым порадовало нас небо во время брачного пира. Русские успокаивают себя тем, что гроза продлилась недолго и что воздух после нее стал гораздо свежее, чем прежде. Я рассказываю о том, что вижу, не принимая ничьей стороны; я смотрю на все глазами зеваки, внимательного, но в душе чуждого всему, что свершается в его присутствии. Францию и Россию разделяет китайская стена — славянский характер и язык. На что бы ни притязали русские после Петра Великого, за Вислой начинается Сибирь.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА ОДИННАДЦАТОГО
15 июля
Вчера в семь часов вечера вместе с несколькими другими иностранцами я возвратился во дворец. Нас должны были представить императору и императрице.
Видно, что император ни на мгновение не может забыть, кто он и какое внимание привлекает; он постоянно позирует и, следственно, никогда не бывает естественен, даже когда высказывается со всей откровенностью; лицо его знает три различных выражения, ни одно из которых не назовешь добрым. Чаще всего на лице этом написана суровость. Другое, более редкое, но куда больше идущее к его прекрасным чертам выражение, — торжественность, и, наконец, третье — любезность; два первых выражения вызывают холодное удивление, слегка смягчаемое лишь обаянием императора, о котором мы получаем некоторое понятие, как раз когда он удостаивает нас любезного обращения. Впрочем, одно обстоятельство все портит: дело в том, что каждое из этих выражений, внезапно покидая лицо императора, исчезает полностью, не оставляя никаких следов. На наших глазах без всякой подготовки происходит смена декораций; кажется, будто самодержец надевает маску, которую в любое мгновение может снять. Поймите меня правильно: слово «маска» я употребляю здесь в том значении, которое диктует этимология. По-гречески лицемерами называли актеров; лицемер был человек, меняющий лики, надевающий маски для того, чтобы играть в комедии. Именно это я и хочу сказать: император всегда играет роль, причем играет с великим мастерством.
Лицемер, или комедиант, — слова резкие, особенно неуместные в устах человека, притязающего на суждения почтительные и беспристрастные. Однако я полагаю, что для читателей умных, а только к ним я и обращаюсь — речи ничего не значат сами по себе, и содержание их зависит от того смысла, какой в них вкладывают. Я вовсе не хочу сказать, что лицу этого монарха недостает честности, — нет, повторяю, недостает ему одной лишь естественности: таким образом, одно из главных бедствий, от которых страждет Россия, отсутствие свободы, отражается даже на лице ее повелителя: у него есть несколько масок, но нет лица. Вы ищете человека — и находите только Императора. На мой взгляд, замечание мое для императора лестно: он добросовестно правит свое ремесло. Этот самодержец, возвышающийся благодаря своему росту над прочими людьми, подобно тому как трон его возвышается над прочими креслами, почитает слабостью на мгновение стать обыкновенным человеком и показать, что он живет, думает и чувствует, как простой смертный. Кажется, ему незнакома ни одна из наших привязанностей; он вечно остается командиром, судьей, генералом, адмиралом, наконец, монархом — не более и не менее.[26] К концу жизни он очень утомится, но русский народ — а быть может, и народы всего мира — вознесет его на огромную высоту, ибо толпа любит поразительные свершения и гордится усилиями, предпринимаемыми ради того, чтобы се покорить. Люди, знавшие императора Александра, говорят о нем совсем иное: достоинства и недостатки двух братьев противоположны; они вовсе не были похожи и не испытывали один к другому ни малейшей приязни(187). У русских вообще нет привычки, чтить память покойных императоров, на сей же раз вычеркнуть минувшее царствование из памяти приказывают разом и чувства и политика. Петр Великий ближе Николаю, чем Александр, и на него нынче куда большая мода. Русские льстят далеким предкам царствующих императоров и клевещут на их непосредственных предшественников.
Нынешний император оставляет свою самодержавную величавость лишь в кругу своей семьи. Там он вспоминает, что человеку природой заповеданы радости, независимые от обязанностей государственного мужа; во всяком случае, мне хочется верить, что именно это бескорыстное чувство влечет императора к его домашним; семейственные добродетели, без сомнения, помогают ему править страной, ибо снискивают ему почтение окружающих, однако я не думаю, что он чадолюбив по расчету.
Русские почитают верховную власть как религию, авторитет которой не зависит от личных достоинств того или иного священника; российский император добродетелен не по обязанности, а значит, искренен.
Живи я в Петербурге, я сделался бы царедворцем не из любви к власти, не из алчности, не из ребяческого тщеславия, но из желания отыскать путь к сердцу этого человека, единственного в своем роде и отличного от всех прочих людей; бесчувственность его — не врожденный изъян, но неизбежный результат положения, которое он не выбирал и которого не в силах переменить. Отречение от власти, на которую притязают другие, иногда становится возмездием; отречение от абсолютной власти стало бы малодушием.
Как бы там ни было, удивительная судьба российского императора внушает мне живой интерес и вызывает сочувствие: как не сочувствовать этому прославленному изгою? Я не знаю, вложил ли Господь в грудь императора Николая сердце, способное к дружбе, но я чувствую, что надежда убедить в своей бескорыстной привязанности одинокого правителя, не имеющего себе равных в окружающем обществе, разжигает мое честолюбие. В отношении нравственном абсолютный монарх — первая жертва неравенства сословий, и муки его тем более велики, что, являясь предметом зависти обывателей, они должны казаться неизлечимыми тому, кого они терзают. Сами опасности, подстерегающие меня, лишь умножают мой пыл. Как! скажут мне, вы намерены прилепиться сердцем к человеку, в котором нет ничего человеческого, к человеку, чье суровое лицо внушает уважение, неизменно смешанное со страхом, чей пристальный и твердый взгляд исключает всякую вольность в обращении и требует покорства, к человеку, у которого улыбка никогда не появляется одновременно на губах и во взоре, наконец, к человеку, ни на мгновение не выходящему из роли абсолютного монарха?! А почему бы и нет? Душевный разлад и мнимая суровость — не вина его, а беда. На мой взгляд, все это — следствия принуждения и привычки, но не черты характера, и я, притязающий на постижение скрытой сущности этого человека, на которого вы с вашими страхами и предосторожностями возводите напраслину, я, догадывающийся о том, чего стоит ему исполнение монаршьего долга, не хочу оставлять этого несчастного земного бога на растерзание безжалостной зависти и лицемерной покорности его рабов. Увидеть своего ближнего даже в самодержце, полюбить его как брата — это религиозное призвание, милосердный поступок, священная миссия, одним словом — дело богоугодное.
Чем больше я узнаю двор, тем больше сострадаю судьбе человека, вынужденного им править, в особенности если это двор русский, напоминающий мне театр, где актеры всю жизнь участвуют в генеральной репетиции. Ни один из них не знает своей роли, и день премьеры не наступает никогда, потому что директор театра никогда не бывает доволен игрой своих подопечных. Таким образом, все, и актеры, и директор, растрачивают свою жизнь на бесконечные поправки и усовершенствования светской комедии под названием «Северная цивилизация». Если даже видеть это представление тяжело, то каково же в нем участвовать!.. Я предпочитаю Азию, там жизнь более гармонична. В России вы на каждом шагу поражаетесь действию, какое оказывают новые обычаи на вещи и установления, поражаетесь людской неопытности. Русские старательно скрывают все это, но достаточно путешественнику приглядеться к их жизни повнимательнее, и все тайное становится явным.
Император даже по крови более немец, нежели русский.(188) Красота его черт, правильность профиля, военная выправка и некоторая скованность манер выдают в нем скорее германца, нежели славянина. Его германская натура, должно быть, долго мешала ему стать тем, кем он стал, то есть истинным русским. Кто знает? быть может, он был рожден простодушным добряком!.. Представьте же себе, что он должен был вынести ради того, чтобы всецело соответствовать титулу императора всех славян? Не всякому дано сделаться деспотом; необходимость постоянно одерживать победы над самим собой, дабы править другими, — вот возможный источник неумеренности нового патриотизма императора Николая. Все это не только не отвращает, но, напротив, притягивает меня. Я не могу не питать сочувственного интереса к человеку, которого страшится весь мир и который по этой причине заслуживает еще большего сострадания.
Стараясь избавиться от налагаемых им на самого себя ограничений, он мечется, как лев в клетке, как больной в горячке; он гуляет верхом или пешком, он устраивает смотр, затевает небольшую войну, плавает по морю, командует морским парадом, принимает гостей на балу — и все это в один и тот же день; главный враг здешнего двора — досуг, из чего я делаю вывод, что двор этот снедаем скукой. Император беспрестанно путешествует;(189) за сезон он преодолевает 1500 лье, не допуская и мысли о том, что не всем по силам такие долгие странствия. Императрица любит мужа и боится его покинуть; она следует за ним, покуда может, и устает до смерти; впрочем, она привыкла к этой суетной жизни. Подобные развлечения необходимы ее уму, но гибельны для тела.
Столь полное отсутствие покоя вредит, должно быть, воспитанию детей — занятию, требующему от родителей степенного образа жизни. Юные великие князья недостаточно удалены от двора, и всегдашнее легкомыслие придворных, отсутствие увлекательных и связных бесед, невозможность сосредоточиться, без сомнения, действуют на их характеры тлетворно. Зная, как проводят они свои дни, приходится удивляться выказываемому ими уму; судьба их вызывает тревогу, подобно судьбе цветка, растущего в неподобающем грунте. Россия — страна мнимостей, где все вызывает недоверие.
Вчера вечером я был представлен императору, причем не французским послом, но обер-церемониймейстером. Господин посол предупредил меня о том, что это — воля самого императора. Не знаю, таков ли обычный порядок, но меня представил Их Величествам именно обер-церемониймейстер. Все иностранцы, удостоившиеся высокой чести, собрались в одной из гостиных, через которую Их Величества должны были проследовать в бальную залу. Гостиная эта расположена перед заново отделанной длинной галереей, которую придворные видели после пожара впервые. Прибыв в назначенный час, мы довольно долго ждали появления государя. Среди нас было несколько французов, один поляк, один женевец и несколько немцев. Другую половину гостиной занимали русские дамы, собравшиеся здесь для того, чтобы развлекать чужестранцев.
Император принял всех нас с тонкой и изысканной любезностью. С первого взгляда было видно, что это человек, вынужденный беречь чужое самолюбие и привыкший к такой необходимости. Все чувствовали, что императору довольно одного слова, одного взгляда, чтобы составить определенное мнение о каждом из гостей, а мнение императора — это мнение всех его подданных. Желая дать мне понять, что ему не было бы неприятно, если бы я познакомился с его империей, император благоволил сказать, что, дабы составить верное представление о России, мне следовало бы доехать по крайней мере до Москвы и до Нижнего. «Петербург — русский город, — прибавил он, — но это не Россия».
Эта короткая фраза была произнесена тоном, который трудно забыть, до такой степени властно, серьезно и твердо он звучал. Все рассказывали мне о величественном виде императора, о благородстве его черт и стана, но никто не предупредил меня о мощи его голоса; это голос человека, рожденного, чтобы повелевать. Голос этот не является плодом особых усилий или длительной подготовки; это дар Божий, усовершенствованный в ходе длительного употребления. Лицо императрицы при ближайшем рассмотрении выглядит весьма обольстительно, а голос ее настолько же нежен и проникновенен, насколько властен от природы голос императора.
Она спросила меня, приехал ли я в Петербург как обычный путешественник. Я отвечал утвердительно.
— Я знаю, вы любознательны, — продолжала она.
— Да, государыня, — отвечал я, — меня привела в Россию моя любознательность, и по крайней мере на сей раз я не раскаюсь в том, что покорился страсти к путешествиям.
— Вы полагаете? — переспросила она с очаровательной любезностью.
— Мне кажется, что ваша страна полна вещей столь удивительных, что поверить в их существование можно, лишь увидев их своими глазами.
— Я надеюсь, что вы увидите много интересного.
— Надежда Вашего Величества ободряет меня.
— Если мы вам понравимся, вы скажете об этом, но напрасно: вам не поверят; нас знают очень мало и не хотят узнать лучше. Слова эти, слетевшие с уст императрицы, поразили меня, ибо обличали озабоченность говорившей. Мне показалось также, что в них она с редкостной любезностью и простотой выразила свою благосклонность ко мне. Императрица с первого же мгновения внушает почтение и доверие; видно, что, несмотря на вынужденную сдержанность речей и придворные манеры, в ней есть душа, и это несчастье сообщает ей неизъяснимую прелесть. Она больше, чем Императрица, она — женщина.
Она показалась мне очень уставшей; худоба ее ужасает. Нет человека, который не признавал бы, что бурная жизнь убивает государыню, однако, веди она жизнь более покойную, она умерла бы от скуки. Празднество, начавшееся после того, как мы были представлены, — одно из самых пышных, какие мне довелось видеть в своей жизни. Это настоящая феерия, причем холодноватое великолепие обычных балов оживлялось восторженным изумлением, какое вызывали у придворных все залы восстановленного за год дворца; восторги эти придавали происходящему некоторый драматический интерес. Каждый зал, каждая роспись становились предметом удивления для самих русских, бывших свидетелями пожара и впервые переступивших порог этого великолепного здания с тех пор, как по воле земного бога храм его восстал из пепла. «Какое усилие воли!» — думал я при виде каждой галереи, каждой мраморной статуи, каждого живописного полотна. Хотя все эти украшения были восстановлены не далее, как вчера, стилем своим они напоминают то столетие, когда дворец был построен; все, что представало моим глазам, казалось мне уже древним; в России подражают всему, даже времени. Чудеса эти внушали толпе восхищение поистине заразительное; видя триумф воли одного человека и слыша восклицания других людей, я сам начинал уже куда меньше возмущаться ценой, в которую стало царское чудо. Если я поддался этому воздействию по прошествии двух дней, как же снисходительно следует относиться к людям, рожденным в этой стране и всю жизнь дышащим воздухом этого двора!.. иными словами, России, ибо все подданные этой огромной империи дышат воздухом двора. Я не говорю о крепостных, да, впрочем, и они — постольку, поскольку состоят в сношениях с помещиками, — испытывают влияние мысли государя, единовластно одушевляющей империю; для крестьян их хозяин — воплощение верховного владыки; в России повсюду, где есть люди покорствующие и люди повелевающие, незримо присутствуют образы императора и его двора. В других краях бедный человек — либо нищий, либо разбойник; в России он — царедворец, ибо здесь низкопоклонники-царедворцы имеются во всех сословиях; вот отчего я говорю, что вся Россия — это двор императора и что между чувствами русских помещиков и чувствами европейских дворян старого времени существует та же разница, что и между низкопоклонством и аристократизмом, между тщеславием и гордостью! одно убивает другое; впрочем, настоящая гордость повсюду такая же редкость, как и добродетель. Вместо того, чтобы проклинать низкопоклонников, как делали Бомарше и многие другие, следует пожалеть этих людей, которые, что ни говори, тоже люди. Бедные низкопоклонники!.. они вовсе не чудовища, сошедшие со страниц современных романов и комедий либо революционных газет; они просто-напросто слабые, развращенные и развращающие существа; они не лучше, но и не хуже других, однако подвергаются большим искушениям. Скука — язва богачей; однако она — не преступление; тщеславие и корысть — пороки, для которых двор служит благодатной почвой, — сокращают жизнь прежде всего самим придворным. Но если царедворцы мучимы более сильными страстями, они ничуть не более порочны, чем все прочие люди, ибо они не искали и не выбирали своего положения. Наши мудрецы сделали бы важное дело, если бы сумели втолковать толпе, что ей следует пожалеть обладателей тех фальшивых благ, которым она завидует.
Я видел людей, танцевавших на том месте, где год назад едва не погибли под обломками дворца они сами и где сложили голову многие другие люди — сложили голову ради того, чтобы двор смог предаться увеселениям точно в день, назначенный императором.
Все это казалось мне не столько прекрасным, сколько удивительным; философические размышления непременно омрачают мне любые русские праздники и торжества: в других странах свобода рождает веселость, плодящую иллюзии; в России деспотизм умножает раздумья, прогоняющие очарование, ибо тот, кто мыслит, не склонен к восторгам. Наиболее распространенный в этих краях танец не препятствует задумчивости: танцующие степенно прохаживаются под музыку; каждый кавалер ведет свою даму за руку, сотни пар торжественно пересекают огромные залы, обходя таким образом весь дворец, ибо людская цепь по прихоти человека, возглавляющего шествие, вьется по многочисленным залам и галереям; все это называется — танцевать полонез. Один раз взглянуть на это зрелище забавно, но я полагаю, что для людей, обреченных танцевать этот танец всю жизнь, бал очень скоро превращается в пытку.
Петербургский полонез возвратил меня во времена Венского конгресса 1814 года, когда я сам танцевал полонез на большом балу. Тогда на европейских празднествах никто не соблюдал этикета; величайшие государи развлекались бок о бок с простыми смертными. Случай поместил меня между российским императором Александром и его супругой, урожденной принцессой Баденской. Я принимал участие в общем шествии, весьма смущенный тем, что невольно оказался вблизи этих августейших особ. Внезапно цепь танцующих пар по непонятной причине остановилась, музыка же продолжала звучать. Император нетерпеливо перегнулся через мое плечо и очень резко сказал императрице: «Двигайтесь же!» Императрица обернулась и, увидев за моей спиной императора в паре с женщиной, за которой он уже несколько лет открыто ухаживал, произнесла с непередаваемой интонацией: «Вежлив, как всегда!» Самодержец взглянул на меня и прикусил губу. Тут пары двинулись вперед — танец возобновился.
Большая галерея, стены которой до пожара были побелены, а теперь целиком покрыты позолотой, восхитила меня. Несчастье сослужило хорошую службу императору, обожающему роскошь… я хотел назвать ее царской, но слово это не выражает в полной мере здешнего великолепия; слово божественная лучше передает мнение верховного правителя России о себе самом. Послы всех европейских держав были приглашены на бал, где могли убедиться в том, какие чудеса творит российское правительство, столь сурово бранимое обывателями и вызывающее столь сильную зависть и столь безудержное восхищение у политиков, людей сугубо практических, которые поражаются в первую очередь простоте деспотического механизма. Громаднейший дворец в мире, восстановленный за один год, — какой источник восторгов для людей, привыкших существовать вблизи трона.
Великих результатов нельзя достичь, не пойдя на великие жертвы; единоначалие, могущество, власть, военная мощь — здесь все это покупается ценою свободы, а Франция купила политическую свободу и промышленные богатства ценою древнего рыцарского духа и старинной тонкости чувств, именовавшейся некогда национальной гордостью. На смену этой гордости пришли иные добродетели, менее патриотические, но более всеобщие: человеколюбие, религия, милосердие. Весь мир признает, что во Франции сегодня куда больше истинно верующих, чем во времена всемогущества церкви. Желая сохранить достоинства взаимоисключающие, мы теряем те достоинства, что годны всегда и всюду. Вот чего не понимают мои соотечественники, притязающие на то, чтобы все разрушить и одновременно все сберечь. Всякое правительство имеет нужды, с которыми ему следует смириться и которые ему следует уважать, если оно не хочет погибнуть.
Мы же хотим быть коммерсантами, как англичане, свободными, как американцы, ветреными, как поляки в эпоху сеймов, воителями, как русские, и, следственно, не становимся ничем. Здравый смысл нации состоит в том, чтобы угадать и выбрать себе цель в согласии со своим духом, а затем решиться на все жертвы, необходимые для достижения этой цели, поставленной природой и историей. Именно в этом — сила Англии. Франции недостает здравомыслия в идеях и умеренности в желаниях. Она великодушна, даже смиренна, но она не умеет пускать в ход и направлять свои силы. Она идет куда глаза глядят. Страна, где со времен Фенелона только и разговоров, что о политике, и по сей день не имеет ни власти, ни управления. Все кругом видят зло и оплакивают его, что же до средства от него избавиться, каждый ищет его, повинуясь голосу собственных страстей, и, следственно, никто его не находит: ведь страсти способны убедить лишь того, кто им подвластен.
Тем не менее истинно приятную жизнь можно вести только в Париже; там люди развлекаются, браня все кругом; в Петербурге же люди скучают, все кругом расхваливая; впрочем, наслаждение не является целью жизни; оно не является таковой даже для отдельных личностей, о нациях же не приходится и говорить. Как ни раззолочена бальная зала Зимнего дворца, но галерея, где был сервирован ужин, показалась мне еще более достойной восхищения. Она пока не совсем отделана, но светильники из белой бумаги, развешанные по случаю бала в царских хоромах, выглядели так фантастично, что пришлись мне по душе. Конечно, волшебному дворцу пристало иное освещение, но сегодня здесь было светло, как днем: мне этого довольно. Благодаря успехам промышленности французы забыли, что такое свеча; в России же, как мне показалось, до сих пор употребляют самые настоящие восковые свечи. Стол ломится от яств; все на царском пиру было таким колоссальным, всего было так много, что я не знал, чему дивиться больше: величию целого или обилию частей. Вокруг одного стола, накрытого в одной зале, разместилась тысяча человек. В число всех этих гостей, более или менее блистающих золотом и брильянтами, входил и киргизский хан, которого я видел утром в церкви вместе с сыном и свитой; заметил я также и старую царицу Грузии, вот уже три десятка лет как лишившуюся трона. Несчастная женщина бесславно прозябает при дворе тех, кто отнял у нее корону. Она внушила бы мне глубочайшую жалость, если бы не походила так сильно на восковую фигуру из музея Курция. Лицо у нее обветренное, как у солдата, проведшего жизнь в походах, а наряд смехотворен. Мы слишком охотно смеемся над несчастьем, когда оно предстает перед нами в уродливом виде; став смешным, несчастье теряет право на сострадание. Слыша о плененной царице Грузии, готовишься увидеть красавицу, видишь же нечто противоположное, а ведь сердце человеческое очень скоро делается несправедливым к тому, что не нравится глазам: в атом угасании жалости мало великодушия, но, признаюсь, я не мог сохранять серьезность, заметив на голове у царицы нечто вроде кивера, украшенного весьма своеобразной вуалью; остальной наряд был выдержан в том же духе, что и головной убор, причем если все придворные дамы явились на бал в платьях со шлейфами, то восточная царица надела платье укороченное и расшитое без всякой меры. Одеяние ее было настолько безвкусно, лицо выражало такую смесь скуки и низкопоклонства, черты были настолько безобразны, а манеры настолько неловки, что она вызывала разом и смех, и страх. Повторю еще раз: не для того мы ездим так далеко, чтобы принуждать себя сострадать людям неприятным.
Национальный наряд русских придворных дам величественен и дышит стариной. Голову их венчает убор, похожий на своего рода крепостную стену из богато разукрашенной ткани или на невысокую мужскую шляпу без дна. Этот венец высотой в несколько дюймов, расшитый, как правило, драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, оставляя лоб открытым; самобытный и благородный, он очень к лицу красавицам, но безнадежно вредит женщинам некрасивым. Увы, при русском дворе их немало: старики и старухи так дорожат своими придворными должностями, что ездят ко двору до самой смерти! Вообще, повторяю, в Петербурге красивые женщины встречаются редко, однако в большом свете изящество и обаяние с успехом возмещают недостаточную правильность черт и стройность форм. Впрочем, всеми названными достоинствами обладают некоторые грузинки. Светила эти блистают среди северных женщин, словно звезды среди бездонного южного неба. Парадные платья с длинными рукавами и шлейфом сообщают облику женщин нечто восточное и радуют глаз.
Одно странное происшествие помогло мне оценить, сколь безупречна любезность императора.
Во время бала церемониймейстер объяснил нам, иностранцам, впервые присутствующим на придворном празднестве, какие места за столом следует нам занять. «Когда танцы прервутся, — сказал он каждому из нас, — вы пойдете вслед за всеми в галерею; там вы увидите большой накрытый стол; ступайте направо и садитесь на любые свободные места». В галерее был всего один огромный стол на тысячу персон, предназначенный для дипломатического корпуса, иностранных гостей и русских придворных. Однако у дверей справа стоял маленький круглый стол на восемь персон.
В число гостей-иностранцев входил один женевец, юноша образованный и остроумный; нынче вечером он представился императору в мундире национального гвардейца, который русский государь не слишком жалует; тем не менее юный швейцарец чувствовал себя во дворце, как дома; то ли по природной самоуверенности, то ли по республиканской развязности, то ли по простоте душевной он, казалось, вовсе не заботился ни об особах, его окружающих, ни о впечатлении, им производимом. Я завидовал его совершенной непринужденности, мне отнюдь не свойственной. Впрочем, несмотря на разность нашего поведения, оба мы преуспели одинаково: император обошелся с нами обоими равно любезно. Одна опытная и остроумная особа полушутя, полусерьезно посоветовала мне, если я хочу произвести благоприятное впечатление на государя, смотреть на него почтительно и робко. Совет этот был совершенно излишен, ибо я дик от природы: мне было бы не под силу зайти в хижину угольщика и свести с ним знакомство — что же говорить об императоре! Немецкая кровь дает себя знать; итак, сама природа вложила в меня довольно застенчивости и сдержанности, чтобы успокоить тревогу государя, который был бы так велик, как ему хочется, если бы меньше пекся о почтительности подданных. Вот новое подтверждение моей мысли о том, что при русском дворе вся жизнь уходит на генеральные репетиции! Впрочем, тревога эта не всегда владеет императором. Сейчас я приведу вам доказательство природного великодушия российского монарха. Я уже сказал, что женевец, ничуть не разделявший мою старомодную робость, менее всего заботился о соблюдении приличий. Это понятно: он молод и исповедует идеи своего века; всякий раз, когда император заговаривал с ним, я не без зависти любовался его уверенным видом. Вскоре, однако, швейцарец подвергнул любезность Его Величества решительному испытанию. Войдя в пиршественную залу, республиканец, согласно полученным нами указаниям, двинулся вправо, увидел маленький круглый стол и бесстрашно уселся за него в полном одиночестве. Несколько мгновений спустя, когда гости заняли свои места за большим столом, император вместе с несколькими офицерами из числа его приближенных сел за маленький стол напротив почтенного национального гвардейца из Женевы. Должен вам сказать, что императрицы за этим столом не было. Путешественник остался на своем месте, сохраняя ту непоколебимую уверенность в себе, которая так восхищала меня в нем и которая в этот миг превратилась в государственную доблесть.
Одного места за маленьким столом недостало, поскольку император не рассчитывал на девятого сотрапезника. Однако с любезностью, безупречная элегантность которой стоит деликатности добрых душ, он тихо приказал слуге принести еще один стул и прибор, что и было исполнено без шума и суеты. Место мое за большим столом находилось неподалеку от маленького стола, за которым сидел император, поэтому поступок его не ускользнул от моего внимания, равно как, впрочем, и от внимания того, кто послужил его причиной. Однако этот счастливец не только не смутился тем, что занял чужое место и нарушил волю государя, но невозмутимо продолжил свой разговор с соседями по столу. Быть может, он поступает так из чуткости, говорил я себе, быть может, он не хочет привлекать к себе внимания и просто-напросто дожидается мгновения, когда император встанет из-за стола, чтобы подойти к нему и объясниться. Ничего подобного!.. Ужин окончился, но мой герой и не подумал попросить прощения, находя, по всей вероятности, оказанную ему честь вполне естественной. Должно быть, вечером, возвратясь домой, он бестрепетной рукой занесет в свой дневник: «ужинал с императором». Впрочем, Его Величество довольно скоро лишил его этого удовольствия: он встал из-за стола прежде гостей и стал прогуливаться за нашими спинами, требуя, однако, чтобы никто не трогался с места. Наследник сопровождал отца: я видел, как он остановился за спиной английского вельможи маркиза *** и обменялся шутливыми репликами с юным лордом ***, сыном этого маркиза. Англичане, которые, как и все прочие гости, продолжали сидеть за столом, отвечали императору и наследнику, не прекращая трапезы и не поворачиваясь. Выказав эту английскую вежливость, лорды помогли мне понять, что российский император держит себя проще, чем иные частные лица. Я никак не ожидал, что на этом балу испытаю наслаждение, никак не связанное с лицами и предметами, меня окружавшими; я говорю о впечатлении, произведенном на меня величественными явлениями природы. Ртутный столбик поднялся до go градусов, и, несмотря на вечернюю свежесть, во дворце было очень душно. Выйдя из-за стола, я поспешил укрыться в амбразуре распахнутого окна. Там, совершенно забыв обо всем, что меня окружает, я залюбовался игрой света, какую можно увидеть только на севере, в чудесные по своей ясности белые ночи. Черные, тяжелые грозовые тучи полосовали небо; часы показывали половину первого пополуночи; в это время года ночи в Петербурге так коротки, что их едва успеваешь заметить; утренняя заря уже занималась над Архангельском; ветер стих, и в просветах между неподвижными тучами белело небо; казалось, серебристые клинки рассекают наброшенное на него плотное шитье. Свет небес отражался в невских водах, пребывавших в полной неподвижности, ибо волны залива, все еще волнуемого давешней бурей, шли навстречу течению реки и останавливали его, придавая поверхности Невы сходство с молочным морем или перламутровым озером. Передо мной простиралась большая часть Петербурга с его набережными и шпилями; то была картина, достойная кисти Брейгеля Бархатного. Краски этой картины не поддаются описанию; главы собора Святого Николая синели на фоне белого неба; над портиком Биржи — греческого храма, с театральной помпезностью возведенного на оконечности одного из островов, в том месте, где река разделяется на два главных рукава, — еще сверкали остатки иллюминации; освещенные колонны здания, безвкусность которого не была заметна в такой час и на таком расстоянии, отражались в реке, рисуя на ее белой поверхности золотистый фронтон и перистиль; весь город, казалось, окрасился в тот же синий цвет, что и собор Святого Николая, и уподобился заднему плану, который часто встречается в картинах старых мастеров; эта фантастическая картина, написанная на ультрамариновом фоне в позолоченной раме окна, каким-то сверхъестественным образом противоречила роскошному убранству и искусственному освещению дворца. Казалось, будто город, небо, море, вся природа, соперничая с дворцом, желали по-своему отпраздновать свадьбу дочери того, кто повелевает всеми этими просторами. Вид неба был настолько поразителен, что человек с воображением мог бы счесть, что во всей Российской империи, от Лапландии до Крыма и Кавказа, от Вислы до Камчатки, царь небесный подает какой-то знак царю земному. Северное небо щедро на предзнаменования. Во всем этом таилось нечто удивительное и даже прекрасное. Я все глубже и глубже погружался в созерцание, как вдруг нежный и проникновенный голос пробудил меня от грез.
— Что вы здесь делаете? — спросил голос.
— Сударыня, я восхищаюсь; сегодня я только это и делаю. Я поднял глаза и увидел императрицу. Мы были одни в амбразуре этого окна, напоминавшего открытую беседку над Невой.
— Что до меня, — сказала императрица, — то я задыхаюсь; это куда менее поэтично. Впрочем, у вас есть все основания восхищаться этим видом; он в самом деле великолепен.
Она принялась смотреть в окно вместе со мной.
— Я уверена, — продолжала она, — что во всем этом дворце мы единственные, кто обращает внимание на эту игру света.
— Все, что я вижу здесь, ново для меня, сударыня; я никогда не прощу себе, что не приехал в Россию, когда был молод.
— Сердце и воображение всегда молоды. Я не осмелился отвечать, ибо императрица точно так же, как и я, уже вовсе не молода, и мне не хотелось напоминать ей об этом; у меня могло недостать времени и храбрости уверить ее, что бег времени не должен ее печалить, ибо ей есть откуда черпать утешение. Покидая меня, она сказала с присущим ей изяществом: «Я сохраню в памяти этот вечер, когда страдала и восхищалась вместе с вами». Затем она добавила: «Я не ухожу, мы еще увидимся».
Я близок с польским семейством, к которому принадлежит женщина, пользующаяся особым расположением императрицы. Баронесса***, урожденная графиня***, воспитывавшаяся в Пруссии вместе с дочерью короля, последовала за принцессой в Россию и никогда не разлучалась с нею; она вышла замуж в Петербурге, где живет на положении подруги императрицы. Подобное постоянство чувства делает честь им обеим. По-видимому, баронесса*** сказала обо мне императору и императрице несколько добрых слов, а моя природная скромность — лесть особенно тонкая оттого, что невольная, — довершила мой триумф. Выходя из пиршественной залы и направляясь в бальную, я снова подошел к окну. На сей раз оно выходило во внутренний двор, и здесь глазам моим предстало зрелище совсем иного свойства, хотя и столь же неожиданное и удивительное, что и заря над Петербургом. То был внутренний двор Зимнего дворца, квадратный, как и двор Лувра. Покуда длился бал, двор этот постепенно заполнялся народом; тем временем сумерки рассеялись, взошло солнце; глядя на эту немую от восхищения толпу — этот неподвижный, молчаливый и, так сказать, завороженный роскошью царского дворца народ, с робким почтением, с некоей животной радостью вдыхающий ароматы господского пира, — я ощутил радость. Наконец-то я увидел русскую толпу; там внизу собрались одни мужчины; их было так много, что они заполнили весь двор до последнего дюйма… Однако развлечения народа, живущего в деспотических странах, не внушают мне доверия, если совпадают с забавами монарха; я убежден, что единственные неподдельные чувства, живущие в груди людей при самодержавном правлении, — это страх и подобострастие у низших сословий, гордыня и лицемерное великодушие — у высших. На петербургском празднестве я то и дело вспоминал путешествие императрицы Екатерины в Крым и выстроенные вдоль дороги, в четверти лье одна от другой, деревни, состоящие из одних раскрашенных фасадов; их возвели здесь из досок, дабы уверить победоносную государыню в том, что в се царствование посреди пустыни выросли деления. Подобные мысли до сих пор владеют русскими умами; всякий стремится скрыть от взоров победителя свои беды и явить его очам сплошное благоденствие. Дабы угодить тому, кто, по всеобщему убеждению, желает и добивается всеобщего блага, люди ополчаются против истины, грозя ей заговором улыбок. Император — единственный живой человек во всей империи; ведь есть — еще не значит жить!..
Следует, однако, признать, что народ, толпившийся во дворе, оставался там, можно сказать, по доброй воле; мне показалось, что никто не принуждал этих простолюдинов собраться под окнами императора и притворяться веселыми; значит, они и впрямь веселились, но источником их веселья были забавы господ, они веселились зело печально, как говорит Фруассар. Впрочем, прически женщин из простонародья, ослепительные шерстяные или шелковые пояса мужчин в русских, то есть персидских, кафтанах прекрасного сукна, многообразие красок, неподвижность людей — все это вместе напоминало мне огромный турецкий ковер, которым покрыл двор тот волшебник, что творит все здешние чудеса. Партер из голов — вот прекраснейшее украшение императорского дворца в первую брачную ночь его дочери; российский монарх был того же мнения, что и я, ибо любезно обратил внимание иностранцев на эту молчаливую толпу, одним своим присутствием доказывавшую, что она разделяет с государем его радость. Тень народа преклоняла колени перед невидимыми богами. Их Величества суть божества этого Элизиума, обитатели которого, обрекшие себя на смирение, с восторгом вкушают блаженство, составленное из лишений и жертв. Я замечаю, что веду здесь такие речи, какие в Париже ведут радикалы; в России я стал демократом, но это не помешает мне оставаться во Франции убежденным аристократом; все дело в том, что крестьянин, живущий в окрестностях Парижа, или наш мелкий буржуа куда более свободны, чем помещик в России. Только тот, кто путешествовал, знает, до какой степени подвержено человеческое сердце оптическим обманам. Наблюдение это подтверждает мысль госпожи де Сталь, сказавшей, что всякий француз «либо завзятый якобинец, либо неистовый роялист».
Я возвратился к себе, ошеломленный величием и щедростью императора и изумленный бескорыстным восхищением, с каким народ глядит на богатства, которых он не имеет, которых у него никогда не будет и которым он даже не осмеливается завидовать. Если бы я не знал, сколько самовлюбленных честолюбцев плодит ежедневно свобода, я с трудом поверил бы, что деспотизм мог породить столько бескорыстных философов.
ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ
Примечание. — Суета петербургской жизни. — Никакой толпы. — Истинно русский император. — Императрица, приветливость ее. — Какое значение придают в России мнению чужестранцев. — Сравнение Парижа с Петербургом. — Определение учтивости. — Празднество в Михайловском замке. — Великая княгиня Елена. — Беседа с нею. — Блеск балов, куда мужчины являются в мундирах. — Искусная иллюминация. — Освещенная зелень. — Музыка вдали. — Боскет в галерее замка. — Фонтан в бальной зале. — Экзотические растения. — Убранство из одних зеркал. — Танцевальная зала. — Приют императрицы. — Следствие демократии. — Что подумают на сей счет наши потомки. — Примечательная беседа с императором. — Его склад ума. — Тайна России разгадана. — Работы, предпринятые императором в Кремле. — Участливость его. — Забавный анекдот в примечании. — Английская учтивость. — Бал, данный императрицей в честь семейства Д***. — Портрет одного француза. — Г-н де Барант. — Обер-камергер. — Оплошность одного из его подчиненных. — Суровый выговор, полученный им от императора. — Как затруднительно что-либо осмотреть в России.
ПРИМЕЧАНИЕ
Письмо, которое вы сейчас прочтете, доставил из Петербурга в Париж надежный человек, а мой друг, кому было оно адресовано, сохранил его для меня ввиду некоторых подробностей, показавшихся ему занятными. Тон его, более хвалебный, нежели в тех письмах, какие остались у меня, объясняется тем, что чрезмерная откровенность могла бы в известных обстоятельствах скомпрометировать лицо, любезно вызвавшееся доставить мой отчет по назначению. Оттого я полагал, что в письме этом — но только в нем одном — обязан преувеличить добро и сгладить зло; я почел своим долгом сделать это признание, ибо в сочинении, единственная ценность которого состоит в добросовестности и точности, малейшее притворство было бы просчетом. Вымысел портит рассказ путешественника по той же самой причине, по какой действительный факт уродует вымышленное произведение, будучи включен в него, а значит, более или менее искажен.
Итак, мне бы хотелось, чтобы письмо это вы читали несколько более осмотрительно, нежели другие, а главное — не обошли вниманием примечания к нему, которые служат к его исправлению.
Петербург, 19 июля 1839 года
Поверите ли? уже пять дней как получил я ваше письмо от 1-го июля и до сих пор, без преувеличения, не имел ни минуты, чтобы вам ответить. Я мог бы выкроить время только по ночам, но при той изнурительной лапландской жаре, какая теперь стоит, не спать было бы опасно. Надобно быть русским и даже самим императором, чтобы выдержать утомление от нынешней петербургской жизни: по вечерам тут задают празднества, какие увидишь единственно в России, по утрам принимают поздравления при дворе, устраивают церемонии, приемы или же публичные торжества, морские и сухопутные парады; на Неве в присутствии всего двора, а с ним и всего города, спущен на воду 120-пушечный корабль; — вот что поглощает все мои силы и влечет любопытство. Когда дни так насыщенны, становится не до писем. Я говорю, что весь город и двор собрались посмотреть, как спускают на воду Невы корабль, самый большой, какой бороздил когда-либо эту реку, — но не подумайте, будто из-за этого на морском празднике была толпа. Русским менее всего недостает простора, и он же более всего им вредит; четыре-пять сотен тысяч человек, что живут в Петербурге, не заселяя его, теряются в обширных пределах этого необъятного города с сердцем из гранита и меди, телом из штукатурки и извести и оконечностями из крашеных бревен и гнилых досок. Досками этими, вместо городских стен, обнесено пустынное болото.[27] Этот город — колосс на глиняных ногах; в сказочном великолепии своем он не похож ни на одну из столиц цивилизованного мира, даром что возводился в подражание им всем; но человек напрасно пускается искать для себя образцы на краю света — почва и климат властвуют над ним, понуждая создавать что-то новое, даже если хочется ему всего лишь повторить древних.
Я видел Венский конгресс, но не припомню собрания, которое бы роскошью драгоценностей и платьев, разнообразием и пышностью мундиров либо стройной величавостью целого могло сравниться с празднеством, что устроил император по случаю бракосочетания своей дочери, — вечером, в том самом Зимнем дворце, какой годом раньше сгорел и восстал из пепла по слову одного-единственного человека.
Петр Великий не умер! Нравственная сила его по-прежнему жива и по-прежнему деятельна: Николай — первый истинно русский государь, правящий Россией после основателя ее столицы.
Когда бал, данный при дворе в честь бракосочетания великой княжны Марии, близился к концу, императрица послала дежурных офицеров отыскать меня среди танцующих, но они с четверть часа не могли этого сделать, ибо я, по своему обыкновению, держался в стороне. Я был целиком поглощен красотою неба и, застыв у того самого окна, где оставила меня императрица, любовался ночью. После ужина я лишь на миг покинул это место, чтобы оказаться на пути следования Их Величеств, но, не будучи замечен ими, возвратился назад и с некоего подобия кафедры созерцал в свое удовольствие поэтическое зрелище — рассвет над огромным городом во время придворного бала. Офицеры, что получили приказ меня найти, наконец обнаружили мое укрытие и поспешили проводить меня к императрице. Она ожидала меня и была столь добра, что произнесла в виду всего двора:
— Я уже очень давно спрашиваю о ваге, господин де Кюстин, почему вы бежите меня?
— Я дважды стоял на пути следования Вашего Величества, Ваше Величество меня не видели.
— Вы сами виноваты, я искала вас с тех пор, как вернулась в бальную залу. Мне хочется, чтобы вы непременно все здесь увидали в подробностях, дабы ваше мнение о России перевесило мнение глупцов и недоброжелателей.
— Я далек от того, чтобы приписывать себе подобную власть, государыня; но когда бы впечатления мои могли передаваться другим, скоро Франция взирала бы на Россию как на сказочную страну.
— Вам не следует держаться только внешности вещей, вы должны оценить суть их, вы наделены всеми необходимыми для этого дарованиями. Прощайте, я хотела только пожелать вам покойной ночи, жара меня утомляет; не забудьте сказать, чтобы вас провели по моим новым покоям, их переделали по замыслу императора. Я распоряжусь, чтобы вам все показали самым подробным образом. После ее ухода я стал предметом всеобщего любопытства и изъявлений благорасположения со стороны присутствующих. Эта придворная жизнь мне настолько в новинку, что забавляет меня; я словно путешествую во времени: мне кажется, будто я в Версале и перенесся на столетие назад. Великолепная учтивость здесь — естественное свойство человека; как видите, Петербург весьма далеко отстоит от нашей страны, какова она сегодня. В Париже есть пышность, богатство, даже изысканность, но нет более ни величия, ни обходительности; начиная с первой революции, мы живем в завоеванной стране, где укрылись вместе, кто как смог, и грабители, и ограбленные. Для того, чтобы быть вежливым, надо иметь что отдавать: вежливость есть искусство жаловать других преимуществами, которыми обладаешь сам, — своим умом, богатством, высоким положением, влиянием и любым иным способом доставлять удовольствие; быть вежливым — значит уметь с приятностью оделять дарами и принимать их; но когда ничто никому не принадлежит наверное, никто ничего не может и дать. Во Франции теперь ничем нельзя обменяться полюбовно, все надо вырывать у людей, одержимых честолюбием или страхом. Ум ценится лишь постольку, поскольку можно извлечь из него выгоду, и даже беседа вдруг прерывается, едва ее перестает оживлять тайный расчет. Уверенность в своем положении есть первое условие обходительности в общественных отношениях и источник остроумных мыслей в беседе.
Вчера, почти не успев отдохнуть после придворного бала, я побывал еще на одном празднестве — в Михайловском замке, у великой княгини Елены, невестки императора, супруги великого князя Михаила и дочери князя Павла Вюртембергского, живущего в Париже. Она слывет одной из утонченнейших дам в Европе; беседа с нею до крайности увлекательна. Я имел честь быть ей представленным перед балом — в ту первую минуту она сказала мне всего несколько слов, но в продолжение вечера не раз доставила мне случай говорить с нею. Вот что запомнилось мне из ее приветливых речей:
— Мне говорили, что у вас и в Париже, и в загородном доме собирается весьма приятное общество.
— Да, Ваше Высочество, я люблю остроумных людей, и беседа с ними составляет самое большое мое удовольствие; однако я не мог и предположить, что Вашему Императорскому Высочеству известны такие подробности.
— Мы знаем Париж, и нам известно, что лишь немногие из живущих там глубоко понимают нынешние времена, сохраняя при этом память о прошлом. Должно быть, люди именно такого склада ума и бывают у вас. Многих из тех, кого вы привыкли у себя видеть, мы любим по их сочинениям, особенно госпожу Гэ и ее дочь, госпожу де Жирарден.
— Это дамы весьма остроумные и образованные; я имею счастье быть их другом.
— Ваши друзья — люди незаурядного ума. Почитать своей обязанностью скромничать за других — вещь редчайшая, и все же в тот миг я испытал именно подобное редкостное чувство. Вы скажете, что из всех видов скромности эту выказывать легче всего. Можете потешаться надо мной сколько угодно, я говорю истинную правду: мне казалось, что я поступил бы неделикатно, если бы с излишней откровенностью обрек своих друзей восхищению, выгодному для моего самолюбия. В Париже я бы высказал напрямик все, что думаю; в Петербурге же я боялся выглядеть человеком, который под предлогом, будто воздает по справедливости другим, нахваливает сам себя. Великая княгиня продолжала расспросы:
— Мы с большим удовольствием читаем книги госпожи Гэ, что вы о них думаете?
— Я думаю, Ваше Высочество, что в них изображено общество прошедших времен, и изображено особой, знающей в нем толк.
— Отчего госпожа де Жирарден ничего больше не пишет?
— Госпожа де Жирарден — поэт, Ваше Высочество, а для поэта молчать значит трудиться.
— Надеюсь, что именно такова причина ее молчания, ибо жаль было бы, если бы она, с ее наблюдательностью и прекрасным поэтическим даром, писала отныне лишь статьи-однодневки.[28]
В беседе этой мне пришлось взять себе за правило только слушать и отвечать; но я готовился к тому, что великая княгиня назовет другие имена, еще раз польстив моей патриотической гордости и подвергнув мою сдержанность касательно друзей новым испытаниям.
Я обманулся в своих ожиданиях; жизнь великой княгини протекает в стране образцового такта, и она, конечно, лучше моего знает, что следует и чего не следует говорить; равно опасаясь смысла и моих слов, и моего молчания, она больше не возвращалась к разговору о нашей современной литературе. Есть имена, самый звук которых способен смутить то душевное равновесие и единообразие в мыслях, к какому принуждает деспотия всякого, кто хочет жить при русском дворе.
Все это я прошу вас прочесть госпоже Гэ и госпоже де Жирарден: у меня нет сил повторить свой рассказ в другом письме, да и времени нет кому-либо писать. Но все же мне хочется, чтобы больше к этому не возвращаться, описать вам те волшебные праздники, на которых мне случается здесь бывать каждый вечер. У нас балы обезображены унылыми фраками мужчин, тогда как петербургским салонам особенный блеск придают разнообразные и ослепительные мундиры русских офицеров. В России великолепие женских украшений сочетается с золотом военного платья, и кавалеры не кажутся подручными аптекаря или писарями, служащими у адвокатов своих дам.
Наружный фасад Михайловского замка, выходящий в сад, украшен по всей длине портиком в итальянском духе. Вчера, воспользовавшись 3б-градусной жарой, меж столбов на этой внешней галерее развесили связки лампионов необычного вида. Лампионы были бумажные и имели форму тюльпанов, лир, ваз… — зрелище изысканное и новое.
Мне говорили, что для каждого своего празднества великая княгиня Елена придумывает нечто нигде более не виданное; подобная слава, должно быть, ей в тягость, ибо поддерживать ее непросто. К тому же княгиня с ее красотой и умом, известным всей Европе изяществом манер и умением вести интересную беседу, показалась мне принужденнее и скованнее, чем остальные представительницы императорской фамилии. Иметь при дворе репутацию остроумной женщины — тяжкое бремя. Княгиня изысканна и утонченна, но вид у нее скучающий; быть может, родись она с толикой здравого смысла и невеликим умом, не получи никакого воспитания и останься немецкой принцессой, погруженной в однообразные будни мелкого княжества, ее жизнь сложилась бы счастливее. Меня пугает удел великой княгини Елены — почитать французскую словесность при дворе императора Николая.
Свет от связок лампионов живописнейшим образом отражался в колоннах дворца и падал даже на деревья в саду; там было людно. На петербургских празднествах люди служат украшением, подобно тому как собрание редких растений красит оранжерею. Несколько оркестров в глубине сада играли военную музыку, с восхитительной гармонией перекликаясь вдали. Купы деревьев, подсвеченные фонариками, выглядели прелестно — ничего нет волшебное освещенной зелени в прекрасную ночь. Внутренность большой галереи, где были устроены танцы, восхищала пышным убранством; полторы тысячи кадок и горшков с редчайшими цветами составляли благоухающий боскет. У оконечности залы, в самой гуще зарослей экзотических растений, виднелся бассейн с прохладной, прозрачной водой, откуда била неиссякающая струя. В свете множества свечей водяные брызги блестели, словно алмазная пыль, и освежали воздух, без устали волнуемый огромными, влажными от дождя пальмовыми ветвями и банановыми листьями, посверкивающими росой, — вихрь вальса стряхивал ее жемчуга на мох благоухающего боскета. Все эти чужеземные растения, корни которых были укрыты ковром зелени, казалось, росли здесь на родной своей почве, и вереница танцующих дам и кавалеров Севера чудесным образом прогуливалась под сводами тропического леса. Я не понимал, сон это или явь. Во всем была не просто роскошь — но поэзия. Сияние этой дивной галереи было стократ усилено таким множеством зеркал, какого прежде мне не приходилось видеть нигде. Окна, выходящие на портик, чье искусное освещение я вам уже описывал, были открыты, поскольку в эту летнюю ночь стояла сильнейшая жара; но все проемы, кроме тех, что служили выходом, были забраны огромными позолоченными экранами с цельными зеркалами, основание которых скрывалось среди корзин, полных цветов; размеры этих зеркал в золоченых рамах, оттененных бессчетным количеством свечей, показались мне удивительными. Я словно видел перед собой врата волшебного замка. Зеркала, призванные заслонить отверстия окон, входили в них, подобно кусочкам мозаики; то были брильянтовые занавеси с золотою каймой. Заметьте притом, что галерея весьма значительной высоты, и оконные рамы в ней широки чрезвычайно. Зеркала заполняли проемы, но не перекрывали до конца тока воздуха, ибо между экранами и открытыми створками была оставлена щель в несколько дюймов, неприметная для глаза, однако достаточная для того, чтобы в зале стало прохладнее. С противоположной от садовой галереи стороны тоже установили зеркала в золоченых рамах, такой же величины, как и в соответствующих оконных проемах. Зала эта длиною в полдворца. Можете себе представить, какой эффект производит подобное великолепие. Попав сюда, вы переставали понимать, где находитесь; границы залы стерлись, кругом было только пространство, свет, позолота, цветы, отражение, иллюзия; движение толпы и сама толпа умножались до бесконечности. Любой из актеров на этой сцене превращался в сотню — таков был эффект зеркал. Сей хрустальный дворец, не ведающий тени, создан для празднеств; мне казалось, что как только закончится бал, исчезнут и зала, и танцующие пары. Я никогда не видел ничего прекраснее; однако сам бал походил на все прочие балы и не вязался с необыкновенным убранством здания. Меня удивляло, отчего этот народ танцоров не изобретет чего-нибудь нового и не представит на театре, столь отличном от всех иных мест, где принято танцевать и скучать, делая вид, будто вам очень весело. Мне бы хотелось наблюдать здесь кадрили, сюрпризы, неожиданные выходы, балеты, передвижные театры. По-моему, в средние века воображение играло большую роль в придворных развлечениях. При мне в Михайловском замке танцевали одни полонезы, вальсы да те выродившиеся контрдансы, какие на французско-русском наречии именуются кадрилями; даже мазурки в Петербурге танцуют не так живо и изящно, как в Варшаве. Русской важности никак не ужиться с бойкими, полными самозабвенного пыла истинно польскими танцами.
После каждого полонеза императрица присаживалась отдохнуть в душистой сени галереи, которую я вам описал; там она укрывалась от жары; в эту летнюю грозовую ночь в иллюминированном саду было так же душно, как во дворце. Во время празднества я на досуге сравнивал две наши страны, и наблюдения мои оказались не в пользу Франции. Демократия по долгу своему разрушает упорядоченность большого собрания людей; празднику же в Михайловском замке особую красоту придавали всевозможные почести и хлопоты, предметом которых была государыня. Для изысканных развлечений королева необходима; но равенство имеет столько других преимуществ, что ради него можно и пожертвовать роскошью удовольствий; именно так и поступаем мы во Франции — похвальное бескорыстие; боюсь только, как бы наши потомки, когда настанет их черед наслаждаться усовершенствованиями, какие уготовили им чересчур великодушные предки, не пришли к иному мнению. Кто знает, не скажут ли про нас эти поколения, очнувшись от заблуждений: «Поддавшись ложному красноречию, они сделались тайными фанатиками и обрекли нас на явное ничтожество»?
Но что бы там ни сталось с американским будущим, которое многие пророчат Европе, я не устану призывать вас восхищаться празднеством в Михайловском замке. Восхищайтесь же им изо всех ваших сил — и тем, что я описываю, и тем, что не умею изобразить.
Перед ужином императрица, восседавшая под балдахином из редкостных растений, сделала мне знак приблизиться, и не успел я повиноваться, как к волшебному бассейну, чья бьющая вверх струя освещала нас бриллиантовой россыпью и освежала благовонными испарениями, подошел сам император. Взяв меня за руку, он подвел меня к креслам своей супруги, остановившись в нескольких шагах от нее; здесь ему было угодно долее четверти часа беседовать со мною о различных интересных предметах: государь этот говорит с вами отнюдь не так, как большинство государей — единственно для того, чтобы все видели, что он с вами говорит.
Первым делом он в нескольких словах похвалил красоту и стройный порядок празднества. Я отвечал, что «удивляюсь, как он, ведя жизнь столь деятельную, умеет найти время для всего, и даже для того, чтобы разделить удовольствия толпы».
— По счастью, — продолжал он, — механизм управления в моей стране весьма прост; когда бы при наших расстояниях, создающих трудности во всем, правление было сложным по форме, для него недостало бы головы одного человека. Я был поражен и польщен такой откровенностью; император, лучше чем кто-либо понимая, о чем ему не говорят, произнес в ответ на мои мысли:
— Я потому так разговариваю с вами, что знаю — вы можете меня понять; мы продолжаем дело Петра Великого.
— Он не умер, Ваше Величество, его гений и воля по-прежнему правят Россией.
Когда прилюдно беседуешь с императором, вокруг собирается множество царедворцев, но держатся они на почтительном расстоянии, так что никто не может слышать слов повелителя, на которого, однако, устремлены все взоры.
Если государь удостаивает вас беседы, вы попадаете в затруднительное положение, но отнюдь не из-за него, а из-за придворных. Император продолжал:
— Исполнять эту волю весьма непросто; всеобщая покорность заставляет вас думать, будто у нас царит единообразие — избавьтесь от этого заблуждения; нет другой страны, где расы, нравы, верования и умы разнились бы так сильно, как в России. Многообразие лежит в глубине, одинаковость же — на поверхности: единство наше только кажущееся. Вот, извольте взглянуть, неподалеку от нас стоят двадцать офицеров; из них только двое первых русские, за ними трое из верных нам поляков, другие частью немцы; даже киргизские ханы, случается, доставляют ко мне сыновей, чтобы те воспитывались среди моих кадетов, вон один из них, — с этими словами он указал мне пальцем на маленькую китайскую обезьянку в диковинном бархатном костюме, с ног до головы усыпанную золотом; на голове у юного азиата красовалась высокая прямая шапка с острым верхом и большими, загнутыми кверху круглыми отворотами, похожая на шутовской колпак.
— Вместе с этим мальчиком здесь воспитываются и получают образование за мой счет двести тысяч детей.
— В России все делается с размахом. Ваше Величество, здесь все огромно.
— Даже слишком огромно для одного человека.
— Но какой человек был когда-либо ближе к своему народу?
— Вы имеете в виду Петра Великого?
— Нет, Ваше Величество.
— Надеюсь, в своем путешествии вы не ограничитесь только Петербургом. Что еще намерены вы повидать в моей стране?
— Я хотел бы уехать сразу после празднества в Петергофе, Ваше Величество.
— И куда же?
— В Москву и в Нижний.
— Хорошо; однако вы слишком рано отправляетесь в путь: вы уедете из Москвы прежде, чем туда прибуду я, а мне бы доставило большое удовольствие вас видеть.
— Слова Вашего Величества переменят мои планы.
— Тем лучше, мы вам покажем, какие работы предприняты нами в Кремле. Моя цель — сделать эти старинные постройки более подходящими для нынешнего их употребления; слишком маленький дворец стал для меня неудобен; вы получите также приглашение на любопытную церемонию на Бородинском поле: я должен заложить первый камень памятника, который велел возвести для увековечения этой битвы.
Я промолчал, и выражение лица у меня, разумеется, стало серьезным. Император пристально взглянул на меня и продолжал мягко, с тронувшим меня оттенком участия и даже сердечности:
— По крайней мере, вам будет интересно посмотреть на маневры.
— Мне все интересно в России, Ваше Величество. Я видел, как маркиз ***, одноногий старик, танцевал полонез с императрицей; танец этот — не что иное, как торжественная процессия, и маркиз, хоть и весь искалеченный, может его прошагать. Сюда он прибыл с сыновьями; они путешествуют как истинные вельможи: на собственной яхте переправились из Лондона в Петербург, куда доставили для них множество английских лошадей и английских карет. Их экипажи если не самые богатые, то самые изысканные в Петербурге. Здесь этих путешественников принимают с подчеркнутым радушием, они приближены к императорской фамилии; благодаря пристрастию к охоте и воспоминаниям императора, в то время великого князя, о путешествии в Лондон между ним и маркизом *** установились те вольные отношения, какие, сдается мне, приятны скорее государям, нежели персонам, которые сподобились такой милости. Там, где невозможна дружба, близость кажется мне обременительной. Глядя, как обращаются сыновья маркиза с членами императорской фамилии, можно подчас подумать, что они одного со мною мнения на сей счет. Если вдруг людьми, приближенными ко двору, овладеет откровенность, то где же найдет прибежище славословие, а с ним и учтивость?[29]
Вы и представить себе не можете, какую бурную жизнь мы здесь ведем: одного зрелища подобной сумятицы достало бы, чтобы утомить меня. Юный *** теперь в Петербурге, мы повсюду встречаемся и рады друг другу; он — типичный современный француз, но по-настоящему хорошо воспитан. Он, по-моему, в восторге от всего, и довольство его так естественно, что передается другим, а стало быть, этот молодой человек нравится русским, думаю, в той мере, в какой сам хочет им понравиться; он толковый путешественник, образован, собирает много фактов, но расчисляет их лучше, чем оценивает, ибо в его годы цифры даются легче, чем наблюдения. Он весьма силен в датах, мерах, числах и некоторых других позитивных сведениях, поэтому беседовать с ним мне интересно и поучительно. Но какие же разнообразные беседы ведет наш посол! Какой острый у него ум — для делового человека даже чересчур острый, — и какой урон понесла бы литература, если бы время, отданное политике, не оборачивалось изучением жизни, плодами которого еще воспользуется когда-нибудь словесность! Не сыскать человека, который был бы более на своем месте и казался с виду менее озабоченным своею ролью; талант, но без важности — вот, по-моему, в чем сегодня залог успеха для всякого француза, подвизающегося на общественном поприще. Со времен Июльской революции никому лучше г. де Баранта не удавалось исполнять тяжкие обязанности французского посла в Петербурге. Прилагаю к сему церемониал, который соблюдался во все дни празднования замужества великой княжны Марии. Чтение его вам наскучит — как и чтение всякого церемониала. Но в краях, столь удаленных от наших, любопытно все без исключения. Россия для нас — страна настолько неведомая, что любые описания ее неизменно пробуждают наш интерес. Сходство в одних вещах и различие в других равно удивительно для меня, и сравнение обеих стран, разделенных таким громадным расстоянием, но близких благодаря взаимному влиянию, не может не вызывать живейшего любопытства.
Высочайше учрежденный церемониал Бракосочетания Ее Императорского Высочества Государыни Великой Княжны Марш Николаевны с Его Светлостью герцогом Максимилианом Дейхтенбергским.
В назначенный для бракосочетания день пятью пушечными выстрелами из СанктПетербургской крепости дано будет знать городу, что того числа имеет быть брачное торжество Ее Императорского Высочества Государыни Великой Княжны Марии Николаевны с Его Светлостью герцогом Максимилианом Лейхтенбергским. По учиненным повесткам в час утра съедутся в Зимний дворец: члены Святейшего Синода и прочее знатное Духовенство, Придворные и другие знатные обоего пола особы, чужестранные Послы и Министры, Генералитет, лейб-гвардии Штаб- и Обер-офицеры и прочих полков Штаб-офицеры, Дамы в русском платье, а Кавалеры в парадных мундирах. Когда Статс-Дамы позваны будут для одевания Высокообрученной Невесты и по окончании сего обряда выйдут из внутренних апартаментов, тогда Церемониймейстер известит о том Высокообрученного Жениха и сопровождает его до внутренних комнат. Высокообрученная Невеста имеет в сей день на голове корону и, сверх платья — малиновую бархатную, подложенную горностаевым мехом мантию с длинным шлейфом, который понесут четыре Камергера, а конец оного исправляющий должность Шталмейстера Двора Ее Высочества.
Их Императорские Величества Государь Император и Государыня Императрица изволят из внутренних покоев шествовать в придворную церковь следующим порядком:
1. Двора Его Императорского Величества Гоффурьеры и Камерфурьеры.
2. Церемониймейстеры и Обер-церемониймейстер.
3. Двора Его Императорского Величества Камер-юнкеры, Камергеры и придворные Кавалергарды, по два в ряд, младшие напереди.
4. Первенствующие чины Двора, по два в ряд, младшие напереди.
5. Гофмаршал с жезлом.
6. Обер-камергер и Обер-гофмаршал с жезлом.
7. Их Императорские Величества Государь Император и Государыня Императрица, имея позади Министра Императорского Двора и дежурных Генерал- и Флигель-адъютантов.
8. Его Императорское Высочество Государь Цесаревич Великий Князь Александр Николаевич.
9. Их Императорские Высочества Государи Великие Князья: Константин Николаевич, Николай Николаевич и Михаил Николаевич.
10. Их Императорские Высочества Государь Великий Князь Михаил Павлович и Государыня Великая Княгиня Елена Павловна.
11. Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княжна Мария Николаевна с Высокообрученным Ее Женихом, Его Светлостью Герцогом Максимилианом Лейхтенбергским.
12. Их Императорские Величества Государыни Великие Княжны Ольга и Александра Николаевны и Мария Михайловна.
13. Его Светлость Принц Петр Ольденбургский с супругою. За ними, по две в ряд, старшие напереди, госпожи Статс-Дамы, Камер-Фрей-лины, Ее Императорского Величества и Их Императорских Высочеств Фрейлины и прочие знатные обоего пола особы.
При входе в церковь Их Императорские Величества встречены будут Членами Синода и прочим знатным Духовенством, с Крестом и святою водою. При начале богослужения, когда запоют: «Господи, силою твоею возвеселится Царь», — Его Величество Государь Император возведет Высокообрученных на приготовленное место; в то же время приблизятся к венчальному месту с обеих сторон особы, назначенные для ношения венцов над головами Высокосочетающихся. Тогда, по обряду Восточной церкви, начнется бракосочетание, в продолжение которого, после Евангелия, на Ектениях возглашаемо будет: «О благоверной Государыне Великой Княгине Марии Николаевне и Супруге Ее».
По совершении венчания Высокобракосочетавшиеся изволят приносить благодарение Их Императорским Величествам и станут на свое место. Засим Митрополит с Членами Святейшего Синода начнет благодарственный молебен, и когда запоют: «Тебя Бога хвалим», с Санкт-Петербургской крепости проиэведется сто один пушечный выстрел.
По окончании всего церковного служения Члены Святейшего Синода и прочее знатное Духовенство приносят Их Императорским Величествам поздравление. Из церкви Их Императорские Величества со всею Императорскою Фамилиею изволят прежним порядком возвратиться во внутренние апартаменты, где в одной из комнат устроен будет Католический Алтарь. При входе в сию комнату Государь Император изволит подвести Высокобракосочетавшихся к Алтарю, и тогда начнется бракосочетание по Католическому обряду, по окончании которого, приняв поздравление от католического духовенства, высочайшие особы возвратятся во внутренние комнаты.
Когда будет готов обеденный стол и особы обоего пола первых трех классов займут назначенные им места, тогда, по донесении о том Их Императорским Величествам, последует Высочайший к столу выход в предшествии Придворных Чинов.
За столом Их Императорским Величествам и всем Высочайшим особам служат Камергеры, а кубки подают: Их Величествам — Обер-Шенки, Высоконовобрачным — в должности Шталмейстера Ее Высочества; Их Высочествам: Государю Наследнику, Великим Князьям, Великой Княгине и Великим Княжнам — Камергеры. Во время стола играет вокальная и инструментальная музыка. При питии за здравие произведена будет с Санкт-Петербургской крепости пушечная пальба, а именно:
1. За здравие Их Императорских Величеств — 31 выстрел.
2. Высокобракосочетавшихся — 31 выстрел.
3. Всего Императорского дома — 31 выстрел.
4. Ее Королевского Высочества Герцогини Лейхтенбергской — 31 выстрел.
5. Духовных и всех верноподданных особ — 31 выстрел.
По окончании стола Их Императорские Величества, со всею Высочайшею Фамилиею, тем же порядком возвратятся во внутренние покои. Ввечеру того дня будет бал, на который съезжаться всем знатным обоего пола особам, чужестранным Министрам и всем, имеющим приезд ко Двору.
Незадолго до свадьбы скончался обер-камергер. По смерти его должность была пожалована графу Головкину, бывшему послу России в Китае, куда он так и не сумел попасть. Вельможа этот приступил к своим обязанностям по случаю свадебных торжеств, и не так опытен, как его предшественник. Один молодой камергер, им назначенный, навлек на себя гнев императора, а на своего начальника — излишне суровый выговор. Это случилось на балу у великой княгини Елены.
Император беседовал о чем-то с австрийским послом. Юный камергер получает от великой княгини Марии приказ передать от нее этому послу приглашение на танец. Бедный новичок в усердии своем, прорвав описанный мною круг придворных, бесстрашно достигает особы самого императора и на глазах Его Величества говорит австрийскому послу: «Господин граф, госпожа герцогиня Лейхтенбергская приглашает вас танцевать с нею первый полонез». Император, пораженный невежеством нового камергера, произносит, возвысив голос: «Вы недавно назначены на должность, сударь, научитесь же исполнять ее: во-первых, имя моей дочери не герцогиня Лейхтенбергская, ее имя — великая княгиня Мария;[30] во-вторых, вам надлежит знать, что когда я с кем-либо беседую, меня не перебивают».[31]
Новый камергер, получивший сей суровый выговор из уст самого повелителя, был, к несчастью, бедный польский дворянин. Император в строгости своей не ограничился этой короткой речью: он призвал обер-камергера и наказал ему впредь быть осмотрительней, подбирая людей.
Сия сцена напоминает мне те, что случались нередко при дворе императора Наполеона. Русские дорого бы дали, чтобы обзавестись прошлым в несколько веков!
Пред окончанием бала назначенные по Высочайшему повелению особы для принятия Высоконовобрачных отходят в Их апартаменты, куда потом Их Императорские Величества, в предшествии придворного штата, изволят сопровождать Высоконовобрачных. При входе в апартаменты Их Императорские Величества и Высокобракосочетавшиеся встречены будут назначенными особами и последуют во внутренние покои, где находиться будет одна из Статс-Дам для раздевания.
В сей день по всем церквам имеет быть благодарственное молебствие и как в оный, так равно и в следующие два дня будет колокольный звон, а вечером во все помянутые три дня город иллюминован.
4 июля поздравление Высоконовобрачных: поутру в одиннадцать часов — от знатных обоего пола особ, имеющих приезд ко Двору, а в час пополудни — от Дипломатического корпуса.
Вечером спектакль на Большом театре. 5 июля большой Бал в Белой зале и ужин.
7 июля — бал у Их Императорских Высочеств Государя Великого Князя Михаила Павловича и Государыни Великой Княгини Елены Павловны. 9 июля — бал у принца Ольденбургского. 10 июля — отъезд Высочайшего Двора в Петергоф. 11 июля — публичный маскарад и иллюминация в Петергофе.
С бала в Михайловском замке я удалился весьма рано; при выходе я остановился на лестнице и хотел бы задержаться там как можно дольше — я попал в цветущую апельсиновую рощу. Ничего великолепнее и соразмернее этого празднества я никогда не видал; но для меня ничего нет утомительнее, нежели слишком долгое восхищение, когда предмет его — не явления природы и не произведения искусства. Покидаю вас, чтобы отправиться на обед к одному русскому офицеру, юному графу***,- нынче утром он отвел меня в кабинет минералогии, полагаю, прекраснейший во всей Европе, ибо Уральские рудники богаты несказанно. Здесь ничего нельзя повидать одному; всякий раз, как вы удостаиваете посещением какое-нибудь общественное заведение, вас сопровождает кто-то из местных жителей; между тем в году немного выдается дней, благоприятных для обстоятельного осмотра этих заведений. Летом тут штукатурят поврежденные морозом здания; зимой, коли не мерзнут, то выезжают в свет и танцуют. В Петербурге, скажу вам, Россию видно не лучше, чем во Франции. Вы подумаете, что я преувеличиваю, но отнимите у этого наблюдения парадоксальную форму — и вы получите чистейшую правду. Чтобы узнать эту страну, конечно, мало только приехать сюда. Без чьего-то покровительства вы не сумеете ни о чем составить представление, покровительство же зачастую оборачивается тиранией и подталкивает вас к неверным представлениям.[32]
ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ
Как держатся придворные дамы. — Различные расы. — Финны. — Парадное представление в Опере. — Появление императора и двора в императорской ложе. — Внушительный вид этого государя. — Его восхождение на престол. — Мужество императрицы. — Рассказ об эmoй сцене самого императора. — Его благородные чувства. — Внезапный переворот, свершившийся в его характере. — Уловка заговорщиков. — Еще один портрет императора. — Продолжение беседы с ним. — Недуг императрицы. — Мнение императора о трех способах правления: республиканском, деспотическом и представительном. — Искренность его речей. — Праздник у герцогини Ольденбургской. — Великолепие сельского бала. — Ужин. — Принужденное добродушие дипломатов. — Паркет под открытым небом. — Роскошные экзотические цветы. — Борьба русских с природой. — Подруга императрицы. — Из кого состоит в России народная толпа. — Император несколько раз заводит со мною беседу. — Приветливость государя. — Прекрасные слова императора. — Кто тот человек в империи, к кому питал я наибольшее доверие. — Почему. — Аристократия есть единственный оплот свободы. — Краткий свод различных суждений моих об императоре. — Дух царедворцев. — Вельможи при деспотической власти. — Сравнение автократии и демократии. — Разные способы достигнуть той же цели. — Неразрешимая проблема. — Франция — исключение из правила. — Парадный спектакль. — Артисты в Петербурге. — Всякий подлинный талант национален.
Петербург, 21 июля 1839 года
Некоторые из придворных дам по праву слывут красавицами, — но число таковых невелико; другие же пользуются этой славой незаслуженно, благодаря своему кокетству, суетливости и ухищрениям, — все это они позаимствовали у англичанок, ибо русский высший свет всю жизнь занят поисками модных образцов в дальних пределах; случается, русские ошибаются в своем выборе, и тогда из их промашки проистекает весьма странный вид изысканности — изысканность безвкусицы. Если предоставить русского самому себе, он всю жизнь будет маяться приступами неудовлетворенного тщеславия; он станет почитать себя варваром. Ничто так не пагубно для естественности. и, следовательно, для духа народа, как эта беспрестанная озабоченность общественным превосходством других наций. Преисполняться смирения и краснеть за себя от спеси одна из причуд человеческого самолюбия. Я успел заметить, что в России сей феномен не редкость: здесь характерные черты выскочки можно изучать среди людей всех сословий и рангов.
Во всех классах русской нации красивые мужчины встречаются чаще, чем красивые женщины, — что отнюдь не мешает обнаружить и среди мужчин множество плоских, лишенных выражения физиономий. Представители финской расы скуласты, у них маленькие, тусклые, глубоко посаженные глаза и приплюснутое лицо, словно люди эти при рождении шлепнулись носом оземь; к тому же у них бесформенный рот, а весь облик совершенно невыразителен — настоящая маска раба. Здешние жители походят на финнов, а не на славян.
Мне часто попадались люди с отметинами оспы, что для остальной Европы ныне редкость и свидетельствует о непростительной небрежности русского правительства.
В Петербурге разные расы так перемешаны, что здесь невозможно составить представление об истинном населении России: кровь немцев, шведов, ливонцев, финнов — разновидности лопарей, спустившихся с полюса, — калмыков и иных татарских рас влилась в кровь славян, чья изначальная красота в столичных жителях мало-помалу изгладилась; вот отчего я часто вспоминаю справедливое замечание императора: «Петербург — русский город, но это еще не Россия». В Опере я видел то, что именуется парадным представлением. Великолепно освещенный зал показался мне большим и прекрасным по форме. Здесь не знают ни галерей, ни балконов; в Петербурге нет буржуазии, которую надо размещать, сковывая тем самым архитектора в его замыслах; поэтому зрительные залы можно возводить по чертежам простым и правильным, как в итальянских театрах, где женщины, не принадлежащие к высшему свету, отправляются в партер. По особой милости мне досталось на атом представлении кресло в первом ряду партера; в дни парадных спектаклей эти кресла отводятся для самых знатных вельмож, иначе говоря, для высших придворных чинов. Сюда допускают только особ при парадных мундирах, в костюмах, соответствующих чину и месту при дворе.
Сосед мой справа, приметив по одежде, что я иностранец, обратился ко мне по-французски с той гостеприимной учтивостью, какая в Петербурге отличает людей из высших классов общества, а до известной степени и людей из любого класса, ибо здесь учтивы все: знать — из тщеславия, дабы засвидетельствовать свое хорошее воспитание; простонародье — из страха. Потолковав о вещах незначительных, я спросил у любезного незнакомца, что будут нам представлять. «Сочинение, переведенное с французского, — отвечал он, — „Хромой бес“. Тщетно ломал я голову, пытаясь понять, что за драма могла быть переведена под таким заглавием. Судите же, сколь велико было мое изумление, когда я узнал, что перевод сей — пантомима, рабски повторяющая наш балет „Хромой бес“.
Спектакль мне не слишком понравился; главным образом меня занимали зрители. Наконец прибыл двор; императорская ложа являет собой блистательный салон, занимающий всю глубину зала; салон этот освещен еще ярче, нежели остальной театр, весь залитый светом. Появление императора произвело на меня изрядное впечатление. Когда он в сопровождении императрицы, а за ним все члены фамилии и придворные, приближается к барьеру ложи, публика разом встает. В парадном мундире алого цвета император особенно красив. Казацкая форма к лицу лишь очень молодым людям; этот же мундир более подобает мужчине в летах Его Величества; он подчеркивает благородство его черт и фигуры. Прежде чем сесть, император приветствует собравшихся с тем исполненным учтивости достоинством, какое отличает его. Одновременно приветствует зрителей императрица; больше того, даже и свита приветствует публику, что показалось мне не вполне почтительным по отношению к последней. Зал отвечает государям поклоном на поклон и, сверх того, бурно аплодирует им и кричит „ура“.
Эти преувеличенные изъявления восторга имели характер официальный, что изрядно их обесценивало. Императору на его родине хлопают из партера его же избранные придворные — экое диво! В России подлинной лестью была бы внешняя независимость. Русские не открыли для себя этот окольный способ понравиться; говоря по правде, временами прибегать к нему было бы небезопасно — невзирая на тоску, которую должна навевать на государя рабская покорность подданных.
Нынешний император сталкивается обыкновенно с вынужденным послушанием людей, и по этой причине он лишь два раза в своей жизни имел удовольствие испытать личную свою власть над собравшейся толпой: то было в дни мятежей. В России есть только один свободный человек — взбунтовавшийся солдат.
С того места, где я находился — примерно посредине между двумя театральными действами, сценическим и придворным, — император виделся мне достойным повелевать людьми: так благородно он выглядел, столь возвышенным и величественным был его облик. Мне сразу вспомнилось, как повел он себя при восхождении на престол, и эта прекрасная страница истории отвлекла мое внимание от спектакля, на котором я присутствовал. Все, что прочтете вы далее, поведал мне несколько дней назад сам император; я не рассказал вам в последнем письме об этой беседе оттого, что бумаги, содержащие такого рода подробности, нельзя доверить ни русской почте, ни даже кому бы то ни было из путешественников.
Николай взошел на трон в тот самый день, когда среди гвардейцев вспыхнуло восстание; получив известие о бунте в войсках, император с императрицей одни спустились в дворцовую церковь и там, преклонив колена на ступенях алтаря, поклялись перед Богом, что умрут как государи, если им не удастся подавить мятеж.
Беда представлялась императору нешуточной: как ему только что сообщили, архиепископ пытался успокоить солдат, но тщетно. Если церковная власть в России терпит неудачу, значит, начались ужасающие беспорядки.
Император осенил себя крестным знамением и вышел к бунтовщикам, дабы усмирить их своим присутствием и спокойной силой своего чела. Сам он описывал эту сцену в выражениях более скромных, нежели те, какими пользуюсь я сейчас. К несчастью, я позабыл первую часть его рассказа, ибо поначалу был несколько смущен тем неожиданным оборотом, какой приняла наша беседа; повторю ее с того момента, с какого помню.
— Ваше Величество почерпнули силу в истинном ее источнике.
— Я не знал, что буду делать и говорить, меня осенило свыше.
— Не всякого осеняет подобным образом, это еще надо заслужить.
— Я не совершал ничего необыкновенного; я сказал солдатам: „Встать в строй“, а когда делал смотр полку, крикнул: „На колени!“ Все повиновались. Минутою раньше я примирился со смертью, и это придало мне силы. Я преисполнен благодарности за свой успех, но не горжусь им, ибо здесь нет никакой моей заслуги.
Вот в каких благородных словах поведал мне император об этой современной трагедии.
Судите сами, сколь интересные темы служат ему пищей для бесед с чужестранцами, которых ему угодно почтить своим расположением; рассказ этот весьма далек от придворных банальностей. По нему вы можете понять, какого рода власть имеет он над нами, равно как над своими народами и своей фамилией. Это славянский Людовик XIV. Очевидцы уверяли меня, что с каждым шагом навстречу мятежникам он вырастал на глазах. Став государем, он в мгновение ока из молчаливого, придирчивого меланхолика, каким казался в юности, превратился в героя. Тут он — полная противоположность большинству принцев, которые подают больше надежд, нежели затем оправдывают.
Император настолько вошел в свою роль, что престол для него — то же, что сцена для великого актера. Перед непокорной гвардией он держался столь внушительно, что, говорят, во время его речи, обращенной к войску, один из заговорщиков четырежды приближался к нему, чтобы убить, и четырежды мужество покидало этого несчастного, как кимвра перед Марием. Знающие люди отнесли мятеж этот на счет влияния тайных обществ, которые вели в России свою работу со времен союзнических кампаний во Франции и частых поездок русских офицеров в Германию.
Я только повторяю то, что здесь говорят, — все это дела темные, и проверить что-либо у меня нет возможности.
Чтобы поднять армию, заговорщики прибегли к смешному обману: был распространен слух, что Николай будто бы узурпировал корону, предназначавшуюся его брату Константину, который, как утверждали, движется на Петербург, дабы с оружием в руках отстоять свои права. А вот способ, посредством которого бунтовщиков убедили кричать под окнами дворца: „Да здравствует конституция!“ Зачинщики внушили им, что „конституция“ — имя супруги Константина, то есть их предполагаемой императрицы. Как видите, представление о долге глубоко укоренилось в сердце солдат, раз подтолкнуть их к неповиновению удалось только с помощью уловки.
На самом деле Константин отказался взойти на престол лишь по слабости: он боялся, что его отравят, вот и вся его философия. Бог и еще, быть может, несколько человек знают, спасся ли он благодаря отречению от опасности, какой думал избегнуть.
Стало быть, обманутые солдаты восстали против своего законного государя во имя законности.
Все отметили, что за все время, пока император находился перед войсками, он ни разу не пустил лошадь в галоп — настолько хладнокровно он держался; однако он был очень бледен. Он впервые испробовал свое могущество, и успех этого испытания покорил его влиянию всю нацию.
Такого человека нельзя судить по меркам, пригодным для обыкновенных людей. Его голос, властный и исполненный значительности, магнетический взгляд, что впивается в предмет, завладевший его вниманием, но зачастую становится холодным и застывает, — не столько из-за обыкновения скрывать свои мысли, ибо он откровенен, сколько из-за привычки сдерживать страсти; его великолепное чело, черты, в которых есть что-то от Аполлона и от Юпитера, его почти неподвижное, внушительное, повелительное лицо, облик, скорее благородный, нежели добросердечный, подобающий более статуе, чем человеку, — все это оказывает неодолимое воздействие на всякого, кто приближается к его особе. Он становится повелителем чужих воль, ибо все видят, что он властен над своей собственной волей.
Вот что еще мне запомнилось из продолжения нашей беседы.
— Должно быть, Ваше Величество, усмирив мятеж, вернулись во дворец в совсем ином расположении, нежели то, в каком вы его покидали, ибо Ваше Величество не только обеспечили себе престол, но и заручились восхищением всего мира и симпатией всех благородных душ.
— Я об этом не думал; впоследствии поступки мои превознесли сверх всякой меры.
Император не сказал, что, возвратившись к супруге, он увидал, как у нее трясется голова, — от этой нервной болезни ей так и не удалось до конца излечиться. Дрожь эта еле заметна; она даже проходит вовсе, когда императрица покойна и находится в добром здравии; но едва что-то начинает ее мучить, морально или физически, как недуг проявляется снова и обостряется. Должно быть, этой великодушной женщине нелегко пришлось в борении с тревогой, покуда супруг ее столь отважно шел навстречу ударам убийц. Когда он вернулся, она, ни слова не говоря, обняла его; однако, приободрив ее, император в свой черед ощутил слабость; став на миг просто человеком, бросился он в объятия одного из самых верных своих слуг, что присутствовал при этой сцене, и воскликнул: „Какое ужасное начало царствования!“
Я обнародую эти обстоятельства; людям безвестным полезно их знать, чтобы поменьше завидовать уделу великих. При внешнем неравенстве, какое в цивилизованном мире установлено законодателями меж людей разного звания, справедливость Божественного Провидения находит себе прибежище в равенстве тайном и неуничтожимом — том, что родится из нравственных терзаний, которые обыкновенно возрастают по мере того, как убывают физические лишения. В мире нашем меньше неправедного, нежели заложили в него основатели различных наций и нежели это доступно пониманию черни; природа справедливее, чем закон человеческий. Мысли эти мелькали у меня в голове во время беседы с императором; из них родилось в моем сердце чувство к нему, узнав о котором, он бы, наверное, несколько удивился — необъяснимая жалость. Я как мог постарался скрыть свои переживания, природу которых не дерзнул бы ему раскрыть, а причину — растолковать, и возразил в ответ на его слова о том, что похвалы поведению его во время мятежа преувеличены:
— Одно верно, Ваше Величество: любопытство мое перед приездом в Россию имело среди главных причин желание близко увидеть государя, имеющего столь великую власть над людьми.
— Русские добрый народ, но надобно еще сделаться достойным править ими.
— Ваше Величество постигли лучше любого из своих предшественников, что именно подобает России.
— В России еще существует деспотизм, ибо в нем самая суть моего правления; но он отвечает духу нации.
— Вы останавливаете Россию на пути подражательства, Ваше Величество, и возвращаете к самой себе.
— Я люблю свою страну и, мне кажется, понимаю ее; поверьте, когда невзгоды нашего времени слишком уж донимают меня, я стараюсь забыть о существовании остальной Европы и ищу убежища в глубинах России.
— Дабы припасть к истокам?
— Именно так! Нет человека более русского сердцем, чем я. Скажу вам одну вещь, какой не сказал бы никому другому; но именно вы, я чувствую, поймете меня.
Тут император умолкает и пристально глядит на меня; я, не отвечая ни слова, слушаю, и он продолжает:
— Мне понятна республика, это способ правления ясный и честный, либо по крайней мере может быть таковым; мне понятна абсолютная монархия, ибо я сам возглавляю подобный порядок вещей; но мне непонятна монархия представительная. Это способ правления лживый, мошеннический, продажный, и я скорее отступлю до самого Китая, чем когда-либо соглашусь на него.
— Ваше Величество, я всегда рассматривал представительный способ правления как сделку, неизбежную для некоторых обществ и некоторых эпох; но, подобно всякой сделке, она не решает ни одного вопроса, а только отсрочивает затруднения.
Император, казалось, ждал, что скажу я дальше. Я продолжал:
— Это перемирие, что подписывают демократия и монархия в угоду двум весьма низменным тиранам — страху и корысти; длится оно благодаря гордыне разума, упивающегося красноречием, и тщеславию народа, от которого откупаются словами. В конечном счете это власть аристократии слова, пришедшей на смену аристократии родовой, ибо правят здесь стряпчие.
— В ваших речах много верного, сударь, — произнес император, пожимая мне руку. — Я сам возглавлял представительную монархию,[33] и в мире знают, чего мне стоило нежелание подчиниться требованиям этого гнусного способа правления (я цитирую дословно). Покупать голоса, развращать чужую совесть, соблазнять одних, дабы обмануть других, — я презрел все эти уловки, ибо они равно унизительны и для тех, кто повинуется, и для того, кто повелевает; я дорого заплатил за свои труды и искренность, но, слава Богу, навсегда покончил с этой ненавистной политической машиной. Больше я никогда не буду конституционным монархом. Я слишком нуждаюсь в том, чтобы высказывать откровенно свои мысли, и потому никогда не соглашусь править каким бы то ни было народом посредством хитрости и интриг.
Название Польши постоянно всплывало в наших умах, но в ходе этого любопытного разговора не было произнесено ни разу. На меня он произвел большое впечатление; я был покорен: благородство чувств, что явил предо мною император, и искренность его речей, как мне представлялось, весьма рельефно оттеняли его всемогущество; признаюсь, император ослепил меня!! Человек, которому я, вопреки всем своим представлениям о независимости, готов был простить то, что он — абсолютный монарх шестидесяти миллионов подданных, был в моих глазах существом высшего порядка; однако я не доверялся собственному восхищению, я походил на тех наших буржуа, которые чувствуют, что вот-вот подпадут под обаяние изящества и умения держаться, свойственных людям прежних времен: хороший вкус толкает их отдаться испытываемому влечению, но принципы сопротивляются, и потому они остаются непреклонны и принимают самый бесстрастный вид, на какой только способны. Подобную же борьбу переживал и я. Не в моем характере сомневаться в словах человека в ту самую минуту, когда я их слышу. Говорящий человек есть для меня орудие Божье; только размышление и опыт заставляют меня признать возможность расчета и притворства. Вы скажете: святая простота; быть может, так оно и есть, но эта слабость ума дорога мне, ибо она идет от крепости души; собственное чистосердечие велит мне верить в искренность других — даже в искренность российского императора.
Красота доставляет ему лишний способ быть убедительным, ибо красота эта в равной мере духовная и физическая. Действие ее я отношу не столько на счет правильности черт, сколько на счет правдивости чувств, что рисуются обыкновенно на его лице. Этот любопытный разговор с императором я имел во время празднества у герцогини Ольденбургской. Бал оказался необычным и также заслуживает, чтобы я вам его описал.
Герцогиня Ольденбургская, урожденная принцесса Нассауская, по мужу состоит в весьма близком родстве с императором; она пожелала устроить вечер по случаю бракосочетания великой княжны Марии, но не могла ни превзойти в пышности предыдущие балы, ни состязаться в богатстве с двором, а потому задумала дать импровизированный сельский бал в своем доме на островах. В саду, переполненном гуляющими и оркестрами, что были спрятаны в отдаленных боскетах, собрались эрцгерцог австрийский, прибывший в Петербург два дня назад, дабы принять участие в празднествах, послы со всего мира (невиданные актеры для пасторали!) — в общем, вся Россия в лице знатнейших ее вельмож, старательно принимавших добродушный вид. На каждом празднике тон задает император; паролем этого дня было: пристойная наивность, или изысканная Горациева простота. В подобном расположении духа пребывали в этот вечер все, в том числе и дипломатический корпус; мне чудилось, будто я читаю эклогу — но не Феокрита или Вергилия, а Фонтенеля.
До одиннадцати вечера танцы продолжались на свежем воздухе, а затем, когда на головы и плечи юных и пожилых дам, участвовавших в сем торжестве человеческой воли над скверным климатом, пролились изрядные потоки росы, все возвратились в небольшой дворец, что служит обыкновенно летним жилищем герцогине Ольденбургской.
В центре виллы (по-русски — „дачи“) находится ротонда, сияющая ослепительным блеском позолоты и свечей; бал продолжался в этой зале, а толпа нетанцующих заполнила остальные помещения. Свет исходил из центра, и яркие блики его изливались наружу — словно солнечные лучи, что, рождаясь, несут тепло и жизнь повсюду в безлюдных глубинах Эмпирея. Ослепительная ротонда представала моему взору орбитой, по которой, озаряя собою весь дворец, вращалась звезда императора.
На террасах второго этажа растянули тенты, дабы под ними разместить императорский стол и стол для приглашенных к ужину. Празднество это было не столь многолюдным, как предыдущие, и на нем царил такой великолепно упорядоченный беспорядок, что оно развлекло меня более других. Если не считать забавного смущения, какое читалось на некоторых физиономиях, принужденных на время напускать на себя сельскую простоту, то вечер оказался совершенно необыкновенным — то было своего рода императорское Тиволи, где все, даже и находясь в присутствии своего безраздельного повелителя, чувствовали себя почти свободно. Когда государь забавляется, он уже не кажется деспотом — а император в тот вечер забавлялся.
Как я уже говорил, прежде чем перейти в ротонду, все танцевали под открытым небом: по счастью, в этом году стоит чрезвычайная жара, благоприятствующая замыслам герцогини. Ее загородный дом находится в прелестнейшей части островов; здесь, среди ослепительных садовых цветов в горшках, что, казалось, сами собою выросли на английском газоне, явлено было еще одно чудо: герцогиня устроила бальную залу на воздухе; на небольшом лужку она велела настлать великолепный салонный паркет, окружив его изящными, увитыми цветами балюстрадами. Эта оригинальная зала, для которой небесный свод служил потолком, изрядно напоминала корабельную палубу, убранную флагами по случаю морского праздника; с одной стороны на нее можно было взойти по нескольким ступеням с лужка, с другой — через крыльцо, пристроенное к парадному входу здания и скрытое под навесами из экзотических цветов. Роскошные редкие цветы в этой стране заменяют собой редко растущие деревья. Люди, что живут здесь, пришли из Азии и, заточив себя в северных льдах, вспоминают восточную роскошь изначальной своей родины; они делают все, что в их силах, дабы возместить бесплодие природы, которая сама по себе порождает в открытом грунте лишь ели да березы. Здесь искусственно, в парниках, выводят бесконечное число кустарников и растений; и поскольку поддельно все, то вырастить какие-нибудь цветы из Америки не сложнее, нежели французские фиалки или лилии. Роскошные дома в Петербурге украшает и делает непохожими друг на друга не первозданное плодородие почвы, но цивилизация, что обращает себе на пользу сокровища всего мира, дабы скрыть от глаз скудную землю и скупое полярное небо. Так что пусть вас не удивляет бахвальство русских: природа для них — еще один враг, которого они одолели благодаря своему упорству; во всех их развлечениях присутствует подспудно радостная гордость победителя.
Императрица, невзирая на свою хрупкость, танцевала на изысканном паркете этого великолепного сельского бала, заданного ее кузиной, с обнаженной шеей и непокрытой головой, не пропуская ни одного полонеза. В России всякий трудится на своем поприще до полного изнеможения. Долг императрицы — развлекаться до упаду, и она исполнит обязанность свою точно так же, как исполняют ее все остальные рабы, — будет танцевать до тех пор, покуда сможет. Этой немецкой принцессе, жертве легкомыслия, для нее, должно быть, не менее тяжкого, чем цепи для узника, случилось обрести в России счастье, редкое во всех странах и всех сословиях, а в жизни императрицы — исключительное: у нее есть подруга.
Я уже писал вам об этой даме. Это баронесса ***, урожденная графиня ***. Со времени замужества императрицы две эти женщины со столь разными судьбами почти всегда неразлучны. Баронесса со своим открытым нравом и преданным сердцем не извлекла из расположения государыни никакой выгоды для себя; замужем она за армейским офицером, которому император обязан больше, чем кому-либо другому: в день мятежа при его восхождении на престол барон *** спас ему жизнь, с нерасчетливой преданностью подвергая себя опасности ради своего государя. Расплатиться за подобное мужество нельзя ничем — оно и остается неоплаченным.
Впрочем, государи вообще понимают лишь ту признательность, предметом которой становятся сами, да и тогда нисколько ею не дорожат, всегда предполагая в других неблагодарность. Признательность не столько утешает их в душевных тяготах, сколько сбивает в расчетах ума. Она — урок, получать который они не любят; им кажется удобнее и проще презирать весь род человеческий без изъятия. Это свойство всех властителей, но особенно самых могущественных из них. В саду смеркалось; оркестру на балу вторила какая-то музыка, доносившаяся издалека, и гармония ее рассеивала ночную печаль — печаль более чем естественную в этих однообразных лесах и климате, враждебном всякому веселью. Под окнами маленького дворца, где живет герцогиня Ольденбургская, медленно течет, изгибаясь, один из рукавов Невы — вода здесь всегда кажется неподвижной. В тот вечер на реке было множество лодок, набитых любопытными, а на дороге кишмя кишели пешие зеваки — безымянная толпа, в которой смешивались без всякого различия буржуа, такие же рабы, как крестьяне, и крепостные-рабочие: придворные придворных, пробиравшиеся, толкаясь, среди карет князей и вельмож, чтобы поглазеть на ливрею господина их господ. Зрелище это показалось мне притягательным и необычным.
В России вещи носят те же имена, что везде, но сами они совершенно иные. Нередко я ускользал за ограду, внутри которой продолжался бал, и уходил в парк, под сень деревьев, размышляя о том, сколь печален любой праздник в подобной стране. Однако раздумья мои продолжались недолго, ибо в тот день императору вновь угодно было завладеть моим умом. Ощутил ли он в глубине моих мыслей толику предубеждения против него, — основанного, впрочем, лишь на том, что слышал я прежде, чем меня ему представили, ибо впечатление мое от его личности и речей было всецело для него благоприятным, — находил ли занятным поговорить несколько минут с человеком, непохожим на тех, что всякий день проходят перед его взором; или же госпожа *** расположила его в мою пользу? я бы не сумел отчетливо объяснить себе, в чем истинная причина подобной милости. Император не только привык командовать поступками людей, он умеет и властвовать над сердцами; быть может, ему захотелось покорить и мое тоже; быть может, моя холодность, проистекающая из робости, всколыхнула в нем самолюбие — ему свойственно желание нравиться. Заставить другого восхищаться собой — один из способов держать его в повиновении. Быть может, ему захотелось испытать свою власть на иностранце; быть может, наконец, заговорил в нем инстинкт человека, что долгое время не слышал правды и теперь надеется, что раз в жизни встретился ему характер правдивый. Повторяю, истинные его мотивы мне неизвестны; знаю одно: в тот вечер, стоило мне оказаться на пути его следования или даже в уединенном углу залы, где он находился, как он подзывал меня к себе для беседы. Приметив, что я возвращаюсь в бальную залу, он спросил:
— Что делали вы нынче утром?
— Ваше Величество, я осмотрел кабинет естественной истории и знаменитого сибирского мамонта.
— Такого творения природы нет больше нигде в мире.
— Да, Ваше Величество; в России есть много вещей, каких не найдешь больше нигде.
— Вы мне льстите.
— Я слишком чту вас, Ваше Величество, чтобы осмелиться вам льстить, однако уже и не боюсь вас так, как прежде, и высказываю бесхитростно свои мысли, даже когда правда походит на комплимент.
— Ваш комплимент, сударь, весьма тонкий; иностранцы нас балуют.
— Вам, Ваше Величество, было угодно, чтобы я в беседе с вами чувствовал себя непринужденно, и вам это удалось, как удается все, что вы предпринимаете; вы излечили меня от природной робости, по крайней мере на время. Я вынужден был избегать любого намека на главные политические интересы сегодняшнего дня, а потому мне хотелось вернуться к теме, занимавшей меня во всяком случае не меньше, и я добавил:
— Всякий раз, как Ваше Величество дозволяет мне приблизиться, я на себе испытываю власть, что повергла врагов к вашим стопам в день вашего восхождения на престол.
— В вашей стране питают против нас предубеждение, и его победить труднее, чем страсти взбунтовавшихся солдат.
— На вас смотрят слишком издалека; когда бы французы узнали Ваше Величество поближе, то лучше бы вас и оценили; у нас, как и здесь, нашлось бы множество ваших почитателей. Начало царствования уже принесло Вашему Величеству заслуженную славу; во времена холеры поднялись вы столь же высоко, и даже выше, ибо в продолжение этого второго бунта выказали то же всевластие, но смягченное благороднейшей приверженностью к человечности; в минуты опасности силы никогда не изменяют вам.
— Вы воскрешаете в моей памяти мгновения, что были, конечно, прекраснейшими в моей жизни; однако мне они показались самыми ужасными.
— Понимаю, Ваше Величество; чтобы обуздать естество в себе и в других, нужно совершить усилие…
— И усилие страшное, — перебил император с выражением, поразившим меня, — причем последствия его ощущаешь позже.
— Да; но зато вы явили истинное величие.
— Я не являл величия, я всего лишь занимался своим ремеслом; в подобных обстоятельствах никто не может предугадать, что он скажет. Бросаешься навстречу опасности, не задаваясь вопросом, как ее одолеть.
— Господь осенил вас, Ваше Величество; и когда бы возможно было сравнить две столь несхожие вещи, как поэзию и управление государством, то я бы сказал, что вы действовали так же, как поэты слагают песни, — внимая гласу свыше.
— В моих действиях не было ничего поэтического. Сравнение мое, я заметил, показалось не слишком лестным, ибо слово „поэт“ было понято не в том смысле, какой оно имеет в латыни; при дворе принято рассматривать поэзию как игру ума; чтобы доказать, что она есть чистейший и живейший свет души, пришлось бы затеять спор; я предпочел промолчать — но императору, видно, не хотелось оставлять меня в сожалениях о том, что я мог ему не угодить, и он еще долго удерживал меня при себе, к великому удивлению двора; с чарующей добротой он вновь обратился ко мне:
— Каков же окончательный план вашего путешествия?
— После празднества в Петергофе я рассчитываю ехать в Москву, Ваше Величество, оттуда отправлюсь взглянуть на ярмарку в Нижнем, но так, чтобы успеть вернуться в Москву еще до прибытия Вашего Величества.
— Тем лучше, мне было бы весьма приятно, если бы вы ознакомились во всех подробностях с работами, какие я веду в Кремле: тамошние покои были слишком малы; я возвожу другие, более подобающие, и сам объясню вам свой замысел касательно преобразования этого участка Москвы — в ней мы видим колыбель империи. Но вы не должны терять время, ведь вам предстоит одолеть необъятные пространства; расстояния — вот бич России.
— Не стоит сетовать на них, Ваше Величество; это рамы, в которые только предстоит вставить картины; в других местах людям недостает земли, у вас же ее всегда будет в достатке.
— Мне недостает времени.
— За вами будущее.
— Меня обвиняют во властолюбии — но так может говорить лишь тот, кто совсем меня не знает! я не только не желаю еще расширять нашу территорию, но, напротив, хотел бы сплотить вокруг себя население всей России. Нищета и варварство — вот единственные враги, над которыми мне хочется одерживать победы; дать русским более достойный удел для меня важнее, чем приумножить мои владения. Если бы вы только знали, как добр русский народ! сколько в нем кротости, как он любезен и учтив от природы!.. Вы сами это увидите в Петергофе; но мне бы особенно хотелось показать вам его здесь первого января. Затем, возвращаясь к своей излюбленной теме, он продолжал:
— Но стать достойным того, чтобы править подобной нацией, не так легко.
— Ваше Величество успели уже много сделать для России.
— Иногда я боюсь, что сделал не все, что в моих силах. Христианские эти слова, исторгнутые из глубины сердца, до слез тронули меня; впечатление, произведенное ими, было тем большим, что я говорил про себя: император проницательней, чем я, и если бы слова его продиктованы были каким бы то ни было интересом, он бы почувствовал, что произносить их не нужно. Значит, он попросту выказал передо мною прекрасное, благородное чувство- сомнения, терзающие совестливого государя. Сей вопль человечности, исходящий из души, которую все, казалось бы, должно было исполнить гордыни, внезапно привел меня в умиление. Мы беседовали на людях, и я постарался не показать своего волнения; но император, отвечающий не столько на речи людей, сколько на их мысли (силой прозорливости и держится главным образом обаяние его речей, действенность его воли), заметил произведенное им впечатление, которое я пытался скрыть, и, прежде чем удалиться, подошел ко мне, взял дружелюбно за руку и пожал ее, сказав: „До свидания“.
Император — единственный человек во всей империи, с кем можно говорить, не боясь доносчиков; к тому же до сей поры он единственный, в ком встретил я естественные чувства и от кого услышал искренние речи. Если бы я жил в этой стране и мне нужно было что-то держать в тайне, я бы первым делом пошел и доверил свою тайну ему.
Скажу, не заботясь о престиже и требованиях этикета, без всякой лести: он представляется мне одним из первых людей России. По правде говоря, никто другой не удостоил меня такой же откровенности, с какой беседовал со мною император.
Если я прав и в нем действительно более гордости, нежели самолюбия, и более достоинства, нежели высокомерия, то он должен быть доволен теми своими портретами, которые я один за другим рисовал для вас, и в особенности впечатлением, что произвели на меня его слова. По правде сказать, я изо всех сил противлюсь влечению, которое он во мне вызывает. Я, конечно, менее всего революционер, но революция и на меня оказала влияние — вот что значит родиться во Франции и в ней жить! Я нахожу еще одно, лучшее объяснение тому, отчего почитаю своим долгом сопротивляться влиянию на меня императора. По характеру, равно как и по убеждению, я аристократ и чувствую, что одна лишь аристократия может противостоять и соблазнам, и злоупотреблениям абсолютной власти. Без аристократии и от монархии, и от демократии не остается ничего, кроме тирании, а зрелище деспотизма будит во мне невольный протест и наносит удар по всем моим представлениям о свободе, что коренятся в сокровенных моих чувствах и политических верованиях. Деспотизм родится из всеобщего равенства в той же мере, как и из самодержавия: власть одного человека и власть всех приводит к одинаковому результату. При демократии закон есть некое умственное построение; при автократии закон воплощен в одном человеке — но ведь даже и удобнее иметь дело с одним человеком, чем со страстями всех! Абсолютная демократия — это грубая сила, своего рода политический вихрь, который по глухоте своей, слепоте и неумолимости не сравнится с гордыней какого бы то ни было государя!!! Никто из аристократов не может без отвращения смотреть, как у него на глазах деспотическая власть переходит положенные ей пределы; именно это, однако, и происходит в чистых демократиях, равно как и в абсолютных монархиях.
Сверх того мне кажется, что когда бы я был государь, мне бы нравилось общество умов, способных видеть во мне сквозь оболочку властителя простого человека, особенно если бы я, избавленный от титулов и сведенный к самому себе, был вдобавок вправе считаться человеком искренним, надежным и честным. Спросите себя со всей серьезностью и признайтесь, показался ли вам император Николай, каким он предстает в моих рассказах, ниже представления, какое сложилось у вас о его характере до чтения моих писем? Если ответ ваш будет искренним, он послужит мне оправданием.
Благодаря частым прилюдным беседам с государем я свел здесь знакомство со многими людьми, как известными мне прежде, так и неизвестными. Многие особы из тех, с кем я встречался в других местах, теперь, увидав, что я сделался предметом особенного расположения со стороны повелителя, кидаются мне на шею; особы эти, заметьте, из первых при дворе, но таково уж обыкновение людей светских, и особенно состоящих при должности, — они скупятся на все, кроме тщеславных расчетов. Чтобы жить при дворе и сохранять при этом чувства более высокие, нежели у черни, надобно быть одаренным благороднейшей душой; а благородные души редки. Не устану повторять: в России нет знати, ибо нет независимых характеров; число избранных душ, составляющих исключение, слишком мало, чтобы высший свет следовал их побуждениям; человека делает независимым не столько богатство или хитростью достигнутое положение, сколько гордость, какую внушает высокое происхождение; а без независимости нет и знати. Эта страна, столь отличная от нашей во многих отношениях, в одном все же походит на Францию: в ней отсутствует общественная иерархия. Благодаря этой прорехе политического устройства в России, как и во Франции, существует всеобщее равенство; поэтому и в одной, и в другой стране основная масса людей испытывает беспокойство ума — у нас ее волнение громогласно, в России же политические страсти все направлены в одну точку. Во Франции кто угодно может достигнуть всего, если начнет с трибуны; в России — если начнет с двора; последний холоп, коли он сумеет угодить повелителю, назавтра может стать первым лицом после императора. Как у нас в стране стремление к популярности производит дивные метаморфозы, так и здесь милость сего божества — приманка, ради которой честолюбцы совершают настоящие чудеса. В Петербурге становятся законченными льстецами, как в Париже — несравненными ораторами. Какой дар наблюдательности явили русские придворные, обнаружив, что один из способов понравиться императору — это разгуливать зимой по петербургским улицам без сюртука! Сия героическая лесть, обращенная прямо — к погоде, а косвенно — к повелителю, стоила жизни не одному честолюбцу. Но честолюбец — сказано слишком сильно, ибо здесь льстят бескорыстно. Как вы понимаете, в стране, где принято угождать подобным образом, не угодить легко. Две фанатические страсти, простонародная гордыня и рабское самоотречение царедворца, схожи между собою сильнее, нежели представляется с виду, и творят чудеса: первая возносит слово до высот истинного красноречия, вторая дарует силу молчания; но обе влекутся к единой цели. И оттого умы под гнетом безграничного деспотизма пребывают в таком же волнении и терзаниях, как и при республике, с той лишь разницей, что при автократии молчаливое беспокойство подданных ведет к глубокой душевной смуте, ибо честолюбец, желающий преуспеть при абсолютистском способе правления, вынужден таить свою страсть. У нас, чтобы жертвы пошли на пользу, они должны быть публичными; здесь же, напротив, о них никто не должен знать. Самодержец никого так не ненавидит, как подданного, который открыто ему предан; всякое усердие, выходящее за рамки слепого, рабского повиновения, для него несносно и подозрительно; ведь исключения открывают врата для притязаний, притязания превращаются в права, а подданный, полагающий, будто у него есть права, в глазах деспота — бунтовщик.
Правоту этих замечаний мог бы подтвердить фельдмаршал Паскевич: его не рискуют вовсе уничтожить, но всеми силами обращают в ничто.
До нынешнего путешествия мои идеи касательно деспотизма были подсказаны наблюдениями, сделанными над австрийским и прусским обществом. Я и не предполагал, что государства эти только называются деспотическими, на самом же деле в них к ис-. правлению государственных установлений служат нравы; я говорил себе: „Тамошние народы, которыми правят деспотически, кажутся мне счастливейшими на земле; стало быть, деспотизм, умеренный мягкостью обычаев, вещь вовсе не такая отвратительная, как утверждают наши философы“; я еще не знал, что такое сочетание абсолютного способа правления и нации рабов.
Нужно приехать в Россию, чтобы воочию увидеть результат этого ужасающего соединения европейского ума и науки с духом Азии; я нахожу союз этот тем более страшным, что продлиться он может еще долго, ибо страсти, которые в иных странах губят людей, заставляя их слишком много болтать, — честолюбие и страх, здесь порождают молчание. Из насильственного молчания этого возникает невольное спокойствие, внешний порядок, более прочный и жуткий, чем любая анархия, ибо, повторяю, недуг, им вызванный, кажется вечным.
В политике я признаю лишь несколько основополагающих идей, потому что применительно к способу правления верю более в действенность обстоятельств, нежели в силу принципов; но безразличие мое простирается не настолько, чтобы попустительствовать порядкам, при которых, как мне кажется, в характерах людей истребляется всякое достоинство. Быть может, независимое правосудие и сильная аристократия привнесли бы покой в умы русских людей, величие в их души, счастье в их страну; не думаю, однако, чтобы император помышлял о подобном способе улучшить положение своих народов: каким бы возвышенным ни был человек, он не откажется по доброй воле от возможности самолично устроить благо ближнего. Впрочем, по какому праву стали бы мы попрекать российского императора его властолюбием? разве тирания революции в Париже уступает чем-то тирании деспотизма в Санкт-Петербурге?
И все же наш долг перед самими собой — сделать здесь одну оговорку и установить различие в общественном устройстве обеих стран. Во Франции революционная тирания есть болезнь переходного времени; в России деспотическая тирания есть непрерывная революция. Вам очень повезло, что я отвлекся от темы своего письма: приступая к нему, я намеревался описать ярко освещенный театр, парадное представление и разобрать пантомиму — перевод (русское выражение) одного французского балета. Когда бы я вспомнил об этом, моя скука передалась бы и вам: помпезность драматического действа утомила меня, но не ослепила, несмотря на золоченые одеяния зрителей; да к тому же без мадемуазель Тальони в петербургской Опере танцуют холодно и окостенело, как на; любом европейском театре, когда танец исполняется не первыми в мире талантами; присутствие же двора не подогревало никого, ни актеров, ни зрителей. Как вам известно, рукоплескания при государе запрещены. Искусства в Петербурге вымуштрованы и производят на заказ интермедии, годные для того, чтобы развлекать солдат в перерывах военных упражнений. Все это более или менее великолепно, устроено по-королевски, по-императорски… — но не увлекательно. Артисты здесь сколачивают богатство; вдохновение их не посещаете богатство и изысканность полезны для талантов, но действительно: необходимы им хороший вкус и свободомыслие публики, которая о них судит. Русские еще не достигли той точки в развитии цивилизации, когда возможно испытывать подлинное наслаждение от искусства. Энтузиазм их в этой области и поныне есть не что иное, как чистое тщеславие, одно из их притязаний. Пусть народ этот обратится к самому себе, прислушается к своему первородному гению, и — коли небо одарило его чутьем к искусствам, — он откажется от копирования и станет производить на свет то, чего от него ожидают Господь и природа; а до тех пор вся помпезность вместе взятая никогда не сравнится для тех редких русских — истинных любителей прекрасного, что прозябают в Петербурге, — с пребыванием в Париже или путешествием в Италию. Зал Оперы сооружен по чертежам залов в Милане и Неаполе; но те благороднее и производят более гармоническое впечатление, нежели все подобного рода постройки, какие я до сих пор видел в России.
ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ
Население Петербурга. — Чему следует верить в рассказах русских. — Четверня. — Безлюдность улиц. — Изобилие колонн. — Характер архитектуры при деспотизме. — французские архитекторы. — Площадь Каррузель в Париже. — Площадь Грандука во Флоренции. — Невский проспект. — Деревянная мостовая. — Истинные черты славянского города. — Ледоход. — Повторяющийся переворот в природе. — Внутреннее убранство жилищ. — Русская постель. — Как спит прислуга. — Визит к князю ***. — Садовые беседки в салонах. — Красота славян. — Взор мужчин, принадлежащих к этой расе. — Их необычный вид. — Русские кучера. — Их ловкость. — Их молчаливость. — Кареты. — Упряжь. — Мальчик-форейтор. — Тяжкая участь кучеров и наемных лошадей. — Люди, умирающие от холода. — Суждение на сей счет одной русской дамы. — Цена жизни в этой стране. — фельдъегерь. — Что он собой воплощает. — Как деспотизм воздействует на воображение. — Что поэтического в атом способе правления. — Контраст между людьми и вещами. — Славянский характер. — Живописная архитектура церквей. — Русские кареты и экипажи. — Шпили крепости и Адмиралтейства. — Бесчисленные колокольни. — Описание городского ансамбля Петербурга. — Особенный вид Невы. — Противоречие, заложенное в вещах. — Красоты сумерек. — Природа прекрасна даже вблизи полюса. — Религиозная идея. — Тевтонские расы антипатичны русским. — Славяне правят Польшей. — Некоторые черты сходства между русскими и испанцами. — Влияние различных рас в истории. — Жара, что стоит нынешним летом. — Как запасаются дровами на зиму. — Повозки, на которые их грузят. — Ловкость русского народа. — Эпоха испытаний для него. — Топливо в Петербурге редкость. — Расточительная вырубка лесов. — Русские повозки. — Скверные орудия труда. — Северные римляне. — В каких отношениях состоят народы со своими правительствами. — Лодки с сеном на Неве. — Русский маляр. — Уродство и нечистоплотность женщин-простолюдинок. — Красота мужчин. — Женщины в Петербурге редки. — Память об азиатских нравах. — Неизбежная тоска военного города.
Петербург, 22 июля 1839 года
Если верить на слово русским — большим патриотам, то населения в Петербурге четыреста пятьдесят тысяч душ, не считая гарнизона; но люди знающие и, следственно, почитаемые здесь злонамеренными заверяют меня, что оно не достигает и четырехсот тысяч вместе с гарнизоном. Верно одно: сей дворцовый город с его необъятными пустыми пространствами, какие именуются площадями, напоминает разгороженное дощатыми заборами поле. В кварталах, удаленных от центра, преобладают маленькие деревянные домишки.
Русские — выходцы из сообщества племен, которые долгое время были кочевниками и всегда отличались воинственностью; они еще не вполне позабыли бивуачную жизнь. Все народы, недавно переселившиеся из Азии в Европу, стоят в ней лагерем, словно турки. Петербург — это армейский штаб, а не столица нации. Как бы ни был великолепен этот военный город, в глазах западного человека он выглядит голым.
Расстояния — бич России, сказал мне император; справедливость этого замечания можно проверить прямо на петербургских улицах: по ним разъезжают в карете, запряженной четверкой лошадей, с кучером и форейтором, и отнюдь не из любви к роскоши. Нанести визит здесь означает совершить целое путешествие. Русские лошади, нервные и полные огня, уступают нашим в мускульной силе; скверная мостовая их утомляет, двум лошадям было бы трудно тянуть долгое время по петербургским улицам обычную карету; так что четверня есть предмет первой необходимости для всякого, кто хотя бы изредка хочет выезжать в свет. Право иметь карету с четверкой лошадей получают не все местные жители; это дозволено лишь особам, достигшим определенного положения. Не успев удалиться от центра города, вы теряетесь среди пустырей, по краям которых стоят бараки, возведенные, как кажется на первый взгляд, для рабочих, что собраны тут временно на какой-то большой стройке. Это фуражные амбары, сараи с одеждой и всякого рода припасами для солдат; чувствуешь себя тут как в минуты смотра или накануне ярмарки, которая не начнете!» никогда. Так называемые улицы эти заросли травой, они всегда пустынны, ибо чересчур просторны для передвигающегося по ним населения. Столько здесь пристроили к домам перистилей, столько портиков украшают казармы, выдающие себя за дворцы, такой пышностью заемного убранства отмечено было возведение этой временной столицы, что на площадях Петербурга я чаще встречаю колонны, нежели людей; эти площади всегда молчаливы и печальны — до причине обширности своей и, главное, непогрешимой правильности, Угольник и шнур настолько отвечают взгляду на мир абсолютных монархов, что прямые углы стали камнем преткновения деспотической архитектуры. Архитектура живая, если можно так выразиться, возникает не по приказу; она, так сказать, родится из себя самой и проистекает из герия и потребностей народа как будто без участи воли. Создать великую нацию непременно означает и дать начало определенной архитектуре; не удивлюсь, если в конце концов будет доказано, что неповторимых архитектур столько же, сколько естественных языков. Впрочем, не одни только русские одержимы симметрией. У нас она — наследие империи. Не будь французские архитекторы заражены этим дурным вкусом, мы бы давно уже имели разумный план, как нам украсить и достроить чудовищную площадь Каррузель; но потребность в параллельных линиях стопорит все дело.
Когда гениальные художники один за другим, соединяя усилия, превращали площадь Грандука во Флоренции в одно из прекраснейших на свете мест, их не тиранила страсть к прямым линиям и симметричным памятникам, они понимали прекрасное в свободных его проявлениях, вне прямоугольников и квадратов. Строительство Петербурга было подчинено математически точному глазомеру — за отсутствием художественного чувства и свободных творений фантазии, что возрастают на народных задатках и являются их выражением. И потому, проезжая по этой родине бесталанных памятников, нельзя ни на миг забыть, что город сей — порождение одного человека, а не целого народа. Замысел творца кажется узким, хотя размеры творения его громадны: это оттого, что приказу подчиняется все, кроме грации, сестры воображения.
Главная улица Петербурга — Невский проспект, один из трех проспектов, что ведут к дворцу Адмиралтейства. Три эти улицы, расходясь лучами, делят южную часть города на пять правильных частей и придают ей, подобно Версалю, форму веера. Сам город этот частично моложе порта, возведенного Петром I возле островов, и, невзирая на железную волю своего основателя, простерся и на левом берегу Невы; на сей раз страх перед наводнением пересилил страх оказать непослушание, и тирания природы одержала победу над деспотом. Невский проспект заслуживает того, чтобы я вам описал его достаточно подробно. Это красивая улица длиною в лье и шириною с наши бульвары; кое-где на ней посажены деревья, такие же чахлые, как в Париже; здесь фланируют и назначают свидания все праздные гуляки города. По правде сказать, таких немного, ибо ходят тут вовсе не ради того, чтобы ходить: каждый шаг каждого из прохожих имеет свою, не связанную с удовольствием цель. Передать приказ, засвидетельствовать свое почтение, выказать повиновение господину, кто бы он ни был, — вот мотивы, приводящие в движение большую часть населения в Петербурге и во всей империи.
Мостовой на атом бульваре, именуемом перспективой, служат отвратительные круглые булыжники. Но здесь, равно как и на некоторых других главных улицах города, по крайней мере вделаны между камней, вровень с ними, деревянные плашки, по которым катятся колеса экипажей; сии отменные пути образуются из мозаики глубоко забитых еловых брусков квадратного или восьмиугольного сечения. Каждый путь состоит из двух полос в два-три фута шириною, разделенных обычными булыжниками, по которым ступает коренник; два таких пути, то есть четыре деревянных полосы, проложены вдоль Невского проспекта, один справа, другой слева, в отдалении от домов, которые отделены от них еще и рядом плит; каменные площадки эти служат тротуарами для пешеходов, прекрасными дорожками для гулянья, ничего общего не имеющими с убогими дощатыми тротуарами, какие и поныне позорят некоторые удаленные улицы. Итак, четыре линии плиток ведут по этому прекрасному, обширному проспекту, который, становясь незаметно все безлюднее и, соответственно, все уродливее и печальнее, продолжается до той неопределенной черты, где кончается жилой город, то есть до самой границы азиатского варварства, от века осаждающего Петербург, — на оконечности самых роскошных его улиц непременно обнаружишь пустыню. Чуть дальше Аничкова моста вам попадается улица под названием Елогная, которая ведет к пустыне, именуемой «Александровская площадь». Сомневаюсь, чтобы император Николай хоть раз в жизни видел эту улицу. Пышный город, возведенный Петром Великим, украшенный Екатериной II, протянутый прямо, как стрела, всеми прочими государями через болотистую, вечно затопляемую песчаную равнину, в конце концов теряется в ужасающей мешанине лавок и мастерских, среди груды безымянных зданий и обширных, непрочерченных площадей; из-за врожденной неорганизованности и нечистоплотности народа, живущего в этой стране, площади последние сто лет загромождены обломками всякой всячины и нечистотами любого свойства. Вся эта дрянь год за годом копится в русских городах, оспаривая притязания немецких государей, что мнят, будто воистину послужили просвещению славянских народов. Как бы сильно ни извратило иго, навязанное этим народам, их первоначальный характер, он обязательно сказывается хоть в каком-нибудь уголке их городов, принадлежащих деспотам, и домов, принадлежащих рабам; да если и есть у них вещи, какие называются городами и домами, то не потому, что эти вещи им нравятся или они ощущают в них нужду, но потому, что им говорят: их надобно иметь, либо, скорее, терпеть, дабы шагать в ногу с древними цивилизованными расами Запада; а главное, потому, что когда бы им вздумалось спорить с людьми, которые по-военному наставляют их и ведут за собой, то люди эти, капралы и педагоги одновременно, погнали бы их кнутом обратно на азиатскую родину. Бедные экзотические птицы, оказавшиеся в клетке европейской цивилизации, они — жертвы мании или, вернее сказать, глубоко рассчитанных устремлений честолюбцев-царей, грядущих завоевателей мира: те прекрасно знают, что прежде чем нас покорить, следует подражать нам всегда и во всем. Калмыцкая орда, что разбила лагерь в лачугах, окружив скопление античных храмов; греческий город, спешно возведенный для татар, словно театральные декорации, декорации блистательные, но безвкусные, призванные обрамлять собою подлинную и ужасную драму, — вот что сразу же бросается в глаза в Петербурге.
Я писал уже о бедных деревьях, обреченных служить украшением Невскому проспекту; несчастные, чахлые березки едва живы и скоро будут являть зрелище не менее жалкое, чем вязы на бульварах и Елисейских полях в Париже, которые медленно угасают на наших глазах, сраженные прямо в сердце лавочниками, которым они заслоняют свет, иссушенные газом и наполовину погребенные под асфальтом; горестная эта картина предстает каждое лето перед завсегдатаями кафе Тортони и Олимпийского цирка. Удел петербургских деревьев ничем не лучше: летом их разъедает пыль, зимой застилает снег, а потом оттепель сдирает с них кору, губит ветви и корни.
Природа и история никак не затронули русскую цивилизацию; ничто в ней не вышло из почвы или из народа — прогресса не было, в один прекрасный день все ввезли из-за границы. В этом триумфе подражательства больше ремесла, нежели искусства: здесь то же различие, как между гравюрой и рисунком. Дар гравера проявляется только в воплощении чужих идей. Говорят, ни один чужеземец не в силах представить себе сумятицу, которая царит на улицах Петербурга во время таяния снегов. Нева, вскрывшись, две недели несет громадные льдины; все это время мосты разведены, всякое сообщение между двумя основными частями города на несколько дней прерывается, многие кварталы бывают отрезаны от города. Мне рассказывали, как из-за невозможности в те бедственные дни послать за врачом одно значительное лицо скончалось. Улицы в этот период напоминают русла бурных потоков, и всякий год наводнение, схлынув, оставляет на них баррикады. Мало какой политический кризис сумел бы причинить столько бедствий, как этот периодический бунт природы против неполной и невозможной цивилизации.
С тех пор, как мне описали петербургскую оттепель, я перестал бранить мостовые, пусть и никуда не годные, — ведь их приходится восстанавливать каждый год. Воистину это торжество человеческой воли — одиннадцать месяцев в году разъезжать в карете по городу, над которым так основательно потрудились полярные зефиры.
После полудня по Невскому проспекту, большой Дворцовой площади, по набережным и мостам движется довольно много экипажей всякого рода и самых необычных форм; их перемещение слегка оживляет этот обычно тоскливый город, самую однообразную из европейских столиц. Это точная копия какой-нибудь из германских столиц, только в более крупном масштабе. Внутреннее убранство жилищ тоже тоскливо: несмотря на роскошную обстановку, что вся, на английский лад, громоздится в нескольких комнатах, отведенных для приемов, в темноте дома смутно виднеется и грязь, и исконный, неистребимый беспорядок — напоминание об Азии. Из домашней мебели меньше всего в ходу у русских кровать. Женская прислуга спит на полатях, похожих на те, какие существовали когда-то во французских привратницких, а мужчины валяются по ночам на полу, на подушках, брошенных на лестнице, в передней и даже, говорят, в гостиной. Нынче утром был я с визитом у князя ***. Он знатный вельможа, но притом разорившийся, увечный, больной и страждущий водянкой; он настолько немощен, что не в силах подняться, и, однако ж, лечь ему некуда — я хочу сказать, у него нет того, что в странах с древней цивилизацией называется кроватью. Живет он в доме сестры, которая теперь в отлучке. Совсем один в недрах пустынного дворца, он проводит ночи на деревянной лавке, поверх которой положен ковер и несколько подушек. Отнести это на счет прихотливого вкуса данного человека невозможно: во всех русских домах, где мне случалось бывать, я видел, что ширма так же необходима для постели славян, как мускус — для них самих, ибо она отличается той же глубинной нечистоплотностью, отнюдь не всегда исключающей внешний лоск. Иногда здесь заводят парадную кровать, предмет роскоши, который выставляют напоказ в угоду европейской моде, но которым никогда не пользуются. В жилищах у некоторых русских, которым присущ изысканный вкус, встречается особенное украшение — искусственный садик в углу гостиной. Три длинных ящика с цветами отгораживают одно из окон, и образуется зала из зелени (алыпана), нечто вроде беседки наподобие садовой. Над ящиками сооружен штакетник или перила в высоту человеческого роста, из дорогого, порой позолоченного дерева. Этот маленький открытый будуар оплетен плющом и другими вьющимися растениями; они, карабкаясь вверх по решетке, приятно выглядят посреди обширного, сверху донизу позолоченного и заставленного мебелью помещения: в блестящем салоне глаз отдыхает на островке зелени и свежести, а они в этой стране роскошь. Внутри восседает у стола хозяйка дома; подле нее виднеются несколько стульев — два-три человека самое большее могут одновременно зайти в это убежище, не слишком надежное, но достаточно. укромное, чтобы дать простор воображению.
Мне показалось, что этот своеобразный комнатный боскет выглядит приятно, а замысел его разумен в стране, где всякий личный разговор должен оставаться в тайне. Полагаю, что обычай этот перенесен из Азии. Я не удивлюсь, если искусственный сад из русских гостиных однажды обнаружится в каком-нибудь парижском доме. Он бы не повредил убранству тех жилищ, где обитают самые модные теперь во Франции супруги государственных мужей. Я был бы рад этому нововведению — уже из одного только желания насолить англоманам, которым никогда не прощу зла, причиненного хорошему вкусу и истинно французскому духу.
У славян, когда они красивы, тонкий, изящный стан, от которого, однако, веет силой; у них у всех миндалевидный разрез глаз, а взгляд бегающий и плутоватый, азиатский. Глаза могут быть и черные, и голубые, но они всегда прозрачны и отличаются живостью, переменчивостью и большим обаянием, ибо умеют смеяться.
Народ этот серьезен больше по необходимости, чем от природы, и осмеливается смеяться не иначе как глазами; говорить этим людям не разрешают, но взгляд, одушевленный молчанием, восполняет недостаток красноречия — столько страсти придает он лицу. В нем почти всегда светится ум, иногда кротость и покой, чаще — тоска, доходящая до свирепости; чем-то он напоминает взгляд попавшего в западню зверя.
Люди эти — прирожденные возницы; в них, как в лошадях, которыми они правят, чувствуется порода; благодаря их необычному облику и легкому бегу их коней зрелище петербургских улиц делается весьма занятно. Так что город этот не похож ни на один из европейских городов по милости своих жителей — и вопреки архитекторам.
Русские кучера держатся на сиденьях очень прямо; лошадей они всегда пускают во весь опор, но правят уверенно, хоть и грубовато: у них на удивление точный и быстрый глаз; правя и парой, и четверней, они всегда держат по две вожжи от каждой лошади и сжимают их крепко, обеими руками, которые вытягивают вперед и отставляют весьма далеко от туловища; никакое препятствие их не остановит. Полудикие люди и животные мчатся по улицам города с пугающе бесшабашным видом; но природа наделила их проворством и ловкостью, так что уличные происшествия в Петербурге редки, несмотря на крайнее удальство кучеров. Зачастую у них нет кнута, а когда и есть, то такой короткий, что пользоваться им невозможно. Не управляют они и голосом, а действуют только вожжами и удилами. Вы можете часами бродить по Петербургу и ни разу не услышать крика. Если пешеходы не спешат посторониться, форейтор (ямщик, который в четверне садится на переднюю правую лошадь) испускает короткий визг, вроде пронзительных воплей сурка, поднятого в норе; заслышав этот угрожающий звук, что означает: «Посторонитесь!», все расступаются, и вот уже карета, словно по волшебству, летит вдаль, не замедлив ходу. Экипажи здесь почти всегда безвкусны и дурно содержатся; в них, скверно вымытых, скверно выкрашенных и еще более скверно покрытых лаком, нет подлинного изящества; если же кто заводит английскую карету, она недолго выдерживает петербургские мостовые и побежку русских лошадей. Их сбруя, прочная, легкая и приятная на вид, сделана из отменной кожи; в общем, несмотря на нерадивость конюхов и недостаток воображения у рабочих, все вместе экипажи имеют вид своеобразный и живописный, каковой в известной мере искупает отсутствие тщательного ухода за ними, о котором так пекутся в других странах; поскольку же вся знать выезжает непременно четверней, то придворные церемонии выглядят весьма пышно, даже если глядеть на них с улицы. В ряд четверку лошадей запрягают только для путешествий и долгих загородных поездок; в Петербурге лошади всегда идут попарно; постромки у них непомерной длины, мальчик, направляющий передних лошадей, одет, равно как и кучер, по-персидски — впрочем, одеяние это, называемое «армяк», подходит только для того, кто сидит на козлах, верхом ехать в нем неудобно; но несмотря на этот изъян в одежде, русский форейтор проворен и смел. Не в моих силах описать, сколь серьезны, молчаливо горды, ловки и невозмутимо безрассудны эти славянские плутишки; всякий раз, гуляя по городу, радуюсь я их дерзости и сноровке — потому и пишу о них часто и в подробностях; больше того, они выглядят счастливыми — а здесь это встречается реже, чем в других странах.
Испытывать удовлетворение от хорошо исполненного дела есть свойство человеческой природы; русские кучера и форейторы, самые ловкие в мире, могут быть довольны своим положением, весьма, впрочем, тяжелым. Нужно еще добавить, что те, кто состоит в услужении у знатных особ, пекутся об изяществе своего облика и имеют ухоженный вид, но наемные лошади и убогие возницы будят во мне сострадание — настолько тяжка их жизнь: с утра до вечера остаются они на улице, у ворот своего нанимателя, либо на отведенных полицией местах. Лошадей не распрягают, и кучера всегда сидят на облучке, там же и едят, не отлучаясь ни на минуту. Бедные лошади!.. людей мне жаль меньше — русский находит вкус в рабстве. Корм и воду лошадям задают в переносных колодах, поставленных на козлы; так что заказывать карету нет нужды: всякий раз, как вы пожелаете куда-нибудь выехать, вы найдете ее уже готовой. Подобную жизнь, однако, кучера ведут только летом; по зиме для них на самых людных площадях сооружают сараи. Вокруг этих убежищ, поблизости от театров, дворцов и всех тех мест, где бывают празднества, разводятся большие костры, у которых греется прислуга; однако ж в январе месяце ни один бал не обходится без того, чтобы ночью один-два человека не замерзли на улице насмерть; самые меры предосторожности не столько позволяют отвести опасность, сколько свидетельствуют о ее наличии, а упрямое нежелание русских признавать факт, о котором я вам сообщаю, служит для меня подтверждением его правдивости. Одна женщина, которую я настойчиво расспрашивал на сей предмет, оказалась откровеннее других и отвечала: «Возможно, но мне никогда не доводилось об этом слышать». Такое отпирательство стоит ценного признания. Надо побывать здесь, чтобы узнать, какие размеры может принимать презрение богатого человека к жизни бедняка, и понять, насколько малую ценность вообще имеет жизнь в глазах человека, обреченного жить при абсолютизме.
В России жить трудно всем: император здесь привычен к усталости не меньше последнего из крепостных. Мне показали его постель — наши землепашцы подивились бы жесткости этого ложа. Здесь все вынуждены твердить себе суровую истину- что цель жизни лежит не на земле и удовольствие не тот способ, каким можно ее достигнуть.
Перед вами всякую минуту возникает образ неумолимого долга и покорности, не позволяя забыть о жестоком условии человеческого существования- труде и страдании! В России вам не позволят прожить, не жертвуя всем ради любви к земному отечеству, освященной верой в отечество небесное. Временами посреди публичного гулянья случается мне встретить несколько зевак, которые заставляют меня впасть в заблуждение и поверить, будто в России, как и повсюду, есть, может статься, люди, что развлекаются ради развлечения, люди, для которых удовольствие — тоже занятие в жизни; но я мигом прихожу в разум при виде фельдъегеря, молча несущегося вскачь на своей телеге. Фельдъегерь есть человек власти; он — слово господина; он — живой телеграф, что везет повеление другому человеку, пребывающему, как и он сам, в неведении относительно замысла, который приводит в движение их обоих; сей второй автомат ожидает его за сотню, тысячу, полторы тысячи лье в императорских владениях. Телега, на какой пускается в путь железный человек, — самая неудобная из всех дорожных карет. Вообразите себе маленькую повозку с двумя обитыми кожей скамейками, без рессор и без спинки; никакой другой экипаж не годится для проселков, какими кончаются покуда все большие дороги, проложенные сквозь эту темную и дикую империю. Передняя скамейка предназначена форейтору или кучеру, что сменяют один другого на каждом перегоне, задняя — курьеру, что путешествует до самой смерти, а она у людей, исполняющих это тяжелое ремесло, наступает рано.
Я вижу, как мчатся они во всех направлениях по прекрасным городским улицам, и в воображении моем тотчас возникают безлюдные просторы, в которые им предстоит углубиться; мысленно я следую за ними, и в конце их пути являются мне Сибирь, Камчатка, солончаки, Китайская стена, Лапландия, Ледовитое море, Новая Земля, Персия, Кавказ; названия эти, исторические, почти сказочные, действуют на ум мой так же, как теряющийся в дымке отдаленный пейзаж; но представьте себе, сколь удручена бывает душа мечтаниями подобного рода!.. И тем не менее эти глухие, слепые и немые курьеры появлением своим не устают доставлять воображению чужестранца поэтическую пищу. Человек, рожденный, чтобы жить и умереть в своем возке, и хранящий в своем портфеле судьбы мира, уже сам по себе сообщает печальный интерес мельчайшим жизненным сценкам; перед лицом таких страданий и такого величия в мыслях не остается места для прозы. Деспотизм делает несчастными народы, которые подавляет; но нельзя не признать, что изобрели его для удовольствия путешественников, каковых он всечасно повергает в удивление. При свободе все предается огласке — и забвению, ибо взгляд не задерживается ни на чем; при абсолютистском правлении все скрыто от глаз, но все угадывается, и отсюда родится живой интерес — запоминаешь и примечаешь ничтожнейшие обстоятельства, всякая беседа движима подспудным любопытством и обретает большую остроту благодаря тайне и благодаря самому отсутствию внешней занимательности; ум здесь прячется под покрывалами, как мусульманская красавица; пусть жители страны с подобным образом правления не могут веселиться от чистого сердца, зато чужестранец, по правде говоря, не может здесь скучать. Чем меньше возможности судить о сущности вещей, тем больше интереса должна вызывать их внешняя оболочка. Сам я чересчур много думаю о том, чего не могу увидеть, чтобы вполне удовлетвориться тем, что вижу; и все же зрелище это хоть и огорчает меня, но кажется захватывающим.
У России нет прошлого, говорят любители древности. Это так, но будущее и простор дают здесь пищу самому пылкому воображению. У философа в России жалкая участь, поэту же здесь может и должно нравиться. Воистину несчастны лишь те поэты, кто обречен чахнуть при режиме гласности. Когда все могут говорить все что угодно, поэту остается только умолкнуть. Поэзия есть таинство, позволяющее выразить нечто большее, чем слова; ей нет места у народов, утративших стыдливость мысли. Истина в поэзии — это видение, аллегория, аполог; но в странах, где царит гласность, истину эту убивает реальность, которая всегда слишком груба с точки зрения фантазии. Гению там недостает поэтичности: он продолжает творить, исходя из своей природы, но не способен сотворить ничего завершенного.
В душу русских, народа насмешливого и меланхолического, природа, должно быть, вложила глубокое чувство поэтического — ведь им удалось придать неповторимый и живописный облик городам, построенным людьми, что были начисто лишены воображения, к тому же в самой унылой, однообразной и голой стране на свете. Нескончаемые равнины, мрачное, плоское безлюдье — вот что такое Россия. Но когда б я мог показать вам Петербург с его улицами и обитателями таким, каким он предстает передо мной, я бы в каждой строчке описывал жанровую сценку, — столь мощно восстает славянский национальный гений против бесплодной одержимости своего правительства. Это антинациональное правительство продвигается вперед только посредством военных эволюции — оно вызывает в памяти Пруссию при ее первом короле.
Я описал вам город, лишенный собственного лица, скорее пышный, нежели величавый, не столько красивый, сколько обширный, набитый безвкусными зданиями, что не имеют ни стиля, ни исторической ценности. Но для полноты, то есть правдивости, картины следовало бы одновременно представить вашему взору людей, передвигающихся в атом претенциозном и смешном обрамлении, людей от природы изящных, которые, повинуясь своему восточному гению, сумели освоить город, выстроенный для несуществующего народа, — ибо Петербург создавали люди богатые(190), чей ум сложился благодаря сравнению различных европейских стран, но не глубокому изучению их. Этот легион путешественников, более или менее утонченных, не столько ученых, сколько набравшихся опыта, являл собою искусственную нацию, подбор образованных, быстрых умов, привлеченных из всех существующих на свете наций; то не был русский народ — русский народ лукав, словно раб, что утешается, посмеиваясь про себя над своим ярмом; он суеверен, хвастлив, отважен и ленив, словно солдат; он поэтичен, музыкален и рассудителен, словно пастух, — ибо обычаи кочевых рас еще долго будут господствовать меж славян; все это не согласуется ни со стилем зданий, ни с расположением петербургских улиц; архитектор тут явно оторван от жителя. Европейские инженеры прибыли сюда учить московитов, как им возвести и отделать столицу, достойную восхищения Европы, а те, привыкнув к военному послушанию, подчинились власти приказа. Петр Великий построил Петербург не так ради русских, как, в гораздо большей мере, против шведов; однако естество народа нашло себе выход, невзирая на почтение к прихотям повелителя и недоверие к самому себе; именно эта непроизвольная непокорность и наложила на Россию печать неповторимости: изначальный характер ее жителей оказался неистребим; это торжество врожденных свойств над дурно направленным воспитанием — зрелище любопытное для всякого путешественника, способного его оценить.
Счастье для живописца и для поэта, что русские в высшей степени набожны: по крайней мере их церкви принадлежат только им; незыблемость формы религиозных зданий составляет часть культа, и суеверие обороняет эти богоугодные крепости против мании выстраивать из тесаного камня геометрические фигуры, прямоугольники, плоскости и прямые линии, — иначе говоря, против архитектуры не столько классической, сколько военной; из-за нее любой город в этой стране имеет вид походного лагеря, разбитого на несколько недель, пока продолжаются большие маневры.
Кочевнический дух дает о себе знать и в русских повозках, каретах, упряжи, сбруе. Вообразите себе целые рои, тучи дрожек, что катятся, едва не задевая днищем мостовую, среди весьма приземистых домов, над которыми, однако, высятся шпили множества церквей и нескольких знаменитых исторических зданий; все это в целом если не красиво, то во всяком случае удивительно. Позолоченные или крашеные иглы ломают уныло-ровные линии городских крыш; острия их, пронзающие небо, столь тонки, что глаз с большим трудом различает точку, в которой позолота гаснет в тумане полярного поднебесья. Самые примечательные — шпиль крепости, корня и колыбели Петербурга, и шпиль Адмиралтейства, одетый в золото голландских дукатов, что были подарены царю Петру республикой Соединенных Провинций. По высоте и дерзновенности эти монументальные плюмажи, копирующие, говорят, те азиатские уборы, какие украшают здания в Москве, представляются мне поистине необычайными. Невозможно понять, ни каким образом держатся они в воздухе, ни как их там установили; это истинно русское украшение. Представьте же несметное число соборов о четырех колоколенках, заимствованных у византийцев. Вообразите множество куполов: посеребренных, золоченых, лазурных, звездчатых, и крыши дворцов, покрытые изумрудной или ультрамариновой краской; площади, украшенные бронзовыми статуями в честь главных исторических деятелей и императоров России; поместите картину эту в раму громадной реки, что в ясные дни служит зеркалом для всех предметов, а в бурные — выгодным контрастом для них; прибавьте к этому понтонный Троицкий мост, переброшенный через Неву в самом широком ее месте, между Марсовым полем, в просторах которого теряется статуя Суворова, и крепостью, где в скромных могилах без всяких украшений покоятся Петр Великий с семейством;[34] припомните, наконец, что гладь неизменно полноводной Невы лежит вровень с землей и обтекает остров посередине города, — остров, обрамленный со всех сторон зданиями с греческими колоннами и гранитным фундаментом, что возведены по образцу языческих храмов; и если вам удастся охватить взором весь ансамбль Петербурга, вы поймете, почему город этот бесконечно живописен, несмотря на свою заемную, дурного вкуса архитектуру, несмотря на болотистый оттенок подступающих к нему полей, несмотря на совершенно плоский, не знающий холмов ландшафт и бледность ясных летних дней в тусклом климате севера.
Река, почти неподвижная на подступах к устью, где море зачастую заставляет ее остановиться совсем или даже повернуть вспять, придает особое своеобразие этому пейзажу.
Не нужно уличать меня в противоречиях, я заметил их прежде вас, но не хочу их избегать, ибо они заложены в самих вещах; говорю это раз и навсегда. Как дать вам реальное представление обо всем, что я описываю, если не противореча самому себе на каждом слове? Когда бы я был не так откровенен, то казался бы вам более последовательным; вспомните, однако, что истина и в физическом, и в нравственном мироустройстве есть лишь совокупность контрастов столь кричащих, что можно вообразить, будто природа и общество только для того и созданы, чтобы скрепить элементы, чуждые друг другу и взаимно друг друга исключающие.
Ничего нет печальнее полуденного петербургского неба; но хотя день в этих широтах неяркий, вечер и утро здесь великолепны: на твоих глазах в воздухе и на зеркальной поверхности почти безбрежных, сливающихся с небом вод распространяются какие-то снопы света, огненные букеты и струи, подобных которым мне еще нигде не случалось видеть. Сумерки продолжаются здесь три четверти человеческой жизни и богаты дивными неожиданностями; летнее солнце, около полуночи скрывающееся на миг под водой, долго плавает на горизонте на уровне Невы и окаймляющих ее низин; от него разливается кругом зарево пожара, способное и самую скудную природу сделать прекрасной; зрелище это внушает не восторг, какой рождают краски пейзажей в жарком поясе, но сладостные грезы, неодолимое желание погрузиться в сновидения, полные воспоминаний и надежд. Прогулка по островам в этот час — подлинная идиллия. Конечно, этим ландшафтам, чтобы превратиться в прекрасные, с хорошей композицией картины, многого недостает, но власть природы над воображением человека сильнее власти искусства; непорочный ее вид во всех климатических зонах отвечает потребности в восхищении, которую человек носит в душе, — и возможно ли ему найти лучшее направление для своего чувства? Пусть даже Господь свел землю в окрестностях полюса до совершенно плоской и голой поверхности, — все равно, невзирая на скудость ее, зрелище творения неизменно пребудет для взора человеческого красноречивейшим проявлением замыслов Творца. Разве плешивые головы по-своему не красивы? что до меня, то ландшафты в окрестностях Петербурга представляются мне более чем прекрасными: они отмечены возвышенной печалью и по глубине впечатления ничем не уступают самым знаменитым пейзажам на свете с их роскошью и разнообразием. Здесь — не парадное, искусственное произведение, какая-нибудь приятная выдумка, здесь — глубины безлюдья, безлюдья грозного и прекрасного, как смерть. Вся Россия, от края до края своих равнин, от одного морского побережья до другого, внимает всемогущему Божьему гласу, который обращается к человеку, возгордившемуся ничтожным великолепием жалких своих городов, и говорит ему: Тщетны твои труды, тебе не превзойти меня! Таков уж результат нашей тяги к бессмертию: более всего занимает жителя земли то, что рассказывает ему о чем-то ином, нежели земля.
Удивительно, как мощно одарены нации от природы: на протяжении более чем столетия благовоспитанные русские — знать, ученые, власти предержащие, только тем и занимались, что клянчили идеи и искали образцов для подражания во всех обществах Европы — и что же? смешная фантазия государей и придворных не помешала русскому народу остаться самобытным.[35]
Народ этот умен и по природе своей слишком утончен, слишком тактичен и деликатен, чтобы слиться когда-нибудь с тевтонской расой. Буржуазная Германия и поныне более чужда России, нежели Испания с ее народами, в чьих жилах течет арабская кровь. Медлительность, тяжеловесность, грубость, пугливость, неловкость претят славянскому духу. Славяне легче свыкаются с местью и тиранией; самые добродетели германцев русским ненавистны; а потому русские, несмотря на жестокую религиозную и политическую вражду с Варшавой, за несколько лет сильнее продвинулись в ее общественном мнении, нежели пруссаки со всеми их редкими и основательными достоинствами, какими отличаются тевтонцы; я не говорю, что это благо, я просто отмечаю сам факт: не все братья любят друг друга, но все друг друга понимают **. Что же до некоторого сходства, какое, кажется мне, я нахожу между русскими и испанцами, то оно объясняется связями, которые изначально могли возникнуть между арабскими племенами и отдельными ордами, что двигались через Азию на Московию. Мавританская архитектура чем-то схожа с византийской, образцом для истинно московской архитектуры. Гений азиатских народов, бродивших по Африке, вряд ли мог быть противен гению других восточных наций, только что осевших в Европе; история объясняется успешным влиянием рас друг на друга, такова общественная неизбежность, подобно тому как человеческий характер есть неизбежность личная.
Когда бы не различие религий и не несходство в нравах народов, мне бы казалось, что я нахожусь на одной из самых возвышенных и самых бесплодных равнин Кастилии. Тем более что жара тут стоит африканская; за последние два десятка лет в России не припомнят такого знойного лета. Несмотря на тропическое пекло, я вижу, как русские уже запасаются дровами. Лодки, груженные березовыми поленьями — единственным топливом, какое здесь в ходу, ибо древесина дуба считается роскошью, — загромождают бесчисленные широкие каналы, что пересекают во всех направлениях этот город, построенный по образцу Амстердама: один из рукавов Невы течет по самому центру Петербурга; зимой вода его скрыта под снегом, а летом — под бесчисленными лодками, теснящимися вдоль набережных, чтобы выгрузить привезенные припасы на берег. Дрова уже заранее распилены на коротенькие полешки; из лодок их перекладывают на довольно необычные повозки, простые до примитивности. Они состоят из двух жердей, образующих оглобли и предназначенных для соединения передней и задней оси; эти длинные жерди близко сдвинуты — колея у повозки узкая, — и на них нагружают поленья, возводя нечто вроде стены высотой в семь-восемь футов. Со стороны это громоздкое сооружение похоже на движущийся дом. Дрова на повозке связывают цепью, и если она на тряской мостовой расходится, то возница по ходу дела стягивает ее с помощью веревки и палки-рогатки, — причем не останавливая лошади и даже не замедляя ее бега. Видишь, как человек повисает на своем штабеле дров, стараясь с силой пригнать друг к другу все его части, — словно белка, что качается на веревке в клетке или на ветке в лесу; и покуда длится эта безмолвная операция, дровяная стена продолжает безмолвно двигаться своим путем по улице, не встречая никаких препятствий, ибо при здешнем суровом правительстве все происходит без потрясений, без слов и без шума. Ведь страх внушает человеку расчетливое благодушие, более неколебимое и надежное, нежели природная кротость. Я ни разу не видел, чтобы хоть одна из этих шатких построек рухнула во время опасных и зачастую долгих переездов, какие она совершает через весь город. Русский народ безмерно ловок: ведь эта людская раса вопреки велениям природы оказалась вытолкнута к самому полюсу из-за человеческих революций и задержалась там из политических потребностей. Тот, кто сумел бы глубже проникнуть в промыслы Провидения, возможно, пришел бы к выводу, что война со стихиями есть суровое испытание, которому Господь пожелал подвергнуть эту нацию-избранницу, дабы однажды вознести ее над многими иными. Борьба — это школа Провидения.(191)
Топливо в России становится редкостью. Дрова в Петербурге не дешевле, чем в Париже. Тут есть дома, отопление которых за зиму обходится в девять — десять тысяч франков. Глядя, как расточительно вырубают леса, с тревогой задаешься вопросом, чем будет обогреваться следующее поколение. Простите за шутку: мне часто приходит в голову, что было бы весьма предусмотрительно со стороны народов, наслаждающихся прекрасным климатом, поставлять русским топливо для доброго огня.(192) Тогда бы северяне меньше жалели о солнце.
Повозки, назначенные для вывоза городских нечистот, малы и неудобны; с подобной машиной человек и лошадь мало что могут сделать за день. Русские обыкновенно проявляют свою сообразительность не столько в старании усовершенствовать дурные орудия труда, сколько в разных способах использовать те, что у них есть. В них мало развита изобретательность, и чаще всего им не хватает механизмов, приспособленных для достижения нужной цели. Народ этот при всем его изяществе и талантах начисто лишен творческого гения: русские и в этом — северные римляне. И те, и другие вынесли свои науки и искусства из-за границы. Они умны, но ум их подражательный, а значит, более иронический, чем плодовитый: такой ум все копирует, но ничего не в силах создать сам.
Насмешка — главная черта характера тиранов и рабов. У всякой угнетенной нации ум склоняется к поношению, сатире, карикатуре; за свое бездействие и унижение она мстит сарказмами. Остается вычислить и сформулировать, в каком отношении находятся нации с теми конституциями, какие они себе избирают сами или какие им навязывают сверху. Мое мнение таково: всякая приобщенная к культуре нация имеет тот единственный способ правления, который только и может иметь. Я не собираюсь ни предлагать, ни даже излагать вам свою теорию — пусть над этим трудятся люди более достойные и ученые; нынешняя моя цель гораздо скромнее: я хочу описать, что поражает меня на улицах и набережных Петербурга. В нескольких местах поверхность Невы сплошь покрыта лодками с сеном. Эти безыскусные сооружения будут повыше многих домов и с виду живописны и ловко устроены, как и все, чем славяне никому не обязаны, кроме себя. Эти передвижные здания служат жилищем для гребцов; они затянуты соломенными коврами, наподобие плетеных циновок, которые, несмотря на свою грубость, придают им облик восточного шатра или китайской джонки; только в Петербурге довелось мне видеть целые стены из сена, убранные соломенными половиками, и семьи, вылезающие из-под сена, словно звери из логова. В городе, где дома изнутри подвержены нашествию полчищ паразитов, а снаружи каждую зиму ветшают, особенную важность обретает ремесло маляра. В России любое здание надо всякий год штукатурить заново, иначе оно скоро разрушится.
Любопытен способ, каким русский маляр исполняет свою должность. Для работы на улице ему остается всего три месяца в году, и число рабочих, как вы понимаете, должно быть достаточно велико- их встречаешь на каждом перекрестке. Эти люди сидят, рискуя жизнью, на дощечке, небрежно привязанной к длинной, свисающей вниз веревке, и качаются на ней, как насекомые, у стен здания, которое заново покрывают побелкой. Нечто похожее есть и у нас: наши рабочие тоже поднимаются и спускаются вдоль стены дома, повисая на узлах веревки. Но во Франции маляров всегда было немного, и они далеко не так отважны, как русские. Человек везде ценит свою жизнь во столько, сколько она стоит.
Представьте себе сотни пауков, что, повиснув на клочке разодранной бурей паутины, спешат починить ее с дивным проворством и усердием, — и вы получите представление о том, как работают маляры коротким северным летом на улицах Петербурга. Дома здесь четырехэтажные, не выше; они белого цвета и выглядят чистыми, но эта их внешность обманчива. Я знаю доподлинно, каковы они изнутри, и потому прохожу мимо блистающих фасадов с почтительным отвращением. В провинции красят города, через которые должен проезжать император; что это — почесть, какую отдают государю, или желание обмануть его, скрыв нищету, в которой пребывает страна?
Русские по большей части издают неприятный запах, который ощущается даже издали. Люди светские пахнут мускусом, простонародье же — кислой капустой, луком и старыми смазными сапогами. Дух этот устойчив и неизменен. Как вы можете заключить, те тридцать тысяч подданных, что 1 января приходят поздравить императора прямо во дворец, и те шесть-семь тысяч, что завтра будут вместе с нами толпиться в Петергофе, приветствуя свою императрицу, должны оставить отвратительную вонь. До сих пор я ни разу не встречал на улице простолюдинки, которая бы показалась мне красивой; подавляющее же большинство их, по-моему, на удивление уродливы и до отвращения нечистоплотны. Странно подумать, что именно они — жены и матери мужчин с такими тонкими и правильными чертами, с греческим профилем, так изящно и гибко сложенных, как видишь это даже в низших классах русской нации. Нет ничего прекраснее русских стариков — и ничего ужаснее старух. Горожанки из среднего сословия мне почти не попадались. Одна из особенностей Петербурга состоит в том, что число женщин, сравнительно с числом мужчин, здесь меньше, нежели в столицах других стран; говорят, что они составляют едва треть от общего населения города.(193) Оттого, что они редки, им оказывают слишком много внимания; ни одна из них не рискнет находиться сколько-нибудь времени без провожатого на улице в малолюдных кварталах — столь торопливую готовность к услугам им выказывают. Подобная сдержанность кажется мне вполне оправданной в столице насквозь военизированной страны, населенной пристрастившимся к пьянству народом. Русские женщины вообще показываются на людях меньше, чем француженки; в недавнем еще прошлом они проводили всю жизнь взаперти, словно азиатки. И ста лет не прошло с тех пор, как русские держали их под замком. Подобная скрытность русских, память о которой не изгладилась и поныне, заставляет, наряду с множеством иных обычаев, вспоминать о корнях этого народа; из-за нее петербургские празднества и улицы становятся еще тоскливее. Самое прекрасное, что видишь в этом городе, — это парады: вот насколько верны и справедливы мои слова о том, что всякий русский город, начиная со столицы, есть военный лагерь, чуть более упорядоченный и мирный, нежели походный бивуак.
В Петербурге мало кафе; публичные балы в пределах города не дозволены; на гулянья жители ходят редко, а если и ходят, то принимают удручающе важный вид.
Люди здесь серьезны от страха, но страх же делает их и весьма учтивыми. Я никогда не видел, чтобы множество людей, причем из всех классов общества, так уважительно обходились друг с другом.(194) Кучер с облучка дрожек неизменно приветствует своего товарища, а тот, проезжая мимо, не преминет ответить поклоном на поклон; грузчик приветствует маляра, и все остальные ведут себя так же. Шляпа и палка — крайне значимые в России предметы. Учтивость эта, быть может, наигранна, мне она по крайней мере кажется принужденной; и все ж даже одна только видимость любезности служит к услаждению жизни. Какой же притягательности должна быть исполнена учтивость истинная, идущая от сердца, если лживая учтивость имеет столько преимуществ?
Для путешественника, который верит чужим словам и в то же время не лишен характера, пребывание в Петербурге во всех отношениях приятно. Но характер нужно иметь твердый, иначе невозможно запретить себе бывать на празднествах и отказаться от обедов — а они сущее бедствие русского общества, да и, можно сказать, любого общества, куда допущены иностранцы и откуда, следственно, исключена душевная близость.
Будучи здесь, я очень редко принимал приглашения от частных лиц — любопытство мое привлекали прежде всего придворные торжества; но на них я уже насмотрелся: чудесами, не трогающими сердце, скоро пресыщаешься. Лишь влюбленный может смириться и последовать за любимой женщиной во дворец — пусть и проклиная судьбу, что связывает его с обществом, движимым единственно честолюбием, страхом и тщеславием. Напрасно говорят, что высший свет всюду одинаков; в нынешней России придворные интриги занимают в жизни отдельного человека большее место, чем в любой другой европейской стране.
ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ
Празднество в Петергофе. — Народ во дворце своего повелителя. — Что такое в действительности эта проявление народной любви. — Одновременное присутствие Азии и Европы. — Притягательность личности императора. — Для чего императрица Екатерина учреждала в России школы. — Тщеславие русских. — Сможет ли император от него излечить? — Ложная цивилизованность. — План императора Николая. — Россия, какой ее показывают иностранцам, и Россия, как она есть. — Воспоминание о поездке императрицы Екатерины в Крым. — Что думают русские о чужеземных дипломатах. — Русское гостеприимство. — Суть вещей. — Скрытность никуда не исчезла. — Иностранцы-соучастники русских. — Что означает всеобщая любовь к русским императорам, — Из кого состоит толпа, допущенная во дворец. — Дети священников. — Мелкое дворянство. — Смертная казнь. — Каким образом ее отменили. — Унылые лица. — Причины, по каким путешественник должен побывать в России. — Разочарования. — Условия жизни человека в России. — Сам император достоин жалости. — Каково вознаграждение за эти тяготы. — Гнет. — Сибирь. — Как должен вести себя чужестранец, чтобы встретить у русских благожелательный прием. — Язвительный русский ум. — Политические воззрения русских. — Опасность, какой подвергается иностранец в России. — Честность мужика, русского крестьянина. — Часы сардинского посла. — Другие кражи. — Как управлять людьми. — Громадная ошибка. — Газета «Журналь де Деба»; почему император ее читает. — Отступление. — Политика императора. — Политика газеты. — Красота ландшафта в Петергофе. — Парк. — Разные углы обзора. — Усилия искусства. — Иллюминации. — Феерия. — Кареты и пешеходы, их число. — Бивуак горожан. — Количество лампионов. — Время, потребное, чтобы их зажечь. — Толпа разбивает лагерь вокруг Петергофа. — Ограды для экипажей. — Истинное достоинство русского народа. — Английский замок. — Как обходятся с дипломатическим корпусом и приглашенными иностранцами. — Где я ночую. — Складная кровать. — Военные бивуаки. — Молчаливость толпы. — Ей недостает веселья. — Принужденный порядок во всем. — Бал. — Апартаменты. — Как император бороздит толпу. — Облик его. — Полонезы. — Иллюминация на кораблях. — Буря. — Несчастные случаи на море во время празднества. — Тайна. — Цена жизни при деспотизме. — Грустные предзнаменования. — Шифр императрицы гаснет. — Во что обходится одному храбрецу желание снова его зажечь. — Распорядок дня императрицы. — Участие в развлечениях неизбежно. — Печальные дни рождения. — Прогулка в линейках. — Описание этой кареты. — Встреча в линейке с одной русской дамой. — Беседа с нею. — Великолепие ночной прогулки. — Озеро Марли. — Воспоминания о Версале. — Дом Петра Великого. — Освещенные гроты и каскады. — Толпа расходится после праздника. — Картина отступления под Москвой. — Император делает смотр кадетскому корпусу. — И снова при дворе. — Что нужно, чтобы вынести подобную жизнь. — Торжество одного кадета. — Эволюции черкесских солдат.
Петергоф, 23 июля 1839 года (195)
Праздник в Петергофе нужно рассматривать с двух разных точек зрения — материальной и нравственной; одно и то же зрелище, если исследовать его в этих двух аспектах, производит различное впечатление. Я не встречал ничего прекраснее для взора и печальнее для мысли, чем это якобы национальное собрание царедворцев и землепашцев, которые в самом деле собираются в одних и тех же салонах, но не сближаются душевно. Мне это не нравится с точки зрения общественной, ибо я полагаю, что император ради фальшивого блеска своей популярности принижает людей благородных, не возвышая при этом простых. Все люди равны перед Богом, но для русского человека Бог — это его повелитель; сей высший повелитель вознесся столь высоко над землей, что не замечает дистанции между рабом и господином; с тех вершин, где обретается его величие, ничтожные оттенки, какими различаются представители рода человеческого, ускользают от божественных взоров. Так неровности, какими вздыблена поверхность земного шара, изгладились бы в глазах обитателя солнца. Когда император распахивает, по видимости свободно, двери своего дворца для привилегированных крестьян и избранных горожан, оказывая им честь и допуская к себе засвидетельствовать почтение дважды в году,[36] он не говорит пахарю или торговцу: «Ты такой же, как я», но дает понять вельможе(196): «Ты такой же раб, как они; а я, ваш бог, равно недосягаем для всех вас». Если оставить в стороне политические домыслы, то моральный смысл празднества именно таков, и именно это портит мне удовольствие от его созерцания. Больше того, я приметил, что повелителю и рабам оно нравится гораздо больше, чем настоящим придворным. Искать подобия всенародной любви в равенстве других — игра жестокая; эта забава деспота могла бы ослепить людей в иные эпохи истории, но народы, достигнувшие возраста опыта и рассудительности, уже не обманутся ею. Император Николай не первый прибегнул к подобному плутовству(197); но раз не он изобрел это политическое ребячество, он мог бы, к вящей чести своей, и отменить его. Правда, в России ничего нельзя отменять безнаказанно: народы, которым недостает узаконенных прав, ищут опоры только в привычках. Упорная приверженность обычаю, хранимому с помощью бунта. и яда, — один из столпов здешней конституции, и периодическая смерть государей служит для русских доказательством тому, что эта конституция умеет заставить себя уважать. Каким образом подобный механизм поддерживается в равновесии — для меня глубокая и мучительная тайна. Как декорация, как живописное смешение людей разного звания, как смотр великолепных и необыкновенных костюмов праздник в Петергофе выше всяких похвал. Все, что я о нем читал, все, что мне рассказывали, не могло дать мне представления о подобной феерии: воображение оказалось не в силах сравниться с реальностью. Представьте себе дворец, возведенный на насыпной площадке, которая в стране необозримых равнин, плоской настолько, что с возвышения в шестьдесят футов вы наслаждаетесь зрелищем бескрайнего горизонта, кажется высокой, как настоящая гора; у подножия этого внушительного сооружения начинается обширный парк и тянется до самого моря; там, на горизонте, вы замечаете строй военных кораблей — в праздничный вечер на них должна зажечься иллюминация; это какое-то волшебство: от боскетов и террас дворца вплоть до волн Финского залива загорается, блещет и угасает, подобно пожару, огонь. В парке благодаря лампионам светло как днем. Вы видите деревья, по-разному освещенные множеством солнц всех цветов радуги; фонари в этих садах Армиды198 исчисляются не тысячами и не десятками тысяч, счет идет на сотни тысяч, и всем этим вы любуетесь из окон дворца, который захвачен народом — столь почтительным, словно он всю жизнь провел при дворе.
И все же в этой толпе, где все звания должны были бы сравняться, всякий класс являет себя отдельно, не смешиваясь с другими. Хоть деспотизм и предпринял несколько атак на аристократию, в России по-прежнему существуют касты.
Здесь лишний раз проявляется сходство с Востоком и здесь же заложено не последнее из разительных противоречий общественного устройства, какое возникло из нравов народа в сочетании с принятым в стране способом правления. На празднике императрицы, истинной вакханалии абсолютной власти, открылся мне за видимым беспорядком бала тот же порядок, который царит в государстве. Я встречал все тех же торговцев, солдат, землепашцев, придворных, и все они разнились друг от друга костюмом: одежда, не указывающая на положение человека, равно как и человек, чья ценность в личных заслугах, были бы тут отклонениями от нормы, европейскими выдумками, какие вывезли из-за границы беспокойные поклонники новизны и неосторожные путешественники. Не забывайте, мы находимся у пределов Азии — в моих глазах русский, облаченный во фрак, выглядит иностранцем, хоть он и у себя дома. Россия расположена на границе двух континентов, и то, что пришло сюда из Европы, по природе своей не может до конца слиться с тем, что было привнесено из Азии. До сих пор здешнее общество приобщалось к культуре лишь насильно, страдая от несходства двух одновременно присутствующих в нем, но по-прежнему весьма различных цивилизаций; в этом для путешественника — источник наблюдений если не утешительных, то любопытных. На балу царит столпотворение; он якобы маскированный, поскольку мужчины носят под мышкой шелковый лоскут, окрещенный венецианским плащом, каковой потешно развевается поверх мундиров. Залы старого дворца, полные людей, являют собою океан напомаженных голов, над которым высится благородная голова императора: стать его, голос и воля как бы парят над покорным ему народом. Вид этого монарха — свидетельство тому, что он достоин и способен повелевать умами подданных — точно так же, как превосходит он ростом их тела; его личность обладает какой-то притягательной силой; в Петергофе — равно как на параде, на войне, в любой точке империи и во всякую минуту его жизни — вы видите перед собою человека царственного.
Эта непрерывная царственность, которой все непрерывно поклоняются, была бы настоящей комедией, когда бы от этого всечасного представления не зависело существование шестидесяти миллионов человек, живущих потому только, что данный человек, на которого вы глядите и который держится как император, дозволяет им дышать и диктует, как должны они воспользоваться его дозволением; это не что иное, как божественное право в применении к механизму общественной жизни; такова серьезная сторона представления, и из нее проистекают вещи настолько важные, что страх перед ними заглушает желание смеяться. Сегодня нет на земле другого человека, наделенного подобной властью и пользующегося ею, — нет ни в Турции, ни даже в Китае. Вообразите себе сноровку наших испытанных веками правительств, поставленную на службу еще молодому, хищному обществу; западные правила управления со всем их современным опытом, оказывающие помощь восточному деспотизму; европейскую дисциплину, поддерживающую азиатскую тиранию; внешнюю цивилизованность, направленную на то, чтобы тщательно скрыть варварство и тем продлить его, вместо того чтобы искоренить; узаконенную грубость и жестокость; тактику европейских армий, служащую к укреплению политики восточного двора; — представьте себе полудикий народ, который построили в полки, не дав ни образования, ни воспитания, и вы поймете, каково моральное и общественное состояние русского народа.
Как воспользоваться административными успехами европейских наций, чтобы править шестьюдесятью миллионами человек на восточный лад, — вот задача, которую пытаются решить люди, стоящие во главе России, начиная с Петра I. Царствования Екатерины Великой и Александра лишь продлили вечное детство этой нации, которая и по сей день существует лишь на словах. Екатерина открывала школы, дабы удовольствовать французских философов, чье тщеславие алкало похвал. Однажды московский губернатор, один из ее прежних фаворитов, награжденный за услуги пышной ссылкой в старинную столицу империи, написал ей, что никто не отдает детей в школы; императрица отвечала в таких примерно словах: «Дорогой князь, не надо жаловаться, что у русских нет желания учиться; школы я учреждаю не для нас, а для Европы,(199) во мнении которой нам надобно выглядеть пристойно; в тот день, когда крестьяне наши возжаждут просвещения, ни вы, ни я не удержимся на своих местах». Письмо это читал человек, достойный всяческого доверия; скорее всего, императрица пребывала в забытьи, когда писала его, но именно из-за подобных приступов рассеянности она и слыла столь любезной и оказывала столь мощное влияние на умы людей с воображением.
Русские, следуя обычной своей тактике, станут отрицать достоверность этого анекдота; за точность слов я не ручаюсь, но могу утверждать, что в них выражена подлинная мысль государыни. Для вас и для меня довольно будет и этого. Черточка эта поможет вам понять тот дух тщеславия, какой мучает русских и извращает в самом источнике установленную над ними власть.
Это злосчастное мнение Европы — призрак, преследующий русских в тайниках их мыслей; из-за него цивилизация сводится для них к какому-то более или менее ловко исполненному фокусу.
Нынешний император со своим здравым смыслом и светлым умом заметил этот подводный камень, но удастся ли ему обойти его? Надобно обладать большей силой, нежели Петр Великий, дабы исправить зло, какое причинил первый растлитель русских.
Теперь сделать это вдвойне трудно: разум крестьянина, по-прежнему грубый и варварский, противится культуре, но по привычке и по складу характера он повинуется узде; в то же время ложно-изысканный образ жизни вельмож никак не вяжется с национальным духом, на который нужно было бы опереться, дабы возвысить народ; — как все запутано! кто развяжет сей новый гордиев узел?..
Я восхищаюсь императором Николаем: задачу, какую возложил он на себя, может исполнить только человек гениальный. Он заметил болезнь, смутно угадал лекарство от нее и изо всех сил старается начать лечение; просвещение и воля — вот что создает великих государей.
Но довольно ли срока одного царствования, чтобы вылечить болезни, возникшие полтора столетия назад? Зло пустило столь прочные корни, что мало-мальски внимательному иностранцу оно сразу бросается в глаза, — притом что Россия такая страна, где все стремятся обмануть путешественника.
Известно ли вам, что значит путешествовать по России? Для ума поверхностного это означает питаться иллюзиями; но для всякого, чьи глаза открыты и кто наделен хотя бы малейшей наблюдательностью в сочетании с независимым нравом, путешествие — это постоянная и упорная работа, тяжкое усилие, совершаемое для того, чтобы в любых обстоятельствах уметь различить в людской толпе две противоборствующие нации. Две эти нации — Россия, как она есть и Россия, какой ее желают представить перед Европой. Император менее, чем кто-либо, застрахован от опасности оказаться в ловушке иллюзий. Вспомните поездку Екатерины в Херсон — она пересекала безлюдные пустыни, но в полумиле от дороги, по которой она ехала, для нее возводили ряды деревень; она же, не удосужившись заглянуть за кулисы этого театра, где тиран играл роль простака, сочла южные провинции заселенными, тогда как они по-прежнему оставались бесплодны не столько из-за суровости природы, сколько, в гораздо большей мере, по причине гнета, отличавшего правление Екатерины. Благодаря хитроумию людей, на которых возложены императором детали управления, русский государь и поныне не застрахован от подобного рода заблуждений. Так что случай этот частенько приходит мне на память. Здешнее правительство с его византийским духом, да и вся Россия, всегда воспринимали дипломатический корпус и западных людей вообще как недоброжелательных и ревнивых шпионов. Между русскими и китайцами есть то сходство, что и те и другие вечно полагают, будто чужестранцы им завидуют; они судят о нас по себе.
Оттого столь хваленое московское гостеприимство выродилось в целое искусство и превратилось в весьма тонкую политику; искусство это состоит в том, чтобы удовольствовать гостя с наименьшими затратами искренности. Из путешественников лучше всего относятся к тем, кто дольше и с наибольшим добродушием позволяет водить себя за нос. Учтивость здесь — всего лишь искусство прятать друг от друга двойной страх: страх, который испытывают, и страх, который внушают сами. Под всякой оболочкой приоткрывается мне лицемерное насилие, худшее, чем тирания Батыя, от которой современная Россия ушла совсем не так далеко, как нам хотят представить. Повсюду я слышу язык философии и повсюду вижу никуда не исчезнувший гнет. Мне говорят: «Нам бы очень хотелось обойтись без произвола, тогда мы были бы богаче и сильней; но ведь мы имеем дело с азиатскими народами». А про себя в то же время думают: «Нам бы очень хотелось избавить себя от разговоров про либерализм и филантропию, мы были бы счастливей и сильней; но ведь нам приходится общаться с европейскими правительствами».
Нужно сказать, что русские всех до единого сословий в чудесном согласии споспешествуют торжеству у себя в стране подобной двуличности. Они способны искусно лгать и естественно лицемерить, причем так успешно, что это равно возмущает мою искренность и приводит меня в ужас. Здесь мне ненавистно все, чем я восхищаюсь в других местах, ибо цена этим восхитительным вещам, на мой взгляд, слишком высока: порядок, терпеливость, покой, изысканность, вежливость, почтительность, естественные и нравственные связи, какие должны устанавливаться между создателем замысла и исполнителем его, — в общем, все, в чем состоит ценность и привлекательность правильно устроенного общества, все, что придает некий смысл и цель политическим установлениям, здесь сливается в одно-единственное чувство — страх. Страх в России замещает, то есть парализует, мысль; из власти одного этого чувства может родиться лишь видимость цивилизации; да простят меня близорукие законодатели, но страх никогда не станет душой правильно устроенного общества, это не порядок, это завеса, прикрывающая хаос, и ничего больше; там, где нет свободы, нет ни души, ни истины. Россия — это безжизненное тело, колосс, который существует за счет головы, но все члены которого изнемогают, равно лишенные силы!.. Отсюда какое-то глубинное беспокойство, неизъяснимое недомогание русских, причем у них, в отличие от новых французских революционеров, недомогание это происходит не от смутности идей, не от заблуждений, не от скуки материального процветания или рожденных конкуренцией приступов ревности; в нем выражает себя неподдельное страдание, оно — признак органической болезни. В России, по-моему, люди обделены подлинным счастьем больше, чем в любой другой части света. Мы у себя дома несчастны, однако чувствуем, что наше счастье зависит от нас самих; у русских же оно невозможно вовсе.(200) Вообразите бурление республиканских страстей (ибо, повторяю еще раз, при российском императоре царит мнимое равенство) в тиши деспотизма — устрашающее сочетание, особенно в свете того будущего, какое оно предрекает миру. Россия — плотно закупоренный котел с кипящей водой, причем стоит он на огне, который разгорается все жарче; я боюсь, как бы он не взорвался; и тревога моя лишь возрастает оттого, что император сам не раз переживал подобный страх за время своего царствования, полного трудов, — трудов и военных, и мирных, ибо империи в наши дни подобны машинам, которые портятся, если их остановить. Осмотрительность парализует их, бездействие переполняет тревогой.
Итак, народные празднества задаются той самой головой без тела, государем без народа. По-моему, прежде чем принимать изъявления всенародной любви, следовало бы создать сам народ.
Страна эта, говоря по правде, отлично подходит для всякого рода надувательств; рабы есть и в других странах, но чтобы найти столько рабов-придворных, надо побывать в России. Не знаешь, чему дивиться больше, — то ли безрассудству, то ли лицемерию, которые царят в этой империи; Екатерина II жива, ибо, невзирая на весьма открытый нрав ее внука, Россией по-прежнему правят с помощью скрытности и притворства… В этой стране признать тиранию уже было бы прогрессом.
Иностранцы, что описывали Россию, в этом вопросе, как и в большинстве прочих, обманывают весь свет заодно с русскими. Возможно ли проявить снисходительность более коварную, чем у большинства подобных сочинителей, сбежавшихся сюда со всех концов Европы, дабы умилиться трогательной близости, что царит между российским императором и его народом? Неужели столь сильно обаяние деспотизма, что и люди просто любопытствующие покоряются ему? Либо страну эту живописали до сих пор лишь те, кто по положению своему, по складу характера не мог быть независимым, либо же самые искренние умы, едва оказавшись в России, утрачивают свободу суждений. Что до меня, то меня спасает от этого воздействия отвращение, какое внушает мне все показное.
Я ненавижу только одно зло, и ненавижу потому, что считаю: оно порождает и предполагает все прочие виды зла; это зло — ложь. Поэтому я стараюсь разоблачать его повсюду, где встречаю; именно ужас перед неискренностью поддерживает во мне желание и мужество описывать это путешествие; я предпринял его из любопытства, поведаю же о нем из чувства долга. Страсть к истине — муза, заменяющая мне силу, молодость, просвещенность. Чувство это заходит так далеко, что заставляет меня любить время, в которое мы живем; пускай наше столетие отчасти грубовато, но оно по крайней мере откровенней, чем предыдущее; его отличительная черта — доходящее иногда до ненависти неприятие всего напускного; и я эту брезгливость разделяю. Отвращение к лицемерию для меня — факел, с помощью которого я ищу верный путь в лабиринте мира; все, кто так или иначе обманывает людей, представляются мне отравителями, причем самые высокопоставленные, самые могущественные — виновнее всех. Когда лжет слово, книга, поступок, я их ненавижу; когда, как в России, лжет молчание, я проникаю в его смысл. Пусть это послужит ему наказанием.
Вот что помешало вчера моему уму наслаждаться зрелищем, которым невольно восхищался мой взор; пусть зрелище это не было трогательным, как мне старались его представить, но оно было пышным, великолепным, неповторимым и необычным; однако стоило мне подумать, что передо мною — обман, как оно утратило в моих глазах всякую привлекательность. В России еще не ведают страсти к истине, что владеет ныне сердцами французов. Да и что такое, в конце концов, эта толпа, которую окрестили народом и которую Европа почитает своим долгом простодушно расхваливать за ее почтительную короткость в обращении к своим государям? не обольщайтесь — это рабы рабов. Знать посылает чествовать императрицу специально отобранных крестьян, и о них говорят, будто они оказались тут случайно; сей цвет крепостных допускается во дворец и имеет честь представлять народ, которого не существует вне дворцовых стен; они смешиваются в толпе с придворной челядью; еще в этот день ко двору допускаются купцы, известные своим добрым именем и верноподданностью, ибо несколько бород необходимы, чтобы доставить удовольствие любителям русской старины. Вот что такое этот народ, чьи отменные чувства российские правители со времен императрицы Елизаветы ставят в пример другим народам! Кажется, именно в ее царствование было положено начало такого рода празднествам; император Николай, при всем его железном характере, удивительной прямоте намерений и при всей власти, какую обеспечивают ему общественные и личные добродетели, сегодня не сумел бы, наверное, уничтожить этот обычай. Значит, верно, что каким бы абсолютным ни казался способ правления, людям не под силу одолеть ход вещей. Деспотизм выказывает себя открыто и независимо лишь по временам — когда у власти оказываются безумцы или тираны.
Ничего нет опаснее для человека, сколь бы высоко он ни стоял над остальными, чем сказать нации: «Тебя обманули, и я больше не желаю быть пособником твоего заблуждения». Низкий люд больше держится лжи, даже такой, какая идет ему во вред, нежели истины, ибо гордыня человеческая все, что исходит от человека, предпочитает исходящему от Бога. Это справедливо при любом способе правления, но при деспотизме справедливо вдвойне.
Та независимость, какой пользуются мужики в Петергофе, никого не тревожит. Именно такая свобода, именно такое равенство и нужны деспоту! их можно восхвалять безбоязненно — но попробуйте посоветовать отменить постепенно в России крепостное право, и вы увидите, что с вами сделают и что скажут о вас в этой стране.
Вчера от всех придворных, оказывавшихся подле меня, я слышал похвалы учтивому обращению крепостных. «Попробуйте устроить подобный праздник во Франции», — говорили они. Меня так и подмывало ответить: «Прежде чем сравнивать наши два народа, подождите, пока ваш появится на свет». Одновременно мне на память приходил праздник, который я сам устроил в Севилье для простых людей; притом что было это при деспотическом правлении Фердинанда VII, истинная учтивость простонародья, свободного если не по закону, то по существу, доставила мне предмет для сравнения не в пользу русских.[37] Россия — империя каталогов; она замечательна, если читать ее как собрание этикеток; но бойтесь заглянуть дальше заголовков! Если вы откроете книгу, то не найдете ничего из обещанного: все главы в ней обозначены, но каждую еще предстоит написать.
Сколько здешних лесов — всего лишь топи, где вы не нарежете и вязанки хворосту!.. Все расположенные в удалении полки- только пустые рамки, в них нет ни одного человека; города и дороги только замышляются; сама нация доселе — всего лишь афишка, наклейка для Европы, обманутой неосторожной дипломатической выдумкой.[38] Я не нашел здесь подлинной жизни ни в ком, кроме императора, и естественности нигде, кроме как при дворе. Торговцы, из которых составится когда-нибудь средний класс, столь немногочисленны, что не могут заявить о себе в этом государстве; к тому же почти все они чужестранцы. Писателей насчитывается по одному-два в каждом поколении, и столько же живописцев, которых за немногочисленность их весьма почитают — благодаря ей им обеспечен личный успех, но она же не позволяет им оказывать влияние на общество. В стране, где нет правосудия, нет и адвокатов; откуда же взяться там среднему классу, который составляет силу любого государства и без которого народ — не более чем стадо, ведомое дрессированными сторожевыми псами?
Я не упомянул одной категории людей, которых не следует числить ни среди знати, ни среди простонародья, — это сыновья священников; почти — все они становятся мелкими чиновниками, и этот канцелярский люд — главная язва России:[39] они образуют нечто вроде захудалого дворянства, до крайности враждебного высшей знати, — дворянства, чей дух антиаристократичен в прямом политическом значении этого слова, но которое оттого нисколько не менее обременительно для крепостных; именно эти неудобные для государства люди, плоды схизмы, разрешившей священнику жениться, и начнут грядущую революцию в России. Ряды этого «низшего» дворянства равным образом пополняют столоначальники, артисты, разного рода чиновники, прибывшие из-за границы, и их дети, пожалованные дворянством; можете ли вы усмотреть во всем этом какие-либо зачатки истинного русского народа, достойного и способного оправдать, оценить по заслугам народолюбие государя?
Еще раз повторю: в России разочаровываешься во всем, и изящно-непринужденное обращение царя, принимающего у себя во дворце собственных крепостных и крепостных своих придворных, — еще одна насмешка, не более. Смертная казнь в этой стране отменена для всех преступлений, кроме государственной измены; однако ж есть преступники, которых власти хотят убить. И вот, чтобы примирить мягкость законоуложения и традиционно свирепые нравы, здесь поступают так: когда преступник приговорен к сотне и больше ударов кнута, палач, зная, что означает подобный приговор, третьим ударом из человеколюбия убивает несчастного. Но зато смертная казнь отменена!..[40] Разве обманывать таким образом закон не хуже, нежели провозгласить самую дерзкую тиранию? Тщетно искал я среди шести-семи тысяч представителей сей фальшивой русской нации, что толпились вчера вечером во дворце в Петергофе, хотя бы одно веселое лицо; когда лгут, не смеются.
Вы можете верить тому, что я говорю о результате абсолютистского способа правления: ведь я прибыл изучать эту страну в надежде найти здесь лекарство против болезней, которые грозят нам самим. Если вам кажется, что суждения мои о России слишком суровы, вините в этом только впечатления, какие я невольно получаю каждый день от людей и вещей и какие получал бы на моем месте любой друг человечества, если бы попытался, как я, заглянуть по другую сторону того, что ему показывают.
Империя эта при всей своей необъятности — не что иное, как тюрьма, ключ от которой в руках у императора; такое государство живо только победами и завоеваниями, а в мирное время ничто не может сравниться со злосчастьем его подданных — разве только злосчастье государя. Жизнь тюремщика всегда представлялась мне столь похожей на жизнь узника, что я не устаю восхищаться прельстительной силой воображения, благодаря которой один из этих двоих почитает себя несравненно меньше достойным жалости, чем другой.
Человеку здесь неведомы ни подлинные общественные утехи просвещенных умов, ни безраздельная и грубая свобода дикаря, ни независимость в поступках, свойственная полудикарю, варвару; я не вижу иного вознаграждения за несчастье родиться при подобном режиме, кроме мечтательной гордыни и надежды господствовать над другими: всякий раз, как мне хочется постигнуть нравственную жизнь людей, обитающих в России, я снова и снова возвращаюсь к этой страсти. Русский человек думает и живет, как солдат!.. Как солдат-завоеватель.
Настоящий солдат, в какой бы стране он ни жил, никогда не бывает гражданином, а здесь он гражданин меньше, чем где бы то ни было, — он заключенный, что приговорен пожизненно сторожить других заключенных.
Обратите внимание, что в русском слово «тюрьма» означает нечто большее, чем в других языках. Дрожь пробирает, как подумаешь обо всех тех жутких подземельях, которые в стране этой, где всякий с рождения учится не болтать лишнего, скрыты от нашего сочувствия за стеной вымуштрованного молчания. Нужно приехать сюда, чтобы возненавидеть скрытность; в подобной осмотрительности обнаруживает себя тайная тирания, образ которой повсюду встает передо мною. Здесь каждое движение лица, каждая недомолвка, каждый изгиб голоса предупреждает меня: доверчивость и естественность опасны. Все, вплоть до внешнего вида домов, обращает мысль мою к мучительным условиям человеческого существования в этой стране. Когда, перешагнув порог дворца, жилища какого-нибудь знатного вельможи, я вижу, что за его роскошью, никого не способной обмануть, везде проступает плохо скрытая отвратительная грязь; когда я, так сказать, чую паразитов даже и под самой ослепительно-пышной крышей, я не говорю себе: вот недостатки, а значит, вот и искренность!.. нет, я иду дальше и, не останавливаясь на том, что поражает мои органы чувств, немедля воображаю себе весь тот мусор, каким, должно быть, загажены тюремные камеры в этой стране, где богачи не умеют содержать в чистоте даже самих себя; страдая от сырости в своей комнате, думаю я о несчастных, что погребены в сырости подводных узилищ в Кронштадте, в Петербургской крепости и во множестве иных политических могил, неведомых мне даже по названию; изможденный цвет лица солдат, проходящих мимо по улице, живо рисует мне воровство чиновников, которые обязаны снабжать армию продовольствием; мошенничество этих предателей, уполномоченных императором кормить его гвардию, каковую они объедают, читается в свинцовых чертах и на синюшных лицах несчастных, что лишены здоровой и даже просто достаточной пищи по вине людей, которые думают лишь о том, как бы побыстрей разбогатеть, и не боятся ни опозорить правительство, обкрадывая его, ни навлечь на себя проклятие построенных в шеренги рабов, убивая их; наконец, здесь на каждом шагу встает передо мною призрак Сибири, и я думаю обо всем, чему обозначением служит имя сей политической пустыни, сей юдоли невзгод, кладбища для живых; Сибирь — это мир немыслимых страданий, земля, населенная преступными негодяями и благородными героями, колония, без которой империя эта была бы неполной, как замок без подземелий.
Такие вот мрачные картины рождаются в моем воображении в те минуты, когда нам начинают расхваливать трогательную близость царя со своими подданными. Конечно же, я никоим образом не хочу позволить себя ослепить императорским народолюбием; напротив, я предпочитаю лишиться дружбы русских, но не утратить ту свободу мысли, какая позволяет мне судить об их хитростях и о приемах, что применяют они, дабы обмануть нас и обмануться самим; гнев их меня мало пугает, ибо я отдаю им должное и верю, что в глубине души они судят свою страну еще более сурово, чем я, ибо лучше меня ее знают. Вслух они станут браниться, а про себя отпустят мне грехи; с меня и довольно. Путешественник, всецело доверившийся местным жителям, мог бы проехать всю русскую империю из конца в конец и вернуться домой, не. увидав ничего, кроме череды фасадов, — а именно это и требуется, как я погляжу, чтобы понравиться моим хозяевам; но для меня подобная цена за гостеприимство слишком высока; пусть лучше я обойдусь без похвал, чем утрачу истинный и единственный плод моего путешествия — опыт.
Стоит чужестранцу показать себя простодушным и деятельным, рано вставать и поздно ложиться спать, посещать все маневры и не пропускать ни единого бала, словом, вести такую бурную жизнь, которая не оставляет времени для размышлений, — и его будут всюду принимать радушно, к нему отнесутся благожелательно, его станут чествовать; всякий раз, как путешественнику скажет несколько слов или улыбнется император, толпа незнакомых людей примется пожимать ему руку, и по отъезде его провозгласят выдающимся человеком. Мне все кажется, что передо мною мольеровский мещанин во дворянстве, над которым издевается муфтий. Русские придумали отличное французское словцо, обозначающее их политическое гостеприимство; они говорят про иностранцев, которых морочат бесконечными празднествами: их нужно mgw.rla.nder.[41] Но пусть остережется чужестранец показать, что усердие его и исполнительность идут на спад; при первом же признаке усталости или проницательности, при малейшей неосторожности, что выдавала бы даже не скуку, а саму способность скучать, он увидит, как восстает против него, подобно разъяренной змее, русский ум, самый колкий на свете.[42] Насмешка — это бессильное утешение угнетенных; здесь в ней заключено удовольствие крестьянина, точно так же как в сарказме заключено изящество знатного человека; ирония и подражательство — вот единственные природные таланты, какие обнаружил я в русских. Отведав единожды яду их критики, чужестранцу уже никогда не оправиться; его пропустят сквозь злые языки, как дезертира сквозь строй; униженный, убитый горем, рухнет он в конце концов под ноги сборищу честолюбцев, безжалостней и жестокосердней которых нет на земле. Честолюбцы всегда рады погубить человека. «Удушим его на всякий случай, все одним меньше: ведь человек — это почти соперник, потому что мог бы таковым стать».
Чтобы сохранить какие-то иллюзии на счет восточного гостеприимства, принятого у русских, надо жить не при дворе. Здесь гостеприимство напоминает те старинные припевы, какие в народе распевают даже после того, как сама песня лишается для людей, повторяющих ее, всякого смысла; император задает этому припеву тон, а царедворцы хором подхватывают. Русские придворные производят на меня впечатление марионеток, подвешенных на чересчур толстых нитках.
Еще менее верится мне в честность мужика. Меня высокопарно уверяют, что он не украдет и цветка из сада своего царя: тут я не спорю, я знаю, каких чудес можно достигнуть с помощью страха; но я знаю и то, что сии образцовые придворные селяне не упустят случая обворовать своих соперников на один день, знатных господ, ежели те, излишне умилившись присутствием крестьян во дворце и положившись на чувство чести рабов, облагороженных государевой лаской, перестанут на миг следить за движениями их рук. Вчера на императорском и народном балу, во дворце в Петергофе, у сардинского посла весьма ловко вытащили из кармашка часы: их не защитила и предохранительная цепочка. Множество людей лишились под шумок своих носовых платков и иных предметов. У меня самого пропал кошелек с несколькими дукатами, но я смирился с его потерей, посмеиваясь в душе над господами, что возносили хвалы честности своего народа. Господа эти отлично знают цену своим красивым словам; однако я вовсе не прочь узнать ее так же хорошо, как они сами. Наблюдая столько бесполезных ухищрений, я ищу тех, кто принимал бы эти ребяческие обманы за чистую монету, и восклицаю, вслед за Базилем: «Кто кого здесь проводит за нос? Все в заговоре!»
Что бы ни говорили и что бы ни делали русские, всякий искренний наблюдатель увидит в них всего лишь византийских греков, овладевших современной стратегической наукой под руководством пруссаков XVIII столетия и французов XIX-го.
Любовь русского народа к самодержавному правителю представляется мне столь же подозрительной, сколь и чистосердечие французов, проповедующих абсолютную демократию во имя свободы; кровавые софизмы!.. Покончить со свободой, проповедуя либерализм, значит убивать, ибо любое общество живо правдой; но и вести себя как патриархальный тиран — тоже значит быть убийцей!.. У меня есть одна навязчивая идея: я думаю, что людьми можно и должно управлять без обмана. Если в частной жизни ложь — низость, то в жизни общественной — преступление, причем преступление обязательно неуклюжее. Всякое правительство, если оно лжет, — более опасный заговорщик, чем убийца, которого оно обезглавливает по закону; и вопреки примеру, какой подают отдельные великие умы, испорченные веком остроумцев, преступление, то есть ложь, есть всегда величайшая ошибка: гений, отказавшись от правды, теряет свою власть; при этом происходит странная перемена ролей — именно господин унижает себя перед рабом, ибо обманщик стоит ниже обманутого. Это применимо и к управлению государством, и к литературе, и к религии. Моя мысль о возможности заставить христианскую искренность служить политике не столь легковесна, как может показаться ловкачам, ибо-ее придерживается и император Николай, а его ум самый практический и ясный, какой только бывает на свете. Не думаю, чтобы сыскался сегодня второй государь, который бы так ненавидел ложь и так редко лгал, как этот император.
Он сделался главным поборником монархической власти в Европе, и вы сами знаете, с какой открытостью он играет свою роль. В отличие от некоторых правительств, ему не свойственно проводить в каждой местности свою особую политику, в зависимости от сугубо корыстных интересов; напротив, он повсюду, не делая никаких различий, поддерживает те принципы, что согласуются с его системой взглядов: именно так проявляет он свой абсолютный роялизм. Разве таким образом выказывает Англия свой либерализм, конституционность и приверженность филантропии?
Каждый день император Николай прочитывает сам от первой до последней страницы одну-единственную французскую газету — «Журналь де Деба». Другие он просматривает, только если ему укажут на какую-нибудь интересную статью. Цель лучших умов во Франции состоит в том, чтобы поддерживать существующую власть ради спасения общественного порядка; ту же мысль проводит постоянно «Журналь де Деба» и отстаивает ее, являя такое превосходство разума, которое объясняет уважение к этому листку и в нашей стране, и во всей Европе.
Франция страдает болезнью века, и болеет сильнее, чем любая другая страна; болезнь эта — неприятие власти; стало быть, лекарство от нее в том, чтобы укреплять власть, — так думает император в Петербурге и «Журналь де Деба» в Париже.
Но поскольку сходны у них только цели, то чем больше они, казалось бы, сближаются, тем сильнее враждуют; не так ли выбор средств разделяет зачастую умы, собравшиеся под одним знаменем? При встрече они союзники, при расставании — враги.
Законная власть, обретенная по праву наследования, кажется российскому императору единственным способом достичь своей цели; «Журналь де Деба» отчасти извращает привычный смысл старинного понятия «законная власть» под тем предлогом, что существует иная, более надежная власть — плод выборов, основанных на подлинных интересах страны, — и тем самым во имя спасения общественных установлений возводит свой алтарь в противовес алтарю императора.
Борьба же двух этих законных властей, где одна слепа как сама необходимость, а другая неуловима, словно страсть, порождает гнев тем более бурный, что у адвокатов обеих систем недостает решительных аргументов и они прибегают к одним и тем же понятиям, дабы прийти к прямо противоположным выводам.
Одно несомненно среди стольких неясностей: всякий, кто представит себе в общих чертах историю России, начиная от истоков империи и особенно с момента восхождения на престол династии Романовых, не может не прийти в изумление, глядя на государя, правящего ныне этой страной и выступающего в защиту монархической догмы законной власти по праву наследования, — в том смысле, какой придавался некогда словам «законная власть» в политической религии Франции, — тогда как оборотившись на себя и припомнив те насильственные методы, с помощью которых многие предки его передавали трон своим преемникам, он бы из самой логики событий постиг преимущество законной власти по «Журналь де Деба». Однако он повинуется своему убеждению, не оборачиваясь на себя. Я нахожу удовольствие в отступлениях, вы это знаете с давних пор; я не люблю оставлять в стороне те мимолетные мысли, что возникают у меня по тому или иному поводу, — воображение мое влечется ко всему похожему на свободу, и подобного рода беспорядок притягивает его. Меня бы заставила исправиться только необходимость всякий раз извиняться или умножать риторические уловки, дабы внести разнообразие в переходы от одной темы к другой, — тогда труд перевесил бы удовольствие.
Местечко Петергоф — прекраснейшая картина природы, какую я доселе наблюдал в России. Низкий скалистый берег нависает над морем, которое начинается прямо у оконечности парка, примерно на треть лье ниже дворца, возведенного на краю этого невысокого, почти отвесно обточенного природой обрыва; в этом месте устроены были великолепные наклонные спуски; вы сходите с террасы на террасу и оказываетесь в парке, где взору вашему предстают величественные боскеты, весьма обширные и тенистые. Парк украшают водные струи и искусственные каскады в версальском вкусе; для сада, расчерченного в манере Ленотра, он довольно живописен. Здесь есть несколько возвышений, несколько садовых построек, с которых открывается море, берега Финского залива, вдали — арсенал русского морского флота, остров Кронштадт со своими гранитными крепостными стенами вровень с водой, а еще дальше правее, в девяти лье — Петербург, белый город, что кажется издалека веселым и блестящим и под вечер, со своими теснящимися дворцами и крашеными крышами, своими островами, соборами в окружении побеленных колонн, рощами похожих на минареты колоколен, напоминает еловый лес, когда серебристые пирамиды его сияют в зареве пожара. Отсюда видишь, или по крайней мере угадываешь, как из центра этого леса, прорезанного рукавами реки, вытекают разный русла Невы, которая вблизи залива ветвится и впадает в море во всем величии большого речного потока, чье великолепное устье заставляет забыть, что длина его всего восемнадцать лье. И тут одна видимость! Природа здесь, можно сказать, действует заодно с человеком, окружая ошеломленного путешественника иллюзиями. Пейзаж этот плоский, холодный, но весьма впечатляющий, и к унынию его проникаешься почтением.
Растительность не придает сколько-нибудь значительного разнообразия ландшафтам Ингрии; в садах она совершенно искусственна, в сельской же местности это редкие купы берез тоскливо-зеленого цвета и аллеи тех же деревьев, что насажены вместо границ между болотистыми лугами, лесами с чахлыми и узловатыми деревьями и пашней, не родящей пшеницу, — ибо что же может уродиться на шестидесятом градусе широты?
Когда я думаю, сколько препятствий пришлось одолеть человеку, чтобы создать здесь общество, возвести город, сделать это, как говорили Екатерине, медвежье и волчье логово обиталищем не одного государя и содержать их здесь с пышностью, подобающей тщеславию великих правителей и великих народов, то любой латук и любая роза вызывает у меня желание воскликнуть «о, чудо!». Если Петербург — это раскрашенная Лапландия, то Петергоф — дворец Армиды под стеклянным колпаком. Когда взору моему предстает столько роскоши, изящества и блеска, а при этом я вспоминаю, что несколькими градусами севернее год состоит из одного дня, одной ночи и пары сумерек, каждые в три месяца длиною, я перестаю верить, что нахожусь под открытым небом. И вот тут-то я не могу не приходить в восхищение!!
Торжеством человеческой воли я восхищаюсь всюду, где вижу его, — что отнюдь не ставит меня перед необходимостью восхищаться слишком часто. По императорскому парку в Петергофе можно проехать в карете целое лье и не попасть дважды в одну и ту же аллею; и вот представьте себе этот парк, весь залитый огнями. Здесь, в стране льдов, лишенной естественного света, иллюминации являют собою настоящее зарево пожара; можно подумать, будто ночь должна вознаградить людей за дневной сумрак. Деревья исчезают в убранстве бриллиантов; лампионов в каждой аллее столько же, сколько листьев: это Азия, только не реальная, современная Азия, а сказочный Багдад из «Тысячи и одной ночи» или еще более сказочный Вавилон Семирамиды. Говорят, в день чествования императрицы из Петербурга отправляются шесть тысяч экипажей, тридцать тысяч пешеходов и бессчетное количество лодок, и все эти полчища по прибытии в Петергоф встают вокруг него лагерем. В этот день и в этом месте я единственный раз видел в России толпу. Гражданский бивуак в военной стране — одна из достопримечательностей. Это не значит, что на празднестве не было армии: вокруг местопребывания государя и государыни расквартирована также часть гвардии и кадетский корпус; и все эти люди — офицеры, солдаты, торговцы, крепостные, господа, знать, вместе бродят по рощам, откуда двести пятьдесят тысяч лампионов изгнали ночную тьму. Мне назвали именно эту цифру, ее я вам и повторяю наугад, ибо по мне что двести тысяч, что два миллиона — все едино; глазомера у меня нет, и я знаю только одно: естественное освещение северного дня меркнет перед искусственным светом, который излучает это огненное море. В России император затмевает солнце. В эту летнюю пору ночи снова вступают в свои права, они быстро удлиняются, и вчера, не будь иллюминации, под сводами широких аллей петергофского парка на несколько часов воцарилась бы полная темнота.
Еще говорят, что все лампионы в парке зажигают за тридцать пять минут тысяча восемьсот человек; та часть иллюминации, какая обращена к замку, загорается за пять минут. Она, среди прочего, охватывает и канал, расположенный напротив центрального балкона дворца и уходящий далеко в парк, по прямой, в направлении моря. Эта перспектива поистине завораживает: водная гладь обрамлена столькими фонарями и отражает столь яркий свет, что сама кажется огненной. Быть может, у Ариосто достало бы блеска и воображения, дабы описать вам на языке волшебства подобные чудеса; все это дивное море света используется здесь со вкусом и выдумкой; разным группам лампионов, удачно разбросанным среди листвы, придана оригинальная форма: тут есть цветы величиною с дерево, солнца, вазы, беседки из виноградных лоз — копии итальянских pergole,[43] обелиски, колонны, узорные, на мавританский манер, стены, — словом, у вас перед глазами проходит целый фантастический мир, но взор ваш ни на чем не задерживается, ибо чудеса сменяют друг друга с невероятной быстротой. От огненных крепостных укреплений отвлекают вас драпировки, кружева из драгоценных камней; все сверкает, все горит, все — пламя и брильянт; боишься, как бы это великолепное зрелище не оставило по себе, словно пожар, кучу пепла.
Но самое поразительное, что видно из дворца, это все же большой канал, похожий на застылую лаву в охваченном заревом лесу. На противоположном конце канала установлена громадная пирамида цветных огней (высотою, я полагаю, футов в семьдесят), которую венчает шифр императрицы, сияющий ослепительно-белым светом и окруженный понизу красными, зелеными и синими лампами; он похож на брильянтовое перышко в обрамлении цветных драгоценных камней. Все это сделано с таким размахом, что вы перестаете верить собственным глазам. Вы скажете, что подобные эффекты — вещь невероятная для праздника, который справляется каждый год; то, что я вижу перед собою, слишком огромно и потому нереально: это греза влюбленного великана, пересказанная безумным поэтом.
Есть на этом празднике нечто столь же чудесное, сколь и он сам, — это различные побочные сцены, которые он вызывает к жизни. Вся толпа, о которой я говорил, на протяжении двух-трех ночей стоит лагерем вокруг деревни, растекаясь по довольно значительному пространству. Многие женщины укладываются спать в своих каретах, крестьянки ночуют в повозках; экипажи эти сотнями стоят внутри дощатых оград и образуют походные лагеря, по которым весьма занятно пройтись, — они достойны кисти какого-нибудь остроумного живописца.
Импровизированные города-однодневки, какие сооружают русские по случаю праздника, гораздо более занятны и гораздо более национальны по духу, чем настоящие города, возведенные в России иностранцами. В Петергофе все: лошади, хозяева, кучера — ночуют вместе в деревянных загонах; такие бивуаки совершенно необходимы, ибо в деревне не так много сравнительно чистых домов, и комнаты в них стоят от двухсот до пятисот рублей за ночь; бумажный рубль соответствует двадцати трем французским су.
Тяжелое чувство, владеющее мною с тех пор, как я живу среди русских, усиливается еще и оттого, что во всем открывается мне истинное достоинство этого угнетенного народа. Когда я думаю о том, что мог бы он совершить, будь он свободен, и когда вижу, что совершает он ныне, я весь киплю от гнева. Послы со своими семействами и свитой, равно как иностранцы, представленные ко двору, получают кров и приют за счет императора; для этих целей отведено обширное и очень милое квадратное здание, именуемое Английским дворцом. Расположено оно в четверти лье от императорского дворца, на окраине деревни, в прекрасном парке английской планировки, который столь живописен, что кажется естественным. Привлекательность этому саду придают обильные и красивые водоемы, а также холмистая местность, вещь редкая в окрестностях Петербурга. В этом году иностранцев оказалось более обыкновенного, и им не хватило места в Английском дворце, каковой пришлось отвести для должностных лиц и особ, получивших официальное приглашение; так что ночевать в этом дворце мне не пришлось, но обедаю я там каждый день, вместе с дипломатическим корпусом и еще семью-восемью сотнями человек; стол во дворце отменный. Гостеприимство, без сомнения, поразительное!.. Если вы нашли себе пристанище в деревне, то для того чтобы отправиться обедать за этим столом, во главе которого восседает один из высших военных чинов империи, надо закладывать лошадей и надевать мундир.
На ночь директор императорских театров предоставил мне в театральной зале Петергофа две актерские ложи, и этому моему жилью все завидуют. Я не знаю здесь недостатка ни в чем, разве только в кровати. По счастью, я захватил из Петербурга свою маленькую железную кровать. Для европейца, что путешествует по России и не желает обзаводиться привычкой спать на лавке или на лестнице, завернувшись в ковер, это предмет первой необходимости. Здесь возить с собою собственную кровать — дело такое же естественное, как в Испании носить плащ!.. Солома в стране, где не родится зерно, редкость, и за недостатком ее я набиваю тюфяк сеном: его можно отыскать почти везде. Если не хочется обременять себя кроватью, надо по крайней мере иметь при себе чехол для матраца. Я вожу его для своего камердинера, который не больше моего готов смириться с необходимостью спать по-русски. Я обошелся бы без кровати даже скорее, чем он, ибо почти две ночи напролет занят был тем, что писал вам это письмо.
Любительские бивуаки — самое живописное, что есть в Петергофе, ибо в солдатских лагерях царит единообразие во всем. Уланы раскинули бивуак посреди луга, вокруг пруда в окрестностях дворца, поблизости от них разместился полк конных гвардейцев императрицы, а дальше черкесы, чьи казармы находятся на краю деревни, и, наконец, кадеты, которые частью расквартированы по домам, а частью стоят лагерем в поле.
В любой другой стране от такого громадного скопления народа возникла бы невообразимая толчея и сумятица. В России все происходит степенно, все обретает характер церемонии; тишина соблюдается очень строго; надо видеть этих молодых людей, что собрались здесь ради собственного удовольствия или удовольствия чужого и не осмеливаются ни смеяться, ни петь, ни ссориться, ни играть, ни танцевать, ни бегать; можно подумать, что это группа арестантов, готовая отправиться к месту своего заключения. Опять напоминание о Сибири!.. Во всем, что я здесь вижу, недостает, конечно, отнюдь не величия и не пышности, и даже не вкуса и изысканности: недостает веселья; веселиться не прикажешь, наоборот, приказ губит веселье, подобно тому как шнур и ватерпас губят живописные картины. Все виденное мною в России было непременно симметричным и имело упорядоченный вид; здесь не ведают того, что придало бы цену порядку, — разнообразия, из которого родится гармония.
Солдаты на бивуаке подчинены дисциплине еще более суровой, чем в казармах; подобная строгость, выказываемая в мирное время, в чистом поле и в праздничный день, приводит мне на память слова о войне великого князя Константина. «Не люблю войну, — говаривал он, — от нее солдаты портятся, одежда пачкается, а дисциплина падает».
Сей принц-воитель говорил не всю правду; у него была. и другая причина не любить войну — что и доказало его поведение в Польше. В день, когда имеют быть бал и иллюминация, в семь часов вечера все стекаются в императорский дворец. Всех вперемешку — придворных, дипломатический корпус, приглашенных иностранцев и так называемых людей из народа, допущенных на праздник, вводят в главные покои. Мужчинам, за исключением мужиков в национальных одеждах и купцов, облаченных в кафтаны, строго предписано иметь поверх мундиров «табарро», венецианский плащ — ибо праздник сей именуется балом-маскарадом. В главных покоях, зажатый в толпе, вы довольно долго ожидаете появления императора и императорской фамилии. Едва солнце дворца, повелитель, возникает на горизонте, как пространство перед ним расчищается; в сопровождении своей благородной свиты он свободно, ни на миг не соприкасаясь с толпой, пересекает залы, куда минутою прежде нельзя было, казалось, протиснуться ни одному человеку. Едва Его Величество скрывается из виду, волны крестьян смыкаются вновь. Так пенится струя за кормой корабля.
Голова Николая возносится выше всех голов, и благородный облик его накладывает печать почтительности на это волнующееся море — он словно Вергилиев Нептун; нельзя быть более императором, чем он. Два или три часа подряд он танцует полонезы с дамами, принадлежащими к его фамилии и ко двору. В свое время танец этот представлял собою размеренную и церемонную ходьбу, ныне же это просто прогулка под звуки музыки. Император со свитой движутся прихотливыми извивами, а толпа, хоть и не зная, в каком направлении устремится он дальше, тем не менее расступается всегда вовремя и не стесняет поступь императора.
Император говорит что-то нескольким бородачам в русском костюме, то есть одетым в персидское платье, и около половины одиннадцатого, с наступлением глубокой ночи, начинается иллюминация. Я уже писал, с какой волшебной быстротой зажигаются на ваших глазах тысячи лампионов; это настоящая феерия. Меня заверяли, что обычно в этот праздничный миг к береговой линии подходят многие корабли императорского морского флота, вторя отдаленными орудийными залпами музыке на суше. Вчера из-за скверной погоды мы оказались лишены этого великолепного праздничного эпизода. Должен, однако, добавить, что один француз, давно обосновавшийся в этой стране, рассказывал, будто всякий год непременно случается что-нибудь такое, отчего иллюминации на кораблях не бывает. Выбирайте сами, кому верить, — словам ли местных жителей или уверениям чужестранцев.
Большую часть дня мы уже считали, что иллюминация не состоится. Около трех часов, как раз когда мы обедали в Английском дворце, в Петергофе выпал град; деревья в парке яростно раскачивались, их вершины гнулись на ветру, ветви скребли по земле, но мы, наблюдая это зрелище, были далеки от мысли, что от того самого порыва ветра, на последствия которого мы бесстрастно взирали, гибнут в волнах сестры, матери, друзья огромного числа людей, спокойно сидевших за одним с нами столом. Наше беспечное любопытство было сродни веселью, а в это время множество лодок, плывших из Петербурга в сторону Петергофа, опрокидывались посреди залива. Сейчас одни признают, что утонули двести человек, другие говорят о полутора тысячах, двух тысячах, — правды же не узнает никто, и в газетах о несчастье писать не будут: это значило бы опечалить императрицу и предъявить обвинение императору.
Дневное бедствие хранилось в тайне на протяжении всего вечера; какие-то слухи просочились лишь после праздника, но и на следующее утро двор казался не грустней и не радостней обыкновенного; здешний этикет требует прежде всего, чтобы человек молчал о том, что занимает мысли всех; даже и вне стен дворца признания делаются только вполслова, походя и шепотом. Люди в этой стране привыкли жить уныло потому, что сами почитают жизнь ни за что; каждый чувствует, что бытие его висит на ниточке, и каждый делает свой выбор, так сказать, с рождения.
Подобные происшествия, хоть и не столь масштабные, каждый год омрачают празднества в Петергофе, и когда бы не только я, но и другие задумались о том, во что обходится все это великолепие, оно бы сменилось торжественным трауром и погребальной пышностью; но размышляю здесь я один. Со вчерашнего дня умы суеверные приметили уже не одно печальное предвестие: три недели здесь стояла прекрасная погода, и как раз в день чествования императрицы она испортилась; шифр государыни никак не загорался — человек, назначенный блюсти эту главную часть иллюминации, поднимается на вершину пирамиды и берется за дело, но по мере того как он зажигает лампионы, ветер их гасит. Человек поднимается вновь и вновь; наконец он оступается, падает с семидесятифутовой высоты и разбивается насмерть. Его уносят; шифр же так и остается зажженным лишь наполовину!..
Предзнаменования эти тем более зловещи, что императрица ужасающе худа, у нее томный вид и тусклый взор. Жизнь, которую она ведет — каждый вечер празднества, балы! — становится для нее пагубной. Здесь надобно беспрерывно развлекаться, иначе умрешь со скуки. Раннее утро для императрицы и всех усердных придворных начинается со зрелища смотров и парадов; за ними всегда следует несколько приемов; императрица на четверть часа удаляется в свои внутренние покои, а затем на два часа выезжает на прогулку в карете; вслед за прогулкой она принимает ванну, а потом выезжает снова, на сей раз верхом. Возвратившись опять к себе, она снова принимает визиты и наконец отправляется посетить какие-либо полезные заведения, находящиеся под ее попечительством, или навестить кого-либо из близких; затем она сопровождает императора, когда тот едет в военный лагерь: он тут всегда где-нибудь да сыщется; вернувшись, они танцуют на балу; так проходит день за днем, год за годом, и на это расходуются, вместе с жизнью, ее силы.
Особы, которым недостает мужества или здоровья, чтобы вести такую же кошмарную жизнь, не пользуются ее благосклонностью. На днях императрица сказала мне об одной женщине, весьма изысканной, но хрупкой: «Она вечно больна!» По тону, по виду, с каким произнесены были эти слова, я почувствовал, что они решили судьбу целого рода. В мире, где никто не довольствуется благими намерениями, болезнь равносильна немилости. Императрица отнюдь не считает, что менее других обязана расплачиваться за все собственной особой.
Она не может перенести, чтобы император удалился от нее хотя бы на миг. Государи — люди железные!.. Благородная женщина не желает быть подверженной человеческим недугам и иногда мнит, что ей это удается; но из-за недостатка покоя, физического и морального, отсутствия каких-либо регулярных занятий и дел, нехватки сколько-нибудь серьезных собеседников, постоянно возникающей необходимости предаваться положенным ей по рангу развлечениям, — из-за этого всего ее снедает лихорадка; подобный ужасающий образ жизни стал для нее и пагубен, и неизбежен. Теперь она не может ни оставить его, ни выдержать дальше. Ей грозят чахотка, общее истощение, особенно опасаются врачи воздействия на нее петербургской зимы; но ничто не заставит ее провести полгода вдали от императора.[44]
Глядя на эту привлекательную, но изнуренную страданием женщину, что бродит, словно привидение, на празднике, который называется ее праздником и который она, быть может, видит в последний раз, я чувствую, как у меня сжимается сердце; и как бы ни ослепляло меня человеческое величие, я обращаюсь мыслью к изъянам нашей природы. Увы! с большой высоты больнее падать. Уже в этом мире люди благородные за один день искупают все лишения бедняка на протяжении всей его долгой жизни.
Неравенство сословий стирается под недолгим, но тяжким гнетом страдания. Время — это всего лишь иллюзия, от которой избавлена страсть; сила чувства, удовольствия или боли — вот мера реальности… Реальность эта рано или поздно приводит к возникновению в самой легкомысленной жизни серьезных идей; но вынужденная серьезность столь же горька, сколь сладостна была бы серьезность иного рода. Будь я на месте императрицы, я бы не согласился, чтобы вчера отмечали мой праздник, — если бы, впрочем, в моей власти было избавить себя от этого удовольствия, навязанного этикетом.
Даже самые высокопоставленные особы не испытывают особого вдохновения, если им положено развлекаться в строго назначенный день. Дата, торжественно отмечаемая каждый год, позволяет лишь острее ощутить ход времени благодаря сравнению прошлого и настоящего. Юбилеи, хоть их и отмечают разного рода празднествами, всегда наводят нас на множество грустных мыслей; едва минет первая молодость, как мы начинаем клониться к упадку; к приходу повторяющегося из года в год торжества у нас всегда оказывается на несколько радостей меньше и на несколько сожалений больше — и сколь же тягостен такой обмен! Разве не лучше было бы позволить дням нашим протекать в тиши? Дни рождения — это тоскливые голоса смерти, эхо времени, что доносит до душевного нашего слуха одни только слова муки. Вчера по окончании бала, описанного мною, был ужин; потом все, обливаясь потом, ибо в помещениях, где теснилась толпа, жара стояла невыносимая, расселись по придворным каретам, именуемым линейками, и поехали в ночной непроглядной тьме, по росе, чья свежесть, по счастью, умерялась горящими лампионами, осматривать иллюминацию. Вы даже представить себе не можете, какая жара струилась по аллеям этого зачарованного леса — настолько нагревают парк бесчисленные фонари, светом которых мы были ослеплены! Линейки представляют собою экипажи с двумя рядами скамей, на которых удобно рассаживаются спина к спине восемь человек; общий их вид — форма, позолота, античная упряжь лошадей — не лишен величия и оригинальности. Это поистине царская роскошь, что для Европы нынче вещь редкостная.
Количество этих экипажей весьма значительно — в нем также проявляется пышность петергофского празднества; их хватает на всех приглашенных, за исключением крепостных и мещан, что ради торжественного случая расставлены по дворцовым залам.
Церемониймейстер указал мне, в какую линейку сесть, но у выхода царил беспорядок и никто не мог попасть на свое место; не обнаружив ни слуги, ни плаща, я в конце концов забрался в одну из последних линеек и уселся подле некоей русской дамы, которая не была на балу и приехала сюда из Петербурга, чтобы показать своим дочерям иллюминацию. Дамы эти, казалось, близко знались со всеми придворными семействами; беседа с ними была откровенной и потому нимало не походила на беседу с людьми, состоящими при дворе. Мать сразу же обратилась ко мне; непринужденность тона и хороший вкус выдавали в ней знатную даму. Тут я вновь убедился в том, что успел уже заметить раньше: если русские женщины не притворяются, то речи их не отличаются ни кротостью, ни снисходительностью. Она перечислила мне всех, кто проезжал мимо нас, — ибо в продолжение этой волшебной прогулки линейки нередко едут друг другу навстречу; половина экипажей движется по одной аллее, тогда как другая половина — по соседней, в противоположную сторону. Аллеи разделены полосою подстриженных деревьев с широкими просветами в форме аркад, так что царственный кортеж производит смотр самому себе.
Когда бы не боязнь утомить вас и, главное, внушить вам своими восторгами известное недоверие, я бы сказал, что никогда не видел ничего изумительнее этих портиков из лампионов; когда вдоль них по парку, столь же заполненному толпой, как минутою прежде были заполнены селянами залы дворца, проезжают в торжественной тишине все придворные экипажи, зрелище это потрясает воображение.
Целый час мы странствовали по зачарованным боскетам; мы объехали вокруг озера, именуемого Марли, что находится у оконечности петергофского парка. Более столетия Версаль и все прочие дивные творения Людовика XIV занимали умы европейских государей. Иллюминация на озере Марли показалась мне изумительнее всех прочих. У самого края водного пространства (я едва не написал «золотого убранства», настолько вода здесь светозарна и блестяща) высится дом, где жил Петр Великий; он тоже освещен фонарями, как и все вокруг. Более всего поразил меня оттенок воды, в которой отражался свет тысяч лампионов, зажженных по берегам этого огненного озера. Вода и деревья сообщают иллюминации дополнительное и необычайное великолепие. Проезжая через парк, мы видели гроты, освещенные изнутри так, что свет преломлялся через пелену воды, падавшую перед входом в сверкающую пещеру; переливы каскада, заслоняющего собою огонь, производили сказочное впечатление. Императорский дворец, возвышаясь над всеми этими удивительными водопадами, предстает как бы их источником; он единственный оставлен неосвещенным; он белый, но благодаря громадному пучку огней, что поднимаются к нему из всех частей парка и отражаются от стен, начинает переливаться разными цветами. В сиянии лучей столь же ослепительных, как лучи солнца, меняют свой цвет камни и зелень деревьев. Ради одного только этого зрелища стоило совершить прогулку в Петергоф. Если когда-нибудь случится мне вновь оказаться на этом празднике, я ограничусь тем, что поброжу пешком по садам.
Прогулка эта, вне всякого сомнения, самое большое удовольствие, какое можно получить на празднике в честь императрицы. Но, повторю еще раз, волшебство еще не веселье: здесь никто не смеется, не поет, не танцует; все говорят тихо и развлекаются с оглядкой; похоже, что подданные русского императора, искушенные в учтивостях, даже и к удовольствию своему относятся с величайшим почтением. Одним словом, в Петергофе, как и повсюду, не хватает свободы. К себе в комнату, то есть в ложу, я вернулся в половине первого. С наступлением ночи любопытные пустились в обратный путь, и покуда сей бурный поток тек у меня под окнами, я сел писать к вам — все равно уснуть посреди подобного столпотворения невозможно. В России шуметь дозволяется только лошадям. Лавина карет самой разной формы и величины и самого разного сорта продвигалась по дороге в четыре ряда сквозь огромную толпу — пеших женщин, детей и мужиков; после условностей царского празднества начиналась естественная жизнь — словно группа узников сбросила с себя оковы. Народ на большой дороге — уже отнюдь не дисциплинированная толпа в саду. Сей вихрь, вновь обретя изначальную дикость и устремляясь с устрашающей мощью и быстротой в сторону Петербурга, напомнил мне картины отступления под Москвой; эта иллюзия усиливалась оттого, что многие лошади по пути падали замертво.
Едва успел я раздеться и броситься на кровать, как уже снова надо было подниматься и бежать во дворец: ожидалось, что сам император будет производить смотр кадетскому корпусу.
С величайшим удивлением я обнаружил, что весь двор уже на ногах и приступил к исполнению своих обязанностей; женщин украшали свежие утренние туалеты, мужчины вновь облачились в костюмы соответственно своим должностям. Все в условленном месте ожидали императора. Нарядная толпа эта горела желанием выказать свое рвение: всяк был так резов, словно ночное великолепие и усталость ложились бременем лишь на одного меня. Я устыдился своей лени и понял, что не рожден быть добрым русским царедворцем. Пусть цепь и позолочена, от этого она не кажется мне легче. Едва успел я пробраться сквозь толпу, как появилась императрица; я еще не занял своего места, а император уже обходил ряды своих малолетних офицеров, императрица же, столь утомленная вчерашней церемонией, ожидала его в коляске посреди площади. Мне было больно за нее, — впрочем, от ее подавленности, поразившей меня вчера, не осталось и следа. Так что жалость моя обратилась на меня самого: я чувствовал, что один измучился за всех, и с завистью взирал, как даже самые престарелые из придворных с легкостью несут тяжкий груз, угнетающий меня. Честолюбие здесь — условие жизни; не будь этой дозы показной деятельности, все оставались бы угрюмыми и печальными. Император громко приказывал ученикам исполнить то или иное упражнение; после нескольких отменных маневров Его Величество выказал удовлетворение: повелев одному из самых юных кадетов выйти из строя и взяв его за руку, он самолично подвел его к императрице, представил ей, а потом поднял ребенка на высоту своей головы, то есть над головами всех окружающих, и прилюдно поцеловал. Какой прок был императору в этот день являть публике подобное добродушие? этого никто не смог или не захотел мне объяснить. Я спрашивал у людей, стоящих рядом со мною, кто блаженный отец сего образцового кадета, столь щедро удостоенного государевых милостей. Никто не удовлетворил моего любопытства; в России из всего делают тайну. После этого прилюдного изъявления чувств император и императрица возвратились в петергофский дворец и в главных его покоях принимали всех, кто пожелал засвидетельствовать им свое почтение, а затем, около одиннадцати часов, показались на одном из балконов дворца, перед которым принялись совершать весьма живописные упражнения на восхитительных азиатских лошадях солдаты черкесской гвардии. Отменно наряженное, войско это своею красотой довершает военную пышность русского двора, каковой, невзирая на все свои усилия и притязания, по-прежнему остается и долго еще пребудет не столько европейским, сколько восточным. Ближе к полудню, чувствуя, что любопытство мое иссякло, и не обладая для восполнения физических сил тем всемогущим подспорьем, каким является придворное честолюбие, совершающее здесь столько чудес, я улегся в постель и только теперь встал, дабы завершить свой рассказ.
Я рассчитываю остаток дня провести здесь, пока не рассеется толпа; впрочем, в Петергофе меня удерживает надежда получить одно удовольствие, которому я придаю большое значение.
Завтра, если будет время, я поведаю вам, чем увенчались мои интриги.
ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ
Коттедж в Петергофе. — Неожиданность. — Императрица. — Ее утреннее платье. — Ее обхождение, выражение лица, беседа с нею. — Наследник престола. — Доброта его. — Вопрос, повергший меня в замешательство. — Как отвечает на него вместо меня великий князь. — Молчание императрицы; его истолкование. — Внутреннее убранство коттеджа. — Полное отсутствие предметов искусства. — Семейные пристрастия. — Стеснительная робость. — Великий князь в роли чичероне. — Изысканная учтивость. — Что такое робость. — В наш век люди от нее избавлены. — Высшая степень гостеприимства. — Немая сцена. — Рабочий кабинет императора. — Маленький телеграф. — Дворец в Ораниенбауме. — Грустные воспоминания. — Маленький замок Петра III, то, что от него осталось. — Как здесь всеми силами скрывают правду. — Преимущества людей темных над великими. — Цитата из Рюльера. — Парковые беседки. — Воспоминания о Екатерине II. — Лагерь в Красном Селе. — Возвращение в Петербург. — Ребяческие выдумки.
Петербург, 27 июля 1839 года
В свое время я беспрестанно упрашивал госпожу *** помочь мне осмотреть коттедж[45] императора и императрицы. Это маленький домик, который они построили в новом готическом стиле, по английской моде. Находится он посреди великолепного петергофского парка. «Нет ничего труднее, чем попасть в коттедж, когда Их Величества находятся там, — отвечала мне госпожа***, - в их отсутствие не было бы ничего легче. Но я все-таки попробую». Я задержался в Петергофе, ожидая с нетерпением ответа от госпожи ***, но не слишком надеясь на успех. Наконец вчера рано утром получаю от нее коротенькую записку следующего содержания: «Будьте у меня без четверти одиннадцать. В виде особой милости мне было дозволено показать вам коттедж в тот час, когда император вместе с императрицей отправляются на прогулку, то есть ровно в одиннадцать. Их точность вам известна». Опаздывать на свидание я не собирался. Госпожа *** живет в премилом дворце, расположенном в одном из уголков парка. Она сопровождает императрицу повсюду, однако селится по возможности отдельно, хоть и совсем рядом с различными резиденциями императрицы. Я был у нее в половине одиннадцатого. Без четверти одиннадцать мы садимся в запряженную четверней карету, быстро едем через парк и без нескольких минут одиннадцать подъезжаем к дверям коттеджа.
Это самый настоящий английский дом, стоящий среди цветов и в сени деревьев; построен он по образцу тех прелестнейших жилищ, какие можно видеть под Лондоном, в Туикнеме, на берегу Темзы. Не успели мы миновать небольшую переднюю, к которой ведут несколько ступеней, и, задержавшись на несколько минут, осмотреть салон, где обстановка показалась мне, пожалуй, излишне изысканной в сравнении с домом в целом, как к нам подошел камердинер во фраке и шепнул несколько слов на ухо госпоже ***, которая, как мне показалось, удивилась.
— Что случилось? — спросил я, когда слуга удалился.
— Императрица возвращается обратно.
— Какая досада! — воскликнул я. — Я не успею ничего увидеть!
— Возможно; выходите через эту террасу, спускайтесь в сад и ждите меня у входа.
Не прошло и двух минут, как я увидел императрицу, которая в одиночестве поспешно спускалась с крыльца, направляясь ко мне. Ее высокая, тонкая фигура как-то по-особому изящна; походка у нее живая, легкая и одновременно благородная; некоторые ее жесты, позы, повороты головы поистине незабываемы. Она была в белом; лицо ее, обрамленное белым капотом, казалось отдохнувшим; глаза излучали печаль, кротость и покой; изящно приподнятая вуаль окаймляла ее лицо; прозрачный шарф, красивыми складками ложащийся на плечи, дополнял этот изысканнейший утренний наряд. Никогда еще она не являлась передо мною столь привлекательной: от облика ее мрачные предчувствия, посетившие меня на балу, совершенно рассеялись, императрица показалась мне воскресшей, и я ощутил то успокоение, какое приходит к нам утром после бурной ночи. Должно быть, Ее Величество крепче меня, подумал я, раз после позавчерашнего празднества, вчерашнего смотра и приема поднялась сегодня утром с постели такой ослепительной, какой я вижу ее теперь.
— Я знала, что вы здесь, и потому сократила прогулку, — произнесла она.
— Ах, Ваше Величество! мог ли я надеяться на такую доброту?
— Я ничего не сказала о своих планах госпоже ***, и она только что выговаривала мне за то, что я застала вас врасплох; она полагает, что я помешаю вам осматривать дом. Значит, вы хотите попасть сюда, чтобы проникнуть в наши тайны?
— Мне бы очень этого хотелось. Ваше Величество; проникая в мысли людей, умеющих сделать столь безошибочный выбор между пышностью и изяществом, нельзя не оказаться в выигрыше.
— Петергофская жизнь для меня невыносима, и я попросила государя выстроить какую-нибудь хижину, где глаза могли бы отдыхать от всей этой массивной позолоты. В этом доме я счастлива, как нигде больше; но теперь, когда одна из дочерей замужем, а сыновья учатся, он стал слишком велик для нас.
Я молча улыбнулся; я был во власти ее обаяния; мне почудилось, что чувства этой женщины, столь непохожей на ту, в чью честь задан был накануне роскошный праздник, сходны с моими собственными; подобно мне, она ощутила усталость и пустоту, говорил я себе, она осудила лживый блеск всего этого возникшего по приказу великолепия и теперь тоже сознает, что заслуживает лучшей участи. Я сравнивал цветы, окружавшие коттедж, с люстрами во дворце, ясное утреннее солнце с огнями ночных торжеств, тишину сладостного убежища с дворцовым столпотворением, празднество природы с празднеством придворным, женщину с императрицей и восхищался тем, с каким вкусом и умом государыня эта сумела бежать тягот показной жизни, окружив себя всем, что составляет притягательность жизни уединенной. То было какое-то новое для меня волшебство, и его возвышенный характер занимал мое воображение куда сильнее, нежели магия власти и величия.
— Мне не хочется, чтобы госпожа*** оказалась права, — продолжала императрица. — Вы сейчас осмотрите коттедж во всех подробностях, мой сын будет вам провожатым. Я же пока пойду взгляну на свои цветы, а когда вы соберетесь уходить, возвращусь к вам.
Вот какой прием оказала мне эта женщина, слывущая высокомерной не только в Европе, где ее вовсе не знают, но и в России, где она у всех на виду. В эту минуту к матери приблизился великий князь, наследник престола; с ним была госпожа *** и ее старшая дочь, девушка лет четырнадцати, свежая, как роза, и прелестная той прелестью, какая существовала во Франции времен Буше. Девушка эта — живая модель одного из привлекательнейших портретов кисти сего живописца, за исключением разве что пудреных волос. Я ждал, когда императрице будет угодно отпустить меня; все мы принялись прохаживаться взад-вперед перед домом, не удаляясь, однако, от входа, у которого остановились с самого начала.
Госпожа *** — полячка; императрице известно, что я принимаю участие в ее семье. Ее Величество знает и о том, что один из братьев этой дамы уже много лет живет в Париже.(201) Она свернула разговор на образ жизни этого молодого человека и долго, с подчеркнутым интересом расспрашивала меня о его чувствах, воззрениях, характере, — давая тем самым полную возможность высказать без обиняков все, что подскажет мне привязанность, которую я к нему питаю. Слушала она меня с большим вниманием (202). Когда я умолк, великий князь заговорил на ту же тему и, обращаясь к матери, сказал:
— Я встречал его недавно в Эмсе(203) и нахожу, что это человек весьма достойный.
— И тем не менее столь благородному человеку не дают возвратиться сюда из-за того, что после революции в Польше он перебрался в Германию, — воскликнула госпожа *** с сестринской любовью и с той свободой в выражении своих мыслей, какую не смогла в ней истребить даже привычка с детства жить при дворе.
— Но что же такого он совершил? — спросила меня императрица с неподражаемой интонацией, в которой нетерпение переплеталось с добротой. Я затруднился с ответом на столь прямой вопрос, ибо не мог не затронуть тонкие политические материи, а значит, рисковал все испортить. Великий князь вновь пришел мне на выручку с таким изяществом и приветливостью, что забыть их было бы неблагодарностью с моей стороны; должно быть, он полагал, что я не осмеливаюсь отвечать из-за того, что знаю слишком много; и вот, предупреждая какую-нибудь отговорку, которая могла бы выдать мое замешательство и опорочить дело, какое мне хотелось защищать, он с живостью воскликнул: «Но, матушка, кто же когда спрашивал у пятнадцатилетнего мальчика, что он совершил в политике?» Ответ этот, исполненный сердечности и ума, вывел меня из затруднительного положения — но и положил конец беседе. Когда бы я осмелился истолковать молчание императрицы, я бы так передал ее мысли: «Кому нужен нынче в России поляк(204), которому возвращена императорская милость? Для исконно русских он вечно будет предметом зависти и у новых своих господ не вызовет иных чувств, кроме настороженности. Жизнь свою и здоровье он растратит в испытаниях, каким его подвергнут, дабы убедиться в его верности; а затем, в результате, если все наконец убедятся, что на него можно рассчитывать, его станут презирать именно потому, что на него рассчитывают. Да и что я могу сделать для этого юноши? Влияние мое так мало!»
Не думаю, чтобы я сильно ошибался, полагая, что таковы были мысли императрицы — я и сам думал примерно то же самое. Про себя оба мы заключили, что для дворянина, у которого нет больше ни сограждан, ни братьев по оружию, меньшим из двух зол будет оставаться вдали от страны, где он появился на свет: одна только почва не составляет еще отечества, и нет ничего хуже, чем положение человека, который дома живет, словно на чужбине. По знаку императрицы все мы, великий князь, госпожа ***, ее дочь и я, возвратились в коттедж. В доме этом мне хотелось бы видеть менее роскоши в обстановке и более предметов искусства.
Первый этаж похож на любое жилище богатого. и элегантного англичанина; но там нет ни одной первоклассной картины, ни одного обломка мрамора, ни одного глиняного горшка, которые бы обнаруживали ярко выраженную склонность хозяев к живописным или скульптурным шедеврам. Я не имею в виду умение сносно рисовать самому; я имею в виду вкус к прекрасному, доказательство того, что вы любите искусство и чувствуете его. Я всегда сожалею, когда эта страсть отсутствует у людей, которым так легко было бы ее удовлетворять. И не нужно говорить, что слишком ценные статуи или картины были бы неуместны в коттедже; дом этот — излюбленное местопребывание своих владельцев, а если вы устраиваете себе обиталище на свой лад и сильно любите искусство, вы всегда обнаружите свой вкус к нему, пусть даже рискуя нарушить единство стиля, погрешить против гармонии; в придачу в императорском коттедже известный разнобой вполне позволителен.
Однако русские императоры — отнюдь не императоры римские; они не считают, что по положению своему обязаны любить искусство. По планировке и убранству коттеджа становится ясно, что обустройство и общий замысел этого жилища основывается на семейных привычках и пристрастиях. Это даже лучше, чем чувство прекрасного, явленное в гениальных творениях. Единственное, что не понравилось мне в расположении и обстановке этого элегантного пристанища — слишком рабское копирование английской моды. Первый этаж мы осмотрели очень быстро, из боязни наскучить нашему провожатому. Присутствие августейшего чичероне смущало меня. Я знаю, что ничто так не сковывает государей, как наша робость, если только она не напускная, призванная им польстить; знание их нрава лишь усиливает мои затруднения, ибо я убежден, что непременно им не понравлюсь. Они любят со всеми чувствовать себя непринужденно, а единственный способ этого достичь — быть непринужденным самому. Так что я не сомневаюсь, что успеха иметь не буду — и подобного рода убежденность донельзя меня удручает, ибо кому же приятно не нравиться другим? С государем, умудренным годами, я могу по крайней мере вступить в серьезную беседу, но если государь молод, легок, изящен и весел, то я обречен. Весьма узкая, но убранная английскими коврами лестница привела нас на второй этаж; там расположена комната великой княжны Марии, где прошла часть ее детства (теперь она пуста); комната великой княжны Ольги, вероятно, недолго будет оставаться жилой. Так что императрица была права, говоря, что коттедж слишком велик. Две эти комнаты почти во всем схожи и отличаются чудесной простотой.
Великий князь остановился на верхней ступени лестницы и обратился ко мне с царственной учтивостью, секрет которой ему известен, несмотря на крайнюю молодость: «Не сомневаюсь, что вы бы предпочли все здесь осмотреть без меня, а сам я столько раз это видел, что, признаюсь, тоже предпочитаю оставить вас в обществе одной госпожи ***; завершайте ваш осмотр, а я вернусь к матери и стану вас ожидать вместе с нею».
На том он сделал нам исполненный изящества поклон и удалился, покорив меня лестной непосредственностью своего обхождения. Великое преимущество для государя — быть человеком отменно воспитанным! Стало быть, на сей раз я не произвел впечатления, какое произвожу обычно; стеснение, которое я испытывал, не оказалось заразительным. Когда бы он почувствовал ту же неловкость, что и я, он бы остался, ибо робкий способен лишь терпеть мучения, не умея от них избавиться; положение сколь угодно высокое не спасает от приступов робости; жертва, парализованная ею, на какой бы ступени общественной лестницы она ни находилась, не в силах ни противодействовать тому, в чем причина ее стеснения, ни бежать его. Случается, страдание это рождается из неудовлетворенного и излишне развитого самолюбия. Человек, который боится, что мнение его о самом себе никто не разделяет, делается робок из тщеславия. Но чаще всего робость есть свойство чисто физическое, род болезни.
Бывают люди, которые не могут почувствовать на себе чужого взгляда, не испытав неизъяснимой неловкости. Взгляд этот обращает их в камень: он стесняет их поступь и мысли, мешает им разговаривать и двигаться; это истинная правда, и сам я зачастую испытывал гораздо более сильную физическую робость в деревнях, где на меня, чужестранца, были направлены все взоры, нежели в самых пышных салонах, где на меня никто не обращал внимания. Я мог бы написать целый трактат о различных видах робости, ибо являю собой совершенный ее образец; никто, как я, не стенал с самого детства от приступов сей неизлечимой болезни, которая, благодарение Богу, людям следующего за мною поколения почти вовсе неведома — лишнее доказательство того, что робость не только плод физической предрасположенности, но главным образом результат воспитания. В свете этот физический недостаток принято скрывать, вот и все: нередко застенчивейшими из людей бывают люди самые выдающиеся по рождению своему, званию и даже по своим достоинствам. Я долгое время полагал, что робость — то же самое, что скромность в сочетании с чрезмерной почтительностью к социальным различиям либо к умственным дарованиям; но как тогда объяснить робость у великих писателей и государей? По счастью, в России члены императорской фамилии отнюдь не робки, они принадлежат своему веку; в их обхождении и речах нет и следов замешательства, каким так долго мучились августейшие хозяева Версаля и их придворные — ибо что может стеснять более, чем робкий государь?
Как бы то ни было, но после ухода великого князя я почувствовал величайшее облегчение; про себя я поблагодарил его за то, что он сумел так верно угадать мое желание и так учтиво его исполнить. Человеку полувоспитанному никогда не придет в голову оставить гостя одного, чтобы сделать ему приятное; однако же подчас невозможно доставить гостю большее удовольствие. Умение покинуть гостя, не повергая его в шок, есть вершина обходительности и высшее проявление гостеприимства. Подобная непринужденность в повседневной жизни света — то же, что в политике свобода, не отягощенная беспорядком: все о ней постоянно мечтают, но достигнуть никак не могут.
В тот момент, когда великий князь покидал нас, мадемуазель *** стояла позади своей матери; юный государь, проходя мимо нее, останавливается с весьма важным и чуть насмешливым видом и молча отвешивает ей глубокий поклон. Девушка, понимая, что в приветствии этом скрыта ирония, не произносит ни слова и при всей своей почтительности на поклон не отвечает. Этот оттенок в отношениях восхитил меня и показался на редкость тонким. Сомневаюсь, чтобы кто-либо из двадцатипятилетних женщин здесь при дворе проявил столь необычную смелость; одной лишь невинности свойственно сочетать законное чувство собственного достоинства, которое никто не должен терять, с уважением к особам, облеченным властью. Образцовая эта деликатность не прошла незамеченной:
— Ничуть не изменилась! — произнес, удаляясь, великий князь наследник престола.
Детьми они росли вместе — разница в пять лет не мешала им нередко играть в одни и те же игры. Подобная близость не забывается, даже и при дворе. Немая сцена, которую они разыграли, немало меня позабавила. Мне было особенно интересно взглянуть на императорскую фамилию изнутри. Чтобы по достоинству оценить этих государей, надобно видеть их вблизи: они созданы для того, чтобы стоять во главе своей страны, ибо являются во всех отношениях первыми среди своей нации. Из всего виденного мною в России императорская фамилия в наибольшей мере заслуживает восхищения и зависти иностранцев.
Под самой крышей коттеджа находится кабинет императора. Это довольно большая и очень скромно убранная библиотека. С ее балкона открывается вид на море. Не покидая этого наблюдательного пункта, приспособленного для ученых занятий, император может сам командовать своим флотом. Для этих целей у него есть подзорная труба, рупор и маленький переносной телеграф. Мне хотелось бы изучить эту комнату и все, что в ней находится, во всех подробностях и задать множество вопросов; но я побоялся, как бы мое любопытство не показалось нескромным, и предпочел осмотреть все бегло, нежели выглядеть так, будто явился описывать имущество. К тому же меня всегда занимает лишь общий порядок вещей: он, как правило, поражает меня сильнее, нежели отдельные детали. Я путешествую, чтобы видеть различные предметы и выносить о них суждение, а не для того чтобы измерять их, пересчитывать и копировать в точности.
Впустив меня в коттедж, можно сказать, в своем присутствии, обитатели его оказали мне милость. Посему я почел своим долгом показать, что достоин этой милости, и, обойдясь без чересчур доскональных разысканий, ограничиться лестноуважительным изъявлением почтительности.
Поделившись мыслями своими с госпожой ***, которая отлично поняла мою деликатность, я поспешил к императрице и великому князю наследнику престола, чтобы откланяться.
Мы нашли их в саду; сказав еще несколько любезных слов, они простились со мной. Я остался доволен всем, что увидел, но в особенности был признателен им за доброту и очарован благородством и неповторимым изяществом, с каким меня принимали.
Выйдя из коттеджа, я сел в карету и отправился спешно осматривать Ораниенбаум(205) — знаменитый дворец Екатерины II, возведенный Меншиковым. Сей несчастный был сослан в Сибирь прежде, нежели довершил дивное убранство своего жилища, каковое было сочтено излишне царственным для министра. Ныне дворец принадлежит великой княгине Елене, невестке нынешнего императора. Расположен он в двух-трех милях от Петергофа, в виду моря, на продолжении той же береговой скалы, на которой стоит императорский дворец, и хоть и выстроен из дерева, но вид имеет внушительный; прибыл я туда довольно рано, дабы как следует осмотреть все, что есть в нем любопытного, и обойти его сады. Великой княгини в ту пору не было в Ораниенбауме. Несмотря на неосторожную любовь к роскоши человека, который возвел этот дворец, и на пышность, какой окружали себя те великие, что жили там вместо него, само здание не так уж обширно. Дом соединяется с парком с помощью террас, лестниц, ступеней крыльца, балконов, покрытых апельсиновыми деревьями и цветами, и убранство это служит к украшению и того, и другого; сама по себе архитектура дворца более чем посредственна. Великая княгиня Елена выказала здесь вкус, проявляющийся во всех ее усовершенствованиях, и превратила Ораниенбаум в прелестное жилище — невзирая на унылые окрестности и неотступное воспоминание о тех драматических событиях, что разыгрались в этих местах. Выйдя из дворца, попросил я показать мне развалины маленькой крепости, из которой Петра III вывезли в Ропшу, где он был убит(206). Меня отвели в какое-то сельцо, стоящее на отшибе; я увидел пересохшие рвы, следы фортификаций и груды камней — современные руины, возникшие благодаря скорее политике, чем времени. Однако вынужденное молчание, неестественное уединение, властвующее над этими проклятыми обломками, очерчивают перед нами как раз то, что хотелось бы скрыть; как и повсюду, официальная ложь здесь опровергается фактами; история — это волшебное зеркало, в котором народы, по смерти великих людей, оказавших самое большое влияние на ход вещей, видят бесполезные их ужимки. Люди уходят, но облик их остается запечатлен на сем неумолимом стекле. Правду не похоронишь вместе с мертвецами: она торжествует над боязнью государей и над лестью народов, ибо ни боязнь, ни лесть не в силах заглушить вопиющую кровь; правда являет себя сквозь стены любых темниц и даже сквозь могильные склепы; особенно красноречивы могилы людей великих, ибо погребения темных людей лучше, нежели мавзолеи государей, умеют хранить тайну о преступлениях, память о которых связана с памятью о покойном. Когда бы я не знал заранее, что дворец Петра III был разрушен, я мог бы об этом догадаться; видя, с каким рвением здесь стараются забыть прошлое, я удивляюсь другому: что-то от него все-таки остается. Вместе со стенами должны были исчезнуть и самые имена. Мало было разрушить крепость, следовало бы стереть с лица земли и дворец, расположенный всего в четверти лье отсюда; всякий, прибыв в Ораниенбаум, беспокойно ищет в нем следы той тюрьмы, где Петра III заставили подписать добровольное отречение от престола, ставшее его смертным приговором, ибо, единожды добившись от него этой жертвы, надобно было помешать ему передумать.
Вот как повествует об убийстве сего государя в Ропше г-н де Рюльер(207) в своих анекдотах из российской жизни, напечатанных в продолжение его «Истории Польши»: «Солдаты были удивлены содеянным: они не понимали, что за наваждение овладело ими и заставило отнять корону у внука Петра Великого, чтобы передать ее какой-то немке. Почти все действовали без всякого плана и умысла, увлеченные порывом других; а когда удовольствие распоряжаться короной иссякло, каждый, вернувшись в низкое свое состояние, не испытывал ничего, кроме угрызений совести. В кабаках матросы, не вовлеченные в мятеж, прилюдно упрекали гвардейцев в том, что те продали своего императора за кружку пива. Жалость, оправдывающая даже и величайших преступников, заговорила во всех сердцах. Однажды ночью воинская часть, преданная императрице, взбунтовалась из пустого страха; солдаты решили, что „матушка в опасности“. Пришлось разбудить императрицу, чтобы они увидели ее собственными глазами. На другую ночь — новый бунт, еще более опасный. До тех пор, покуда жив был император, основания для тревоги находились постоянно, и казалось, что покою не бывать.
Один из графов Орловых — ибо титул этот им был пожалован с самого первого дня, — тот самый солдат по прозвищу „меченый“, что утаил записку княгини Дашковой(208), и некто Теплев, продвинувшийся из чинов самых низких благодаря особенному искусству устранять соперников, вместе пришли к несчастному государю; войдя, они объявили, что отобедают вместе с ним; перед трапезой, по русскому обычаю, подавали стаканы с водкой. Стакан, выпитый императором, был с ядом. Оттого ли, что они спешили возвестить о победе, оттого ли, что, ужаснувшись деянию своему, решили покончить с ним поскорее, но через минуту они пожелали налить государю второй стакан. Он отказался — внутренности его уже пылали, и свирепые лица вызвали в нем подозрения; они применили силу, чтобы заставить его выпить, он — чтобы их оттолкнуть. Вступив в страшную эту схватку, убийцы, дабы заглушить крики, которые слышны были уже издалека, набросились на императора, схватили за горло, повалили наземь; но поскольку он защищался так, как только может человек, доведенный до крайнего отчаяния, а они избегали наносить ему раны, ибо им приходилось опасаться за свою судьбу, то они призвали на подмогу двух верных офицеров из царской охраны, находившихся в тот миг снаружи, у дверей тюрьмы. То был самый юный из князей, Барятинский, и некто Потемкин, семнадцати лет от роду.(209) Участвуя в этом заговоре, они выказали такое рвение, что, несмотря на крайнюю молодость, им было поручено сторожить императора. Они прибежали, трое убийц завязали и стянули салфетку вокруг шеи несчастного государя, в то время как Орлов, став коленями ему на грудь, давил его и не давал дышать; так они наконец его удушили, и он безжизненно повис у них на руках. В точности неизвестно, каково было участие императрицы в этом событии; но достоверно то, что в день, когда все произошло, государыня в большом веселии приступала к обеду, как вдруг вошел к ней тот самый Орлов, встрепанный, покрытый потом и пылью, в разорванных одеждах и со смятенным лицом, выражавшим ужас и нетерпение. Войдя, сверкающими, тревожными глазами своими искал он взора императрицы. Та молча поднялась и прошла в кабинет, куда он последовал за нею и куда через несколько минут велела она призвать графа Панина, назначенного уже ее министром; она известила его о том, что император скончался. Панин посоветовал переждать ночь и распространить весть назавтра, так, словно она получена ночью. Совет был принят, и императрица, как ни в чем не бывало, возвратившись к столу, продолжала обед с прежней веселостью. Назавтра же, когда всех оповестили, что Петр скончался от геморроидальной колики, она явилась на людях заплаканной и огласила утрату свою посредством указа». Осматривая парк в Ораниенбауме, обширный и красивый, я посетил многие из беседок, в которых императрица Екатерина назначала любовные свидания;(210) есть среди них великолепные; есть и такие, где владычествуют дурной вкус и ребячество в отделке; в целом архитектуре сих сооружений недостает стиля и величия; но для того употребления, к какому предназначало их местное божество, они вполне пригодны. Вернувшись в Петергоф, я в третий раз ночевал в театре. Нынче утром, возвращаясь обратно в Петербург, я поехал через Красное Село, где разбит весьма любопытный на взгляд военный лагерь. Одни говорят, что здесь в палатках либо по окрестным деревням размещаются сорок тысяч человек императорской гвардии, другие говорят — семьдесят тысяч. В России каждый убеждает меня, что его цифра верна, но ничто не привлекает менее моего интереса, нежели сии произвольные подсчеты, ибо нет ничего более лживого. Восхищает меня лишь упорство, с которым здесь стараются вас обмануть относительно подобных вещей. Притворство тут такого рода, что отдает ребячеством. Народы избавляются от него, когда из детства вступают в зрелость. Мне доставило удовольствие наблюдать разнообразие мундиров и сравнивать между собою выразительные, дикие лица отборных солдат, свезенных сюда со всех концов империи; длинные ряды белых палаток сверкали под солнцем, повторяя неровности местности, которую издали можно было почесть плоской, но которая, если по ней ходить, оказывается сильно пересеченной и довольно живописной. Всякий миг сожалею я о том, сколь бессильны слова мои изобразить некоторые северные места и в особенности некоторые световые эффекты. Несколько мазков на холсте позволили бы вам лучше представить себе эту унылую, ни на что не похожую страну, нежели целые тома описаний.
ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ
Политическое суеверие. — Последствия абсолютной власти. — Ответственность императора. — Число утонувших в Петергофе. — Гибель двух англичан. — Их мать. — Отрывок из одного письма. — Рассказ живописца об этом происшествии. — Извлечение из «Журналь де Деба» за октябрь 1842 года. — Пагубная осмотрительность. — Беспорядок на пароходе. — Судно, спасенное одним англичанином. — Что означает в России вести себя тактично. — Чего России недостает. — Следствие здешнего образа правления: что должен испытывать из-за него император. — Дух русской полиции. — Исчезновение горничной. — Замалчивание подобных фактов. — Учтивость простолюдинов. — Что она означает. — Два кучера. — Жестокость фельдъегеря. — Для чего в подобной стране нужно христианство. — Обманчивое спокойствие. — Ссора грузчиков на судне, груженном дровами. — Проливается кровь. — Как действуют полицейские. — Возмутительная жестокость. — Подобное обращение унизительно для всех. — Как смотрят на это русские. — Острота архиепископа Торонтского. — О религии в России. — Два вида цивилизации. — Общество, движимое тщеславием. — Император Николай возводит Александрову колонну. — Реформа языка. — Как придворные дамы обходят повеления императора. — Собор Святого Исаака. — Его необъятность. — Дух греческой веры. — Различие между католической церковью и церквями схизматическими. — Порабощенность греческой церкви — плод насилия, учиненного над нею Петром I. — Беседа с одним французом. — Арестантская повозка. — Какая существует связь между политикой и богословием. — Бунт, вызванный одной фразой императора. — Кровавые сцены на берегу Волги. — Лицемерие русского правительства. — История поэта Пушкина. — Особое положение его как поэта. — Его ревность. — Дуэль со свояком. — Пушкин убит. — Действие, произведенное его смертью. — Как император отдал дань всеобщей скорби. — Юный энтузиаст. — Ода к императору. — Какого вознаграждения она удостоилась. — Кавказ. — Характер пушкинского дарования. — Язык великосветских особ в России. — Злоупотребление иностранными языками. — Последствия маниакального пристрастия к английским гувернанткам во Франции. — Превосходство китайцев. — Смешение языков. — Руссо. — Революция, грозящая французскому вкусу.
Петербург, 29 июля 1839 года(211)
Сегодня утром сумел я получить последние сведения о бедствиях, случившихся во время празднества в Петергофе, и они превзошли все мои ожидания. Впрочем, мы никогда не узнаем точно истинных обстоятельств этого происшествия. Всякий несчастный случай считается здесь делом государственной важности — ведь это значит, что господь Бог забыл свой долг перед императором. Душа этого общества есть политическое суеверие, которое возлагает на государя заботу обо всех невзгодах слабых, терпящих от сильных, обо всех земных жалобах на то, что ниспослано небесами; когда мой пес поранится, он приходит за исцелением ко мне; когда Господь карает русских, они взывают к царю. Государь здесь ни за что не несет ответственности как политик, зато играет роль провидения, которое отвечает за все: таково естественное следствие узурпации человеком прав Бога. Если монарх соглашается, чтобы его считали кем-то большим, нежели простым смертным, он принимает на себя все то зло, какое небо может ниспослать на землю во время его правления; подобного рода политический фанатизм порождает такие щекотливые ситуации, такую мрачную подозрительность, о каких не имеют представления ни в одной другой стране.(212) В довершение всего тайна, которой здешняя полиция почитает нужным окружать несчастья, ни в коей мере не зависящие от воли человека, бесполезна постольку, поскольку оставляет свободу воображению; всякий рассказывает об одних и тех же событиях по-разному, в соответствии со своими интересами, опасениями, в зависимости от своего тщеславия или нрава, от того, какого мнения велит ему держаться должность при дворе и положение в свете; происходит из этого то, что истина в Петербурге становится чем-то умозрительным — тем же, чем стала она во Франции по причинам прямо противоположным: и произвол цензуры, и ничем не ограниченная свобода способны привести к сходным результатам и сделать невозможной проверку простейших фактов.
Так, одни говорят, что позавчера погибло всего лишь тринадцать человек, в то время как другие называют цифру в тысячу двести, две тысячи, а третьи — в сто пятьдесят: судите сами, насколько не уверены мы во всем, если уж обстоятельства происшествия, случившегося, можно сказать, на наших глазах, навсегда останутся неясными даже для нас самих.
Я не перестаю удивляться, видя, что существует на свете народ настолько беззаботный, чтобы спокойно жить и умирать в этой полутьме, дарованной ему неусыпным надзором повелителей. До сих пор я полагал, что дух человека уже не может больше обходиться без истины, как тело его не может обходиться без солнца и воздуха; путешествие в Россию вывело меня из этого заблуждения. Истина — потребность лишь избранных душ либо самых передовых наций; простонародье довольствуется ложью, потворствующей его страстям и привычкам; лгать в этой стране означает охранять общество, сказать же правду значит совершить государственный переворот.
Вот два эпизода, за достоверность которых я ручаюсь. Семейство, недавно перебравшееся из провинции в Петербург, — господа, прислуга, женщины, дети, в общей сложности девять человек, — опрометчиво погрузились в беспалубную лодку, слишком хрупкую, чтобы выдержать морские волны; налетел град — и больше никого из них не видели; поиски на побережье продолжаются уже три дня, но сегодня утром еще не обнаружено никаких следов этих несчастных, у которых нет родни в Петербурге, и потому заявили об их исчезновении только соседи. В конце концов нашли челнок, на котором они плыли: он перевернулся и был выброшен на песчаную косу недалеко от берега, в трех милях от Петергофа и шести от Петербурга; люди же, и матросы, и пассажиры, исчезли бесследно. Вот уже бесспорных девять погибших, не считая моряков, — а число маленьких лодочек, затонувших, подобно этой, весьма велико. Нынче утром пришли опечатывать двери пустого дома. Он расположен по соседству с моим — когда бы не это обстоятельство, я бы не стал вам рассказывать об этом факте, ибо ничего не знал бы о нем, как ничего не знаю о множестве других. Потемки политики непригляднее черноты полярного неба. А между тем, если все как следует взвесить, гораздо выгоднее было бы сказать правду, ибо когда от меня скрывают хоть малость, мне видится уже не малость, а нечто гораздо большее. Вот еще один эпизод петергофской катастрофы. Несколько дней назад в Петербург приехали трое молодых англичан; я знаком со старшим из них; их отец сейчас в Англии, а мать ожидает их в Карлсбаде. В день празднества в Петергофе двое младших садятся в лодку, оставив на берегу старшего брата, который отвечает отказом на их настойчивые приглашения, говоря, что нелюбопытен; и вот он твердо решает остаться, а двое братьев на его глазах отплывают на утлом суденышке, крича ему: «До завтра!»… Тремя часами позже оба погибли, и с ними множество женщин, несколько детей и двое-трое мужчин, находившихся на том же судне; спасся только один, матрос экипажа, отличный пловец. Несчастный брат, оставшийся в живых, едва ли не стыдится того, что не умер, и пребывает в невыразимом отчаянии; он готовится к отъезду — ему предстоит сообщить эту новость матери; та написала им, чтобы они не отказывались взглянуть на празднество в Петергофе, предоставила им полную свободу на тот случай, если им захочется продолжить путешествие, и повторила, что станет терпеливо ожидать их в Карлсбаде. Будь она требовательнее, возможно, она спасла бы им жизнь. Вообразите, какое множество рассказов, споров, всяческого рода суждений, предположений, воплей вызвало бы подобное происшествие в любой другой стране, и особенно в нашей! Сколько газет объявили бы, сколько голосов стали бы повторять, что полиция никогда не исполняет своего долга, что лодки скверны, лодочники жадны, что власти не только не избавляют от опасности, но, напротив, лишь усиливают ее, то ли по легкомыслию, то ли по скаредности; наконец, что замужество великой княжны праздновалось в недобрый час, как и многие браки государей; и какой поток дат, намеков, цитат обрушился бы на наши головы!.. А здесь — ничего!!! Царит молчание, которое страшнее самой беды!.. Так, пара строчек в газетке, без всяких подробностей, а при дворе, в городе, в великосветских салонах — ни слова; если же ничего не говорят здесь, то не говорят нигде: в Петербурге нет кафе, где можно было бы обсуждать газетные статьи, да и самих газет не существует; мелкие чиновники еще боязливее, чем вельможи, и если о чем-то не осмеливается говорить начальство, об этом тем более не говорят подчиненные; остаются купцы да лавочники: эти лукавы, как и все, кто хочет жить и благоденствовать в здешних краях. Если они и говорят о вещах важных, а значит, небезопасных, то только на ухо и с глазу на глаз.[46]
Русские дали себе слово не произносить вслух ничего, что могло бы разволновать императрицу; вот так ей и позволяют протанцевать всю жизнь до самой смерти! «Замолчите, а то она расстроится!» И пускай тонут дети, друзья, родные, любимые — никто не дерзнет плакать. Все слишком несчастны, чтобы жаловаться.
Русские — царедворцы во всем: в этой стране всякий — солдат казармы или церкви, шпион, тюремщик, палач — делает нечто большее, чем просто исполняет долг, он делает свое дело. Кто скажет мне, до чего может дойти общество, в основании которого не заложено человеческое достоинство?
Я не устаю повторять: чтобы вывести здешний народ из ничтожества, требуется все уничтожить и пересоздать заново. На сей раз благочинное молчание вызвано было не просто лестью, но и страхом. Раб боится дурного настроения своего господина и изо всех сил старается, чтобы тот пребывал в спасительной веселости. Под рукой у взбешенного царя — кандалы, темница, кнут, Сибирь либо по крайней мере Кавказ, смягченный вариант Сибири, вполне удобный для деспотизма, каковой, в согласии с веком, день ото дня становится умереннее.
Нельзя отрицать, что в подобных обстоятельствах главной причиной беды стала беспечность властей: когда бы санкт-петербургским лодочникам не позволяли перегружать лодки или пускаться в плавание по заливу на слишком легких, не выдерживающих морских волн судах, все остались бы живы… а впрочем, кто знает? Русские вообще скверные моряки, с ними никогда нельзя чувствовать себя в безопасности. Сначала набирают длиннобородых азиатов в длиннополых одеждах, делают из них матросов, а потом удивляются, отчего корабли тонут!
В день празднества в Петергоф отплыл пароход, курсирующий обыкновенно между Петербургом и Кронштадтом. Несмотря на свои весьма основательные размеры и устойчивость, он едва не перевернулся, словно самый утлый челнок, и затонул бы, когда бы не один иностранец, находившийся среди пассажиров. Этот человек (англичанин), видя, как гибнет множество лодок совсем рядом с кораблем, и чувствуя, какой опасности подвергается и сам он, и весь экипаж, понял, что капитан толком не командует кораблем, и ему пришла счастливая мысль перерезать собственным ножом канаты тента, натянутого на верхней палубе для приятности и удобства пассажиров. Первая вещь, которую надобно сделать при малейшей угрозе непогоды, — это убрать тент, но русские не подумали о такой простой предосторожности, и, не прояви иностранец присутствия духа, судно бы неизбежно перевернулось. Оно уцелело, но потерпело аварию и вынуждено было, к великому счастью пассажиров, отказаться от дальнейшего плавания и спешно возвратилось в Петербург. Если бы англичанин, что спас его от крушения, не водил знакомства с другим англичанином, из числа моих друзей, я бы никогда не узнал, что этому судну грозила опасность. Я обмолвился о происшествии нескольким весьма осведомленным лицам: они подтвердили мне самый факт, но очень просили держать его в тайне!.. Когда бы в царствование российского императора случился всемирный потоп, то и тогда обсуждать сию катастрофу сочли бы неудобным. Единственная из умственных способностей, какая здесь в чести, — это такт.(213) Вообразите: целая нация сгибается под бременем сей салонной добродетели! Представьте себе народ, который весь сделался осторожен, будто начинающий дипломат, — и вы поймете, во что превращается в России удовольствие от беседы. Если придворный дух нам в тягость даже и при дворе — насколько же мертвяще действует он, проникнув в тайники нашей души! Россия — нация немых; какой-то чародей превратил шестьдесят миллионов человек в механических кукол, и теперь для того, чтобы воскреснуть и снова начать жить, они ожидают мановения волшебной палочки другого чародея. Страна эта производит на меня впечатление дворца Спящей красавицы: все здесь блистает позолотой и великолепием, здесь есть все… кроме свободы, то есть жизни. Император не может не страдать от подобного положения вещей. Конечно, тот, кто рожден, чтобы править другими, любит повиновение; однако повиновение человека стоит большего, нежели повиновение машины: угодливость столь тесно связана с ложью, что государь, окруженный холуями, никогда не будет знать того, что они вознамерятся от него скрыть; тем самым он обречен сомневаться в каждом слове, питать недоверие ко всякому человеку. Таков жребий абсолютного властелина; тщетно будет он выказывать доброту и стараться жить, как обычный человек, — силою обстоятельств он сделается нечувствительным помимо собственной воли; место, которое он занимает, — место деспота, а значит, он вынужден изведать его участь, проникнуться его чувствами либо, по крайней мере, играть его роль.
Злостная скрытность простирается здесь еще дальше, нежели вы думаете; русская полиция, столь скорая на мучения людей, весьма неспешна, когда люди эти обращаются к ней, дабы развеять свои сомнения относительно какого-нибудь факта.
Вот один образчик сей расчетливой неповоротливости. Одна моя знакомая во время последнего карнавала разрешила своей горничной отлучиться в воскресенье, на широкую масленицу; к ночи девушка не возвращается. Наутро хозяйка в сильном беспокойстве посылает справиться о ней в полицию.[47] Там отвечают, что прошлой ночью в Петербурге никаких несчастных случаев не было и исчезнувшая девушка непременно в скором времени найдется, живая и здоровая.
В обманчивой этой уверенности проходит день — о ней ничего не слышно; наконец через день одному родственнику девушки, молодому человеку, довольно близко знакомому с тайными повадками местной полиции, приходит мысль отправиться в анатомический театр, и кто-то из друзей проводит его туда. Едва переступив порог, узнает он труп своей кузины, который ученики готовятся препарировать.
Как истинный русский, он сохраняет довольно самообладания, чтобы не выдать своего волнения.
— Что это за тело?
— Никто, не знает; тело этой девушки, уже мертвой, нашли в позапрошлую ночь на такой-то улице; полагают, что она была задушена, когда решилась обороняться против людей, пытавшихся учинить над нею насилие.
— Кто эти люди?
— Мы не знаем; можно лишь строить на сей счет предположения — доказательств нет.
— Как это тело попало к вам?
— Нам его тайно продала полиция(214), так что помалкивайте об этом, — сей непременный рефрен уже почти превратился в слово-паразит, которым завершается каждая фраза, выговоренная русским либо усвоившим местные обычаи иностранцем.
Признаю, пример сей не столь возмутителен, как преступление Берка(215) в Англии, однако то охранительное молчание, какое свято блюдут здесь в отношении подобного рода злодеяний, — отличительная черта России. Кузен промолчал, хозяйка жертвы не осмелилась принести жалобу; и теперь, полгода спустя, я, пожалуй, остаюсь единственным человеком, которому она поведала о смерти своей горничной, ведь я иностранец… и далек от писательства — так я ей сказал.
Вот видите, как исполняют свой долг мелкие полицейские агенты в России. Лживые эти чиновники извлекли двойную выгоду из торговли телом убитой: во-первых, выручили за него несколько рублей, а во-вторых, скрыли убийство, которое, когда бы о происшествии этом стало известно, навлекло бы на них суровый выговор.
Упреки же по адресу людей этого класса сопровождаются обычно, как мне кажется, непомерно жестокими расправами, призванными навеки запечатлеть речи упрекающего в памяти несчастного, который их выслушивает. Русского простолюдина бьют в жизни так же часто, как и приветствуют. Для общественного воспитания сего народа, не столько цивилизованного, сколько приученного соблюдать этикет, в равных дозах и с равной действенностью отвешиваются и розги (в России розги — это нарезанные длинные прутья), и поклоны; быть битым может быть в России лишь человек, принадлежащий к определенному классу, и бить его может лишь человек из другого, тоже определенного класса. Дурное обхождение здесь упорядочено не хуже таможенных тарифов; все это напоминает свод законов Ивана Грозного.(216) Здесь уважают кастовое достоинство, но до сих пор никто не подумал ввести ни в законодательство, ни даже в обычай достоинство человеческое. Вспомните, что я вам писал об учтивости русских из всех слоев общества. Предоставляю вам самому поразмыслить над тем, чего стоит сия воспитанность, и ограничусь лишь пересказом нескольких сцен из тех, что всякий день разворачиваются у меня на глазах. Идя по улице, я видел, как два кучера дрожек (этого русского фиакра) при встрече церемонно сняли шляпы: здесь это общепринято; если они сколько-нибудь близко знакомы, то, проезжая мимо, прижимают с дружеским видом руку к губам и целуют ее, подмигивая весьма лукаво и выразительно, такова тут вежливость. А вот каково правосудие: чуть дальше на той же улице увидел я конного курьера, фельдъегеря либо какого-то иного ничтожнейшего правительственного чиновника; выскочив из своей кареты, подбежал он к одному из тех самых воспитанных кучеров и стал жестоко избивать его кнутом, палкой и кулаками, удары которых безжалостно сыпались тому на грудь, лицо и голову; несчастный же, якобы недостаточно быстро посторонившийся, позволял колотить себя, не выказывая ни малейшего протеста или сопротивления — из почтения к мундиру и касте своего палача; но гнев последнего далеко не всегда утихает оттого, что провинившийся тотчас выказывает полную покорность.
Разве не на моих глазах один из подобных письмоносцев, курьер какого-нибудь министра, а может быть, разукрашенный галунами камердинер какого-нибудь императорского адъютанта, стащил с козел молодого кучера и прекратил избивать его, лишь когда увидел, что лицо у того все залито кровью? Жертва сей экзекуции претерпела ее с поистине ангельским терпением, без малейшего сопротивления, так, как повинуются государеву приговору, как уступают какому-нибудь возмущению в природе; прохожих также нимало не взволновала подобная жестокость, больше того, один из товарищей потерпевшего, поивший своих лошадей в нескольких шагах оттуда, по знаку разъяренного фельдъегеря подбежал и держал поводья упряжки сего государственного мужа, покуда тот не соизволил завершить экзекуцию. Попробуйте в какой-нибудь другой стране попросить простолюдина помочь в расправе над его товарищем, которого наказывают по чьему-то произволу!.. Но чин и одеяние человека, наносившего удары, доставляли ему право избивать, не зная жалости, кучера фиакра, эти удары получавшего; стало быть, наказание было законным; я же на это говорю: тем хуже для страны, где узаконены подобные деяния. Рассказанная мной сцена происходила в самом красивом квартале города, в час гулянья. Когда несчастного наконец отпустили, он вытер кровь, струившуюся по щекам, спокойно уселся обратно на козлы и снова пустился отвешивать поклоны при каждой новой встрече со своими собратьями.
Каков бы ни был его проступок, из-за него не случилось, однако, никаких серьезных происшествий. Вся эта мерзость, заметьте, здесь совершенно в порядке вещей и происходила в присутствии молчаливой толпы, которая не только не думала защищать или оправдывать виновного, но не осмеливалась даже задержаться надолго, чтобы поглазеть на возмездие. Нация, которой управляют по-христиански, возмутилась бы против подобной общественной дисциплины, уничтожающей всякую личную свободу. Но здесь все влияние священника сводится к тому, чтобы добиваться и от простого народа, и от знати крестного знамения и преклонения колен. Несмотря на культ Святого Духа, нация эта всегда обнаруживает своего Бога на земле. Российский император, подобно Батыю или Тамерлану, обожествляется подданными; закон у русских — некрещеный.
Всякий день я слышу, как все нахваливают кроткие повадки, мирный нрав, вежливость санкт-петербургского люда. Где-нибудь в другом месте я бы восхищался подобным покоем; здесь же мне видится в нем самый жуткий симптом той болезни, о которой я скорблю. Все так дрожат от страха, что скрывают его за внешним спокойствием, каковое приносит удовлетворение угнетателю и ободрение угнетенному. Истинные тираны хотят, чтобы все кругом улыбались. Ужас, нависающий над каждым, делает покорность удобной для всех: все, и жертвы, и палачи, полагают, что не могут обойтись без повиновения, которое только умножает зло — и то, что чинят палачи, и то, что терпят на собственной шкуре жертвы.
Всем известно, что вмешательство полиции в драку между простолюдинами навлечет на забияк наказание гораздо более страшное, чем те удары, которыми они обмениваются втихомолку; вот все и избегают поднимать шум, ибо вслед за вспышкой гнева является карающий палач.
Вот, кстати, одна бурная сцена, свидетелем которой мне по случайности довелось стать нынче утром.
Я шел по берегу канала; его сплошь покрывали груженные дровами лодки. Какие-то люди перетаскивали дрова на землю, дабы возвести из них на своих телегах целые стены — в другом месте я уже описывал это сооружение, нечто вроде движущегося крепостного вала, который лошадь шагом тянет по улицам. Один из грузчиков, носивший дрова из лодки в тачку, чтобы довезти их до телеги, затевает ссору с товарищами; все бросаются в честную драку — точно так же, как наши носильщики. Зачинщик драки, чувствуя, что сила не на его стороне, обращается в бегство и с проворством белки взбирается на грот-мачту лодки; до сих пор сцена казалась мне скорее забавной: беглец, усевшись на рее, дразнит противников, менее ловких, чем он сам. Те же, видя, что их надежды отомстить не оправдались, и забыв, что они в России, переходят все границы привычной вежливости — иначе говоря, осторожности — и выражают свою ярость в оглушительных криках и зверских угрозах.
На всех улицах города стоят на известном расстоянии друг от друга полицейские в мундирах; двое из них, привлеченные воплями драчунов, являются к месту ссоры и требуют, чтобы зачинщик ее слез с реи. Тот отказывается, один из городовых прыгает на борт лодки, бунтовщик вцепляется в мачту, представитель власти повторяет свои требования, мятежник по-прежнему сопротивляется. Полицейский в ярости пытается залезть на мачту сам, и ему удается схватить строптивца за ногу. И что он делает, как вы думаете? он изо всех сил тянет противника вниз — без всяких предосторожностей, нимало не заботясь о том, как бедняга будет спускаться; тот же, отчаявшись избежать наказания, отдается наконец на волю судьбы: перевернувшись, он падает навзничь, головой вниз, с высоты в два человеческих роста, на поленницу дров, и тело его распластывается на ней, словно куль. Судите сами, насколько жестоким было падение! Голова несчастного подскочила на поленьях, и звук удара достиг даже моего слуха, хотя я стоял в полусотне шагов. Я считал, что этот человек убит; кровь заливала его лицо; однако ж, оправившись от первого потрясения, бедный, попавший в ловушку дикарь встает на ноги; лицо его, насколько видно под пятнами крови, ужасающе бледно; он принимается реветь, как бык; жуткие эти крики ослабляли отчасти мое сострадание — мне казалось, что теперь это всего лишь зверь, и напрасно я переживал за него, словно за себе подобного. Чем громче выл этот человек, тем сильнее ожесточалось мое сердце — ибо нельзя отрицать, что по-настоящему сочувствовать живому существу и разделять его муки можно, только если существо это хоть отчасти сохраняет чувство собственного достоинства!.. жалость есть сопереживание — а какой человек, сколь бы ни был он сострадателен, захочет сопереживать тому, кого он презирает?
Грузчик сопротивляется отчаянно и довольно долго, но наконец сдается; быстро подплывает маленькая лодчонка, пригнанная в тот же миг другими полицейскими, арестанта связывают и, стянув ему руки за спиной, швыряют ничком на дно лодки; за этим вторым падением, не менее жестоким, следует целый град ударов; но и это еще не все, предварительная пытка не кончилась — городовой, поймавший его, едва увидев свою жертву поверженной, вспрыгивает на нее ногами; я подошел ближе и потому рассказываю о том, что видел своими глазами. Палач спустился в лодку и, ступив на спину несчастному, стал пинать ногами этого беднягу пуще прежнего и топтать его так, словно это были виноградные гроздья в давильне. Поначалу дикие вопли узника возобновились с удвоенной силой; но когда по ходу сей ужасающей экзекуции они стали слабеть, я почувствовал, что силы оставляют и меня самого, и поспешно удалился; я не мог ничему помешать, но видел слишком много…
ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ
Петербург в отсутствие императора. — Погрешности архитекторов. — Женщины редки на петербургских улицах. — Государево око. — Волнение придворных. — Метаморфозы. — Особенный склад русского честолюбия. — Военный дух. — Необходимость, которой подчиняется даже император. — Чин. — Дух сего установления. — Петр I. — Его понимание чина. — Россия превращается в полк. — Дворянство уничтожено. — Николай более русский, чем Петр I. — Чин разделяется на четырнадцать классов. — В чем преимущество человека, принадлежащего к последнему классу. — Соответствие гражданских классов воинским званиям. — Продвижение по службе зависит единственно от воли императора. — Удивительная сила честолюбия. — Его последствия. — Мысль, подчинившая себе русский народ. — Различные мнения относительно будущего этой империи. — Взгляд на характер русского народа. — Сравнение между простолюдинами в Англии, во Франции и в России. — Бедственное положение русского солдата. — Опасность, которой подвергается Европа. — Русское гостеприимство. — Какова его цель. — Затруднения, какие вызывает желание осмотреть что-либо самостоятельно. — Формальности, считающиеся изъявлением учтивости. — Память о Востоке. — Ложь по необходимости. — Воздействие способа правления на национальный характер. — Родство русских с китайцами. — Оправдание неблагодарности. — Манеры людей, приближенных ко двору. — Предубеждение русских против иностранцев. — Различие между русским и французским характером. — Всеобщая недоверчивость. — Слова Петра Великого о характере своих подданных. — Византийцы. — Суждение Наполеона. — Самый искренний человек во всей империи. — Испорченные дикари. — Маниакальная приверженность к путешествиям. — Ошибка Петра Великого, которую повторяли и его преемники. — Император Николай единственный попытался ее исправить. — Дух его царствования. — Острота г-на де ла Ферронне. — Удел государей. — Бессмысленная архитектура. — Красота и польза петербургских набережных. — Описание Петербурга, сделанное Вебером в 1718 году. — Три площади, сливающиеся в одну. — Собор Святого Исаака. — Отчего государи чаще, нежели народы, ошибаются, выбирая место для городов. — Казанский собор. — Греческое суеверие. — Церковь в Смольном. — Женская конгрегация с военным уставом. — Таврический дворец. — Античная Венера. — Дар папы Климента XI Петру I. — Соображения по этому поводу. — Эрмитаж. — Картинная галерея. — Императрица Екатерина. — Портреты, написанные г-жой Лебрен. — Устав кружка, собиравшегося в Эрмитаже, который был составлен императрицей Екатериной II.
Петербург, 1 августа 1839 года
Когда я последний раз писал вам, я обещал, что не вернусь во Францию, покуда не доберусь до Москвы; с тех пор вы не можете думать ни о чем другом, кроме этого легендарного города — легендарного вопреки историческим фактам.[48] И в самом деле, пускай название «Москва» звучит весьма современно и вызывает в памяти достовернейшие события нашего столетия, — удаленность бывшей столицы и величие этих событий придают ей поэтичность, как никакому другому городу. В этих эпических сценах есть нечто величественное и странным образом контрастирующее с духом нашего века, века геометров и торговцев ценными бумагами. Так что я с огромным нетерпением жду, когда окажусь в Москве: такова теперь цель моего путешествия; я выезжаю через два дня, однако в эти дни буду писать вам прилежней, чем когда-либо, ибо непременно хочу представить сколько возможно полную картину сей обширной и ни на что не похожей империи.
Вы не можете даже вообразить, насколько печальное зрелище являет собой Петербург в отсутствие императора; город сей, по правде говоря, и в другое время не назовешь веселым; но лишившись двора, он превращается в пустыню, — к тому же, как вы знаете, ему постоянно грозит гибелью морская стихия. И вот нынче утром, прогуливаясь по его безлюдным набережным и опустевшим променадам, я говорил себе: «Значит, Петербург скоро затопит; люди бежали из него, и вода возвратится на свое законное место — на болото; на сей раз природа воздала по заслугам ухищрениям искусства». Ничего подобного: Петербург вымер, потому что император отбыл в Петергоф — вот и все.
Море выталкивает воды Невы, и они поднимаются так высоко, а берега ее так низки, что широкое, с бесконечным множеством рукавов устье похоже на застывшее наводнение, на трясину, — рекой Неву называют за недостатком более точного определения. Нева в Петербурге — это уже море; выше по течению это водоспуск длиною в несколько лье, сток Ладожского озера, воды которого текут по нему в Финский залив.
В ту пору, когда возводились петербургские набережные, у русских царила мода на низкие здания — мода весьма неразумная для страны, где высота стен уменьшается на шесть футов из-за снега, покрывающего землю восемь месяцев в году, и где ни одна возвышенность не сообщает пейзажу живописности и не нарушает ровного круга — недвижной линии горизонта, обрамляющей города, плоские, как морская гладь.
Серое небо, стоячая вода, пагубный для жизни климат, топкая почва бесплодной, слякотной низины, монотонная, плоская равнина, где земля похожа на воду чуть более темного оттенка, — лишь поборов все эти неприятные обстоятельства, человек мог придать живописность Петербургу и его окрестностям. Без сомнения, только прихоть, прямо противоположная чувству прекрасного, могла понудить кого-то расположить рядами на ровной поверхности очень плоские сооружения, едва выступающие из болотного мха. В юности я приходил в восторг, стоя у подножия гористых берегов Калабрии: передо мной был пейзаж, все линии которого, за исключением моря, были вертикальными. Здешняя же земля, наоборот, — плоскость, очерченная абсолютно горизонтальной линией, что проведена между небом и водой. Дома, дворцы и присутственные места, стоящие по берегам Невы, кажется, почти сливаются с землей, или, вернее, с морем; среди них есть и одноэтажные, а самые высокие — в три этажа: на вид все они как будто расплющены. Корабельные мачты вздымаются выше крыш; крыши эти крыты железом и покрашены, отсюда их чистота и легкость; но их сделали очень плоскими, на итальянский манер — и снова вопреки здравому смыслу! Для стран, где много снега, годятся лишь островерхие крыши. В России вас на каждом шагу поражают последствия непродуманного подражательства.
Меж четырехугольных зданий якобы романской архитектуры взору вашему открываются обширные проемы, прямые и пустынные; они именуются улицами; с виду они нисколько не похожи на южные, несмотря на обрамляющие их классические колоннады. Ветер беспрепятственно гуляет по этим дорогам, спрямленным и широким, словно аллеи внутри военного лагеря. Печальный вид города еще усиливается от того, что здесь редко встретишь женщин. Те, что недурны собой, никогда не ходят пешком. Люди богатые, если им захочется пройтись, не преминут взять с собой лакея, чтобы он сопровождал их, — обычай, имеющий в основании осмотрительность и необходимость. Одному императору под силу заселить это скучное место, один только он способен создать толпу на этом бивуаке, что немедля опустеет, как только его покинет господин. В механизмы вдыхает он живописную страсть и мысль; короче, это чародей, чье присутствие пробуждает Россию, а отсутствие погружает в сон: едва двор покидает Петербург, как великолепная столица превращается в зрительный зал после спектакля. Император — это зажженная лампа. По возвращении из Петергофа я не узнаю Петербург; четыре дня назад я уезжал из совсем другого города — но когда бы нынче ночью император возвратился, наутро все то, что теперь нагоняет скуку, пробуждало бы живейший интерес. Надобно быть русским, чтобы понимать могущество государева ока: это нечто совсем иное, нежели око влюбленного, о котором говорил Лафонтен.
Вы думаете, девушка в присутствии императора думает о своих сердечных делах? Вы ошибаетесь: она думает, как добиться повышения для брата; старуха, едва ощутив близость двора, забывает о своих недугах; пускай у нее нет семьи и ей не о ком печься — неважно, ведь царедворством занимаются ради удовольствия, раболепствуя бескорыстно, так, как игрок бескорыстно любит игру ради самой игры. У лести нет возраста. И вот, стряхнув с себя бремя прожитых лет, эта морщинистая кукла утрачивает и достоинство, отличающее старость: никто не сжалится над суетливой дряхлостью, ибо она смешна. Под конец жизни следовало бы особенно прилежно исполнять то, чему учит нас время, — а оно учит нас великому искусству отречения. Блаженны люди, с юных лет умевшие извлечь пользу из этих наставлений!.. отречение есть доказательство душевной силы: отказаться по своей воле, прежде чем потерять по чужой — вот в чем кокетство старости.
У придворных оно не в ходу, так что в Петербурге к нему прибегают реже, чем где бы то ни было. Резвые старушки представляются мне настоящим бедствием для русского двора. Солнце государевой милости слепит честолюбцев, и особенно честолюбцев в юбке; из-за него они не видят истинной своей выгоды, а она в том, чтобы, скрывая убожество души, не уронить своего достоинства. Русские же придворные, подобно святошам, не знающим ничего, кроме Бога, похваляются нищетою духа: они ничем не гнушаются и в открытую занимаются своим ремеслом. В этой стране льстец играет, выложив карты на стол, и, что самое удивительное, используя всем известные приемы, умудряется еще и выигрывать! В присутствии императора больной водянкой начинает дышать, парализованный старик обретает проворство, не остается ни одного больного, ни единого подагрика, ни пылкого влюбленного, ни падкого до развлечений юноши, ни острого на язык мыслителя — человека не остается вообще!!! Это пощечина всему роду человеческому. Душу этим подобиям людей заменяют остатки скупости и тщеславия, поддерживающие их вплоть до самой кончины; двумя этими страстями живет любой двор, однако здесь они вовлекают своих жертв в какое-то военное состязание — все этажи общества объяты упорядоченным соперничеством. Подняться еще на ступень в ожидании лучшего — вот единственный помысел этой увешанной ярлыками толпы.
Но какой же наступает всеобщий упадок сил, когда звезда, приводящая в движение все эти атомы, заходит за горизонт! Перед вами словно ночная роса, падающая в пыль, или монахини Роберта Дьявола, что возвращаются в свои гробницы — ждать сигнала к новому хороводу. Поскольку ум у всех и каждого направлен на продвижений по службе, любая беседа становится невозможной: глаза великосветских русских — дворцовые подсолнухи; русские говорят с вами, не придавая произносимым словам никакого значения, — взор же их остается по-прежнему прикован к солнцу монаршей милости.
Не думайте, что в отсутствие императора беседа становится более свободной: он всегда стоит перед внутренним взором, так что в подсолнух превращаются не глаза, но мысль. Одним словом, для этого несчастного народа император — это Господь Бог, это сама жизнь и сама любовь. Именно в России следовало бы без устали твердить молитву мудреца: «Господи, храни меня от власти пустяков!»
Можете ли вы себе представить, чтобы вся жизнь человека свелась к надежде поклониться государю в благодарность за один его взгляд? Бог вложил чересчур много страстей в сердце человеческое для того употребления, какое этому сердцу находят здесь. Если случается мне поставить себя на место того единственного человека, за кем тут признают право жить свободным, я трепещу за него. Что за ужасная роль — играть роль провидения для шестидесяти миллионов душ! Это божество, порождение политического суеверия, стоит перед выбором из двух возможностей: либо доказать свою человеческую природу и дать себя уничтожить, либо двинуть членов своей секты на завоевание мира, дабы подтвердить свою божественность; оттого-то в России вся жизнь становится школой честолюбия.
Но какой же путь пришлось проделать русским, дабы достигнуть подобного самоотречения? Каким из имеющихся у человека средств можно было получить такой политический результат? каким? вот каким: это средство — чин; чин есть гальванизирующая сила, видимость жизни тел и умов, это страсть, что переживет любую другую!.. Я показал вам воздействие чина, теперь самое время объяснить, что он собой представляет.
Чин — это нация, разделенная на полки, это военное положение, на которое переведено все общество, и даже те его классы, что освобождены от воинской службы. Одним словом, это деление гражданского населения на классы, соответствующие армейским званиям. С тех пор, как была установлена эта иерархия званий, человек, в глаза не видевший учений, может сделаться полковником.
Петр Великий, к которому неизменно приходится обращаться, чтобы понять нынешнюю Россию, — так вот, Петр Великий, наскучив некоторыми национальными предрассудками, в чем-то походившими на аристократизм и мешавшими ему в осуществлении его планов, пришел однажды к мысли, что паства его чересчур много думает и чересчур независима; в стремлении устранить сию помеху — наиболее досадную для ума активного и прозорливого в своей области, но слишком узкого, чтобы осознать преимущества свободы, какую бы пользу ни приносила она нациям и даже правителям их, — сей великий мастер по части произвола, со своим глубоким, но ограниченным пониманием вещей, не придумал ничего лучшего, как поделить стадо, то есть страну, на различные классы, не зависящие от имени отдельного человека, его происхождения и славы его рода; так, чтобы сын самого знатного в империи вельможи мог быть причислен к низшему классу, а сын кого-нибудь из принадлежащих ему крестьян — возведен в один из первых классов, буде на то случится воля императора. При таком разделении народа всякий человек получает место по милости государя; вот как Россия превратилась в полк из шестидесяти миллионов человек, вот это и есть чин — величайшее из творений Петра Великого. Видите, как сей государь, причинивший своей поспешностью столько зла, избавился в один день от вековых оков. Сей тиран, насаждавший добро и возжелавший обновить свой народ, не ставил ни во что ни природу, ни историю, ни прошлое людей, ни их характеры и жизнь. Подобные жертвы позволяют без труда достичь великих результатов; Петр I достиг их, но крайне дорогой ценой, а дела столь великие редко бывают добрыми. Он отлично понимал, он лучше, чем кто-либо, знал, что покуда в обществе существует дворянское сословие, деспотическая власть одного человека никогда не станет в нем абсолютной; и тогда он сказал себе: чтобы осуществить мой способ правления, нужно уничтожить феодальный режим без остатка, а лучший способ этого достигнуть — превратить дворян в карикатуры, подкупить знать, заставить ее зависеть от меня, то есть уничтожить; и тотчас дворянство было если не разрушено, то по крайней мере превращено в нечто совсем иное: новое учреждение отменило его, заместив, но не восполнив утраты. В этой иерархии есть такие касты, в которые достаточно попасть, чтобы обрести потомственное дворянство. Таким-то образом Петр Великий — которого я бы охотнее назвал Петром Сильным, — более чем на полвека опередив современные революции, разделался с феодальной знатью. Она была у него, по правде сказать, не такая могущественная, как у нас, и очень скоро пала под тяжестью полугражданского-полувоенного учреждения, из которого выросла нынешняя Россия. Петр I обладал умом проницательным, но недальновидным. А потому, воздвигнув свою власть на одних развалинах, он не нашел ничего лучшего, как использовать приобретенную необъятную силу для того, чтобы с большей легкостью обезьянничать, копируя европейскую цивилизацию. Творческий ум, прибегнув к тому образу действий, что усвоил себе этот государь, сотворил бы совершенно иные чудеса. Но русская нация, позже других взошедшая на великую сцену мира, гением своим избрала подражательство, а орудием — подмастерье плотника! Будь во главе ее кто-нибудь менее добросовестный, менее погруженный в детали, нация эта заставила бы о себе говорить — правда, несколько позднее, зато для пущей своей славы. Власть ее, будь она основана на внутренних потребностях, принесла бы миру пользу; покуда она его только удивляет.
Наследники сего законодателя в римском сагуме за столетие добавили к беспомощной привычке подражать своим соседям еще и тщеславное намерение их покорить. И вот ныне император Николай наконец постиг, что России пришло время отказаться от заимствования чужеземных образцов ради господства над миром и его завоевания. Он первый истинно русский государь, правящий Россией начиная с Ивана IV. Петр I, русский по своему характеру, не был русским в политике; Николай, природный немец, — русский по расчету и по необходимости. Чин состоит из четырнадцати классов, причем каждый класс имеет свои особенные привилегии. Четырнадцатый — самый низкий класс.
Ниже него находятся только крепостные, и единственное его преимущество в том, что числятся в нем люди, именуемые свободными. Свобода их заключается в том, что их нельзя побить, ибо ударивший такого человека преследуется по закону. Зато всякий, кто принадлежит к этому классу, обязан написать на двери номер своего класса, дабы не ввести в искушение либо в заблуждение кого-либо из вышестоящих; тот, кто, пренебрегши этим извещением, нанесет побои свободному человеку, становится преступником и должен понести наказание.
Четырнадцатый класс состоит из низших правительственных чиновников — почтовых служащих, посыльных и прочих подчиненных, в чьи обязанности входит передавать либо исполнять приказания вышестоящих начальников; он соответствует званию унтер-офицера в императорской армии. Люди, включенные в этот класс, служат императору, это уже не крепостные; у них есть чувство собственного достоинства — общественного, ибо человеческое достоинство, как вы знаете, в России неведомо.
Поскольку всякий класс чина соответствует воинскому званию, армейская иерархия оказывается, так сказать, параллельной тому порядку, которому подчинено государство в целом. Первый класс расположен на вершине пирамиды и состоит сейчас из одного единственного человека — фельдмаршала Паскевича, наместника царства Польского. Продвижение каждого отдельного человека в чине зависит, повторяю, единственно от воли императора. Так что человек, поднявшись со ступени на ступень до самого высокого положения в этой искусственно устроенной нации, может по смерти удостоиться военных почестей, никогда не служив ни в одном роде войск.
О милости повышения в чине никогда не просят, но домогаются ее всегда.
Именно в этом состоит страшная сила брожения, которой пользуется глава государства. Врачи жалуются, что не могут вызвать лихорадку у некоторых пациентов, дабы излечить их от хронических болезней, — царь же Петр привил лихорадку тщеславия всему своему народу, дабы сделать его податливее и править им по собственному усмотрению. Английская аристократия тоже не зависит от рождения, ибо зиждится на двух вещах, которые можно купить, — должности и земле. Но если даже эта безвольная аристократия до сих пор наделяет корону громадной властью, то каково же должно быть могущество господина, от которого зависят все эти вещи вместе, и на бумаге, и на деле? Из подобного общественного устройства проистекает столь мощная лихорадка зависти, столь неодолимый зуд честолюбия, что русский народ должен утратить способность ко всему, кроме завоевания мира. Я все время возвращаюсь к этому намерению, ибо тот избыток жертв, на какие обрекает здесь общество человека, не может объясняться ничем иным, кроме подобной цели. Беспорядочное честолюбие иссушает человеческое сердце, но оно в равной мере может истощить и ум, отбить у нации способность к суждению настолько, чтобы она пожертвовала свободой ради своей победы. Не знай я этой задней мысли, пусть не высказываемой вслух, — мысли, которой, быть может, не отдавая себе в том отчета, повинуется множество людей, я бы почел историю России за необъяснимую загадку. Тут возникает главный вопрос: что такое эта мысль о завоевании, составляющая тайную жизнь России, — приманка ли, способная более или менее долго соблазнять грубый народ, или же в один прекрасный день ей суждено воплотиться в действительность?
Сомнение это не покидает меня ни на минуту, и несмотря на все свои усилия, ответа я не нашел. Все, что я могу сказать, — это то, что с тех пор как я в России, будущее Европы видится мне в черном цвете. Однако же совесть велит мне не скрывать и того, что люди весьма мудрые и весьма опытные придерживаются иного мнения.
Люди эти говорят, что я преувеличиваю могущество России, что каждому обществу предначертана своя судьба, что удел общества русского — распространить свои завоевания на Восток, а затем распасться самому. Умы, упорно не желающие верить в блестящее будущее славян, признают, как и я, что народ этот даровит и любезен; они соглашаются, что он восприимчив ко всему живописному; они отдают должное его врожденной музыкальности и приходят к выводу, что подобные склонности могут до определенной степени способствовать развитию изящных искусств, но их недостаточно для того, чтобы осуществились притязания на мировое господство, которые я приписываю русским или подозреваю у их правительства. «Русские лишены научного гения, — добавляют эти мыслители, — в них никогда не проявлялась способность к творчеству; ум их от природы ленив и поверхностен, и если они и усердствуют в чем, то скорее из страха, чем из увлечения; страх придает им готовность пойти на все, набросать начерно что угодно, но он же и мешает им продвинуться далеко по какой бы то ни было стезе; гений, подобно геройству, по природе отважен, он живет свободой, тогда как царство и сфера действия у страха и рабства ограниченны — как и у посредственности, орудием которой они выступают. Русские — хорошие солдаты, но скверные моряки; они, как правило, более покорны, чем изобретательны, более склонны к религии, чем к философии, в них больше послушания, нежели воли, и мысли их недостает энергии, как душе их — свободы.[49] Самое для них трудное и наименее естественное — это чем-то всерьез занять свой разум и на чем-то сосредоточить свое воображение, так, чтобы найти ему полезное применение; вечные дети, они смогут на какой-то миг одолеть всех с помощью меча, но никогда с помощью мысли; а народ, которому нечего передать другим народам, тем, кого он хочет покорить, недолго будет оставаться сильнейшим.
Даже французские и английские крестьяне физически крепче, нежели обитатели России: русские более проворны, чем мускулисты, более свирепы, чем энергичны, и более хитры, чем предприимчивы; в них есть некая созерцательная храбрость, но им недостает дерзости и настойчивости; их армия, блистающая на парадах отменной дисциплиной и выправкой, состоит, за исключением нескольких избранных частей, из людей, которых публике предъявляют в красивой форме, а за стенами казарм содержат в грязи. Цвет лица изможденных солдат выдает их страдания и голод — ибо поставщики обворовывают этих несчастных, а те получают слишком скудное жалованье, чтобы, тратя его частично на лучшую пищу, удовлетворять свои потребности; обе турецкие кампании достаточно ясно явили всем слабость этого колосса; короче говоря, у общества, не вкусившего при рождении своем свободы, не знавшего иных политических потрясений, кроме навеянных чужеземным влиянием, общества, неспокойного в самой сердцевине своей, нет долговечного будущего…». Из всего этого делается вывод, что Россия, мощная в своих собственных пределах, наводящая страх, покуда она борется лишь с азиатами, сломает себе шею в тот самый миг, когда ей захочется сбросить маску и объявить войну Европе — в подтверждение своей высокомерной дипломатии. Таковы, насколько я знаю, самые сильные доводы, что выдвигают против моих опасений политические оптимисты. Я нисколько не ослаблял аргументацию моих противников; меня они обвиняют в том, что я преувеличиваю опасность. Говоря по правде, есть люди, и люди ничуть не менее достойные, которые разделяют мое мнение и неустанно корят оптимистов за слепоту, уговаривая их признать зло, покуда оно еще не стало непоправимым. Я представил вам обе стороны вопроса; теперь слово за вами — ваше суждение будет иметь в моих глазах большой вес; однако же предупреждаю: если ваш приговор будет отличен от моего, я все равно долго и упорно, покуда хватит сил, буду отстаивать свое мнение, пытаясь найти наилучшие доводы для его подкрепления. Я вижу этого колосса вблизи, и мне трудно себе представить, чтобы сие творение божественного Промысла имело целью лишь ослабить азиатское варварство. Мне представляется, что главное его предназначение — покарать дурную европейскую цивилизацию посредством нового нашествия; нам непрестанно угрожает извечная восточная тирания, и мы станем ее жертвами, коли навлечем на себя эту кару своими чудачествами и криводушием.
Вы не ждете от меня исчерпывающего отчета о путешествии; я не пишу вам о множестве знаменитых либо просто интересных вещей, потому что они не произвели на меня сильного впечатления; мне хочется остаться свободным и описывать лишь то, что живо меня поражает. Обязательные описания отбили бы у меня вкус к путешествиям: на свете довольно каталогов, и мне не обязательно прибавлять к такому количеству цифр еще и собственные перечни.
Здесь ничего нельзя осмотреть без церемоний и предварительной подготовки. Отправиться куда бы то ни было, когда вам придет охота это сделать, — вещь невозможная; предвидеть за четыре дня, куда вас увлечет ваша фантазия, — все равно что вовсе не иметь фантазии, однако, живя здесь, с этим в конце концов приходится смириться. Русское гостеприимство, ощетинившееся формальностями, осложняет жизнь даже тем иностранцам, к которым здесь больше всего благоволят; оно лишь приличный предлог, чтобы стеснить путешественника в передвижениях и ограничить свободу его наблюдений. Вас чествуют, так сказать, по русскому обычаю, и из-за этой прескучной учтивости наблюдателю нельзя никуда пойти и ничего рассмотреть без провожатого; он никогда не остается один, а потому ему труднее судить обо всем самостоятельно — но именно этого и не хотят ему позволить. Въезжая в Россию, надо свою свободную волю оставить вместе с паспортом на границе. Вам хочется взглянуть на достопримечательности какого-нибудь дворца? к вам приставят камергера, который заставит вас отдать должное всему дворцу, сверху донизу, и присутствием своим вынудит разглядывать всякую вещь в подробностях — то есть на все смотреть его глазами и восхищаться всем без разбору. Вам хочется пройтись по военному лагерю, весь интерес которого для вас — в расположении бараков, в живописных мундирах, в красивых лошадях, в солдатах, что устроились по своим палаткам? вас будет сопровождать офицер, а то и генерал; в госпитале вашим проводником будет главный врач; крепость вам покажет — вернее, вежливо ее от вас скроет — комендант; директор или инспектор школы либо иного публичного учреждения, уведомленный заранее о вашем визите, встретит вас во всеоружии и отлично подготовится к ответам на все вопросы, чтобы не бояться вашего осмотра; архитектор, выстроивший здание, сам проведет вас по всем его частям и сам объяснит все, о чем вы не спрашивали, — дабы утаить то, что вам интересно узнать. Все эти восточные церемонии приводят к тому, что, дабы не тратить все свое время на испрашивание разрешений, вы отказываетесь от мысли повидать очень многое из того, что хотели: вот вам и первое их преимущество!.. Либо, если любопытство ваше настолько сильно, что заставляет упорно досаждать людям, вы по крайней мере будете вести свои разыскания под таким пристальным наблюдением, что они не принесут никакого результата; вы будете иметь дело только с начальниками так называемых публичных заведений, и только официально; вам оставят только свободу изъяснять законной власти свое восхищение, продиктованное вежливостью, осмотрительностью и благодарностью, до которой русские весьма ревнивы. Вам ни в чем не отказывают, но повсюду сопровождают: вежливость здесь превращается в разновидность слежки. Вот так вас и тиранят, под тем предлогом, что оказывают вам честь. Таков удел избранных путешественников. Что же до путешественников, не имеющих покровителей, то они вовсе ничего не видят. Страна эта так устроена, что ни один иностранец не может разъезжать по ней не только беспрепятственно, но даже просто безопасно без прямого вмешательства представителей власти. Надеюсь, вы узнаете восточные нравы и восточную политику, что скрываются здесь под маской европейской воспитанности. Союз Запада и Востока, с последствиями которого сталкиваешься на каждом шагу, — отличительная черта русской империи. Недоцивилизация везде создает формальности; цивилизация утонченная уничтожает их; это как высшая учтивость, которой чужда всякая натянутость. Русские до сих пор верят в действенность лжи; и мне странно видеть это заблуждение у людей, столько раз к ней прибегавших… Не то чтобы их ум был недостаточно тонок или проницателен; но в стране, где власть до сих пор не поняла преимуществ свободы даже для себя самой, люди подвластные поневоле пугаются ближайших последствий искренности, создающей иной раз некоторые неудобства. Не могу не твердить каждую минуту: все здесь, и народ, и сильные мира сего, вызывают в памяти византийцев.
Быть может, я не испытываю достаточной благодарности за те показные заботы, какими русские окружают всякого известного чужестранца; просто я вижу их потаенные мысли и, сам того не желая, говорю себе: все это усердие — проявление не столько благожелательства, сколько скрытого беспокойства. Они хотят, следуя благоразумному предписанию Мономаха,[50] чтобы чужеземец удалился из страны довольный.
Не то чтобы русскую нацию в целом заботило, что о ней говорят и думают, нет; но несколько самых влиятельных родов снедаемы ребяческим желанием перекроить европейскую репутацию России.
Заглядывая еще дальше, приоткрывая завесу, какой любят здесь окутывать любые предметы, я обнаруживаю вкус к тайне ради самой тайны; это результат привычки и сложившихся нравов… Сдержанность здесь в порядке вещей- как неосторожность в Париже.
В России повсюду властвует секрет — административный, политический, общественный; скрытность, полезная и бесполезная, умолчание об излишнем ради того, чтобы умолчать о необходимом, — таковы неизбежные плоды исконного характера этих людей, упроченного воздействием здешнего образа правления. Всякий путешественник нескромен; за иностранцем с его вечным любопытством надобно наивежливейшим образом приглядывать — иначе он, чего доброго, увидит вещи такими, каковы они есть, ведь это было бы в высшей степени неприлично. Короче, русские — это переряженные китайцы; они не желают сознаваться, что питают отвращение к наблюдателям из дальних стран, но если бы, подобно настоящим китайцам, осмелились пренебречь упреком в варварстве, въезд в Петербург был бы нам заказан точно так же, как в Пекин: русские принимали бы к себе только мастеровых людей, стараясь затем не отпустить работника обратно на родину. Вы сами видите, отчего хваленое русское гостеприимство кажется мне не столько лестным или трогательным, сколько досадным; под предлогом покровительства меня связывают по рукам и ногам; но из помех разного рода невыносимее всего кажется мне та, на которую жаловаться я не вправе. Благодарность, которую я испытываю за усердную заботу, предметом коей себя ощущаю, есть благодарность насильно завербованного солдата: я, человек прежде всего независимый, то есть путешественник, все время чувствую на себе иго — моим мыслям стараются придать определенное направление… Здесь не ведают ничего, кроме учений, и умы совершают маневры наподобие солдат; всякий вечер, возвращаясь к себе, я себя ощупываю, чтобы понять, какой на мне мундир, и делаю смотр своим мыслям, выясняя их звание, ибо в этой стране все идеи разбиты на классы в зависимости от положения человека: находясь в определенном звании, человек видит — или притворяется, что видит, — вещи определенным образом, и чем выше этот человек поднимается, тем меньше он думает, иными словами, тем меньше осмеливается говорить. Я всеми силами избегал завязывать с вельможами дружеские узы и рассмотрел как следует только двор; мне не хотелось утратить свои права независимого и нелицеприятного судьи, я боялся обвинений в неблагодарности или в неверности; более же всего я боялся, как бы ответственность за мои личные мнения не легла на местных жителей. Но при дворе я произвел смотр всему обществу.
Первое, что поразило меня, — это приверженность французскому тону при отсутствии духа французской беседы. Я прекрасно видел за этим тоном русский ум, колкий, саркастический, насмешливый; в непринужденной беседе он показался бы мне забавным, но никогда не внушил бы мне ни чувства безопасности, ни расположения к себе. Однако ум свой русские также скрывают от иностранцев. Поживи я здесь подольше, я бы сорвал маски с этих кукол: мне тошно смотреть, как они повторяют все французские ужимки. В моем возрасте у притворства уже ничему не научишься; только одна правда интересна всегда, ибо дает знание; только она всегда нова. Потому-то я и старался как можно реже прибегать к гостеприимству людей из высшего света; с меня вполне хватило неизбежного гостеприимства чиновников и служащих всякого звания; мне отвратительна их слежка, которую они пытаются приукрасить патриархальным названием, — это чистое лицемерие. Скажите, ведь есть же страны, где гостеприимство еще не превратилось в неизбежный налог! когда его оказывают там, оно ценится как особая милость. Я с самого начала приметил, что всякий русский простолюдин, от природы подозрительный, ненавидит чужестранцев по невежеству своему, вследствие национального предрассудка; затем я обнаружил, что всякий русский из высшего сословия, не менее подозрительный, боится их, потому что почитает за врагов; он заявляет: «Все эти французы и англичане уверены, будто превосходят остальные народы», — русскому для ненависти к иностранцу достаточно одной этой причины; подобным образом во Франции провинциал опасается парижанина. Большинством русских в их отношениях с жителями других стран движут дикая ревность и ребяческая зависть, которые, однако, ничем нельзя обезоружить; и поскольку эту нерасположенность к общению вы ощущаете повсюду, то в конце концов, хоть и не без сожаления, сами начинаете испытывать то же недоверие, какое внушаете другим. Вы заключаете, что если доверие неизменно остается односторонним, то это уже смахивает на обман, и с этой минуты становитесь холодны и сдержанны, подобно людям, в сердцах которых вы читаете помимо своей и их воли. Во многих отношениях русский характер — полная противоположность немецкому. Именно поэтому русские утверждают, что они похожи на французов; но подобие здесь чисто внешнее: души их, в глубине своей, нисколько не близки. Вы можете, коли вам так нравится, восхищаться в России восточной пышностью и величием, можете изучать греческое коварство, — но остерегайтесь искать там галльской непосредственности, общительности, любезности, естественной для французов; признаюсь, еще меньше обнаружите вы здесь германского чистосердечия, основательности в знаниях, отзывчивости. В России вы встретите доброту, ибо она есть повсюду, где живут люди, — но никогда не встретите добродушия.
Всякий русский — с рождения подражатель, а значит, прежде всего человек наблюдательный; скажу честно, нередко сей дар, свойственный народам в их детском возрасте, вырождается у русских в довольно подлое шпионство; отсюда докучливые, невежливые вопросы, которые они задают и которые в устах людей, что сами неизменно замкнуты и отвечают одними лишь увертками, кажутся совершенно неуместными. Я бы сказал, что здесь даже в дружбе есть что-то от слежки. Как же не быть начеку, имея дело с людьми столь осмотрительными и скрытными во всем, что касается их самих, и столь дотошно выпытывающими все о других? Когда б они заметили, что вы обходитесь с ними естественнее, нежели они с вами, они бы решили, что им удалось вас обмануть; остерегайтесь же обнаруживать перед ними свою непосредственность, выказывать им доверие: люди, лишенные чувств, развлекаются, наблюдая за переживаниями других; но я не люблю, когда меня используют для подобного рода забав. Смотреть, как мы живем, — для русских величайшее удовольствие; если им позволить, они бы наслаждались, читая в наших сердцах, разбираясь в наших чувствах — словно на представлении в театре.
Чрезвычайная недоверчивость всех, с кем имеете вы здесь дело, независимо от сословия, — напоминание о том, что вам следует держаться настороже: по страху, внушаемому вами, вы можете судить об опасности, которой подвергаетесь. На днях один трактирщик в Петергофе потребовал с наемного слуги, собиравшегося отнести скверный ужин в мою актерскую ложу, деньги вперед. Заведение сего предусмотрительного человека находится, заметьте, в двух шагах от театра. Одной рукой вы подносите еду ко рту, а другой должны за нее заплатить; если вы закажете что-нибудь у купца, не дав задатка, он решит, что вы шутите, и ничего для вас не сделает; никто не вправе выехать из России, не предупредив о своих планах всех кредиторов, иначе говоря, не объявив о своем отъезде через газеты трижды, с перерывом в неделю. Следят за этим строго — правда, если заплатить полиции, этот срок можно сократить, но одно или два объявления в печати появиться должны непременно. Без свидетельства властей, удостоверяющего, что вы никому ничего не должны, вам не дадут почтовых лошадей.
Подобные предосторожности выдают царящую в стране всеобщую недоверчивость; а поскольку до сих пор русским редко лично приходилось общаться с чужестранцами, обучиться хитрости им было не у кого, кроме себя самих. Опыта они набрались в общении друг с другом. Эти люди не дадут нам забыть остроту, произнесенную их любимым государем Петром Великим: «Чтобы обмануть одного русского, потребны три жида». Здесь вы на каждом шагу сталкиваетесь с теми византийскими интригами в политике, что были описаны историками времен крестовых походов и снова обнаружены императором Наполеоном в императоре Александре, про которого он частенько говаривал: «Настоящий византиец!..»
С людьми, чьи наставники и образцы для подражания всегда были враждебны рыцарству, не следует, по возможности, вести вообще никаких дел; умы их — рабы собственной корысти, зато безраздельные господа своему слову; не устаю повторять: до сих пор во всей Российской империи лишь один-единственный человек показался мне искренним — государь император. Говоря по правде, самодержцу откровенность обходится дешевле, нежели его подданным. Изъясняясь без обиняков, он являет свою власть; если абсолютный монарх лжет, он от власти отрекается.
Но ведь несть числа тем, кто небрег в этом отношении и всесилием своим, и достоинством! Души подлые никогда не считают, что ложь ниже их достоинства, а значит, даже человеку всемогущему нужно быть благодарным за его искренность. В императоре Николае откровенность сочетается с учтивостью; два этих качества, взаимоисключающие у простонародья, отлично подкрепляют друг друга у государя. У тех из вельмож, кто имеет хорошие манеры, доведены они до совершенства: в этом можно всякий день убедиться в Париже и в иных местах. Но светский русский, не достигший настоящей учтивости, то есть легкости в изъявлении неподдельной любезности, душою настолько груб, что из-за ложного изящества его поведения и речей это возмущает вдвойне. Русские эти, дурно воспитанные, но уже хорошо обученные, хорошо одетые, решительные, самоуверенные, следуют по пятам за европейцами и превращают их изысканность в карикатуру, ибо не ведают, что изысканность в привычках ценна лишь постольку, поскольку возвещает нечто лучшее в сердцах людей, ею наделенных; ученики в мастерской моды, они принимают видимость вещи за нее саму; глядя на этих дрессированных медведей, я сожалею о медведях диких — русские покуда еще не просвещенные люди, но уже испорченные дикари.
Раз уж Сибирь существует, и ей по временам находится известное вам употребление, то мне бы хотелось переселить туда молодых скучающих офицеров и красавиц с расстроенными нервами. «Вы испрашиваете паспорт в Париж, так вот вам паспорт в Тобольск».
Я бы хотел, чтобы император прописал именно такое лекарство от мании путешествовать, которая с пугающей быстротой распространяется в России среди подпоручиков с воображением и ипохондрических дам. Когда бы он одновременно перенес столицу империи в Москву, он бы исправил зло, причиненное Петром Великим, — насколько один человек в силах умерить заблуждения нескольких поколений.
Петербург был возведен не так для России, как против шведов, и должен был стать всего лишь одним из морских портов, русским Данцигом; вместо этого Петр I выстроил для своих бояр ложу с видом на Европу; заперев в бальной зале своих скованных по рукам и ногам вельмож, он позволил им издали и с завистью взирать в лорнет на цивилизацию, усвоить которую им было запрещено: ведь заставлять копировать — значит мешать сравняться с оригиналом! Потом он заявил им: «Под страхом смертной казни вы будете называть меня Петром Великим, ибо это я принес вам цивилизацию — ценою жизни моего народа и моего сына!» Во всех предприятиях своих Петр Великий совершенно небрег человечностью, временем и природой. Подобное заблуждение, отличающее упрямую и всевластную посредственность, другими словами, тиранию, чьей печатью заблуждение это неизбежно отмечено, непростительно для человека, почитаемого своим народом за гения-творца. Чем дольше всматриваешься в Россию, тем крепче утверждаешься во мнении, что государя этого превозносили сверх меры все, даже и иностранцы; избыток восхищения может лишить потомков чувства справедливости. Когда бы царь Петр был так превосходен, как рассказывают, он избегнул бы неверного пути, на который толкнул свой народ, он бы предвидел, какой легковесности в мыслях и поверхностности в образовании обрек он его на века, и возненавидел бы эти роковые свойства. Возможно ли простить ему издержки его деспотического правления — ему, повидавшему Европу XVIII столетия?
Своими преимуществами он воспользовался не столько как законодатель, сколько как тиран, перемесив всю нацию по прихоти своей воли. К несчастью, то оказалась воля скорее кудесника, нежели человека обширного и основательного ума. Великие люди отнюдь не отменяют прошлого ради созидания будущего; они считаются с прошлым, дабы в чем-то изменить его последствия. Русским надобно не обожествлять, как прежде, этого ненавистника их натуры, а осыпать его упреками, ибо по его вине они лишены какого-либо характера; именно его влияние, затянувшееся из-за бездумного восхищения потомков, и поныне мешает им породить в области искусств и наук такого человека, чья слава прогремела бы среди чужеземных народов.[51] Законодатель вроде Конфуция не мог прийти на смену такому реформатору, каков был саардамский плотник и придирчивый путешественник, на чье варварство тогдашняя Европа взирала с ужасом, хотя и восхищаясь той сверхъестественной силой, что скрывалась под этой грубой оболочкой. Сей венценосный миссионер на какой-то миг подчинил себе природу, ибо это он умел, но этим его умения и исчерпывались… Когда бы он и в жизни был тем, чем предстал в истории из-за народных суеверий и писательских преувеличений, как бы он поступил? он бы выждал; и терпеливостью своей заслужил звание великого человека. Петр же предпочел обзавестись сим званием загодя и заставить при жизни причислить себя к лику святых. Все идеи его, равно как и недостатки характера, из которых идеи эти вытекали, были раздуты еще сильнее в последующие царствования; император Николай первым начинает идти против течения, возвращая русских к самим себе. Мир придет в восхищение от подобного предприятия, когда поймет, сколь мощный и несокрушимый ум замыслил его. Воссоздавать из той России, какой оставил ее император Александр, после таких царствований, каковы были царствования Екатерины и Павла, — русскую империю, говорить и думать по-русски, признаваться, что ты русский душою, оставаясь притом во главе двора, где вельможи наследуют фаворитам Северной Семирамиды, — это ли не доблесть!.. Осуществится подобный план или нет, он принесет славу тому, кто его начертал. У царских придворных нет никаких признанных, обеспеченных прав, это верно; однако в борьбе против своих повелителей они неизменно берут верх благодаря традициям, сложившимся в этой стране; открыто противостоять притязаниям этих людей, выказывать на протяжении длительного уже царствования то же мужество перед лицом лицемерных друзей, какое явил он перед лицом взбунтовавшихся солдат, есть, бесспорно, деяние превосходнейшего государя; эта борьба повелителя одновременно против свирепых рабов и надменных придворных — красивое зрелище: император Николай оправдывает надежды, зародившиеся в день его восхождения на престол; а это дорогого стоит — ведь ни один государь не наследовал власти в более критических обстоятельствах, никто не встречал опасности столь неминуемой с большей решимостью и большим величием духа!..
После мятежа 13 декабря г-н де Ла Ферронне воскликнул: «Я сейчас видел цивилизованного Петра Великого!» — слова его имели немалое значение, ибо в них была немалая доля истины; наблюдая, как тот же человек настойчиво и неустанно развивает у себя при дворе идеи национального возрождения, притом без всякого чванства, без всякого шума и насилия, можно с еще большим правом воскликнуть: «То возвратился Петр Великий, дабы исправить зло, причиненное Петром Слепым».
Намереваясь судить о государе этом со всей возможной беспристрастностью, я обнаружил в нем столько похвального, что не позволяю говорить о нем ничего такого, что могло бы поколебать меня в моем восхищении. Бедные правители подобны статуям: их изучают столь придирчиво и тщательно, что малейшие недостатки, поименованные критикой, затмевают в них самые редкие и неподдельные достоинства. Но чем сильнее восхищаюсь я императором Николаем, тем несправедливее становлюсь, быть может, в отношении царя Петра. Однако ж я, как могу, стараюсь оценить те усилия воли, благодаря которым он сумел поставить на болоте, замерзающем на восемь месяцев в году, такой город, как Петербург. Впрочем, едва, на свою беду, вижу я перед собой какой-нибудь из тех жалких пастишей, которыми одарила Россию страсть Петра к классической архитектуре, разделяемая и его преемниками, как чувства мои и вкус восстают и все, чего я достиг посредством рассуждений, идет насмарку. Античные дворцы служат казармами для финнов; римские колонны, карнизы, фронтоны и перистили из белого гипса разбросаны под полярным небом, и при том каждый год их все надобно полностью обновлять, — согласитесь, что от такой пародии, от такой Греции и Италии без мрамора и солнца во мне вполне может снова вспыхнуть гнев; впрочем, я с тем большим смирением отказываюсь называться беспристрастным путешественником, что убежден, что имею на это право. Грозите мне хоть Сибирью, я все равно не устану повторять: когда постройке в целом недостает здравого смысла, а отдельным деталям ее — законченности и соразмерности, это невыносимо. В архитектуре гений призван отыскать наикратчайший и наипростейший способ приспособить здания к тому употреблению, к какому они предназначаются. Так скажите же на милость, чего ради в стране, где девять месяцев в году жить можно лишь при герметически закупоренных двойных стеклах, некие здравомыслящие люди нагромоздили такое количество пилястров, аркад и колоннад? В Петербурге надо было бы гулять, укрываясь за крепостными валами, а не за воздушными колоннадами. Не лучше ли вам построить туннели и сводчатые галереи — они бы служили вашим дворцам прихожей, передовым укреплением, защитой?[52] Небо враждебно вам, так избегайте самого его вида; вам не хватает солнца — живите при свете факелов; оборонительные укрепления и казематы принесут вам более пользы, нежели открытые всем ветрам гульбища. Со своей южной архитектурой вы являете всем притязание на теплый климат, и от этого еще невыносимей становятся для меня ваши летние дожди и ветры, не говоря уж о тех ледяных иголках, какие вдыхаешь, стоя вашей нескончаемой зимой на вашем великолепном крыльце. Петербургские набережные — одна из прекраснейших вещей в Европе; почему так? потому что роскошь их состоит в прочности. Благодаря гранитным плитам, уложенным на мелководье взамен земли, благодаря вечному мрамору, что противостоит разрушительной мощи мороза, у меня возникает представление о какой-то разумной силе и величии. Великолепные парапеты, в которые заключена Нева, и защищают Петербург от реки, и служат ему украшением. Раз нет у нас почвы под ногами, мы соорудим каменную мостовую и на ней воздвигнем столицу; от этих тягот у нас погибнет сто тысяч человек — а нам и дела нет: зато мы получим европейский город и станем называться великим народом. И здесь, по-прежнему сожалея о том, что слава эта добыта столь бесчеловечной ценой, я не могу помешать восхищаться ею — и восхищаюсь сам, хоть и поневоле!.. Еще меня приводят в восхищение виды, открывающиеся с площади перед Зимним дворцом. Дворец сей возведен на так называемом Адмиралтейском острове; ныне это самый красивый квартал в городе. Вот описание его, сделанное Вебером году, кажется, в 1718-м, — читал я его только у Шницлера, а он не указывает точной даты. «Квартал, смежный с Летним садом, ниже по течению Невы, есть так называемый Адмиралтейский остров, он же Немецкая слобода, ибо там поселилось большинство иностранцев. Первым делом здесь видишь (там, где Мойка вытекает из Невы) большой почтовый двор и здание, построенное для персидского слона, где, однако, позже поместили глобус из Готторпа. В этой части острова, именуемой также Finnische Scheeren, ибо населяют ее по большей части ссыльные из Финляндии и Швеции, находится лютеранская церковь, принадлежащая финнам, и церковь католическая, обе деревянные. Унылые хижины этого квартала походят более на клетки, нежели на дома. Найти здесь нужного вам человека затруднительно, принимая в расчет, что ни одна улица не имеет названия и все они обозначаются по имени какой-либо из живущих на них знаменитостей. Однако ж дома на Миллионной и на набережной Зимнего дворца уже красивы с виду».[53]
Вот что являл собою чуть больше столетия назад самый красивый квартал нынешнего Петербурга.
Несмотря на то, что и самые большие здания в этом городе теряются на пространстве, более достойном называться равниной, нежели площадью, сам дворец выглядит внушительно, стиль его архитектуры, восходящий к эпохе Регентства, не лишен благородства, а песчаник, из которого выстроены его стены, приятен для глаз. Александрийская колонна, Главный штаб. Триумфальная арка в глубине полукругом расположенных зданий, кони, колесницы, Адмиралтейство со своими изящными небольшими колоннами и золоченым шпилем, Петр Великий на скале, министерства — те же дворцы, наконец, удивительный храм Святого Исаака, что расположен напротив одного из трех перекинутых через Неву мостов, — все эти памятники, затерянные на просторах одной-единственной площади, выглядят некрасиво, но на удивление величественно… Это застроенное замкнутое пространство и есть так называемая Дворцовая площадь, которая на самом деле состоит из трех сведенных в одну громадных площадей — Петровской, Исакиевской и площади Зимнего дворца.[54] Я вижу здесь много такого, что заслуживает критики, однако ансамбль этих зданий, хоть и затерянных на просторах площади, вместо того чтобы ее обрамлять, приводит меня в восхищение. Я поднимался на медный купол собора Святого Исаака. Церковь эта — из самых высоких в мире; одни леса ее уже памятник архитектуры. Строительство еще не закончено, поэтому я не могу составить себе представление о том, как она будет выглядеть целиком.
Оттуда виден весь Петербург и прилегающие к нему равнины; везде, сколько хватает глаз, одно и то же; чтобы здесь жить, человек должен постоянно делать над собой усилие. Результат сих невиданных затей, печальный и пышный, отбил у меня вкус к рукотворным чудесам; надеюсь, он послужит уроком для тех государей, которые, выбирая место для возведения своих городов, снова вознамерятся не посчитаться с природой. Нация в целом никогда не впадает в подобные заблуждения, они, как правило, суть плод самодержавной гордыни. Самодержцы полагают, будто в их власти создать нечто великое там, где Провидению не угодно было создавать вовсе ничего; лесть они принимают за чистую монету и мнят себя творцами всего сущего. Менее всего государи опасаются пасть жертвой собственного себялюбия; они не доверяют никому, кроме себя самих.
Я заходил в несколько храмов; церковь Троицы красива, но внутри стены ее голы, как и в большинстве греческих церквей, которые я здесь видел; снаружи соборы, наоборот, выкрашены в лазурный цвет и усыпаны ослепительными золотыми звездами. Казанский собор, выстроенный Александром, обширен и красив; но для того чтобы соблюсти религиозный закон, по которому греческий алтарь должен быть непременно развернут на восток, вход в него сделан с угла. Поскольку улица, именуемая Проспектом, имеет не то направление, какое требуется по этому правилу, церковь поставили наискось; люди искусства потерпели поражение, верх взяли правоверные, и один из красивейших памятников России оказался испорчен в угоду суеверию.
Самая большая и богатая из петербургских церквей — Смольная; принадлежит она общине, своего рода капитулу, состоящему из дам и девиц и основанному императрицей Анной. Размещаются вес эти женщины в нескольких громадных зданиях. Когда обходишь по периметру этот благородный приют, монастырь величиной с целый город, притом с архитектурой, какая пристала больше военному учреждению, нежели духовному ордену, перестаешь понимать, где находишься: перед вашим взором — не дворец и не монастырь: это женская казарма.
В России все подчинено военному положению; армейская дисциплина царит и в Смольном, этом дамском капитуле.
Неподалеку виден небольшой Таврический дворец, выстроенный за несколько недель Потемкиным для Екатерины; дворец этот изящен, но заброшен, а все заброшенное в этой стране скоро ветшает, ибо здесь даже камни крепки лишь до тех пор, покуда за ними ухаживают.
Боковая часть здания целиком отведена под зимний сад; нынче лето, и эта великолепная теплица пустует; думаю, она пребывает в запустении и в остальные времена года. Здесь все дышит старинным изяществом, лишенным, однако, того величия, каким время отмечает все истинно древнее; старинные люстры служат свидетельством тому, что во дворце этом устраивали празднества, что здесь когда-то танцевали, ужинали. Думаю, что бал по случаю бракосочетания великой княгини Елены, супруги великого князя Михаила, — последний из тех, что видел и когда-либо увидит Таврический дворец.
В одном из залов в углу стоит Венера Медицейская — говорят, настоящий антик; вы знаете, что римляне часто воспроизводили этот тип статуи. На пьедестале ее взору вашему предстает надпись, сделанная по-русски: ДАР ПАПЫ КЛИМЕНТА XI ИМПЕРАТОРУ ПЕТРУ I
1717 или 1719 Статуя Венеры, посланная папой римским государю-схизматику, да еще известным образом одетая, — дар необыкновенный, что и говорить!.. Царь, издавна замышлявший увековечить схизму, отобрав у русской Церкви последние свободы, должно быть, улыбнулся, когда получил сей знак благорасположения со стороны римского епископа.[55]
Еще я видел картины, собранные в Эрмитаже, но описывать их не стану, оттого что завтра мне ехать в Москву. Эрмитаж! не правда ли, несколько претенциозное название для царского жилища, расположенного в центре столицы, подле обычного дворца? Из одного дворца в другой попадают по мосту, перекинутому через улицу.
Вам, как и всем, известно, что там собраны сокровища главным образом голландской школы. Но… я не люблю смотреть живопись в России, точно так же, как не люблю слушать музыку в Лондоне, ибо величайшие таланты и возвышеннейшие шедевры там принимают так, что у меня пропадает вкус к искусству. В такой близости от полюса освещение неблагоприятно для картин, а поскольку зрение у всех слабое либо из-за белизны снега, либо из-за слепящих, косых лучей незаходящего солнца, никто здесь не способен наслаждаться волшебными оттенками мастерского колорита. Зал Рембрандта, конечно, восхитителен, и все же мне больше нравятся те полотна этого мастера, что я видел в Париже и в других местах.
Кроме того, заслуживают упоминания полотна Клода Лоррена, Пуссена и несколько картин итальянских мастеров, особенно Мантеньи, Джамбеллини, Сальватора Розы.
Однако собрание это весьма проигрывает из-за большого числа посредственных картин, о которых следует забыть, чтобы получать удовольствие от шедевров. Приобретая картины для галереи Эрмитажа, создатели ее не скупились на имена великих мастеров, но это нимало не мешает подлинным их произведениям быть здесь редкостью; и подобные пышные крестины весьма заурядных полотен исполняют любопытных нетерпения, но не возбуждают у них восторга. Когда в собрании произведений искусства прекрасное соседствует с прекрасным, они подчеркивают друг друга, дурное же соседство наносит шедевру вред: заскучавший судья неспособен выносить суждение — от скуки всякий делается несправедливым и жестоким, Картины Рембрандта и Клода Лоррена производят в Эрмитаже некоторое впечатление только потому, что в залах, где они вывешены, больше ничего нет.
Галерея эта прекрасна, однако, как мне кажется, теряется в городе, где слишком мало людей могут наслаждаться ею. Неизъяснимая печаль царит во дворце, превратившемся в музей после смерти той, что одушевляла его своим присутствием и умела жить в нем с толком. Самодержица эта лучше, чем кто-либо, знала цену приватной жизни и нескованной беседе. Не желая мириться с одиночеством, на которое обрекает всякую государыню бремя ее положения, она смогла сочетать уступчивость в частном разговоре с самовластием в управлении государством — иначе говоря, соединять два взаимоисключающих преимущества; боюсь, однако, что этот своеобразный подвиг принес больше пользы императрице, чем ее народу. Самый прекрасный из существующих ее портретов висит в одном из залом Эрмитажа. Еще я отметил для себя портрет императрицы Марии, супруги Павла I, кисти госпожи Лебрен. Есть здесь античный гений, пишущий на щите, той же художницы. Полотно это — одно из лучших у живописца, чей колорит, не боящийся ни здешнего климата, ни времени, делает честь французской школе. При входе в один из залов обнаружил я за зеленым занавесом то, что вы прочтете чуть ниже. Это распорядок кружка, собиравшегося в Эрмитаже, и предназначался он для тех, кто был допущен царицей в сию обитель имперской свободы…
Я велел дословно перевести мне сей внутренний устав, пожалованный этому некогда сказочному месту по прихоти государыни; его переписывали для меня на моих глазах.
ПРАВИЛА, КОИХ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬСЯ ВЗОШЕДШЕМУ
1. Всяк, взойдя сюда, да оставит у дверей чины свои и звание, как оставляет он шляпу и шпагу.
2. Все притязания, в основании коих лежит превосходство в рождении, гордыня либо иные подобного же рода чувства, также за порогом должны быть оставлены.
3. Веселитесь; однако ж ничего не бейте и не портите.
4. Сидите, стойте, ходите, делайте все что вам заблагорассудится и ни на кого внимания не обращайте.
5. Говорите воздержно и не чересчур много, дабы не мешать остальным.
6. Споря, не гневайтесь и не горячитесь.
7. Удаляйте от себя вздохи и зевоту, дабы не нагонять скуки и никому не быть в тягость.
8. Коли один из членов общества предложит сыграть в невинную игру, другие должны согласиться.
9. Ешьте не спеша и с аппетитом, пейте воздержно, дабы всякий уходил отсюда своими ногами.
10. Оставьте все ссоры за дверью; прежде, нежели переступить порог Эрмитажа, все, что входит в одно ухо, следует выпустить в другое. Буде кто нарушит вышеуказанный распорядок и два человека будут тому свидетели, то за каждую провинность принужден будет выпить стакан простой воды (не исключая и дам); независимо от того, прочтет он вслух целую страницу из «Телемахиды» (поэма Тредиаковского); тот же, кто в протяжении одного вечера нарушит три статьи сего распорядка, обязан будет выучить наизусть шесть строк из «Телемахиды». Тот же, кто нарушит десятую статью, навеки изгнан будет из Эрмитажа.
Прежде чем прочесть это произведение, я полагал, что ум у императрицы Екатерины был не таким тяжеловесным. Если оно не более чем шутка, то шутка скверная, ибо шутки всегда чем короче, тем лучше. Не менее, нежели безвкусица, явленная статьями этого устава, удивила меня та бережность, с какой здесь хранят его, словно некую драгоценность. Но больше всего насмешило меня в этом своде правил, под стать тем урокам учтивости, что давали своим подданным император Петр I и императрица Елизавета, употребление, какое делается в нем поэме Тредиаковского. Горе поэту, увековеченному государем!
Послезавтра я еду в Москву.
ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ
Военный министр граф Чернышев. — Я испрашивают него разрешения осмотреть Шлиссельбургскую крепость. — Его ответ. — Как расположена та крепость. — Разрешение взглянуть на шлюзы. — Формальности. — Помехи; намеренно обременительная учтивость. — Игра воображения. — Ссылка поэта Коцебу в Сибирь. — Сходства в нашем положении. — Май отъезд. — Фельдъегерь; как сказывалось присутствие его в моей карете. — Фабричный квартал. — Влияние фельдъегеря. — Обоюдоострое оружие. — Берега Невы. — Деревни. — Дома русских крестьян. — Русская venta. — Описание фермы. — Заводской жеребец. — Сарай. — Внутреннее убранство хижины. — Крестьянский чай. — Крестьянская одежда. — Характер русского народа. — Скрытность, необходимая, чтобы жить в России. — Нечистоплотность северян. — Как пользуются баней. — Деревенские женщины. — Их манера одеваться, их стать. — Скверная дорога. — Дощатые участки пути. — Ладожский канал. — Дом инженера. — Жена его. — Неестественность северянок. — Шлиссельбургские шлюзы. — Исток Невы. — Шлиссельбургская крепость. — Расположение замка. — Прогулка по озеру. — Знак, по которому в Шлиссельбурге узнают о наводнении в Петербурге. — К какой уловке я прибегнул, чтобы попасть в крепость. — Какой прием нам оказали. — Комендант. — Его жилище; жена; беседа через переводчика. — Я настоятельно прошу показать мне темницу Ивана. — Описание построек в крепости, внутренний двор. — Убранство церкви. — Цена церковных мантий. — Могила Ивана. — Государственные преступники. — Комендант обижается на это выражение. — Комендант распекает инженера. — Я отказываюсь от мысли увидеть камеру узника царицы Елизаветы. — Каково отличие русской крепости от крепостей в других странах. — Неуклюжая скрытность. — Подводные темницы в Кронштадте. — Зачем здесь рассуждают. — Пропасть беззакония. — Кажется, виновен один лишь судья. — Торжественный обед у инженера. — Его семейство. — Средний класс в России. — Буржуазный дух одинаков повсюду. — Беседа о литературе. — Неприятная откровенность. — Врожденная язвительность русских. — Их враждебное отношение к иностранцам. — Не слишком учтивый диалог. — Намеки на порядок вещей, сложившийся во Франции. — Ссора моряков прекращается при одном появлении инженера. — Беседа; госпожа де Жанлис; «Воспоминания Фелиси»; мая семья. — Влияние французской литературы. — Обед. — Современные книги в России запрещены. — Холодный суп; русское рагу; квас, род пива. — Мой отъезд. — Я заезжаю в имение ***. — Лицо, принадлежащее к высшему свету. — Разница в тоне. — Вполне обоснованные притязания. — В чем преимущество людей забавных. — Большой свет и свет малый. — Я возвращаюсь в Петербург в два часа ночи. — Чего требуют от животных в стране, где людей не ставят ни во что.
Петербург, 2 августа 1839 года
Во время празднества в Петергофе я спросил у военного министра, каким образом можно получить разрешение посетить Шлиссельбургскую крепость. Сия важная персона — граф Чернышев: блестящий адъютант, изысканный посланник Александра при наполеоновском дворе превратился ныне в серьезного, влиятельного человека и одного из самых занятых министров в империи — всякое утро он непременно работает вместе с императором. «Я доложу императору о вашем желании», — отвечал он мне. Тон, в котором к осторожности примешивалось легкое удивление, заставил меня обратить особенное внимание на этот ответ. Пусть мне моя просьба казалась совсем простой, однако в глазах министра она выглядела отнюдь не пустяком. Помышлять о том, чтобы посетить крепость, ставшую исторической со времени заточения и смерти в ней Ивана VI, что приключилось в царствование императрицы Елизаветы — какая неслыханная дерзость!.. я понял, что, сам того не подозревая, задел какую-то чувствительную струну, и умолк. Несколько дней спустя, а именно позавчера, готовясь уже к отъезду в Москву, получил я послание от военного министра; в нем сообщалось, что мне разрешено осмотреть Шлиссельбургские шлюзы.
Эта древняя шведская крепость, которую Петр I назвал ключом к Балтийскому морю, расположена как раз у истоков Невы, на одном из островов Ладожского озера, водоспуском которого, собственно говоря, и является река: она своего рода естественный канал, по нему воды озера перетекают в Финский залив. Но кроме того канал этот, Неву, питает обильный водный поток, который и считается единственным источником реки; в Шлиссельбурге видно, как ключ этот бьет под накрывающими его водами озера, прямо под стенами крепости, и озерные волны, стекая по водостоку, сразу мешаются с водами источника, вбирают их в себя и увлекают за собой; это одна из величайших природных достопримечательностей, какие есть в России; а здешний пейзаж, хоть и совсем плоский, как и вообще русские пейзажи, все же один из любопытнейших в окрестностях Петербурга. Спускаясь по шлюзам, корабли избегают опасности: они проходят вдоль озера, не проплывая над источником Невы, и, не пересекая озера, попадают в реку примерно в полулье ниже него.
Вот это-то прекрасное сооружение мне и разрешили изучить во всех подробностях — я просился в государственную тюрьму, а в ответ получаю шлюзы. В конце своей записки военный министр сообщал, что генерал-адъютант, начальник над всеми путями сообщения в империи, получил приказание проследить, чтобы мое путешествие прошло без всяких затруднений. Без затруднений!.. о Боже! на какую докуку обрек я себя своим любопытством! и какой получил урок осмотрительности, претерпевая все эти церемонии, что выдавались за учтивость! Не воспользоваться разрешением, когда по всем дорогам разосланы относительно меня приказы, значило бы заслужить упрек в неблагодарности; осмотреть же с русской дотошностью шлюзы, даже не повидав Шлиссельбургского замка, означало по доброй воле попасться в западню и потерять целый день — потеря немаловажная, учитывая, что близился конец лета, а я намеревался еще многое повидать в России, не оставаясь, однако, здесь зимовать.
Я только излагаю факты: выводы вы сделаете сами. Свободно обсуждать беззакония, творившиеся в царствование Елизаветы, здесь покуда не дозволено; все, что наводит на размышления о законности нынешней власти, почитается за богохульство; стало быть, мою просьбу надобно было представить пред очи императора; тот не желает ни удовлетворить мою просьбу, ни отказать в ней; он меняет ее содержание и дозволяет мне восхищаться чудом техники, о котором я и не помышлял; от императора разрешение это вновь спускается к министру, от министра к главноуправляющему путями сообщений, от него к главному инженеру и, наконец, к унтер-офицеру, которому поручено меня сопровождать, служить мне проводником и отвечать за мою безопасность в продолжение всего путешествия — милость, отчасти напоминающая турецкий обычай в виде почести приставлять к иностранцам янычара… Сей знак покровительства слишком походил на проявление подозрительности, а потому не столько льстил, сколько сковывал; так что я, скрывая досаду и комкая в руках рекомендательное письмо министра, говорил себе: «Князь ***, которого я встретил на корабле в Травемюнде, был совершенно прав, восклицая, что Россия — это страна бессмысленных формальностей». Я отправился к генерал-адъютанту, главноуправляющему путями сообщений, и т. д. и т. п. — просить об исполнении высочайшего повеления. Начальник то ли не принимал, то ли его не случилось дома; мне велят прийти завтра, я, не желая терять лишний день, проявляю настойчивость, и мне говорят, чтобы я приходил вечером. Я прихожу и застаю наконец сию важную персону; он принимает меня с той учтивостью, к какой я уже приучен здешними должностными лицами, и после четвертьчасового визита я удаляюсь, снабженный всеми необходимыми приказаниями, адресованными, заметьте, не коменданту замка, а шлиссельбургскому инженеру! Проводив меня до передней, хозяин дома обещал, что назавтра в четыре утра у дверей гостиницы меня будет ожидать унтер-офицер. Я не уснул ни на минуту; я был поражен одной идеей, которая вам покажется безумной, — идеей, что благодетель мой может оказаться палачом. А что если этот человек не отвезет меня в Шлиссельбург, за восемнадцать лье от Петербурга, а вместо этого по выезде из города предъявит приказ препроводить меня в Сибирь, дабы я искупал там свое неподобающее любопытство — что я тогда буду делать, что скажу? для начала надобно будет повиноваться; а потом, когда доберусь до Тобольска, если доберусь, я стану протестовать… Учтивость меня не успокаивает, напротив: я ведь отнюдь не забыл, как один из министров, обласканный Александром, был схвачен фельдъегерем прямо на пороге кабинета императора, который отдал приказ отправить его в Сибирь из дворца, не дав ни на минуту заехать домой. Множество других примеров подобного же рода наказаний подкрепляли мои предчувствия и будоражили воображение. То, что я иностранец, нимало не гарантирует мне безопасность:[56] я воскрешал в памяти обстоятельства пленения Коцебу, который в начале нашего столетия также был схвачен фельдъегерем и единым духом, как и я (себя я почитал уже в пути), препровожден в Тобольск. Конечно, ссылка немецкого поэта длилась всего полтора месяца, так что в юности я смеялся над его жалобами; но в эту ночь мне было не до смеха. То ли вероятное сходство наших судеб заставило меня переменить точку зрения, то ли возраст прибавил мне справедливости, но мне от всего сердца было жаль Коцебу. Нельзя оценивать подобную пытку по ее продолжительности: путешествие на телеге по дороге длиною в тысячу восемьсот лье, мощенной бревнами, да еще в этом климате, — физическая мука, нестерпимая для очень многих; но даже если не брать ее в расчет, кто не посочувствует бедному иностранцу, оторванному от друзей, от семьи и в течение полутора месяцев считающему, что ему суждено кончить дни свои в безымянных, безграничных пустынях, среди злоумышленников и их тюремщиков, да хоть бы и среди более или менее высокопоставленных чиновников? Подобная перспектива хуже смерти, ее вполне достаточно, чтобы умереть либо по крайней мере помутиться рассудком. Посол потребует моего освобождения; да, но полтора месяца я буду чувствовать, что для меня началась вечная ссылка! Прибавьте к этому, что, невзирая ни на какие протесты, коли здесь усмотрят высший интерес в том, чтобы от меня избавиться, то распустят слух, будто лодка, в которой я катался по Ладожскому озеру, перевернулась. С такими вещами сталкиваешься каждый день. Станет ли французский посол извлекать меня со дна этой бездны? Ему скажут, что тело мое искали, но безуспешно, и поскольку достоинство нашей нации не пострадает, он будет удовлетворен, а я — уничтожен. Чем провинился Коцебу? Его стали бояться, потому что он открыто выражал свои взгляды, а в России сочли, что не все они равно благоприятны в отношении установившегося здесь порядка вещей. Но кто убедит меня, что я не заслуживаю точно такого же упрека либо — этого уже достаточно — такого же подозрения? Вот что говорил я себе, не в силах оставаться в постели и шагая взад-вперед по комнате. Разве не одержим я той же манией — думать и писать? Если я посею малейшее сомнение в себе, разве могу я рассчитывать на то, что со мной обойдутся почтительнее, нежели со множеством людей, куда более влиятельных и заметных, чем я? Напрасно твердил я всем, что не стану ничего публиковать об этой стране: словам моим, скорее всего, тем меньше веры, чем больше восторгаюсь я всем, что мне показывают; как ни обольщайся, нельзя же думать, что все мне нравится в равной мере. Русские — знатоки по части осмотрительности и лжи… К тому же за мной следят, как следят здесь за всяким иностранцем — а значит, им известно, что я пишу письма и храню их; известно им и то, что, уезжая из города даже на день, я всегда беру с собой эти загадочные бумаги в большом портфеле; быть может, им придет в голову узнать настоящие мои мысли. Мне устроят засаду где-нибудь в лесу; на меня нападут, ограбят, чтобы отнять бумаги, и убьют, чтобы заставить молчать. Вот такие страхи одолевали меня всю позавчерашнюю ночь, и хотя вчера я без всяких приключений осмотрел Шлиссельбургскую крепость, они все же не настолько нелепы, чтобы я освободился от них до конца путешествия. Напрасно твердил я себе, что русская полиция, осторожная, просвещенная, хорошо осведомленная, позволяет себе чрезвычайные меры лишь тогда, когда считает это необходимым; что я придаю слишком много значения своим заметкам и своей особе, если воображаю, будто могут они обеспокоить людей, правящих этой империей, — все эти, и еще многие другие причины чувствовать себя в безопасности, от описания которых я воздержусь, представляются мне скорее благовидными, нежели обоснованными; по опыту мне слишком хорошо известна мелочная придирчивость, свойственная весьма и весьма влиятельным лицам; для того, кто хочет скрыть, что господство его основано на страхе, нет ничего маловажного; а тот, кто придает значение чужому мнению, не может пренебрегать мнением человека независимого и пишущего: правительство, которое живо тайной и сила которого в скрытности, чтобы не сказать в притворстве, впадает в ярость от любого пустяка; все ему кажется существенным; одним словом, тщеславие мое вкупе с размышлениями и воспоминаниями убеждают, что здесь я подвергаюсь известной опасности. Я потому так подробно останавливаюсь на своих тревогах, что они дадут вам понятие об этой стране. Можете считать мои страхи лишь игрой воображения; я хочу сказать одно — подобная игра воображения, несомненно, могла смутить мне рассудок только в Петербурге или в Марокко. Однако все мои опасения исчезают бесследно, едва приходит пора действовать; призраки бессонной ночи покидают меня, когда я отправляюсь в путь. Малодушен я только в мыслях, а в поступках смел; для меня труднее энергично размышлять, нежели энергично действовать. Движение придает мне храбрости — точно так же, как неподвижность заставляла быть мнительным.
Вчера утром, в пять часов, выехал я из дому в коляске, запряженной четверкой лошадей; когда у русских отправляются в деревню или путешествуют на почтовых, кучера запрягают лошадей по-старинному, в ряд, и правят такой четверкой ловко и смело.
Фельдъегерь мой расположился впереди, на облучке, рядом с кучером, и мы очень быстро промчались по Петербургу, оставив позади сначала богатую его часть, затем квартал мануфактур, где находится, среди прочего, великолепная стекольная фабрика, потом громадные бумагопрядильни и еще множество других заводов, управляемых по большей части англичанами. Эта часть города похожа на колонию: здесь обитают фабриканты.
Человека здесь ценят лишь по тому, в каких отношениях он состоит с властями, а потому присутствие в моем экипаже фельдъегеря производило действие неотразимое. Сей знак высочайшего покровительства превращал меня в важное лицо, и мой собственный кучер, что возит меня все то время, какое я нахожусь в Петербурге, казалось, вдруг возгордился достоинством хозяина, дотоле ему неведомым; он взирал на меня с таким почтением, какого никогда прежде не изъявлял; можно было подумать, что он взялся возместить мне все почести, каких до сих пор по неведению меня лишал. Пешие крестьяне, кучера дрожек, извозчики — на всех оказывал магическое действие мой унтер-офицер; ему не было нужды грозить своей камчой — одним мановением пальца, словно по волшебству, он устранял любые затруднения; и толпа, обычно неподатливая, становилась похожа на стаю угрей на дне садка: они свиваются в разные стороны, стремглав уворачиваются, делаются, так сказать, незаметными, издалека заметив острогу в руке рыбака, — точно так же вели себя люди при приближении моего унтер-офицера.
Я с ужасом наблюдал чудесное могущество этого представителя власти и думал, что, получи он приказ не защищать меня, а уничтожить, ему повиновались бы с той же аккуратностью. Проникнуть в эту страну трудно, это вызывает у меня досаду, но почти не пугает; куда больше поражает меня, насколько трудно отсюда уехать. Простые люди говорят: «Как входишь в Россию, так ворота широки, как выходишь, так узки». При всей необъятности этой империи мне в ней мало простора; тюрьма может быть и обширной — узнику всегда будет в ней тесно. Согласен, это очередной плод воображения, но возникнуть он мог только здесь. Под охраной своего солдата я быстро ехал вдоль берега Невы; из Петербурга выезжаешь по чему-то вроде деревенской улицы, чуть менее однообразной, чем те дороги, по которым мне приходилось ездить в России до сих пор. Вид на реку, на миг открывавшийся кое-где сквозь березовые аллеи; череда довольно многочисленных фабрик и заводов, работающих, судя по всему, на полную мощность; бревенчатые деревушки — все это отчасти оживляло пейзаж. Не думайте, будто речь идет о природе, живописной в обычном понимании этого слова, — просто в этой части города местность не такая убогая, как в другой, вот и все. Впрочем, унылые виды чем-то особенно влекут меня; в природе, от созерцания которой погружаешься в мечты, всегда есть какое-то величие. В качестве поэтического пейзажа берега Невы нравятся мне больше, нежели склон Монмартра со стороны равнины Сен-Дени или тучные нивы в Бос и Бри. Я был удивлен внешним обликом некоторых деревень: их отличает неподдельное богатство и даже своего рода сельская изысканность, приятная для взора; все дома здесь деревянные; они стоят в ряд вдоль единственной улицы и выглядят вполне ухоженными. По фасаду они покрашены, а украшения на коньке их крыш, можно сказать, претенциозны — ибо, сравнивая всю эту внешнюю роскошь с почти полным отсутствием удобных вещей и с той нечистоплотностью, какая бросается вам в глаза внутри этих игрушечных жилищ, вы сожалеете о народе, еще не ведающем необходимых вещей, но уже познавшем вкус к излишествам. При ближайшем же рассмотрении видишь, что на самом деле сараи эти весьма скверно построены. Почти не отесанные бревна, с вырезом в виде полукруга на обоих концах, вставленные одно в другое, образуют утлы хижины; между этими толстыми, плохо пригнанными балками остаются щели, тщательно законопаченные просмоленным мхом, резкий запах которого ощущается по всему дому и даже на улице.
Крыши избушек украшены чем-то наподобие деревянного кружева; эта раскрашенная резьба похожа на узорные бумажки из кондитерских. Это доски, прибитые к щипцу крыши, который неизменно повернут в сторону улицы; с конька они спускаются вниз. Все пристройки находятся на устланном досками дворе. На слух это звучит красиво, не правда ли? но на глаз выглядит унылым и грязным. Тем не менее, когда я гляжу снаружи на эти хижины, столь разукрашенные с улицы, они развлекают меня; но я не в силах поверить, что их назначение — служить жилищем для крестьян, которых я вижу в полях. Со всей своей невероятной отделкой из досок, высверленных насквозь и сверкающих тысячью красок, они напоминают увитые цветочными гирляндами клетки, а обитатели их представляются мне эдакими ярмарочными торговцами, чьи шатры уберут, как только кончится праздник.
Повсюду тот же вкус ко всему, что бьет в глаза! С крестьянином господин его обращается так же, как и с самим собой; и те и другие полагают, что украсить дорогу естественнее и приятнее, чем убрать свой дом изнутри; все здесь живут тем, что внушают другим восхищение, а быть может, зависть. Но где же удовольствие, настоящее удовольствие? сами русские, если бы задать им этот вопрос, пришли бы в большое замешательство.
В России изобилие — предмет непомерного тщеславия; я же люблю великолепие, только когда оно существует не для видимости, и мысленно проклинаю все, что здесь пытаются сделать предметом моего восхищения. Нации украшателей и обойщиков не удастся внушить мне ничего, кроме опасения быть обманутым; ступая на эти подмостки, в это царство декораций, я испытываю одно-единственное желание — попасть за кулисы, мной владеет искушение приподнять уголок холщового задника. Я приезжаю, чтобы увидеть страну, — а попадаю в театр. Я велел приготовить мне перемену лошадей в десяти лье от Петербурга, и в одной из деревень меня поджидала свежая, в полной упряжи четверка. Там я обнаружил нечто вроде русской venta и зашел внутрь. Когда я путешествую, то не люблю упускать ничего из первых впечатлений; я для того и разъезжаю по свету, чтобы испытать их, а описываю, чтобы освежить их в памяти. Итак, я вышел из коляски, чтобы взглянуть на русскую ферму. Впервые передо мною крестьяне у себя дома. Петергоф — это еще не настоящая Россия: сгрудившаяся там праздничная толпа меняла обычный облик местности, перенося в деревню городские привычки. Так что в сельской местности я оказываюсь в первый раз. Обширный, весь из дерева сарай; с трех сторон дощатые стены, под ногами доски, над головой тоже доски — вот что первым делом бросается мне в глаза; я ступаю под крышу этого громадного склада, занимающего большую часть деревенского жилища, и, несмотря на сквозняки, в нос мне бьет запах лука, кислой капусты и старых смазных сапог, который испускают все деревни и их обитатели в России.
Внимание нескольких человек целиком поглощал заводской жеребец, привязанный к столбу: они подковывали его, что было не так-то легко. В руках у этих людей были веревки, чтобы стреножить буйное животное, куски шерсти, чтобы закрыть ему глаза, капцун и завертка, чтобы обуздать его бешеный нрав. Эта отменная лошадь — с конного завода соседнего барина, сказали мне; в глубине того же сарая крестьянин, стоя на очень маленькой, как все русские повозки, телеге, мечет на чердак не связанную в снопы солому, вилами поднимая ее над головой; другой крестьянин подхватывает ее и уминает под крышей. Человек восемь по-прежнему возятся вокруг лошади — все они отличаются ростом и внешностью и приметно одеты. Однако ж в областях, прилегающих к столице, население некрасиво; собственно, его даже нельзя назвать русским, ибо здесь множество представителей финской расы, напоминающих лапландцев. Говорят, что во внутренних землях Российской империи мне снова встретятся те люди, схожие обликом с греческими статуями, которые попадались мне несколько раз в Петербурге: столичные господа из высшего общества набирают себе прислугу из уроженцев своих отдаленных владений. К огромному сараю, о котором я веду речь, примыкает низкое, не слишком просторное помещение; я вхожу — и словно попадаю в главную каюту какой-нибудь плывущей по реке плоскодонки или же внутрь бочки; стены, потолок, пол, скамейки, стол — все здесь деревянное и все являет собою груду балок и бочарных досок разной длины, но равно грубо отесанных. По-прежнему воняет кислой капустой и смолой. В этом закутке, душном и темном, поскольку двери в нем низкие, а окошки не больше чердачных, вижу я старуху, разливающую чай четырем-пяти бородатым крестьянам, которые одеты в бараньи шубы мехом внутрь (уже несколько дней, с 1 августа, стоят довольно сильные холода); люди эти, по преимуществу низкорослые, сидят за столом; их меховые шубы выглядят на каждом по-разному, у них есть свой стиль, но гораздо больше от них вони — ничего нет хуже нее, кроме разве господских духов. На столе сверкает медный самовар и заварочный чайник. Чай и здесь такой же хороший, умело заваренный, а если вам не хочется пить его просто так, везде найдется хорошее молоко. Когда столь изящное питье подают в чулане, обставленном, словно гумно — «гумно» я говорю из вежливости, — мне сразу вспоминается испанский шоколад. Это всего лишь один из тысячи контрастов, поражающих путешественника на каждом шагу, который делает он, оказавшись в гостях у двух этих народов, равно необычных, но отличающихся друг от друга столь же сильно, сколь и климат, в каком они живут. Мне снова представляется случай повторить: русские живописны от природы; художник нашел бы среди окружавших меня людей и животных сюжет для не одной прелестной картины.
Красная либо голубая крестьянская рубаха с застежкой на ключице, стянутая на чреслах поясом, на который верх этого своеобразного военного плаща спадает античными складками, тогда как нижняя его часть разлетается, словно туника, закрывая собой штаны (его в них не заправляют);[57] длинный, на персидский манер кафтан, зачастую не застегнутый, который носят поверх блузы в часы досуга; длинные волосы, падающие на щеки и разделенные надо лбом пробором, но сзади, чуть повыше затылка, коротко остриженные и открывающие мощную шею, — не правда ли, все это вместе образует убор неповторимый и изящный?.. Кроткий и вместе свирепый облик русских крестьян не лишен изящества; статность, сила, не нарушающая легкости движений, гибкость, широкие плечи, кроткая улыбка на устах, та смесь нежности и свирепости, что читается в их диком, печальном взоре, — все это придает им вид, настолько же отличный от вида наших землепашцев, насколько места, в которых обитают они, и земли, которые они возделывают, отличны от остальной Европы. Для иностранца все здесь внове. В здешних людях есть какая-то явная, но неизъяснимая прелесть, сочетание восточной томности с романтической мечтательностью северных народов, — и все это облечено в первозданные, неотшлифованные, однако благородные формы, отчего обретает ценность врожденных дарований. Народ этот внушает к себе участие, но не доверие — вот еще один оттенок чувств, который я познал в России. Здешние простолюдины — забавные пройдохи. Их можно было бы многому научить, но тогда их не нужно обманывать; когда же крестьяне видят, что господа либо прислужники господ лгут чаще, чем они сами, то продолжают еще сильнее коснеть в хитрости и низостях. Чтобы суметь привнести цивилизованность в народ, надобно чего-то стоить самому: варварство раба обличает испорченность господина.
Если вас удивляет неприязненность моих суждений, удивлю вас еще больше и прибавлю, что всего лишь выражаю общее мнение: я только простодушно произношу вслух то, что все здесь скрывают из осторожности, которую вы бы перестали презирать, когда бы видели, как я, насколько сия добродетель, исключающая множество других, необходима всякому, кто хочет жить в России.
В этой стране нечистоплотно все и вся; однако в домах и одежде грязь бросается в глаза сильнее, чем на людях: себя русские содержат довольно хорошо; по правде говоря, их парные бани выглядят отталкивающе: в них моются испарениями горячей воды — я бы предпочел просто чистую воду, и побольше; однако ж этот кипящий туман омывает и укрепляет тело, хоть и старит прежде времени кожу. Благодаря привычке к этим баням вам нередко встречаются крестьяне с чистой бородой и волосами, чего не скажешь об их одежде. Теплые вещи стоят дорого, поэтому их по необходимости носят долго, и они становятся грязными на вид гораздо раньше, чем истреплются; комнаты, призванные служить лишь защитой от холода, проветриваются, естественно, реже, чем жилища южан. Как правило, неопрятность у северян, вечно запертых в доме, глубже и отвратительнее, чем у народов, живущих на солнце: девять месяцев в году русским недостает очистительного воздуха.
В некоторых губерниях работный люд носит на голове картуз темно-синего сукна в форме мяча. Он похож на головной убор бонз; русские знают и множество иных способов покрывать голову, и все эти шляпы и колпаки довольно приятны на взгляд. Сколько в них вкуса — по сравнению с вызывающей небрежностью простонародья в окрестностях Парижа! Когда русские работают с непокрытой головой, то длинные волосы могут стать им помехой; чтобы избавить себя от этого неудобства, они придумали венчать себя диадемой,[58] иначе говоря, завязывать вокруг головы ленту, тесьму, камышинку, стебель тростника, кожаный ремешок; эта диадема, грубая, но всегда изящно повязанная, идет через лоб и не дает растрепаться волосам; молодым людям она к лицу, а поскольку у мужчин этой расы голова, как правило, овальная и приятной формы, то из рабочей прически они сделали себе украшение. Но что вам сказать о женщинах? Все те, что встречались мне до сих пор, выглядели отталкивающе. В этой своей поездке я надеялся увидеть хоть несколько красивых селянок. Однако здесь, как и в Петербурге, они толсты, низкорослы, а платье подпоясывают под мышками, повыше груди, которая свободно болтается у них под юбкой — омерзительное зрелище! Прибавьте к этому бесформенному облику, принятому по доброй воле, большие мужские сапоги из вонючей, жирной кожи и нечто вроде кожуха из бараньей шкуры, наподобие той, из которой сшиты шубы их мужей, и у вас составится представление о существе вполне непривлекательном; к несчастью, представление это будет абсолютно точным. В довершение уродства меховая одежда у женщин не такого изящного покроя, как полушубок у мужчин, и к тому же обычно сильней изъедена червями — что, вероятно, объясняется похвальной бережливостью; это в буквальном смысле лохмотья!.. Таков женский убор. Без сомнения, ни в одной стране прекрасный пол так не отвергает всякое кокетство, как крестьянки в России (говорю о том уголке страны, который видел); и тем не менее женщины эти приходятся матерями солдатам, гордости императора, и тем красавцам кучерам, которых видишь на петербургских улицах и на которых так ладно сидит армяк и персидский кафтан. По правде говоря, большинство женщин, встречающихся в окрестностях Петербурга, принадлежат к финской расе. Меня уверяли, что в глубинных областях страны, куда я еще отправлюсь, есть крестьянки редкой красоты. Дорога, что ведет из Петербурга в Шлиссельбург, на некоторых участках довольно скверная: то попадаешь на ней в глубокий песок, то в жидкую грязь, поверх которой набросаны доски, ничем не помогающие пешеходам и создающие препятствия для карет; эти дурно пригнанные куски дерева, раскачиваясь, обдают вас брызгами даже в глубине коляски — и это еще самое малое из неудобств, какие испытываешь на этой дороге; тут есть кое-что и похуже досок: я говорю о круглых нерасколотых бревнах, которые так, необработанными, положены поперек дороги на некоторых болотистых участках, какие вам приходится время от времени пересекать: их зыбкая почва поглотила бы любой другой материал, кроме бревен. На беду, сей грубый, ходящий ходуном паркет, положенный поверх грязи, составлен из плохо пригнанных и неравных по величине кусков дерева; и все это шаткое сооружение пляшет под колесами в вечно раскисшей почве, не имеющей дна и проседающей при малейшем нажиме. При тех скоростях, на каких путешествуют в России, карета на подобных дорогах вскоре разлетается на куски; люди ломают себе кости, и на каждой версте из колясок со всех сторон вылетают болты; железные ободья колес раскалываются, рессоры разлетаются; из-за этого всего экипажи по необходимости сводятся к своему простейшему обличью, к чему-то вполне примитивному, вроде телеги. Если не считать знаменитого шоссе между Петербургом и Москвой, дорога на Шлиссельбург — одна из тех, где меньше всего этих устрашающих кругляков. И все же по пути я насчитал множество скверных дощатых мостов, один из которых показался мне просто опасным. В России человеческая жизнь не ставится ни во что. Как можно испытывать отцовские чувства, имея шестьдесят миллионов детей? В Шлиссельбурге меня ждали, и я был принят инженером, руководившим работами на шлюзах.
Ладожский канал в теперешнем своем виде идет вдоль той части озера, что расположена между городом Ладога и Шлиссельбургом; сооружение это великолепно; служит оно для того, чтобы предохранить корабли от тех опасностей, каким они некогда подвергались из-за бурь на озере; ныне лодки огибают это бурное море, и ураганы больше не угрожают навигации, которая в свое время слыла чрезвычайно рискованной среди даже самых отчаянных моряков.[59] Погода была облачная, холодная, ветреная; едва успел я выйти из коляски перед домом инженера, добротным деревянным жилищем, как он сам препроводил меня во вполне приличную гостиную и, предложив слегка перекусить, со своеобразной супружеской гордостью представил молодой красивой женщине; то была его жена. Она поджидала меня в одиночестве, сидя на канапе, и не встала, когда я вошел; она все время молчала, потому что не знала по-французски, и не осмеливалась пошевелиться, уж не знаю почему; быть может, она принимала неподвижность за изъявление учтивости, а натянутый вид за свидетельство хорошего вкуса; принимая меня у себя дома, она оказывала мне честь по-своему — не позволяя себе ни единого движения; казалось, она старательно изображает передо мною статую гостеприимства, облаченную в белый с розовым подбоем муслин; наряд ее был скорее прихотлив, нежели элегантен; разглядывая ее затканную узорами юбку на шелковой подкладке, открытую спереди, и все те помпоны, которые она навесила на себя, чтобы ослепить иностранца, — глядя, повторяю, на эту восковую фигуру, розовую, бесстрастную, расположившуюся на большой софе, от которой она словно не в силах была оторваться, я представлял ее греческой мадонной на алтаре; для полной иллюзии ей недоставало лишь не таких розовых губ и не таких свежих щек, оклада да золотых и серебряных накладок. Я молча ел и грелся; она же глядела на меня, едва осмеливаясь отвести взгляд, направленный куда-то выше моей головы — это значило бы пошевелить глазами, а неподвижная поза была ею принята столь твердо, что самый взор ее словно застыл. Когда бы я заподозрил, что причиной сего необыкновенного приема была застенчивость, я бы проникся к ней некоторой симпатией; но я не почувствовал ничего, кроме удивления, а в подобных случаях чутье никогда меня не обманывает — в застенчивости я разбираюсь отлично. Хозяин предоставил мне созерцать сколько душе угодно этого занятного фарфорового болванчика, который стал для меня лишним подтверждением того, что я уже знал, — а именно, что северянки редко бывают естественными и что наигранность их, случается, выдает себя даже и без слов; славный инженер был, казалось, польщен впечатлением, произведенным его супругою на иностранца: изумление мое он приписывал восхищению; однако ж, стремясь исполнить долг свой честь по чести, он в конце концов сказал: «Сожалею, но я вынужден поторопить вас, у нас не так много времени, чтобы осмотреть работы, которые мне было велено показать вам во всех подробностях». Я заранее был готов к этому удару и, не в силах отразить его, принял со смирением и позволил провожать себя от шлюза к шлюзу, неотступно и с бесполезным сожалением думая о крепости, усыпальнице юного Ивана, к которой меня не желали подпускать. Я ни на минуту не забывал об этой цели своей поездки, хоть и скрывал ее; скоро вы узнаете, как мне удалось ее достигнуть. Вас совершенно не интересует число кусков гранита, которые я видел за это утро, щитов, вставленных в желоба, что выточены посредине гранитных глыб, гранитных же плит, какими выложено дно канала, — и слава Богу, ибо сообщить его я бы не смог; знайте только, что за первые десять лет работы шлюзы ни разу не потребовали ремонта. Для такого климата, как на Ладожском озере, где самый крепкий гранит, булыжник, мрамор выдерживают лишь несколько лет, подобная прочность поразительна.
Великолепная постройка эта предназначена для того, чтобы выравнивать уровень воды Ладожского канала и русла Невы у ее истока, на западной оконечности водоспуска, который через несколько сливов соединяется с рекой. Чтобы сделать навигацию, которая из-за суровых зим открывается всего на три-четыре месяца в году, сколько возможно легкой и быстрой, число водоспусков было умножено с расточительностью, достойной восхищения.
Использовались все возможности для того, чтобы выполнить работы надежно и точно; где только представлялся случай, для мостов, парапетов и даже, повторяю с восхищением, для русла канала брали финский гранит; деревянные постройки по тщательности своей отвечают этому роскошному материалу, — короче, здесь пустили в дело все изобретения, все достижения современной науки, и в Шлиссельбурге был исполнен труд, настолько совершенный в своем роде, насколько позволяют здешняя суровая природа и неблагодарный климат. Внутренняя навигация в России достойна того, чтобы привлечь к себе пристальное внимание всех специалистов; это один из главных источников богатства страны; благодаря колоссальной, как все, что вершится в этой Империи, системе каналов здесь со времен Петра Великого сумели соединить Каспийское море с Балтийским через Волгу, Ладогу и Неву, избавив корабли от опасностей. Тем самым воды, связующие север с югом, текут через всю Европу и Азию. Из идеи этой, дерзкой по замыслу и дивной по осуществлению, родилось на свет одно из чудес цивилизованного мира: знать об этом прекрасно и полезно, однако я нашел, что смотреть на это весьма скучно, особенно под водительством одного из исполнителей сего шедевра; специалист питает к своему творению почтение, которого оно, бесспорно, заслуживает, но у простого зеваки вроде меня восхищение гаснет под грузом ничтожных подробностей, от которых я вас избавляю. Вот еще подтверждение тому, о чем я уже имел случай вам писать: когда в России путешественник предоставлен сам себе, он не видит ничего; когда ему покровительствуют, иначе говоря, дают сопровождающих и не спускают с него глаз, он видит слишком много — что в конечном счете одно и то же. Наконец я счел, что потратил и времени, и похвал ровно столько, сколько заслуживают те чудеса, какие пришлось мне осмотреть благодаря так называемой милости, мне оказанной, и обратился к первоначальной цели своего путешествия, скрывая ее, дабы тем вернее достигнуть; я с невинным видом попросил показать мне исток Невы. Коварство мое не помогло мне вовсе скрыть нескромность моего желания, и поначалу инженер мой вовсе ушел от ответа, сказав: «Источник находится под водой, на выходе из Ладожского озера, на дне глубокого канала, которым озеро отделено от острова, где возведена крепость». Это я знал.
— Здесь одна из достопримечательностей русской природы, — настаивал я. — Нет ли способа взглянуть на этот источник?
— Сейчас слишком сильный ветер; мы не увидим, как бурлит источник; чтобы глаз мог различить струю воды, бьющую под волнами, нужна тихая погода; однако я сделаю все, что в моих силах, дабы удовлетворить ваше любопытство. С этими словами инженер подозвал красивую лодку с шестью изящно одетыми гребцами, и мы отправились — будто бы взглянуть на исток Невы, а на самом деле чтобы приблизиться к стенам крепости, а вернее, заколдованной тюрьмы, попасть в которую мне не давали на редкость ловко и учтиво; но препятствия лишь разжигали мой пыл; если бы мне предложили освободить оттуда какого-нибудь несчастного узника, даже и тогда нетерпение мое не могло бы стать сильнее.
Шлиссельбургская крепость построена на плоском острове, вроде скалы, лишь немного возвышающемся над уровнем воды. Утес этот делит реку пополам; еще он отделяет реку от собственно озера, указывая, где именно их воды смешиваются между собой. Мы обогнули крепость, дабы, говорили мы друг другу, подойти как можно ближе к истоку Невы. Вскоре челнок наш оказался как раз над водоворотом. Гребцы бороздили волны столь искусно, что, несмотря на дурную погоду и малые размеры нашего суденышка, мы едва ощущали качку, при том что валы в этом месте вздымались, словно в открытом море. Не сумев различить бурление источника, скрытого от нас неспокойными, сносящими нас волнами, мы сначала совершили прогулку по озеру, а затем, на обратном пути, когда ветер слегка притих, разглядели на довольно большой глубине какие-то клочки пены: это и был пресловутый исток Невы, над которым мы проплывали. Когда при западном ветре на озере бывает отлив, канал, что служит водоспуском для этого внутреннего моря, почти пересыхает, и этот прекрасный источник выходит на поверхность. Моменты такие весьма редки — по счастью, ибо жители Шлиссельбурга тогда понимают, что в Петербурге наводнение, и с часу на час ожидают вестей о новом бедствии. Весть эта неизменно доходит до них на следующий день, ибо тот самый западный ветер, что выталкивает воды Ладожского озера и обнажает русло Невы поблизости от истока, вызывает при известной силе прилив воды из Финского залива в устье Невы. Река немедленно останавливает свое течение, и вода, чей ток перегорожен морем, ищет обходного пути, затопляя Петербург и его окрестности.
Вдоволь навосхищавшись видами Шлиссельбурга, рассыпавшись в похвалах сей природной достопримечательности, наглядевшись в подзорную трубу на позиции батареи, с которых Петр Великий вел обстрел шведской крепости, наконец, навосторгавшись всем, что мне было совершенно не интересно, я произнес с самым непринужденным видом:
— Давайте посмотрим на крепость изнутри; по-моему, она расположена очень живописно, — добавил я уже не так ловко, ибо когда дело касается хитрости, нельзя делать ничего лишнего. Русский бросил на меня испытующий взгляд, и я понял, что он означал; математик на глазах превратился в дипломата и возразил:
— Крепость эта для иностранца совсем не интересна, сударь.
— Это неважно, в такой любопытной стране, как ваша, интересно все.
— Но если комендант не ждет нас, нас туда не пустят.
— Вы испросите у него разрешения впустить в крепость путешественника; впрочем, я думаю, он нас ждет. И действительно, нас впустили по первому слову инженера, что навело меня на мысль о том, что о визите моем предупредили — если не объявили о нем положительно, то во всяком случае намекнули на его возможность. Нас приняли с военными почестями и, препроводив через довольно скверно защищенные ворота во двор, поросший травой, провели через него в… тюрьму, думаете вы? отнюдь нет, в апартаменты коменданта.
По-французски он не знал ни слова, но оказал мне вполне достойный прием; сделав вид, что визит мой он принимает за изъявление учтивости по отношению лично к нему, он заставил инженера переводить мне слова благодарности, которую не мог выразить сам. Лукавые его комплименты показались мне не столько приятными, сколько занятными. Пришлось принять светский тон и для виду поболтать с женой коменданта, тоже не знавшей по-французски; пришлось выпить шоколаду — короче, заниматься чем угодно, кроме как осматривать тюрьму Ивана, сказочную награду за все труды, хитрости, вежливые слова и тяготы этого дня. Никому и никогда так страстно не хотелось попасть в волшебный замок, как мне — в эту темницу.
Наконец, когда я почел, что время, приличествующее визиту, истекло, то спросил у моего провожатого, можно ли осмотреть крепость изнутри. Комендант и инженер быстро обменялись несколькими словами и взглядами, и мы вышли из комнаты.
Мне казалось, что я у цели; ничего живописного в Шлиссельбургской крепости нет; это пространство, обнесенное низкими шведскими стенами и внутри напоминающее сад, по которому разбросаны разные строения, все очень приземистые, а именно: церковь, жилище коменданта, казарма и, наконец, неприметные для взгляда темницы — их скрывают башни, по высоте не больше крепостного вала. Ничто здесь не указывает на насилие, тайна заключена в сути вещей, а не во внешнем их облике. По-моему, эта с виду почти безмятежная государственная тюрьма устрашает скорее ум, нежели глаз. Решетки, подъемные мосты, амбразуры — в общем, все те пугающие и несколько театральные сооружения, что украшали собой средневековые замки, здесь отсутствуют. Когда мы покинули гостиную коменданта, мне для начала стали показывать великолепное убранство церкви! Если верить тому, что удосужился сообщить мне комендант, четыре церковные мантии, торжественно развернутые передо мною, обошлись в триста тысяч рублей. Устав от всего этого кривлянья, я напрямую заговорил о могиле Ивана VI; в ответ мне показали пролом, сделанный в стенах крепости пушкой Петра Великого, когда он лично вел осаду этого шведского укрепления, ключа к Балтике.
— Но где же могила Ивана? — повторил я, не давая себя сбить. На сей раз меня отвели за церковь, к бенгальскому розовому кусту, и сказали:
— Она здесь.
Я заключил, что у жертв в России нет своих могил.
— А где камера Ивана? — продолжал я с настойчивостью, которая для хозяев, должно быть, казалась столь же необычайной, как для меня все их беспокойство, утайки и виляния.
Инженер отвечал мне вполголоса, что камеру Ивана показать невозможно, ибо находится она в той части крепости, где ныне содержат государственных преступников.
Объяснение показалось мне законным, я был к нему готов; но что меня поразило, так это гнев здешнего коменданта; то ли он понимал по-французски лучше, чем говорил, то ли притворялся, будто не знает нашего языка, чтобы меня обмануть, то ли, наконец, угадал смысл данного мне объяснения, но он сурово отчитал моего провожатого, добавив, что несдержанность может однажды дорого ему обойтись. Об этом, улучив удобный момент, рассказал мне сам инженер, задетый выговором, и прибавил, что комендант весьма выразительно предупредил его, чтобы впредь он воздерживался от высказываний об общественных делах, а также не водил иностранцев в государственную тюрьму. У этого инженера есть все задатки, чтобы стать настоящим русским, просто он еще молод и не знает всех тонкостей своего ремесла… Я вовсе не инженерное ремесло имею в виду.
Я почувствовал, что придется уступить; я был слабее их всех, я признал себя побежденным и отказался от посещения камеры, где несчастный наследник русского престола умер, лишившись рассудка, — оттого, что кто-то решил, что удобнее сделать из него идиота, чем императора. Усердие, с каким служат русскому правительству его агенты, повергло меня в бесконечное удивление. Мне вспоминалось выражение лица военного министра, когда я в первый раз осмелился выразить желание посетить замок, ставший историческим благодаря тому преступлению, что было в нем совершено во времена императрицы Елизаветы, — и я с восхищением, к которому примешивался ужас, сравнивал сумятицу идей, царящую у нас, с тем отсутствием всякой мысли, всякого личного мнения, с тем слепым подчинением, в котором состоит главное правило поведения людей, возглавляющих русскую администрацию, равно как и служащих, им подчиненных; столь прочный союз чиновников и правительства внушал мне страх; с содроганием любовался я на молчаливый сговор начальников и подчиненных, имеющий целью истребить любые идеи и даже самые факты. Насколько минутою прежде я горел нетерпением сюда попасть, настолько же теперь мне хотелось от. сюда уйти; ничто не в силах было более привлечь мое внимание; в крепости, где мне соизволили показать одну лишь церковную утварь, и я попросил доставить меня обратно в Шлиссельбург. Я боялся, как бы меня насильно не сделали одним из обитателей сей юдоли тайных слез и никому неведомых страданий. Тревога моя все возрастала, я всем сердцем хотел только одного — двигаться, дышать полной грудью; я забыл, что вся страна здесь — та же тюрьма, и тюрьма тем более страшная, что размеры ее гораздо больше и достигнуть ее границ и пересечь их гораздо труднее.
Русская крепость!!! при слове этом воображение рисует совсем иные картины, нежели при посещении укрепленных замков у народов подлинно цивилизованных и непритворно гуманных. Те ребяческие меры предосторожности, какие берут в России, желая не выдать так называемой государственной тайны, сильнее любых актов неприкрытого варварства укрепляют меня во мнении, что здешний образ правления есть всего лишь лицемерная тирания. С тех пор как я попал в русскую государственную тюрьму и на себе испытал, насколько невозможно там говорить о вещах, ради которых, собственно, всякий иностранец и приезжает в подобные места, я говорю себе: за такой скрытностью непременно прячется глубочайшая бесчеловечность; добро так тщательно не маскируют. Когда бы, вместо того чтобы пытаться рядить правду в одежды учтивой лжи, меня просто отвели в те места, какие показывать не запрещено; когда бы мне откровенно отвечали на вопросы о деянии, свершившемся столетие назад, меня бы гораздо меньше занимало то, чего я не сумел увидеть; но чересчур хитроумный отказ убедил меня не в том, что мне пытались внушить, а в прямо противоположном. В глазах искушенного наблюдателя все эти тщетные уловки превращаются в разоблачения. То, что люди, прибегающие в беседах со мною к подобным уверткам, могли поверить, будто я обманусь их детскими хитростями, привело меня в негодование. Из достоверного источника я знаю, что в кронштадтских подводных казематах среди прочих государственных преступников содержатся несчастные, что были отправлены туда еще в царствование Александра. Бедняги лишились разума от пытки столь жестокой, что ей нет ни оправдания, ни прощения; когда бы они явились теперь из-под земли, то воздвиглись бы, словно призраки мщения, и в ужасе отшатнулся бы перед ними сам деспот, и рухнуло бы здание деспотизма; с помощью красивых слов и даже здравых суждений можно обосновать что угодно; ни одна из точек зрения, раздирающих на части мир политики, литературы и религии, не ведает недостатка в аргументах; но говорите что хотите: режим, который основан на таком принуждении и требует для своего поддержания подобного рода средств, есть режим глубоко порочный.
Жертвы этой гнусной политики утратили человеческий облик: несчастные, выпавшие из области общественного права, гниют во мраке заточения, чуждые миру, всеми забытые, покинутые даже самими собой, и безумие их — плод нескончаемой тоски и последнее утешение в ней; они потеряли память и почти лишились разума, этого светоча человечности, который никто не вправе гасить в душе ближнего. Они позабыли даже свое имя, тюремщики же, жестоко и всегда безнаказанно издеваясь над ними, потехи ради спрашивают, как их зовут, — в глубинах этой пропасти беззакония царит такой беспорядок, а потемки в ней столь непроглядны, что в них нельзя различить никаких следов правосудия. О некоторых узниках неизвестно даже, какое преступление они совершили, однако их по-прежнему держат под стражей, потому что никто не знает, кому их вернуть, и все считают, что обнародовать злодеяние неудобнее, нежели позволять ему длиться дальше. Здесь боятся, что запоздалое проявление справедливости вызовет неподобающую реакцию, и усугубляют зло, чтобы не оправдываться за его избыток… Жестокое это малодушие именуется соблюдением приличий, осмотрительностью, послушанием, мудростью, жертвой на благо общества или государственных интересов и уж не знаю как еще. На словах деспотизм скромен — ведь всякую вещь в человеческом обществе можно назвать по-разному! И вот нам на каждом шагу твердят, что в России нет смертной казни. Похоронить человека заживо не означает его убить! Когда думаешь, что с одной стороны существует столько горя, а с другой — столько несправедливости и лицемерия, перестаешь считать виновным кого-либо из тех, кто посажен в тюрьму: преступником выглядит только судья, и, что для меня всего страшнее, я понимаю: сей судья неправедный вовсе не получает удовольствия от собственной свирепости. Вот что может сотворить дурной образ правления с людьми, заинтересованными в его устойчивости!.. Однако Россия исполняет свое предназначение — и этим все сказано. Если мерить величие цели количеством жертв, то нации этой, бесспорно, нельзя не предсказать господства над всем миром. По возвращении из этой печальной поездки меня поджидала новая беда: торжественный обед у инженера с людьми, принадлежащими к среднему классу. В мою честь инженер созвал к себе нескольких окрестных помещиков и родственников жены. Мне показалось бы любопытным наблюдать подобное общество, когда бы с самого начала не было ясно, что я не узнаю ничего для себя нового. В России не так много буржуа; однако здесь место нашей буржуазии занимает класс мелких чиновников и землевладельцев, весьма темного происхождения, хоть и возведенных во дворянство. Люди эти завидуют высшим чинам, но и сами являются предметом зависти для нижестоящих; они, даром что зовутся дворянами, находятся точно в таком же положении, в каком оказались французские буржуа накануне революции: одинаковые предпосылки повсюду приводят к одинаковым результатам. Я почувствовал, что людьми этими правит плохо скрываемая враждебность по отношению ко всему истинно великому и изысканному, где бы оно ни произрастало. Нелюбезные их манеры и неприязненные чувства, что прорывались сквозь слащавый тон и вкрадчивый вид, слишком явственно напомнили мне, в какую эпоху мы живем — имея в России дело лишь с придворными, я успел об этом подзабыть. Теперь я был среди честолюбцев-подчиненных, озабоченных тем, что могут о них подумать, а эти люди везде одинаковы. Мужчины со мной не заговаривали и, казалось, почти не обращали на меня внимания: по-французски они знают ровно настолько, чтобы читать, да и то с трудом; сойдясь все вместе в углу комнаты, они болтали между собой по-русски. Одна-две родственницы хозяйки дома несли на себе все бремя беседы на французском языке. К своему удивлению, я обнаружил, что им известны все произведения нашей литературы(217), кроме тех, каким русская полиция не позволяет проникать в страну.
В нарядах дам — все они, за исключением хозяйки дома, были уже в летах, — как мне показалось, недоставало изящества; костюмы мужчин были еще небрежнее: вместо национальной одежды они носили длинные, почти до полу коричневые сюртуки, которые, однако, заставляли с сожалением вспомнить о русском платье; но еще больше, нежели небрежность в одежде, меня поразил в людях из этого общества колкий, вечно с кем-то спорящий тон разговора и нелюбезность речей. Русский образ мысли, который люди из высшего света умело скрывали за тактичностью, здесь обнаруживал себя во всей своей наготе. Это общество было откровеннее придворного и не такое учтивое, и я отчетливо увидел то, что прежде только смутно ощущал, а именно: что в отношениях русских с иностранцами царит дух испытующий, дух сарказма и критики; они ненавидят нас — как всякий подражатель ненавидит образец, которому следует; пытливым взором они ищут у нас недостатки, горя желанием их найти. Уяснив для себя направление их умов, я почувствовал, что вовсе не склонен к снисходительности. Быть может, думалось мне, из этого самого общества выйдут люди, которые составят будущее России. Класс буржуазии в этой империи только зарождается, и, как мне кажется, именно он призван править миром. Я почел своим долгом попросить прощения у дамы, что поначалу взяла на себя труд беседовать со мной, за свое незнание русского языка; в завершение своей речи я сказал, что всякий путешественник должен был бы знать язык той страны, куда он направляется, поскольку для приезжего естественнее изъясняться так, как люди, к которым он прибыл, чем вынуждать их говорить так, как он. В ответ мне было сказано недовольным тоном, что придется тем не менее смириться и слушать, как русские коверкают французский язык, а иначе я буду вынужден путешествовать в полном молчании.
— Как раз об этом я и сожалею, — возразил я, — когда бы я умел как следует коверкать русский язык, вам бы не пришлось из-за меня отказываться от своих привычек и говорить на моем языке.
— В свое время мы иначе, как по-французски, и не говорили.
— Это была ошибка.
— Не вам нас попрекать.
— Я прежде всего стараюсь говорить правду.
— А разве во Франции правда еще на что-то годится?
— Не знаю; знаю только, что правду надо любить бескорыстно.
— Такая любовь не для нашего века.
— В России?
— Где бы то ни было; а особенно в стране, где всем заправляют газеты.
Я был того же мнения, что и дама, и оттого мне захотелось сменить тему разговора: я не желал ни говорить того, чего не думал, ни присоединяться к мнению особы, которая при всем сходстве нашего образа мыслей изъясняла свою точку зрения столь язвительно, что способна была отвратить меня от моей собственной. Не забуду прибавить, что говорила эта особа певучим, неестественным голосом, до крайности слащавым и неприятным, словно заранее выставив щит против французской насмешливости и скрывая за ним собственную враждебность.
Одно происшествие, подвернувшееся как нельзя кстати, отвлекло нас от беседы. Шум доносившихся с улицы голосов заставил всех подойти к окну — там бранились перевозчики; они, казалось, были в бешенстве, ругань грозила превратиться в кровопролитие; но вот Инженер выходит на балкон, и от одного вида его мундира происходит нечто невероятное. Ярость этих грубых людей стихает, причем для этого не понадобилось ни единого слова; самый поднаторевший в криводушии придворный и тот не сумел бы лучше скрыть свое раздражение. Подобная учтивость деревенщины привела меня в изумление.
— Что за славный народ! — воскликнула дама, с которой я беседовал.
«Бедняги, — подумал я, усаживаясь на место, — я никогда не стану восхищаться чудесами, сотворенными страхом», — однако же осмотрительно промолчал.
— У вас, должно быть, так порядок не восстановишь, — продолжала неутомимая моя врагиня, сверля меня обличающим взором. Подобная невежливость была для меня внове; как правило, я видел русских, которые держались даже чересчур обходительно, тая лукавые мысли за вкрадчивыми речами; здесь передо мною было согласие между чувствами и их изъявлением — и это оказалось еще неприятнее.
— Наша свобода имеет некоторые издержки, но у нее есть и преимущества, — возразил я.
— Какие же?
— В России их не понять.
— Обойдемся и без них.
— Как обходитесь без всего, что вам неизвестно. Уязвленная противница моя, стараясь скрыть досаду, немедля переменила тему разговора.
— Не о вашем ли семействе рассказывает так подробно госпожа де Жанлис в «Воспоминаниях Фелиси», и не о вас ли говорит в своих мемуарах? Я отвечал утвердительно, но выразил удивление, что эти книги известны в Шлиссельбурге.
— Вы нас держите за лапландцев, — отвечала дама с глубокой язвительностью, которую мне никак не удавалось в ней победить и под действием которой я в конце концов сам принял такой же тон.
— Нет, сударыня, я держу вас за русских, у которых есть дела и поважнее, чем тратить свое время на сплетни французского света.
— Госпожа де Жанлис вовсе не сплетница.
— Разумеется; но мне казалось, что те из сочинений ее, где она всего лишь мило пересказывает пустячные анекдоты из светской жизни своего времени, могут заинтересовать только французов.
— Вы не хотите, чтобы мы ценили вас и ваших писателей?
— Я хочу, чтобы нас уважали за наши истинные заслуги.
— Отними у вас то влияние, какое оказал на всю Европу ваш светский дух, и что тогда от вас останется?
Я почувствовал, что имею дело с сильным противником.
— От нас останется наша славная история и даже отчасти история России, ибо империя ваша по-новому влияет на Европу только благодаря той мощи, с какой она отомстила за взятие французами своей столицы.
— Никто не спорит, вы, хоть и сами того не желая, оказали нам отличную услугу.
— Вы потеряли на этой ужасной войне кого-то из близких?
— Нет, сударь.
Я надеялся, что смогу объяснить отвращение к Франции, сквозившее в каждом слове этой суровой дамы, вполне законной досадой. Я обманулся в своих ожиданиях.
Беседа наша, которая не могла стать общей, вяло текла вплоть до самого обеда; велась она все в том же обвинительном, язвящем тоне с одной стороны, и в принужденном и по необходимости сдержанном — с другой. Я был полон решимости оставаться в должных рамках, и мне это удавалось, за исключением тех случаев, когда гнев во мне брал верх над осторожностью. Я попытался свернуть беседу на нашу новую школу в литературе; здесь знают одного Бальзака, которым бесконечно восхищаются и о котором судят весьма верно… Почти все книги наших современных писателей в России запрещены: свидетельство того, какую силу воздействия им приписывают. Быть может, кто-то из них все же известен в России, ибо таможня, случается, делает послабления; просто считается, что упоминать этих авторов неосмотрительно. Впрочем, это уже чистые домыслы.
Наконец смертоносное ожидание кончилось, и все уселись за стол. Хозяйка дома, по-прежнему выступавшая в роли статуи, совершила за весь день только одно движение — перенесла себя с канапе в салоне на стул в столовой, не шевельнув при этом ни глазами, ни губами; внезапное это перемещение убедило меня в том, что у фарфорового болванчика имеются ноги. Обед прошел довольно принужденно, но оказался недолгим и, по-моему, вполне хорошим, за вычетом супа, своеобразие которого переходило всякие границы. Это был холодный суп с кусочками рыбы, плававшими в уксусном бульоне, очень крепком, переперченном и переслащенном. Не считая этого адского рагу и кислого кваса, местного напитка, всех остальных блюд и напитков я отведал с аппетитом. Подали отменное бордо и шампанское; но я прекрасно видел, что меня очень сильно стесняются, и оттого мучился сам. Вины инженера в этой принужденности не было: он был весь поглощен своими шлюзами и дома совершенно тушевался, предоставляя теще принимать гостей; вы могли составить представление, как мило она это делала. В шесть часов вечера мы расстались с хозяевами с обоюдным и, надо признать, нескрываемым удовольствием, после чего я отправился в имение ***, где меня ждали.
Откровенность этих буржуазок примирила меня с жеманством некоторых светских дам: ничего нет хуже неприятной искренности. С наигранностью есть надежда справиться; отталкивающее же естество непобедимо — точно так же как естество привлекательное.
Таково было мое первое знакомство со средним классом, и так я впервые отведал столь хваленого в Европе русского гостеприимства. Когда я приехал в ***, всего в шести-восьми лье от Шлиссельбурга, было еще светло; остаток вечера я провел, гуляя в сумерках по парку, весьма красивому для этих мест, катаясь в маленькой лодочке по Неве, а главное, наслаждаясь изысканной и учтивой беседой с человеком из высшего общества. Мне необходимо было отвлечься от воспоминаний о буржуазной вежливости, или скорее невежливости, которую я только что испытал на себе. В этот день я понял, что наихудшие притязания не являются самыми необоснованными; все те, что обрушились на мою голову, были вполне оправданными, и я с забавной досадой это признавал. Женщина, с которой я разговаривал, притязала на хорошее знание французского языка — она и в самом деле говорила неплохо, хоть и умолкая надолго после каждой фразы и с акцентом в каждом слове; она притязала на знание Франции — и действительно рассуждала о ней довольно верно, хоть и с предубеждением; она притязала на любовь к своей родине — и любила ее даже слишком сильно; наконец, она хотела показать, что способна без ложного самоуничижения принять в доме своей дочери парижанина — и подавила меня грузом своего превосходства: несокрушимым апломбом, гостеприимными словесами, не столько учтивыми, сколько церемонными, но так или иначе безукоризненными в глазах безвестной русской провинциалки. Я пришел к выводу, что те забавные бедняги, над которыми так часто смеются, случается, все же на что-то годны — хотя бы на то, чтобы вернуть душевный покой тем, кто полагает, будто его лишен; люди же, с которыми я повстречался в Шлиссельбурге, были отталкивающе враждебны. Однако беседа с ними была тягостной только для меня и нимало не вызывала желания посмеяться над собеседниками, как, бывает, потешаются в других странах при подобных же обстоятельствах над простодушными, наивными людьми; здесь люди бдительно и неуклонно следили и за собой, и за мной и я убедился, что для них ничто не могло стать неожиданностью; все их представления сложились двадцать лет назад; из-за этой убежденности я в конце концов почувствовал себя одиноким в их присутствии, одиноким настолько, что пожалел о тех простодушных умах — я едва не сказал: легковерных дураках, — которых так не трудно взволновать и утешить!.. вот до чего довело меня чересчур явное недоброжелательство русских провинциалов. После того, с чем я столкнулся в Шлиссельбурге, я уже не стану искать случая снова попасть под такой допрос, какому подвергли меня в тамошнем обществе. Подобные салоны похожи на поле брани. Большой свет со всеми его пороками предпочтительнее для меня этого малого света со всеми его добродетелями.
В Петербург я возвратился за полночь, проделав за день немногим меньше тридцати шести лье по песчаным и грязным дорогам на двух почтовых упряжках. Требования, какие предъявляют здесь к животным, вполне согласуются с отношением к людям: русские лошади не выдерживают дольше восьми-десяти лет. Надо признать, что петербургская мостовая пагубно действует на животных, на кареты и даже на людей; едва вы сворачиваете с деревянной мозаики, которой выложено очень небольшое число улиц, как голова у вас начинает раскалываться. Правда, русские, которые все вещи делают дурно, но не без роскоши, выкладывают на своих отвратительных мостовых красивые узоры из больших булыжников, но украшения эти только усугубляют зло, ибо улицы из-за них становятся еще более тряскими. Когда колеса попадают на эти стыки камней, с виду похожие на рисунок паркета, и карета, и те, кто в ней сидит, получают сокрушительный толчок. Но разве для русских важно, чтобы сделанная ими вещь служила по своему назначению? Во всех вещах они ищут лишь одного: известного внешнего изящества, кажущейся роскоши, показного богатства и величия. Работу цивилизации они начали с излишеств; когда бы таков был способ продвинуться далеко вперед, то стоило бы воскликнуть: «Да здравствует тщеславие! Долой здравый смысл!» Чтобы достигнуть своей цели, им придется пойти другим путем.
Послезавтра я уже наверное еду в Москву; подумайте только, в Москву!
Несколько слов о маркизе де Кюстине, его книге и ее первых русских читателях
Маркиз Астольф де Кюстин (1790–1857) принадлежал к числу тех литераторов, кого называют писателями второго ряда. Светский человек и автор романов из жизни светских людей: «Алоис» (1829), «Свет как он есть» (1835); название говорит само за себя), «Этель» (1839), «Ромуальд» (1848), он любил также жанр путевых заметок, к которому принадлежат «Записки и путешествия» (1830); о Швейцарии, Италии и Англии) и «Испания при Фердинанде VII» (1838). Впрочем, в свое время Кюстин пользовался немалой известностью; среди поклонников его таланта был такой искушенный ценитель, как Бальзак, который, прочтя книгу Кюстина об Испании, убеждал ее автора, что, «посвятив подобное произведение каждой из европейских стран, он создаст собрание, единственное в своем роде и поистине бесценное».[60] Таких одаренных литераторов среди современников Кюстина было немало, однако кто, кроме специалистов, знает сегодня имена, например, Жюля Жанена или Альфонса Карра (называем этих двоих хотя бы потому, что их прозу ценил Пушкин)? Имя же Кюстина знают, и не только во Франции, даже те, кто не прочел ни строки, им написанной. Эту известность ему принесла книга «Россия в 1839 году» — выпущенное в мае 1843 года повествование о путешествии, совершенном летом 1839 года.
Сам автор, пожалуй, не склонен был считать «Россию» своим главным произведением; меж тем именно эта книга, сразу же по выходе переведенная на английский и немецкий языки, принесла ему европейскую славу.[61]
В России же книга Кюстина была немедленно запрещена[62] и надолго сделалась легендой для всех, кто не читает по-французски; можно сказать, что легендой она остается и до сегодняшнего дня, потому что все существующие ее «переводы» на русский язык воспроизводят текст неполностью и представляют собою сделанные с разной степенью подробности выжимки из него.[63] Сокращенные переводы «России в 1839 году» выходили и в Европе, и в Америке; сами французы не раз выпускали эту книгу, «сжав» ее до одного тома.[64] Однако при желании французские читатели могут познакомиться и с полным текстом,[65] та же возможность есть и у тех, кто читает по-английски, в России же полный Кюстин до сих пор не издан.
Меж тем полный текст «России в 1839 году» и ее сокращенные варианты — произведения разных жанров. Авторы «дайджестов», выбирая из Кюстина самые хлесткие, самые «антирусские» пассажи, превращали его книгу в памфлет. Кюстин же написал нечто совсем другое — автобиографическую книгу, рассказ о своем собственном (автобиографический момент здесь чрезвычайно важен) путешествии по России в форме писем к другу.[66] Кюстин предложил вниманию читателей свои впечатления и размышления, не пугаясь повторов и противоречий (он специально оговаривает эту особенность книги). «Россия в 1839 году» — произведение не только об увиденной Кюстином стране, но и о нем самом; эта сторона дела полностью ускользает от внимания тех, кто читает «Россию» в сокращенном виде, а ведь близкое знакомство с умным автором, возможно, заставило бы кого-то из читателей отнестись с меньшим предубеждением к тому, о чем он рассказывает. Свою биографию Кюстин отчасти изложил в «России в 1839 году» (письма второе и третье). Был, однако, в этой биографии момент, о котором Кюстин, естественно, умолчал, но который имеет большое значение для понимания его творчества и о котором непременно сообщают все его беспристрастные биографы. 28 октября 1824 г., Кюстин, годом раньше потерявший молодую жену (она умерла от чахотки) и после этого давший волю своим гомосексуальным склонностям, назначил на дороге в парижский пригород Сен-Дени свидание некоему молодому солдату. Итог получился самый печальный: товарищи солдата избили и ограбили Кюстина; история получила огласку и скомпрометировала маркиза в глазах парижских аристократов, которые «пришли в такую ярость, словно им нанесли личную обиду, и спросили с Кюстина за то уважение, которое питали к нему прежде».[67] С тех пор положение Кюстина в свете приобрело оттенок двусмысленности. С одной стороны, во многих домах его принимали, да и его парижский салон на улице Ларошфуко, равно как и загородное имение Сен-Грасьен, видел в своих стенах славных посетителей: Мейербера, Шопена, Берлиоза, Виктора Гюго и проч. С другой стороны, избавиться от печати отверженности Кюстину дано не было. Современник свидетельствует: «Он <Кюстин> входит в гостиную, как подсудимый в залу суда, — неровным шагом, потупившись, говорит неуверенно, действует нерешительно <…> он напоминает игрока, которого партнер схватил за руку, воскликнув: „Если эти карты не крапленые, я не прав, — но они наверняка крапленые“.»[68] Другой современник рисует портрет еще более выразительный — «довольно полного и грузного мужчины, одетого прилично, без претензий», который поражает мемуариста «своими туманными речами, робкими остротами, великолепным знанием светских приличий, выдающим истинного дворянина, умением довести все, что нужно, до сведения собеседника, мягким лукавством, великосветскими любезностями, которые пристали скорее юноше, нежели зрелому мужу, странной робостью и некиим сознанием собственной приниженности, уязвимости, которое плохо сочеталось с меткими репликами, философическими наблюдениями и смелыми замечаниями, сверкавшими среди этой густой смеси болезненной скромности, меланхолии, мистицизма и низменной чувственности. Рассказчик и говорун он был бесподобный. Речи его не грешили ни излишней тяжеловесностью, ни излишним блеском. Час пролетел, как одна минута, и он удалился бесшумно, как человек XVIII столетия. Графиня посмотрела на свою ручку и легонько тряхнула ею: „Бедняга маркиз, — сказала она, — он очарователен, но я терпеть не могу его рукопожатий. Они мне отвратительны“. — „Отчего же?“ — „Его рука не жмет, а липнет“. — „Он говорит великолепно, его речь — истинный фейерверк“. — „Который тонет в воде, — продолжила графиня. — Тут такие печальные глубины, такие темные пропасти! Это Кюстин“. — „Ах вот оно что!“ — произнес я. Услышав мое восклицание, графиня улыбнулась».[69] Далее автор приведенных строк, Филарет Шаль, в конце концов подружившийся с Кюстином, превозносит разнообразные достоинства этого «необыкновенного и несчастного человека», который, «сжав зубы, сносил презрение общества» и был «честным, великодушным, порядочным, милосердным, красноречивым, остроумным, почти философом, изысканным, почти поэтом», — однако характерно, что непосредственной реакцией на имя маркиза была брезгливость. Недаром тот же Шаль несколькими десятилетиями раньше, чем были написаны его мемуары, в рецензии на роман Кюстина «Свет как он есть» (Chronique de Paris, 22 февраля 1835 г.) позволил себе шутку столь же прозрачную, сколь и оскорбительную: «Это не свет как он есть, а свет задом наперед, сочинение остроумного человека, привыкшего атаковать с тыла».[70] Выводить все особенности творчества Кюстина из его гомосексуальных склонностей, как это сделал в недавней статье Б. Парамонов, столь же наивно, сколь и полностью отрицать наличие этих склонностей, как это сделал в своей изобилующей грубейшими фактическими ошибками книге М. Буянов.[71] Упомянуть об этих склонностях Кюстина необходимо потому, что сознание собственной отверженности стало одной из важных составляющих его личности; в строках из романа «Этель» звучит, бесспорно, признание глубоко автобиографическое: «Пытаться выжить в цивилизованном обществе, не вызывая к себе уважения, — непоследовательность, нравственное самоубийство, оскорбление его величества человека, бунт, но бунт, не доведенный до конца, а следственно, неудачный; бунтом, доведенным до конца, стала бы жизнь дикаря; жить бунтарем можно, но невозможно жить отверженным!».[72] Другая важная черта личности Кюстина — его принадлежность к тому психологическому типу, который описал в начале века Франсуа Рене де Шатобриан, знаменитый писатель и возлюбленный матери Астольфа, оказавший на будущего автора «России в 1839 году» влияние и литературное, и человеческое.[73] В 1802 г. Шатобриан выпустил трактат «Гений христианства», в состав которого включил повесть «Рене» (1802). Ее герой — человек, который «познал разочарование, еще не изведав наслаждений», который «еще полон желаний, но уже лишен иллюзий», который «живет с полным сердцем в пустом мире и, ничем не насытившись, уже всем пресыщен».[74] Кюстин, по его собственному признанию, «имел несчастье родиться в эпоху, которая признала литературным шедевром „Рене“».[75] Он унаследовал многие черты характера от разочарованного и безвольного героя Шатобриана и описывал свое внутреннее состояние в близких категориях: «Безразличие к самому себе и лень стали как бы корнями моего существа; дарования мои от этого страдают, и, как бы ни старался я пробудиться от постыдной спячки, я способен лишь видеть и знать. Но для того, чтобы заставить меня действовать, требуется нечто большее, чем я сам. „Рене“ и его автор, ставшие моими первыми поводырями в этом мире, причинили мне немало горя, ибо по их вине я стал гордиться расположением души, которое мне следовало бы подавлять».[76] Это расположение души было по преимуществу трагическим: «Если нам так легко быть, отчего же нам так трудно желать? Коли ты рожден на свет, надо жить, но жить можно, лишь вскрыв себе вены и глядя, как течет из них кровь».[77]
Кюстин считал безволие, бездеятельность, разочарованность свойствами греховными, но не смог избавиться от них до конца жизни (см. его описание колебаний перед поездкой в Россию в письме четвертом и рассказ о собственной робости в письме семнадцатом). Свойства эти, наряду с незаживающей травмой следствием сомнительной репутации, — составляли основу его личности, которая позволила ему особенно обостренно воспринять некоторые аспекты российской действительности. Сочувственные тирады Кюстина об унижениях, которым подвергаются русские простолюдины, — не просто риторика; автор «России в 1839 году» знал, что такое быть отверженным, не по чужим рассказам. С другой стороны, восхищенные интонации, в каких Кюстин говорит о российском императоре, объясняются едва ли не в первую очередь страстным желанием обрести в его лице того «великого человека», который, в отличие от наследников Рене, умеет желать и действовать (Б. Парамонов, впрочем, не сомневается, что все дело тут в тяге французского гостя к красивому мужчине, каким, бесспорно, был Николай I).
Не менее важную роль в предыстории кюстиновского «отчета» о поездке в Россию сыграли его политические взгляды, сформировавшиеся еще в юности. Для Кюстина характерно своеобразное сочетание либерализма с аристократизмом и одновременно — некоторое отчуждение от обоих. В определенном смысле это можно считать данью семейной традиции: дед писателя генерал де Кюстин принадлежал к тому типу французских аристократов, которые из благородных побуждений пошли во время Революции служить новой власти и очень скоро погибли от ее руки (см. письмо второе); мать, Дельфина де Кюстин, потеряла в революционные годы свекра и мужа и едва не погибла сама (см. письмо третье), но, выйдя на свободу после термидорианского переворота, не захотела эмигрировать и осталась во Франции, правители которой и при Директории продолжали считать себя преемниками революционеров. Астольф рос в эпоху Империи, но воспитывался в уважении к Бурбонам, поэтому в феврале 1814 г., еще до падения Наполеона, отправился в Нанси, где находились сторонники графа д'Артуа, младшего брата Людовика XVIII; к роялистам он, однако, относился критически. «Нашу партию поддерживают такие болваны, что я краснею от стыда», — пишет он матери 10 апреля 1814 г., через десять дней после вступления в Париж союзных войск.[78] То же отчуждение от власти сохранилось у него и в эпоху Реставрации, когда роялисты пришли к власти. В начале ноября 1814 г. молодой дипломат Алексис де Ноай берет Астольфа с собою в Вену, где заседает знаменитый Венский конгресс — европейские монархи обсуждают судьбы посленаполеоновской Европы. Реакция Кюстина скептична: «Ярмарочный шарлатан намалевал на двери заманчивую вывеску, будящую любопытство досужих зевак. Все бросаются в его заведение, обнаруживают, что там нет ровно ничего интересного, но выйдя, говорят другим: „Ступайте туда, на это стоит посмотреть!“ Никто не желает признать себя обманутым, и честолюбие простофиль помогает шарлатану поймать на ту же удочку все больше и больше народу. <…> Вот в точности история конгресса, на нем никто ничего не делает, но он происходит за закрытыми дверями, а это много значит для тех, кого внутрь не пускают».[79] Многих аристократов возвращение Бурбонов на французский трон привело в состояние эйфории, Кюстин же сохраняет трезвость и сознает, насколько чужда Франции старинная династия: «Французы не помнят, кто такие Бурбоны, не знают, кто такой Monsieur <граф д'Артуа, будущий Карл X>, осведомляются, кем он приходится Людовику XVI, расспрашивают один другого о генеалогии наших принцев и говорят о них, как о картинах, разысканных в какой-нибудь заброшенной церкви».[80]
Кюстин вообще не был практикующим политиком; и в юности, и в зрелые годы он предпочитал оценивать тех или иных политических деятелей исходя прежде всего из нравственных критериев. «Политика мне либо скучна, либо страшна, — писал он Рахили Варнгаген 4 февраля 1831 г., - я ненавижу правительства, которые вынуждают весь свет работать на себя. Правительства кажутся мне неизбежным злом, неотвратимым следствием общественного состояния; по мне, лучшим будет то правительство, в работе которого принимает участие как можно меньшее число людей, — если, конечно, правительство это не убивает свободу. Я могу сказать об этом современном божестве то же, что вельможи у Лабрюйера говорят о дворе: оно не делает меня счастливым, но не позволяет мне быть счастливым без него. <…> Я ненавижу те лживые правительства, какие именуются представительными. Я желал бы жить в большом государстве с чистой монархией, ограниченной мягкостью европейских нравов, или в стране маленькой и чисто демократической. Да и это последнее не доставило бы мне много радости. Твердо я знаю лишь одно: нами управляют люди тщеславные и, по причине своей посредственности, лицемерные…».[81]
Если Кюстин испытывал недовольство властью в эпоху Реставрации, у него было еще меньше оснований быть довольным Июльской монархией. Эта монархия, конституционная и буржуазная, не устраивала его по многим причинам: он полагал, что она лжива, предает честь Франции (Луи Филипп отличался миролюбием и не желал ввязываться в войны) и, главное, отдает управление страной на откуп толпе, толпа же, был убежден Кюстин, «не способна хранить запас основополагающих идей, необходимых для жизни человеческого рода».[82] Споря (в постскриптуме к З-му письму «Испании при Фердинанде VII») с А. Токвилем, который в книге «Демократия в Америке» (1835) утверждал, что человеческое общество неотвратимо движется к абсолютной демократии, Кюстин отказался признать неотвратимость этого движения, неизбежность прощания человечества с абсолютизмом-режимом, в котором ему хотелось видеть залог порядка и спокойствия.
Примерно той же точки зрения придерживались французские легитимисты (сторонники свергнутой в июле 1830 г. старшей ветви Бурбонов). В споре с республиканцами и доктринерами (представителями правящей партии) они охотно ссылались на Россию. Ее пример, писали легитимистские публицисты, доказывает, как благодетельно влияет на жизнь и нравы страны абсолютная монархия. Начиная с XVIII века во французском сознании боролись два взгляда на Россию: одни мыслители смотрели на нее как на молодую динамичную нацию с просвещенным монархом (монархиней) на троне (французский исследователь А. Лортолари назвал это обольстительное действие екатерининской России на французских просветителей «русским миражом»), другие видели в ней средоточие разрушительного деспотизма, представляющего опасность для соседей, и страшились «крестового похода» против европейской цивилизации, который она вот-вот может предпринять.[83] «Царство порядка» или «империя кнута», идеал или кошмар — такой изображали Россию участники политических дискуссий 1830-х годов, печатавшиеся в тех газетах, из которых Кюстин, пусть даже не всегда осознанно, черпал свои представления. Его путешествие в Россию было задумано не только и не столько как поездка в экзотическую страну за острыми ощущениями. Это был своего рода идеологический эксперимент: Кюстин захотел убедиться своими глазами, способна ли русская абсолютная монархия оправдать надежды, которые возлагают на нее французские легитимисты. Кюстин очень надеялся, что Россия эти надежды оправдает, но изначальный скептицизм и нежелание обманываться мнимостями, декорациями взяли свое. Эксперимент окончился тем, что монархист вернулся из России противником абсолютной монархии и сторонником представительного правления как наименьшего из зол. Книга Кюстина — своего рода отчет об экзамене на соответствие легитимистскому идеалу, который маркиз устраивает России. Те внешние черты российской действительности, которые Кюстин увидел и описал, запечатлены в книгах и статьях едва ли не всех его предшественников и современников, также побывавших в России («параллельные» эти места мы по мере возможности отмечаем в комментариях). Не случайно нидерландский полковник Гагерн, посетивший Россию тем же летом 1839 г., писал отцу по прочтении книги Кюстина: «Я не нашел в нем < Кюстине> ничего нового, но встретил подтверждение моих собственных взглядов».[84] Однако ни один из предшественников Кюстина, авторов книг о России: ни аббат Шапп д'Отрош, ни водевилист Ансело, ни только что упомянутый полковник Гагерн, не говоря уже о дипломате Фабере или статистике Шницлере, — не снискали той шумной известности, какую завоевала «Россия в 1839 году», хотя у их сочинений есть немало достоинств.
Дело в том, что у Кюстина были свои представления о том, каковы должны быть идеальные путевые заметки. Долг всякого путешественника, пишет он в посвящении мисс Боулс, открывающем книгу «Испания при Фердинанде VII», — описывать увиденное как можно более ярко и непосредственно, но этого мало; «недостаточно рассказывать о том, что есть, нужно уметь видеть вещи с интересной стороны <…> Как же избежать беспорядка; как, то и дело удивляя читателя новыми картинами, не утомить его постоянной сменой точек зрения и не смутить его вашими собственными сомнениями? С помощью главной мысли, идеи, которую вы невольно, безотчетно будете применять ко всему! Идея эта станет нитью, которая свяжет меж собою все остальные мысли и проведет вас самого сквозь хаос самых противоречивых ваших впечатлений. Благодаря ей переживания и раздумья окажутся тесно сплетены с описаниями и предстанут их естественным следствием. <…> Путешественник-писатель должен, на мой взгляд, пройти между двух рифов: с одной стороны ему грозит опасность утонуть в общих словах, которые все обесцвечивают, с другой — погибнуть от лжи, которая все убивает: без правды нет увлекательности, но без порядка нет стиля, следственно, нет жизни».
Итак, один из источников долголетия книги Кюстина — в том, что она не только описывает поездку по реальной России реального маркиза-писателя, но осуществляет своеобразный суд над идеей, над мифом о России, якобы призванной спасти старую Европу от демократической революции. Но в неменьшей степени успеху книги способствовала такая чисто, стилистическая особенность Кюстина-писателя, как его пристрастие к моралистическим афоризмам, к фразам-сентенциям. В этом отношении он был безусловным наследником французской традиции XVII–XVIII вв., и Бальзак имел все основания назвать его продолжателем Шамфора в том, что касается наблюдательности, и Ривароля в том, что касается острого ума, и, таким образом, уподобить его двум самым блистательным мастерам афоризма, каких знал французский XVIII век. Выразительный пример кюстиновского описательного стиля — афористического и подчиняющего разные образы одной главенствующей идее — отрывок из романа «Этель»: «У каждого города на земном шаре есть свой главный звук; в Лондоне это скрип машин и свист пара, вырывающегося из-под клапана; в Петербурге — барабанный бой; в Риме — могильный звон колоколов; в Неаполе — любовные песни и храп спящих горожан; в Вене — оратория хора в сопровождении оркестра, звучащая одновременно с музыкой театральной и…» <…>
са незадолго до брошюры Толстого, причем публикация эта сопровождалась громким скандалом, так как из-за нескромности Греча европейская публика узнала о причастности к ней российских властей (причастности, которую те вовсе не стремились афишировать).[85] Опровержение Греча — самое дотошное и обстоятельное из всех; он не пропускает ни одной мелочи, вроде формы еловых брусков, которыми вымощен Невский проспект; именно поэтому, как утверждал Толстой, сочинение Греча в Париже не произвело ни малейшего действия и почти никем не читалось.[86] Написал опровержение и П. А. Вяземский, оскорбившийся книгой Кюстина и увидевший в ней «сплошь крики и брань черни», «скучное злословие» человека «с подпорченной репутацией»,[87] однако в связи с опубликованием царским правительством указа «О дополнительных правилах на выдачу заграничных паспортов» от 15/27 марта 1844 г. понял, что «благомыслящему русскому нельзя говорить в Европе о России и за Россию», и отказался от намерения публиковать свою статью, которая увидела свет лишь в 1967 г. в книге М. Кадо.[88] За подробными разборами книги Кюстина русскими литераторами последовали сочинения, авторы которых использовали полемику с ней как предлог для общих историософских рассуждений о судьбе России. Это, прежде всего, брошюра Ф. И. Тютчева «Письмо г-ну Густаву Кольбу, редактору „Аугсбургской Всеобщей газеты“» (июнь 1844; Ha фр. яз.), где книга Кюстина названа «новым доказательством того умственного бесстыдства и духовного растления, благодаря которым <…> иные авторы дерзают судить весь мир менее серьезно, чем, бывало, относились к критическому разбору водевиля».[89] К «косвенным» откликам на книгу Кюстина относятся также брошюра Ф. Ф. Вигеля «Россия, завоеванная немцами» (сентябрь 1844), где основным источником российских несчастий объявляется засилье немцев среди чиновников, но заодно достается и Кюстину — «легитимисту из тщеславия, либералу из честолюбивого расчета»[90] и статья А. С. Хомякова «Мнение иностранцев о России» («Москвитянин», 1845, № 4, на фр. яз), где Кюстин не назван по имени, но зато упомянут «маркиз», который поступает с русскими, «как его предки с вилленями» (крестьянами), и наполняет свою книгу «путаницей», «бесстыдной ложью» и «наглой злобой»[91]
Если русские печатные отзывы на книгу Кюстина были, по понятным причинам, выдержаны только во враждебных тонах, то приватная реакция на «Россию в 1839 году» оказалась весьма разнообразна: от решительного отрицания за иностранцем, да вдобавок человеком сомнительной репутации, права критиковать Россию, пусть даже она эту критику в какой-то мере заслуживает (согласно «формуле», выведенной по другому поводу Пушкиным: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство»[92]), до признания, что Кюстин, сделав ошибки в подробностях, изобразил «сущность русского быта справедливо и точно» (Н. И. Тургенев), «раздражил нашу мертвечину» и тем «заслужил народную благодарность» (А. И. Тургенев).[93]
Книга Кюстина затрагивает столько больных мест в национальном самолюбии, что восприятие ее многими людьми (как правило, полного текста «России в 1839 году» не читавшими и судящими о ней по нескольким эффектным цитатам) до сих пор отличается горячностью, какую вызывает обычно только самая злободневная публицистика: на Кюстина обижаются, его бранят, клеймят за «русофобию» и проч. Меж тем Кюстин не был ни столь прямолинеен, ни столь агрессивен. Формула, мимоходом выведенная московским почтдиректором А.Я. Булгаковым: «И черт его знает, какое его истинное заключение, то мы первый народ в мире, то мы самый гнуснейший!»[94] — замечательно охватывает весь спектр кюстиновских впечатлений от России. Тот, кто хочет взращивать за счет Кюстина собственный комплекс национальной неполноценности, волен читать его книгу как пасквиль и доказывать автору прошлого столетия, что он неправ. Но, как представляется, разумнее наконец прочесть эту книгу как исторический документ, как свидетельство умного и тонкого (хотя порой вызывающе пристрастного) человека о чужой стране, увиденной в течение двух летних месяцев 1839 года.
КОММЕНТАРИИ
Настоящие комментарии ориентированы не только на разъяснение текста (прежде всего, разнообразных реалий), но также и на воссоздание — хотя бы некоторыми штрихами — того идеологического и культурного контекста, из которого выросла книга Кюстина. Мы стараемся указывать как события, которые имели место в действительности, так и те источники, из которых мог знать о них Кюстин. При этом фиксируются и «общие места» россики, и фактические сведения из французских историко-географических описаний России, и слухи — зачастую недостоверные, — распространявшиеся парижскими газетами. Кроме того, по возможности полно отражены реплики русских и французских критиков Кюстина.
В комментарии включены также примечания самого автора, которыми он дополнил третье (1846) и пятое (1854) издания. В раздел «Дополнения», помещенный во втором томе, вошли предисловия автора к третьему (1846) и пятому (1854) изданиям и пространное дополнение к третьему изданию:
«Отрывки из книги „Злоключения католической церкви обоих обрядов в Польше и в России“, переведенной с немецкого графом де Монталамбером».
Список условных сокращений, использованных в примечаниях, см. в конце второго тома.
Перевод выполнен по второму изданию «России в 1839 ГОДУ» (Париж, 1843).
Кроме особо оговоренных случаев, письма Кюстина к Виктору Гюго (музей Виктора Гюго в Париже) и к Софи Гэ (Bibliotheque Nationale, NAF., № 14882) цитируются по копиям, любезно предоставленным нам французской исследовательницей Доминик Лиштенан; пользуемся случаем высказать ей сердечную благодарность.
1
Несколько слов издателя о втором издании. — Первое издание «России в 1839 году» вышло в мае 1843 года (объявлено в «Bibliographic de la France» 13 мая). Следует подчеркнуть, что встречающаяся в литературе версия о выходе некоего «самого первого» издания в 1840 или 1841 году (см.: П. А. Вяземский как пропагандист творчества Пушкина во Франции // ЛН. М., I952Т. 58. С. 320; Кийко Е. И. Белинский и Достоевский о книге Кюстина «Россия в 1839 году»//Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1974. T.I. 189: Буянов М. И. Маркиз против империи… М., 1993) является плодом недоразумения. Повод к нему дали, по-видимому, известия о книге, распространившиеся после того, как весной 1840 г. Кюстин устроил в своем парижском доме чтение отрывков из нее. Первое издание было так быстро распродано, что издатель Амио счел возможным уже в ноябре того же года выпустить второе издание тиражом 3000 экземпляров, причем две трети этого нового тиража разошлись в полтора месяца (см.: Lettres a Varnhagen. P. 472). «Несколько слов…» написаны самим Кюстином; см. в его письме к немецкому литератору Карлу Августу Варнгагену фон Энзе (1785–1858) от 20 января 1844 г.: «Во втором издании в предуведомлении книгопродавца я ответил на наиболее часто повторявшиеся замечания, и ответ этот навлек на меня новые критики» [Lettres a Varnhagen. P. 470]. Наиболее существенные дополнения, внесенные во второе издание, — рассказ о казни декабристов (письмо двадцать первое), рассказ о судьбе П.В. Долгорукова (письмо двадцать девятое), исправление неточностей в рассказе о семействе Лавалей (глава «Изложение дальнейшего пути»); см. об этом: Cadot. P. (225). О работе над вторым изданием Кюстин 14 июня 1843 г. писал своей приятельнице Софи Гэ: «Я готовлю второе издание „России“ и исправляю ошибки, сделанные по непростительной оплошности. Успех хорош тем, что придает силы для исправления ошибок». 24 ноября 1843 г. газета «Journal des Debats» поместила примечательную рекламную заметку, где сообщалось, что второе издание книги Кюстина, «выпущенное в более удобном формате, придаст еще больший вес суровым истинам, встревожившим Россию», а сам текст книги аттестовался как «простой, серьезный и точный». Реклама эта, а главное, сам факт появления второго издания меньше чем через полгода после первого так возмутил добропорядочных русских патриотов, что один из них, князь Элим Петрович Мещерский (1808–1844), бывший корреспондент министерства народного просвещения в Париже, 30 ноября 1843 г. сообщил своему преемнику на этом посту графу Я.Н. Толстому «Эта реклама заставляет жаждать крови; моя же кровь кипит и приливает к вискам вот уже четыре месяца. Я подожду еще немного, а затем напишу опровержение, какого не написать другим <…> В апреле я вернусь в Париж, в мае опубликую мою брошюру о Кюстине, в июне кого-то одного из нас — либо его, либо меня — на свете уже не будет; это решено» (цит. по: Mazon A. Deux Russes ecrivains francais. P., 1964. P. 422; опровержение на Кюстина написал в результате не Мещерский, а Толстой). Третье и четвертое издание «России в 1839 году» вышли в 1846 г.; пятое — в 1854 г.; шестое — в 1855.) Ha этом история прижизненных изданий книги Кюстина о России кончается. Предисловия автора к третьему и пятому изданию см. в Дополнениях 1 и 3. Добавления, внесенные Кюстином в третье издание, см. ниже в наших примечаниях.
3
…бельгийские контрафакции… — Тарн (Тот. Р. 799) указывает в общей сложности шесть таких контрафакций — «пиратских» перепечаток без согласия автора: две с указанием года издания (1843 и 1844) и четыре без года. По свидетельству Я. Н. Толстого (в его донесении Бенкендорфу) до марта 1844 г. в Бельгии было продано 30 000 экземпляров книги Кюстина (ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 4. № 195. Л. 136). См. также т. 2, Дополнение 3.
4
…немецкий перевод… — Перевод Дизмана вышел в Лейпциге в 1843, там же вышло второе издание (без года), а в 1847 г. — третье.
5
…перевод английский… — Вышел в Лондоне в 1843 г. под названием «The Empire of the Czar» («Империя царей»); 2-е издание — там же, в 1844 г.
6
…молчание крупнейших французских газет. — Кюстин не совсем прав: газеты активно участвовали в рекламной кампании. Первый анонс книги был опубликован в газете «La Presse» за три года до ее выхода, 7 марта 1840 г. (см.: Тот. Р. 769; отрывки из «России в 1839 году» были напечатаны в «La Presse» 17 и 18 апреля, в журнале «La Mode» 5, 15 и 25 мая 1843 г., в журнале «Le Voleur» 20 и 25 мая; объявления о выходе книги появились в течение мая едва ли не во всех крупных парижских газетах. До выхода второго издания во французской прессе успели появиться и несколько аналитических статей, причем весьма сочувственных. 15 августа рецензию в католическом журнале «Correspondant» опубликовал граф Мари Жозеф д'Оррер (i775-1849) который до начала Реставрации (1814) состоял в русской службе, затем служил секретарем французского посольства в Петербурге и потому хорошо знал русскую жизнь; одобряя взгляд Кюстина на положение религии в России, д'Оррер, однако, критикует автора за некоторые неточности и скороспелость суждений (см.: Cadot. Р. 243) — 10 сентября 1843 г. рецензию на книгу «Россия в 1839 году» опубликовал протестантский еженедельник «Semeur», главный редактор которого Анри Лютерот, хотя и не разделял католических пристрастий Кюстина, выразил восхищение его стилистическим мастерством и «уважением к правде». Почти одновременно с выходом второго издания (14, i6 и 17 ноября) в газете «National» появились три пространные статьи Гюстава Эке (Hequet), который, хотя и порицал Кюстина за аристократизм, одобрял его критику Российской империи. Раздражение Кюстина «молчанием крупнейших французских газет» объясняется, по-видимому, тем, что о книге не высказались подробно влиятельные французские критики, такие, как Сен-Марк Жирарден (его весьма хвалебные статьи появились в «Journal des Debats» лишь в 1844 г.: статья первая 4 января, статья вторая 24 марта) или Сент-Бев, который уклонился от подробного анализа «России в 1839 году» и в дальнейшем посвятил ей всего один абзац, да и то в статье, предназначенной для швейцарского, а не парижского журнала («Revue suisse», 3 июня 1843 г.; см.: Tarn. P. 499; Cadot. P. 244); TAG) отпустив несколько колкостей по поводу манерности и многословия Кюстина, засвидетельствовал, однако, что новая книга «производит впечатление». После второго издания положение резко изменилось; «Кюстин, — докладывал 5/17 января 1844 г. в Петербург Я. Н. Толстой, — жалуется в предисловии ко второму изданию на молчание крупнейших французских газет, но если он когда-нибудь опубликует третье издание, он будет уже не вправе жаловаться, ибо возникает впечатление, что газеты только и дожидались второго издания, чтобы начать говорить об этой книге, и никогда еще общественное внимание не было так возбуждено» (ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 4. № 192. Л. до об.; подл. по-фр.).
7
…избранный же нами формат… — Первое издание вышло в формате in-8н; второе — in-12н.
8
Яростные нападки… со стороны русских… — Ко времени выхода из печати второго издания «России» была написана и издана (на французском языке) лишь одна антикюстинская брошюра — «Реплика о сочинении г-на де Кюстина, именуемом „Россия в 1839 году“» за подписью «Русский»; она появилась в конце сентября 1843 г (объявлена в «Bibliographic de la France» 23 сентября I843), а позже была переведена на английский и немецкий языки. Автором ее был Ксаверий Ксавериевич Лабенский (1800–1855) польский дворянин, состоявший в русской службе (и одновременно, сочинитель французских стихов под псевдонимом Jean Polonius). Входя в ряд опровержений Кюстина, опубликованных с ведома русского правительства, брошюра Лабенского выделялась среди них спокойным, уважительным тоном; ругая Кюстина за необъективность и ошибочность его суждений о русских, автор «Реплики» признает, что иные из злоупотреблений, обличаемых французским автором, существуют в действительности; впрочем, замечает он, правительство сознает их и поощряет их обличение, свидетельство чему — пьеса Гоголя «Ревизор» (Labinski. P. 46–47). Брошюра Лабенского, «пикантная сатира, колкая и саркастическая», по свидетельству Я. Н. Толстого, который по поручению русского посольства в Париже занимался ее изданием, имела среди французов такой успех, что уже в январе 1844 г. стараниями Толстого вышло ее второе издание (ГАРФ. Ф. log. СА. Оп. 4. № 195 25 нб-> подл. по-фр.). По мнению М. А. Корфа, в брошюре Лабенского вся книга Кюстина «покрыта язвительною насмешкою, и весь он, так сказать, одурачен: лучший способ ответа, и особенно во Франции, где насмешка составляет такое опасное оружие» (дневник, 5 ноября 1843 г. — ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1817. Ч. 6. Л. 253 об.). Говоря о нападках русских, Кюстин, по-видимому, имел в виду не только брошюру Лабенского, но и устные известия о реакции на первое издание его книги, которая, как сообщал 30 июня 1843 г. поверенный в делах французского посольства в Петербурге министру иностранных дел, Гизо, была запрещена цензурой (после недолгого колебания императора, желавшего вначале разрешить продажу, дабы показать, что он придает Кюстиновым «наветам» очень мало значения; см.: Cadot. P. 229; НЛО. С. 111, 132); в новейшей работе указана точная дата, когда книга Кюстина была запрещена Комитетом цензуры иностранной — 1/13 июня 1843 г. (см.: Гримгюсо. С. 74) — Во французском свете летом 1843 г. шли толки о том, что «в Петербурге читают Кюстина с яростью — именно с яростью, ибо у русских книга вызывает ужасный гнев» (слова дочери российского вице-канцлера К. В. Нессельроде, зафиксированные 4/16 июня 1843 г. в дневнике герцогини де Дино — Dim. P. 289). Наиболее резкой критике со стороны русских авторов книга Кюстина подверглась уже после выхода второго издания (см. подробнее во вступительной статье).
9
…дабы представить Францию страной идиотов… — Этот прием неоднократно использовался и в печатных опровержениях на книгу Кюстина, и в приватных репликах на нее; ср., например, у Лабенского утверждение, что недоброжелатель мог бы опорочить Францию, представив ее страной, природа которой исчерпывается бордоскими ландами и меловыми равнинами Шампани, а история — отравлениями и массовыми убийствами соотечественников (Labinski. Р. 33–35); язвительный пассаж на ту же тему занес в дневник секретарь русского посольства в Париже Виктор Балабин: «Будь у меня время и место, я забавы ради показал бы, как можно описать в той же манере, в какой г-н де Кюстин пишет о России, Францию и французов. Возьмем, например, таможни: вы приезжаете на границу, у вашего ребенка с собою азбука, изданная в Брюсселе; ее конфискуют — вот вам и свободный обмен мыслями; у вас в кармане несколько сигар — их конфискуют; чай также, кружева, шелка и проч. — также; вот вам и свобода торговли! Содержание заключенных в наших русских тюрьмах жестоко! — а Мон-Сен-Мишель с заключенными, о здоровье которых ежедневно извещает нас „National“? И что же мы там читаем? Тот повесился, этот зарезался, тот сошел с ума…» (Balabine. P. 158); ср. также в одном из донесений Я. Толстого: «Славную книгу мог бы сейчас написать о Франции кто-нибудь из русских, в отместку за книгу о России маркиза де Кюстина: стоило бы только перечислить все обвинения, которыми осыпают друг друга различные партии; стоило бы только воспроизвести все то, что высказывается в печати о непорядках, безнравственности, корыстолюбии, недобросовестности и даже бесчеловечности французов!» (ЛН. М., 1937 Т. 414).
10
…упрек в неблагодарности… — Имеется в виду неблагодарность по отношению к Николаю I. Во всех свидетельствах, касающихся реакции императора на книгу Кюстина, подчеркивается его глубокая уязвленность поведением Кюстина, ответившего на любезный прием «клеветническим» отчетом о путешествии. Ср., например, один из рассказов, циркулировавших летом 1843 г. среди русских за границей: «Мне сейчас рассказывал приезжий из Петербурга, что Государь был очень рассержен книгою Кюстина и сказал, что в другой раз его так не поймают, то есть, что он с чужестранцами — разговаривать не будет. Он раз пришел в 11 часов вечера — в салон к Императрице, проведя весь вечер в чтении Кюстина и весь в гневе; сказал Императрице, что покажет ей кое-что, что удивит ее. Он не мог спокойно говорить о книге Кюстина» (письмо А.И. Тургенева к Н.И. Тургеневу из Мариенбада от 13/25 июля 1843 г.; НЛО. С. 120). Кюстин был в курсе атих слухов; 24 июня 1843 г. он писал Софи Гэ: «Я узнал от очевидца, что большая часть книги была прочитана в присутствии императора и его семейства, которые постоянно прерывали чтение своими комментариями, возражениями, а порой и подтверждениями: хотел бы я, как говорится, проскользнуть туда маленькой мышкой». Позднейшие мемуаристы объясняли гнев императора получением им — уже после первой встречи с Кюстином — компрометирующей информации о нравственности визитера, после чего отношение к гостю переменилось — «и книга явилась как мщение» (Бутурлин М. Д. Записки//. 1901, № 12. 0.434). Сам Кюстин энергично оспаривал такое объяснение в своих письмах 1843 г.: «Многие утверждали, что убеждения мои переменились от того, что Император и, следственно, двор переменили свое обращение со мной. Я снес молча многие другие несправедливости, не стал бы возражать и на эту, даже говоря с вами, но на сей раз дело идет не только обо мне, но и о благополучии всего человечества, и я обязан отвечать на клевету, опровергнуть которую легко одним словом: я ездил в Россию в 1839 году, а в 1840 году императрица была в Эмсе и на глазах всей находившейся там публики обращалась со мною точно так же, как и в Петербурге, иначе говоря, с такой любезностью, что мне пришлось выдержать суровую битву с самим собой, прежде чем опубликовать сочинение, которое не могло не опечалить ее и не лишить меня ее милостей, хотя, несомненно, в нем невозможно найти ни единой строчки, неблагодарной по отношению к ней лично» (письмо к В.Гюго от 13 декабря 1843 г.). Тем не менее молва о неблагодарности Кюстина прочно утвердилась в критике; ср. восклицание императора, пересказываемое в брошюре Ф. Вигеля: «Итак, г-н де Кюстин, вы являетесь ко мне, представляетесь легитимистом, втираетесь ко мне в доверие, а потом отдаете меня и мой народ на поругание Луи-Филиппу! А ведь и вы делали мне признания… но, будьте покойны, я честнее вас, я не предам их огласке!» (Wiegel. P. XI). С другой стороны, доброжелательные западные читатели разрешали вопрос о корректности Кюстиновой критики Николая I в положительном смысле. Ср., например, размышления герцогини де Дино в дневниковой записи от 26 мая 1843 г.: «Я продвинулась в чтении второго тома книги г-на де Кюстина. Он рассказывает в этом томе о своих беседах с императором и императрицей, которая радовала его речами изысканными и кокетливыми, явно рассчитанными на позднейшую огласку. Читая все это, я задавалась вопросом, должен ли путешественник, обязанный гостеприимным приемом исключительно страху, какой внушает хозяевам его ремесло — ремесло сочинителя, желанию хорошо выглядеть на страницах его будущей книги и опасению, как бы автор не изобразил их чересчур строго и пристрастно, — так вот, должен ли этот путешественник отвечать хозяевам так же благодарно и сдержанно, как отвечал бы он им, принимай они его любезно и гостеприимно без всякой задней мысли, просто потому, что его общество им приятно. Признаюсь, я не знаю точного ответа; хотя вообще деликатность и скромность кажутся мне в любом случае предпочтительнее, я не могу не извинить литератора, полагающего, что заинтересованная любезность стоит куда дешевле благожелательности бескорыстной и непроизвольной. Впрочем, Кюстин передал разговоры императора в тоне вполне лестном; самый свободный и критический ум в той или иной мере подпадает под влияние августейших любезностей. Тем не менее книга эта придется русским совсем не по вкусу; разумеется, после нее путешественников в России будут принимать холоднее и сдержаннее» (Dino. P. 274)
11
…ныне, когда у них не осталось ни судей… ни самих этих правил! — Намек на Июльскую монархию; Кюстин был убежден, что после 1830 г. к власти пришли выскочки и посредственности, которые под прикрытием красивых речей о свободе и счастье человечества подавляют любую духовно независимую личность.
12
…сочинялись в два приема… — 19 октября 1839 г. из Эмса, куда он прибыл прямо из России, Кюстин писал Виктору Гюго: «Я описал свое путешествие, но не стану публиковать написанное. Меня слишком хорошо принимали, чтобы я мог сказать то, что думаю, а иначе я писать не умею». В основу книги легли реальные письма Кюстина; одно из них, к г-же Рекамье из Нижнего Новгорода, от 22 августа / 3 сентября 1839 г., опубликовано в кн.: Cadot. P. 219–222; известно также, что писатель пользовался письмами, написанными «по свежим следам», при работе над двенадцатым и двадцать третьим письмом (см.: Тат. Р. 521). Впрочем, все эти письма он подверг радикальной переработке. 20 декабря 1841 г. Кюстин писал Виктору Гюго из Милана: «Все лето я провел за пополнением четырех толстых томов, посвященных России, — книге, которой я страшусь не из трусости, а из сознания собственной слабости; выходить на бой с колоссом, с которого я намереваюсь сорвать маску, имея так мало боеприпасов, как я, — предприятие слишком дерзкое, особенно если учесть, что я провел в России всего три месяца! Я знаю, что правота на моей стороне, я полагаю также, что разглядел в верном свете хотя бы самое основное, а главное — что я оценил по заслугам плоды восточного деспотизма, подкрепляемого европейской цивилизацией, но я не чувствую в себе довольно сил для того, чтобы изобразить эти очевидные истины публике и вселить мои убеждения в души читателей. Я успокаиваю себя мыслью, что я сделал все, что мог, и что большего с меня спрашивать не приходится». 6 марта 1842 r. Кюстин сообщал Софи Гэ: «Я работаю над моей книгой; это сущая гидра…»; 11 марта 1842 г. подтверждал: «Я по-прежнему работаю, как уже писал вам, и надеюсь выпустить книгу ближайшей осенью». Вчерне рукопись была закончена 6 мая 1842 г.; полностью — 9 сентября 1842 г.; в начале 1843 г. (не раньше 22 января) был подписан контракт с издателем Амио (см.: Тат. Р. 487–495)
13
…слышанными от поляков… — После подавления польского восстания 1830–1831 гг. (см. подробнее примеч. к наст. тому) «анекдоты» о России, слышанные от поляков во Франции, главном центре польской эмиграции, могли быть лишь недоброжелательны. О польском семействе Гуровских, связанном с Кюстином особенно тесными узами, см. примеч. к наст. тому, с. 270. Русские власти приписывали большую роль в «распространении клевет и лжей на Россию» польским выходцам: «они участвуют и в составлении французских пасквилей: это обнаруживается, между прочим, из того, что в статьях и книжках с клеветами на Россию все иноязычные собственные имена искажены и только польские написаны правильно» (Отчет III Отделения за 1845 год — ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. № 10. Л. 91 об. 92).
14
Эпиграф — предшествует книге, начиная со второго издания. В первом издании эпиграфом служила цитата из поучения Владимира Мономаха, почерпнутая Кюстином из «Истории государства Российского» (т. II, гл. VII; о французском издании Карамзина, которое читал Кюстин, см. примеч. к наст. тому, с. 126): «Всего же более чтите гостя, и знаменитого, и простого, и купца, и посла; если же не можете одарить его, то хотя брашном и питием удовольствуйте: ибо гости распускают в чужих землях и добрую, и худую об нас славу». Московский почтмейстер А.Я. Булгаков (1781–1863), которому «случалось два раза обедать» с Кюстином в Москве (см.: НЛО. С. 117), занося в свой дневник «Современные происшествия и воспоминания мои» впечатления от знакомства с первым изданием книги Кюстина, заметил: «Он как будто нарочно из бесстыдства или для собственного своего обвинения вставил в книге своей следующий эпиграф, заимствованный из Российской истории Карамзина… (далее приводятся слова Поучения). Кюстин поступил совершенно вопреки советов великого князя, хотя был принят царскою фамилией) с особенною ласкою и всеми русскими со свойственным им радушием» (НЛО. С. 122). Во втором и последующих изданиях цитата из Мономаха сохранилась в «Кратком отчете о путешествии», входящем в письмо 36-е (см. Т. 2, с. 338)
15
…путешествовать… неисчерпаемый запас… — Это ощущение сформировалось у Кюстина еще в юности; ср. его признания в письмах: «Мне необходимо покидать самого себя; иной раз я ощущаю такую потребность скитаться по свету, словно, изменив место пребывания, смогу изменить свое существо» (маркизу де Лагранжу, 14 августа 1818 г.) или: «Я по-настоящему становлюсь самим собой, лишь обретя независимость путешественника» (ему же, май 1822 г.; цит. по: Espagne. P. VI). С. 11.
16
Я хранил в своем сердце религиозные идеи… — Недоброжелатели склонны были воспринимать предисловие к «России в 1839 году» как плод кюстиновского лицемерия, как попытку «растопить лед и снискать расположение Сен-Жерменского предместья» (рецензия из английского журнала «Quarterly Review», переведенная в изд.: Bibliotheque universelle de Geneve. 1844. Т. 52. P. 105). Сходным образом секретарь русской миссии в Париже Виктор Балабин в дневнике охарактеризовал это предисловие как «смутное, сомнительное, где он <Кюстин> толкует о своей религии, которую, по всей вероятности, знает очень неглубоко, и о нашей, которую не знает вовсе», как «уступку нынешнему направлению <…> пылкой религиозности, царящей ныне во французском обществе», где «нет туриста, нет путешественника, который не считал бы себя обязанным глубоко исследовать религиозный вопрос — и один Бог знает, как они его исследуют» (Balabine. P. 125; запись от 19 мая 1843 г.). В самом деле, сочувственное внимание к судьбам польских католиков, подвергавшихся гонениям в Российской империи, отличало определенную часть французских легитимистов и омрачало их видение России, вообще весьма восторженное (отсюда — обилие материалов о преследованиях католиков в Российской империи). В рассуждениях Кюстина на религиозные темы не следует, однако, видеть простую уступку политической конъюнктуре. Кюстин напряженно размышлял о религии с юности. «Я ощущаю самую живую, самую настоятельную потребность сделаться учеником! и до тех пор, пока я не отыщу своего Мессию, мне не узнать покоя! Все мое несчастье, возможно, происходит оттого, что я ищу наставника на земле; мне следовало родиться восемнадцатью столетиями раньше, чтобы стать счастливым вполне… вера способна заменить счастье!», — писал он матери 31 мая 1815 г., а она, в свою очередь, сообщала в ту же пору своей матери, что Астольф всерьез собирается удалиться в монастырь (Maugras. P. 492) — Рахили Варнгаген, которой он поверял самые сокровенные свои помыслы, Кюстин писал б января 1817 г.: «Наши побуждения не зависят от нас, но мы вправе выбирать между побуждениями противоположными, главный же источник нашего могущества <…> — умение понять, какое из этих побуждений более согласно с видами Господа. Следственно, единственное наше прибежище — молитва; в ней обретаем мы тягу к тому утраченному наследству, какое нам столь напыщенно расписывают под именем свободы. Истинная наша свобода — в сознании нашего рабства…» (Lettres a Varnhagen. P. 117) — Показательно, что заглавные герои первого и последнего романов Кюстина, Алоис и Ромуальд, наделенные некоторыми автобиографическими чертами, избирают религиозное поприще. Судьбой католической церкви в царской империи писатель продолжал интересоваться и после выхода «России в 1839 году»; в 3-е издание он включил обширные отрывки из книги немецкого богослова А. Тейнера «Злоключения католической церкви обоих обрядов в Польше и в России» (1841; фр. пер. 1843; см. во втором томе Дополнение 2).
17
Иные утверждают, что цель эта… будет достигнута и без помощи нашей религии… — В начале 1840-x г. во Франции в очередной раз обострились споры о месте католической религии в современном обществе; весной 1843 г. профессора Коллеж де Франс Э. Кине и Ж. Мишле начали читать курсы лекций, в которых утверждали естественное происхождение всех религий и выступали против иезуитов, за полную секуляризацию народного образования. Эти взгляды продолжали давнюю французскую традицию восприятия католической церкви и ее самого могущественного «отряда» иезуитов — как источника всех общественных зол (о сугубо мифологическом характере этих представлений см.: Leroy M. Le mythe jesuite. DC Beranger a Michelet. P., 1992.). С другой стороны, чем сильнее становились в обществе социалистические тенденции, тем активнее начинали некоторые мыслители искать спасения от разрушительного социализма в религии: «…еще вчера иезуитов гнали и отлучали от народного образования, и вдруг все изменилось; пугало, каким еще недавно были иезуиты, ультрамонтанское духовенство, католическая нетерпимость (согласно выражениям тех лет), пало перед лицом опасности более очевидной. Социализм, отвратительный социализм стоял у наших дверей! Содрогаясь от страха, французское общество призвало себе на помощь в борьбе с этим ужасным врагом всех, кого только можно: епископов, кюре, монахов, даже иезуитов. Ложные страхи, химерические опасения, тактические сомнения все исчезло в виду настоящей угрозы…» (Nettement A. Souvenirs de la Restauration. P., 1858. P. 253; ср. сходную постановку вопроса: католичество или социализм применительно к русскому обществу в брошюре русского иезуита И.С. Гагарина «Католические тенденции в русском обществе», 1860). Добавим, что скептицизм Кюстина относительно «католической угрозы» разделяли и его русские оппоненты; так, не принявший его книгу П.А. Вяземский вскоре после ее появления в свет (30 октября 1843 г.) высказал в частном письме схожие взгляды: «Ну, можно ли в наше время бояться иезуитов и духовного деспотизма? Между тем страшно видеть, как устроены наши так называемые христианские общества. Религия должна бы быть в них основанием и краеугольным камнем, а вместо того она везде камень преткновения. Везде опасаются ее и стараются устранить от общей народной жизни. Ее точно будто терпят как необходимое, но пагубное зло, от которого нельзя достаточно оконопатить, застраховать, оградить общество так, чтобы и оно до нее не касалось и не было подвержено влиянию ее. <…> Духовная власть — люди, конечно, следовательно, грешны и слабы и падки на злоупотребления: исправьте их, но не трогайте духовной власти и не унижайте ее вашими подозрениями и опасениями. Кому же образовать христиан, как не духовным пастырям, а между тем только того и боятся, чтоб духовенство как-нибудь не вмешалось в воспитание юношества. Что за путаница, что за превратность в понятиях! Воля ваша, все это нелепо» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 475 163; письмо к А.И. Тургеневу).
18
…даровать покой одной-единственной душе… из двух авторитетов… одобрение восемнадцати столетий. — Наиболее подробная апология принципа авторитета и традиции, противопоставленного «тупому упрямству или безрассудной гордыне» одиночек, была дана в нашумевшей книге Ф.-Р. де Ламенне (1782–1854) «Опыт о равнодушии в области религии» (1817–1823): «Разве разумнее и надежнее говорить: „Я верю в себя“, нежели: „Я верю в род человеческий“? Кому из этих двух авторитетов отдать предпочтение: вашему разуму или разуму человечества?» (Lamennais F.-R. de. Oeuvres completes. P., 1844. Т. 1. Р. б-8) Именно к подобным «традиционалистским» представлениям восходит комментируемый пассаж Кюстина.
19
Стань все церкви мира национальными, иначе говоря, протестантскими или православными… — Идеи, восходящие к книге Жозефа де Местра (1753–1821) «О папе» (1819, ч. IV, гл. б): «Отделившиеся церкви ясно ощущают, что им недостает единства, что над ними нет власти, что у них нет места, где они могли бы собраться и держать совет. Одно соображение первым приходит на ум и поражает его: „Столкнись такая церковь с некими трудностями, подвергнись одна из се догм нападкам, какой суд разрешит этот вопрос, если над церквями нет ни человека, их возглавляющего, ни Вселенского собора?“» На связь комментируемых рассуждений Кюстина с идеями де Местра, «которые, даже будучи неправильными, всегда новы и пикантны», указал К. Лабенский (Labinski. P. 49–54), упрекнувший Кюстина в том, что, проповедуя терпимость, он не выказывает таковой в разговоре о некатолических религиях. Мысль о том, что национальная церковь — не более, чем государственное учреждение, подчиненное главе государства, Кюстин мог почерпнуть и у последователя де Местра графа д'Оррера, автора книги «Преследования и муки католической церкви в России» (см.: Persecutions et souffrances de l'Eglise catholique en Russie. P., 1842. P. 16–17), которую читал в конце работы над «Россией в 1839 году» и на которую ссылается ниже (см. наст. том, с. 282; т. 2, с. 314). О национальных церквях см. также т. 2, с. 95–97.
20
…протестантизм, чья сущность отрицание… — Вслед за Ж. де Местром, писавшим в книге «О папе» (ч. IV, гл. 1), что «всякая церковь, не являющаяся католической, есть церковь протестантская <…> ибо что такое протестант? Это человек, который протестует, а уж против какой именно догмы он протестует, — неважно», Кюстин неизменно подчеркивал «относительный» характер протестантизма, лишенного, по его убеждению, абсолютных ценностей: «Эта религия сохраняет силу лишь в эпохи просвещенные; против варварства она бессильна. <…> Мощь протестантизма мощь отклика; религия эта до самого конца будет нести на себе отпечаток своего происхождения и падет сама собою в тот момент, когда в мире не останется вещей, нуждающихся в реформировании, и от церкви потребуется способность к созиданию» (Memoires et voyages. Р. 342)
21
…более или менее утонченное язычество, имеющее храмом природу… — Намек на пантеистические тенденции, опасность которых адепты традиционного католицизма постоянно подчеркивали в 1830-40 гг. (так, в пантеизме обвиняли Ламартина за выпущенную в 1836 г. и вскоре запрещенную церковью поэму «Жослен», а в 1839 г. аббат Маре выпустил целую книгу разоблачительного характера под названием «Опыты о пантеизме в современном обществе»).
22
…король, известный своей терпимостью, и министр-протестант… — Имеется в виду Луи-Филипп (1773-I850, король французов в 1830–1848 гг.), который уважал веру большинства своих подданных, но, в отличие от своего предшественника Карла X, отнюдь не был ревностным католиком, и Франсуа Гизо (1787–1874) c 1840 г. министр иностранных дел и фактический глава правительства, родившийся в протестантской семье и исповедовавший веру отцов, но чуждый фанатизма; в бытность свою министром народного образования (1832–1837) он даже желал восстановить в Сорбонне «богословский факультет, выписав сюда многих, уехавших профессорствовать из Франции в Бельгию: но министру-протестанту не удалось оказать этой услуги галликанской церкви — и четыре профессора богословия так же мало исполняют свои обязанности, как и другие профессоры неточных наук» (Тургенев А.И. Хроника русского. М.; Л., 1964-С. 144).
23
Неокатолицизм — одна из ветвей христианского социализма, основателем которой был Филипп Жозеф Бенжамен Бюшс (1796–1865), проповедовавший это учение на страницах своего журнала «Европеец» (1831–1832; 1835–1838) и в книге «Опыт полного изложения философии с точки зрения католицизма и прогресса» (1838–1840, т. 1–3). Неокатолики пытались примирить католицизм с революцией, идею божественного откровения с идеей общественного прогресса, в котором видели реализацию небесного предопределения. Кюстин резко полемизировал с «неохристианством», или неокатолицизмом, еще в книге «Испания при Фердинанде VII» (письмо 44-e), гдe назвал эти теории «республиканской мифологией», «выдумками, сочиненными на потребу демагогам всех стран», попыткой обновить с помощью веры «политические доктрины XVIII века», приведшие Францию к революции (Espagne. Р. 443–445)
24
Впрочем, католическая Церковь способна меняться… — В 1820-1830-е годы вопрос о способности католической церкви к изменению и о допустимых границах церковных реформ волновал многих мыслителей. Наиболее трезвые умы из числа сторонников церкви сознавали, что «всякий, кто ныне вознамерится отстаивать католическую религию в ее прежних формах, отрывая ее от изменившегося общества, ввергнет народы во власть протестантизма» (Chateaubriand F.-R. de. Oeuvres completes. P., 1827. Т. 27. P. 249). С другой стороны, попытки обновления ортодоксального католицизма по большей части приводили к созданию сект, основатели которых были движимы прежде всего непомерным честолюбием и уходили от христианства очень далеко.
25
…прежде страх или корысть внушали путешественникам лишь преувеличенные похвалы; ненависть вдохновляла на клевету… — Преувеличенные похвалы русское правительство слышало в основном из уст литераторов, чьи услуги оно в той или иной форме (щедрым приемом в России или дорогими подарками по написании книги) оплачивало; «клевета» звучала из уст людей, которые посещали Россию независимо от правительства или были им обижены; Кюстин, однако, сломал эту традицию: будучи принят и обласкан при дворе, ответил «наветами». Имена предшественников Кюстина, у которых он сознательно заимствовал факты и наблюдения или с которыми сближался в описаниях и выводах невольно, будут названы ниже в соответствующих примечаниях.
26
…немалая награда за немалые неудобства. — Примечание Кюстина к пятому изданию 1854 г.: «В ту пору автор был склонен примириться с формой правления, какую избрала для себя Франция; но сердце его никогда не было к ней привязано».
27
Не осмеливаясь отправлять письма по почте… — Признание это неоднократно вызывало язвительные возражения; ср., например, у П.А. Вяземского: «Автор хочет уверить нас, будто сочинял в России письма двух родов: первые, хвалебные, предназначенные для отправления по почте, и вторые, правдивые и разоблачительные, предназначенные для хранения в портфеле автора, боящегося полиции. Странный способ беречься от полицейских соглядатаев — хранить компрометирующие бумаги при себе, особенно если останавливаешься на постоялом дворе и постоянно замечаешь подле себя шпионов <…> Не проще ли было бы в этом случае снести письма во французское посольство, откуда они отправились бы во Францию с курьером? каким бы варварским, инквизиторским и деспотическим ни было наше правительство (на взгляд г-на де Кюстина), я до сих пор не слыхал, чтобы посланники чужих держав жаловались на раскрытие их дипломатических секретов» (Cadot. P. 269; подл. по-фр.). Меж тем опасения Кюстина были отнюдь не беспочвенны: известно, что распечатыванию и прочтению подвергалась в России даже переписка французского посла Баранта с женой (см.: Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова. М., 1986. С. 34)! Анекдоты «об обыкновении здешнего почтамта вскрывать корреспонденцию» были распространены в дипломатической среде; ср., например, дневниковую запись от 4 апреля 1839 г., принадлежащую американскому посланнику в Петербурге Далласу: «Не так давно один из иностранных министров (т. е. посланников) жаловался самому графу N. (почт-директору), что получил с почты пачку денег перемятыми, испачканными и явно распечатанными. — „Это, надо полагать, вышло по недосмотру, — равнодушно отвечал граф. — Хорошо, я распоряжусь, чтобы впредь были аккуратнее“. В другой раз шведский посол, встретившись с директором почт, посоветовал ему, чтобы его подчиненные поосторожнее читали корреспонденцию из Швеции. Директор горячо утверждал, что ничего подобного не могло случиться. — „Я и сам не считал это возможным, — отвечал швед, — но они по рассеянности посылают мне стокгольмские депеши за печатью голландского министра иностранных дел“» (Вестник иностр. лит. 1896. № 7. С. 13). Рассуждения Кюстина о ненадежности российской почты врезались в память первых читателей; характерен контекст, в котором упоминает Кюстина В. А. Жуковский (в письме к А. Я. Булгакову от 10/22 октября 1843 г. из Дюссельдорфа): «Вот уже Бог знает сколько времени, как я не получаю писем ни от кого из своих. Я знаю, что ко мне должны быть письма, а писем нет. Это проказа почты. Жалуюсь тебе, как почт-директору. У нас, это известно, письма распечатываются и много незваных читателей заглядывает в страницы, писанные не для них, отчего, конечно, великой пользы нет никому — но пусть читают, да вот что худо, прочитанные письма бросаются и не доходят к тем, кому они адресованы, а часто бывает в них большая нужда. A propos (кстати. — фр), читал ли ты собаку-Кюстина?» (Жуковский В. А. Сочинения. Изд. 7-е. СПб., 1879. Т. 6. С. 556)
28
…целых три года я не отваживался обнародовать ее… — Причина заключалась не только в опасениях и сомнениях нравственного порядка, но и в манере Кюстина работать над текстом, которую сам он в письме к Варнгагену от 7 августа 1843 г. охарактеризовал следующим образом: «…я записываю живо, страстно, безоглядно свои первые впечатления и почитаю свой труд законченным. После я возвращаюсь к нему, убеждаюсь, что передо мною — лишь слабый набросок, что мысли мои внятны лишь мне одному, что надобно разъяснить их читателям, расположить их в определенном порядке, а главное — добиться чистоты формы и правильности рисунка…» (Lettres it Varnhagen. P. 466).
29
Эмс, 5 июня, 1841 года. — По старому стилю — 24 мая. Кюстин, естественно, выставляет все даты по новому стилю; в наших комментариях, там, где речь идет о событиях, происходящих в России, указаны две даты: по старому и новому стилю. Наследник российского престола — Александр Николаевич (1818–1881, с 1855 г. император Александр II. С 25 мая 1838 г. он путешествовал по Европе и, возвращаясь из Англии, 23 мая / 4 июня 1839 г. приехал на немецкий курорт Эмс, где провел два дня. В свите наследника, помимо воспитателя В. А. Жуковского, находились попечитель наследника, член Государственного совета, доверенное лицо Николая I и будущий (с 1844 г.) шеф жандармов граф Алексей Федорович Орлов (1786–1861); начальник двора цесаревича Александр Александрович Кавелин (1793–1850); «для переписки с различными посольствами и вообще для переписки <…> Иван Матвеевич Толстой; для осмотра всего относящегося к военной части — флигель-адъютант <…> барон Вильгельм Карлович Ливен, для наблюдения за нравственностью молодых адъютантов цесаревича — Владимир Иванович Назимов», а в качестве бухгалтера — Василий Андреевич Долгоруков (Долгоруков П.В. Петербургские очерки. М., 1992. С. 175). Кроме них, в свиту входили адъютант, а впоследствии «самый могущественный из временщиков» граф Александр Владимирович Адлерберг (1818–1888) — «человек ума весьма недалекого, но чрезвычайно сметливый, хитрый и ловкий <…> страстный картежник, неисправимый мот, беспрестанно нуждающийся в деньгах» (Там же. С. 148), и лейб-медик цесаревича Иван Васильевич Енохин (1791–1863), который, если верить слухам, сообщаемым П. В. Долгоруковым, и убедил императора, что его сыну для здоровья необходимо провести зиму за границей.
30
…не похож на калмыка. — Убежденность, что русский непременно должен походить на калмыка (или казака), была свойственна не одному Кюстину; задолго до появления его книги и даже до его приезда в Россию «Северная пчела» в очерке В. В. В. (В.М. Строева) «Как в Париже знают Россию» (18 мая 1839) высмеивала французские стереотипы мышления; «Француз думает, что мы все — казаки. Русский и казак — в Париже совершенно одно и то же. Парижанин думает, что статский казак назывался русским, а военный русский — казаком; впрочем, в существе (au fond) это совершенно то же самое. Вследствие такого общепринятого мнения парижанин удивляется, не находя в русском калмыкской физиономии, то есть сплюснутого носа, выдавшихся скул, и говорит: „Monsieur n'a pas l'air russe, du tout, du tout“ (У вас, сударь, вид совсем, совсем не русский.)»
31
…контраст между смеющимися молодыми глазами и постоянно поджатыми губами выдает недостаток искренности… — Двойственность эта была заметна не всем сторонним наблюдателям; например, Стендаль в письме к Р. Коломбу от 4 января 1840 г. из Рима аттестовал цесаревича как существо «непосредственное, любезное и живое в обращении»: «Русский великий князь — настоящий военный, безыскусственный, веселый и добрый. Он ничем не напоминает варвара, но не может усидеть на месте и, по-видимому, очень дружен с сопровождающими его офицерами» (Стендаль. Собр. соч.: В 15 т. М., 1959. Т. 15. С. З10). С другой стороны, в портрете наследника, нарисованном несколько позже хорошо знавшей его фрейлиной А. Ф. Тютчевой, подчеркнуто то же «двоякое выражение лица», отражающее «до известной степени двойственность его натуры и судьбы», которое уловил Кюстин: «Он был красивый мужчина, но страдал некоторой полнотой, которую впоследствии потерял. Черты лица его были правильны, но вялы и недостаточно четки; глаза большие, голубые, но взгляд мало одухотворенный — словом, лицо было мало выразительно и в нем было даже что-то неприятное в тех случаях, когда он при публике считал себя обязанным принимать торжественный и величественный вид. Это выражение он перенял от отца, у которого оно было природное, но на его лице оно производило впечатление неудачной маски» (Тютчева. С. 23).
32
…цесаревич больше чем наполовину немец… — Мать наследника, Александра Федоровна, была до замужества прусской принцессой, а его бабушка, Мария Федоровна, — принцессой вюртембергской.
33
…потрясли Париж в 1814 году отец цесаревича и его дядя, великий князь Михаил… — В начале 1814 г. Александр I разрешил своим младшим братьям, великим князьям Николаю и Михаилу Павловичам, принять участие в боевых действиях против наполеоновской армии на территории Франции, и 5 / 17 февраля они выехали из Петербурга, но опоздали к решающему моменту кампании и до покорения французской столицы оставались в Базеле, а затем, в апреле 1814 г., присоединились к Александру в Париже.
34
Через два дня я уезжаю в Берлин… — На самом деле Кюстин пробыл в Эмсе дольше, по крайней мере до 1 / 13, а возможно, и до 6 / 18 июня 1843 г. (см.: Tarn. P. 772, note 104).
35
Берлин, 23 июня… — По старому стилю 11 июня.
36
Хорон Александр Этьенн (1772–1834) — французский теоретик музыки, создатель нового (симультанного) метода всеобщего обучения хоровому пению, основавший в начале эпохи Реставрации Королевскую школу пения и декламации; Вильхем (наст. имя и фам. Гийом Луи Бокийон; 1781–1842) — французский композитор, основатель народных певческих школ, убежденный сторонник введения в начальных школах уроков пения.
37
…город Берлин подчиняется наименее философической из стран, России… — Политический союз России и Пруссии подкреплялся родственной связью династий: российская императрица Александра Федоровна была дочерью прусского короля Фридриха Вильгельма III.
38
Прошло три года, и с переменой монарха… — В 1840 г. скончался прусский король Фридрих Вильгельм III (1774–1840), правивший страной с 1797 г. и на престол вступил его сын Фридрих Вильгельм IV (1795–1861), при дворе которого возобладали набожность и пиетизм.
39
…Пруссия — древняя колыбель той непоследовательной философии, которую здесь из вежливости именуют религией. — Примечание Кюстина к изданию 1854 г.: «Невозможно не заметить, что нынешние события полностью подтверждают эти выводы» (по-видимому, раздражение Кюстина объясняется той позицией, которую занимала Пруссия накануне Крымской войны, т. е. ее нежеланием принять сторону Франции, Англии и Австрии против России).
40
Сегодня Францию представляет в Пруссии посол… — 1 июля 1839 г. Кюстин писал из Берлина своей приятельнице г-же де Курбон: «Я познакомился с человеком, которого нахожу очаровательным: это наш посланник г-н де Брессон; он любезен донельзя…» (Revue de France. 1934. Aout. P. 734). Граф Шарль де Брессон (1788–1847) был французским послом в Берлине с 1836 г., в 1841 г. получил назначение в Мадрид, в 1847 г. — в Неаполь. Заинтересованные наблюдатели оценивали роль и самоощущение Брессона в Берлине не совсем так, как Кюстин; П. К. Мейендорф, русский посол в Пруссии, в своих донесениях от 7/19 сентября и 3/15 октября 1839 г. писал: «Влияние, каким Брессон якобы пользуется в Берлине, сильно преувеличивают <…> оно основывается исключительно на любви короля к миру и его восхищении политическим гением Луи-Филиппа; впрочем, французская партия весьма слаба. <…> Брессону здесь не по душе, и он этого не скрывает; он вот-вот отправится в отпуск в Париж» (Meyendorff P. von. Politischer und privater Briefweschel. Berlin und Leipzig, 1923. Bd. i. S. 76, 79).
41
…позвольте познакомить вас с некоторыми сведениями… — Второе и третье письмо, посвященные детству Кюстина и истории его семьи, казались многим критикам Кюстина лишними; например, публицист Ж. Шод-Эг утверждал: «Чтобы как следует уловить мысль, высказанную маркизом де Кюстином в его книге о России, необходимо, на наш взгляд, выбросить из этой книги по меньшей мере треть составляющих ее писем, ибо именно столько страниц посвящает автор рассказу о своей семье, о своих общественных связях, мыслях и пристрастиях. <…> Исповедальная литература, без сомнения, имеет свою прелесть, но лишь в том случае, когда она приобщает нас к жизни человека великого. А можно ли назвать великим автора романов „Алоис“, „Свет как он есть“ и „Этель“? Пожалуй, нет. <…> Право, чувствуешь себя обманутым, когда, открыв книгу под названием „Россия в 1839 году“, обнаруживаешь себя, совершенно того не желая, в обществе предков автора» (Chaudes-Aigues. P. 328–329) — Справедливее представляется мнение современного исследователя: присутствие этих двух писем в книге о России оправдано, ибо они, во-первых, показывают резко отрицательное отношение Кюстина к революции и тем самым сообщают больший вес его признанию касательно симпатии к представительному правлению, проснувшейся в его душе по возвращении из России, а во-вторых, оттеняют страшными картинами якобинского деспотизма еще более страшные картины деспотизма царского, российского (Тат. Р. 518–519)
42
Я опишу вам без утайки все чувства… — «Вы», к которому обращается Кюстин, это в первую очередь реальный спутник его жизни — англичанин Эдвард Сен-Барб, или, как его стали называть во Франции, Эдуард де Сент-Барб (1786–1858). Познакомившись с будущим писателем летом 1822 г. в Англии, он приехал с ним во Францию и оставался рядом с ним в течение трех десятков лет, до самой смерти Кюстина, которого пережил только на год. Это обращение к Сент-Барбу, в начале книги носящее условно-литературный характер, обретает глубоко личные черты в письме четвертом.
43
…принадлежат перу моего отца. — См. в цитированном выше письме Кюстина к г-же де Курбон от 4 июля 1839 года «он (Брессон) сообщил мне любопытнейшие и интереснейшие сведения о моей семье и дал мне прочесть с начала до конца всю дипломатическую переписку моего отца. <…> Депеши эти — шедевр и истинное чудо, если вспомнить, что писаны они двадцатидвухлетним юношей. Друзья его, все вплоть до Калкреута, племянника Фридрихова товарища по оружию, умоляли его остаться в Берлине, вместо того чтобы бросаться в бездну: он отвечал на все уговоры, что долг призывает его вернуться на родину, и уехал, чтобы попасть… вы знаете, куда» (Revue de France. 1934. Aout. P. 735). Отец писателя, Арман Луи Филипп Франсуа де Кюстин (1768–1794) 31 июля 1787 г. обвенчался с Дельфиной де Сабран (1774–1826), которая 18 марта 1790 г. родила сына Астольфа, окрещенного так в честь героя поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд», дабы он, по словам его бабушки г-жи де Сабран, «в один прекрасный день, по примеру своего патрона, отправился на Луну за толикой здравого смысла» (Afaugras. P. 65).
44
Людовик XVI (1754–1793) 14 сентября 1791 г — присягнул на верность Конституции и получил титул «короля французов», то есть конституционного монарха.
45
…послан… ко двору герцога Брауншвейгского… — 12 января 1792 г., когда Арман де Кюстин прибыл к Карлу Вильгельму Фердинанду, герцогу Брауншвейгскому (1735–1806), генералу, служившему прусскому королю, тот уже дал согласие встать во главе коалиционной армии, которой предстояло выступить против революционной Франции. Впоследствии, когда Арман де Кюстин предстал перед революционным трибуналом, его письмо министру иностранных дел де Лессару, информирующее о ходе переговоров с герцогом Брауншвейгским, было поставлено ему в вину: на основании вырванных из текста фраз обвинители приписывали Кюстину намерение предложить герцогу Брауншвейгскому французский трон (Bardoux. P. 79)
46
Вильгельм II — Фридрих Вильгельм II (1744–1797) — прусский король с 1786 г. Сегюр Луи Филипп, граф де (1753–1832), французский дипломат, посол в России в 1785–1789, был вначале отправлен в качестве посланника к папскому двору, но после того, как папа римский отказался принять его верительные грамоты, был послан в Пруссию; в Берлин Сегюр прибыл 11 января 1792 г. накануне приезда Армана де Кюстина в Брауншвейг (см.: Maueras. Р. 122–123); неуспех его миссии объяснялся, по-видимому, в первую очередь нелестными отзывами французских эмигрантов о якобинском окружении посла, которые весьма не понравились королю Фридриху Вильгельму II.
47
…над любовными похождениями будущего монарха… — Еще будучи наследным принцем, Фридрих Вильгельм пленился шестнадцатилетней дочерью музыканта королевской капеллы Вильгельминой Энке (1754–1820), с которой прижил троих детей; для отвода глаз он выдал свою фаворитку замуж за одного из своих слуг, а став королем, даровал ей титул графини Лихтенау.
48
Пильницкая декларация, подписанная 26 августа 1791 г. в саксонском замке Пильниц, явилась основой австро-прусского союзного договора (февраль 1792) положившего начало коалиции европейских монархов, объединившихся для противодействия французской революции.
49
…посла тогдашнего французского правительства… — Кюстин прибыл в Берлин 20 февраля 1792 г., а ровно через неделю, на следующий день после отъезда Сегюра в Париж, возглавил французскую миссию.
50
…свою тещу, госпожу де Сабран… — Франсуаза Элеонора Дежан де Манвиль (1749–1827), в 20 лет вышедшая замуж за графа де Сабрана и родившая ему двоих детей — Дельфину, мать Астольфа, и Эльзеара. 26 В 1775 г — де Сабран овдовела, а с 1777 г — находилась в связи с литератором и дипломатом шевалье Станисласом Жаном де Буфлером; (1738–1815), за которого в июне 1797 г — вышла замуж. Уверенная, что Революция ввергнет Францию в пропасть, г-жа де Сабран с сыном Эльзеаром в мае 1791 г — покинула родину и возвратилась из эмиграции лишь девять лет спустя. Генрих Прусский (1726–1802) — брат прусского короля Фридриха II, талантливый полководец.
51
События 10 августа 1792 г. — взятие парижанами дворца Тюильри, где находился Людовик XVI с семейством; после этого Законодательное собрание проголосовало за отрешение короля от власти и созыв Конвента, поэтому 10 августа считается днем падения королевской власти в Франции.
52
Регул Марк Атилий (ум. ок. 250 до н. э.) — римский полководец, во время Пунической войны попавший в плен к карфагенянам и отпущенный в Рим под честное слово, дабы добиться обмена пленными; Регул убедил римлян отвергнуть предложения противника, вернулся в Карфаген и был казнен.
53
…отправился добровольцем в расположение Рейнской армии… — Кюстин прибыл в Париж 22 июня 1792 г., а 10 ноября того же года, отослав жену с сыном в имение друзей близ Орлеана, направился, заручившись приказом военного министра Паша, в распоряжение своего отца, графа Адама Филиппа де Кюстина (1740–1793), возглавляемая генералом Кюстином Рейнская армия в конце сентября — октябре 1792 г. захватила такие крупные немецкие города, как Вормс, Майнц и Франкфурт. Если в 1792 г. ход войны складывался благоприятно для французов, то в начале 1793 г — положение изменилось: в апреле главнокомандующий французской армией генерал Дюмурье перешел на сторону австрийцев, прусские войска отбили у французов Франкфурт и осадили Майнц; тем не менее 13 мая генерал Кюстин был назначен командующим Северной армией вместо убитого генерала Данпьера, однако действия павшей духом армии были неудачны, город Конде сдался осаждавшему его противнику (12 июля), а виновным в неудачах Конвент счел генерала Кюстина. Вдобавок в распоряжении военного министерства оказались документы, свидетельствовавшие о контактах генерала с австро-прусским военным командованием, а убийство Шарлоттой Корде Марата (13 июля) послужило поводом к ужесточению Террора, и 22 июля 1793 г — генерал был арестован, а 28 августа казнен. Хотя предъявленные генералу Кюстину обвинения в прямом предательстве, по-видимому, не имели под собой оснований, позиция его с точки зрения ортодоксальных революционеров была более чем двусмысленна: после казни Людовика XVI (21 января 1793 г.) он в присутствии комиссаров Конвента выражал недовольство новой властью, а также, пытаясь вывести прусского короля из антифранцузской коалиции, входил в сношения с противником, и проч.
54
Ноай Эмманюэль Мари-Луи, маркиз де (1743–1822) — французский посол в Вене в 1783–1792 гг.; при Терроре был арестован, но уцелел.
55
Мерлен из Тионвиля — Антуан Кристоф Мерлен (1762–1833) член Конвента; комиссары Конвента исполняли при генералах революционной армии роль соглядатаев и «проводников официальной линии».
56
… нормандской глуши… — Дельфина де Кюстин с трехлетним Астольфом жила в это время у своей золовки г-жи де Дре-Брезе в нормандском городе Андели, в 30 лье от Гавра; отправляясь на помощь свекру, она оставила сына на попечении няни Нанетты Мальриа, о которой Кюстин подробно рассказывает ниже.
57
«Сентябристы» — представители «революционного народа», которые 2–6 сентября 1792 г. без суда и следствия убивали заключенных в парижских тюрьмах аристократов. Вязальщицы Робеспьера — ревностные сторонницы якобинской диктатуры, присутствовавшие на заседаниях Конвента с рукоделием в руках. Фукье-Тенвиль Антуан Кантен (1746-I795) — общественный обвинитель Революционного трибунала, отличавшийся особой жестокостью; после падения диктатуры Робеспьера был предан суду и казнен.
58
Ламбаль Мари Тереза Луиза де Савуа-Кариньян, принцесса де (1749–1792) придворная дама и ближайшая подруга королевы Марии Антуанетты; была растерзана во время сентябрьской резни 1792 г.
59
«Это Кюстинша, сноха изменника!» — Ненависть к генералу Кюстину была так велика, что некий предприимчивый парижанин начал возводить на площади Республики, где совершались казни, деревянный амфитеатр, дабы затем пускать туда зрителей за деньги, и лишь запрет городских властей помешал ему довести дело до конца (см.: Maugras. P. 169). Тот же автор цитирует тогдашнюю газету: «Позавчера эта женщина <Дельфина де Кюстин> вышла в сопровождении толпы из Дворца правосудия; губы ее тронула улыбка; окружающим же показалось, что она смеется. В толпе сыскались женщины, которые, нимало не растрогавшись положением несчастной, принялись кричать: „Недолго ей еще веселиться. Это дочь Кюстина; ее отец нам за все ответит“» (Maugras. P. 170).
60
…привело в негодование парижских Брутов. — Аббат Лотренже, сопровождавший Кюстина к месту казни и протянувший ему распятие, был спустя час после казни генерала арестован по доносу за сочувствие к предателю и вышел из тюрьмы лишь после падения якобинской диктатуры (Maugras. P. 177)
61
— поместить на мое место королеву… — Марию Антуанетту (1755–1793) перевели из тюрьмы Тампль в Консьержери 2 августа 1793 года с тем чтобы воспрепятствовать ее побегу; казнили королеву 16 октября 1793 г.
62
Мария Терезия (1717–1780) — австрийская императрица с 1740 г., жена императора Франца I (1708–1765), мать Марии Антуанетты.
63
— вскоре после казни отца он очутился в тюрьме. — Арман де Кюстин был заключен в тюрьму Лафорс еще до казни отца (см.: Bardoux. P. 68). Самоотверженность его жены в эту пору была тем более велика, что в последние годы страстной любви к мужу она не питала. «Мы с Арманом уже давно охладели друг к другу и жили каждый сам по себе, — писала она в этот период брату Эльзеару, — недавние несчастья сблизили нас; мое поведение, моя безраздельная преданность ему и всему, что ему дорого, растрогали его, и он влюбился в меня еще более страстно, чем прежде. Что до меня, я испытываю к нему дружеские чувства — и ничего более. Его это приводит в отчаяние, но мне на роду написано не знать счастья» (Maugras. P. 196).
64
— декрет, осуждающий на смерть всякого… — Возможно, Кюстин имеет в виду так называемый «закон о подозреваемых», принятый, однако, за три с лишним месяца до казни его отца, 17 сентября 1793 г.; он давал властям право арестовывать «всех тех, кто выкажет себя „сторонником тирании и федерализма“, всех тех, кто „не выполняет своих гражданских обязанностей“, всех тех, наконец, кто постоянно не выказывал своей привязанности революции!» (Кропоткин П.А. Великая французская революция, 1789–1793 г. 1979. С. 397–398).
65
— дочери господина Бертье… — По-видимому, имеется в виду трагический эпизод, происшедший в самом начале Революции: 22 июля 1789 г. парижская толпа растерзала бывшего интенданта армии и флота Жозефа Франсуа Фуллона (1714–1789) и его зятя, интенданта Парижа Луи Бениня Франсуа Бертье де Совиньи (1737–1789); повесив Фуллона на фонаре, а затем обезглавив и водрузив его голову на пику, парижане показали Бертье окровавленную голову тестя (по другой версии, заставили ее поцеловать), а потом убили и его.
66
…написал жене письмо… письмо моего деда… — Текст письма Кюстина-отца, казненного 4 января 1794 года (Maugras. P. 215–216). Письмо Кюстина-деда см. в наст. томе. Письмо третье
67
Берлин, 28 июня… — По старому стилю — 16 июня.
68
Жирондисты, тогдашние доктринеры… — Кюстин уподобляет жирондистов («умеренных» политических деятелей времен Революции) доктринерам — партии, которая находилась у власти при Июльской монархии, занимая среднюю позицию и чуждаясь крайностей как легитимистских, так и республиканских. Жирондисты были объявлены Конвентом вне закона 2 июня 1793 г.; двадцать два депутата Конвента, являвшиеся вождями партии, были казнены 31 октября 1793 г.
69
Армия Конде — армия французских эмигрантов, сформированная в 1793 г. в немецком городе Кобленце для совместных с австро-прусской коалицией боевых действий против революционной Франции; создателем и командующим ее был Луи Жозеф де Бурбон, принц де Конде (1736–1818).
70
Ты арестована… — Дельфина де Кюстин была арестована 2 вантоза II года Революции, иначе говоря, 20 февраля 1794 г.
71
Порталь Антуан, барон (1742–1832) — знаменитый французский врач, лейб-медик графа Прованского (будущего короля Людовика XVIII), в эпоху Реставрации пожизненный почетный председатель Королевской медицинской академии;
72
Гастальди — врач Жозеф Гастальди (1741-18906) в 1790 г. эмигрировал в Англию, где оставался до 1796 г.
73
по площади Каррузель… В этой усыпальнице… покоилось сердце… — С 21 августа 1792 г — по 7 мая 1793 г — здесь стояла гильотина и свершались казни; затем гильотину переместили на площадь Революции (ныне площадь Согласия), а на ее месте воздвигли временную пирамиду из дерева (заменить ее на постоянную, гранитную, до 9 термидора революционеры не успели) в память Марата, зарезанного Шарлоттой Корде 13 июля 1793 г. Перед пирамидой были выставлены для всеобщего обозрения и поклонения бюст Марата, его чернильница и ванна, в которой он был убит.
74
…к фонарю с улицы Святого Никеза… — Улица эта, ныне не существующая, пролегала в XVIII веке поблизости от площади Каррузель и имела зловещую репутацию из-за происходивших на площади казней (см. предыдущее примечание).
75
…салон госпожи де Полиньяк… — В юности (1786) Дельфина гостила с матерью в Монтсрее у графини Дианы де Полиньяк, золовки герцогини Иоланды Габриэли де Полиньяк (1749–1793), фаворитки Марии Антуанетты, которая своим расточительством вызывала у народа накануне Революции острую ненависть.
76
Данте помещает в один из кругов ада… — Божественная комедия. Ад. XXXIII, 122–132.
77
Папаша Дюшен — персонаж народных фарсов, ставший после 1789 года воплощением революционного народа и давший название многим памфлетам и газетам того времени; самую знаменитую и самую экстремистскую из них выпускал в 1790–1794 гг. Жак Рене Эбер.
78
…ушёл на смерть господин де Богарне. — Судя по сохранившимся фрагментам тюремных писем генерала к Дельфине (Maugras. P. 234–236), двух узников связывала не дружба, а вспыхнувшая в заточении любовь. О кольце-талисмане см. также наст. том.
79
…ее трижды привозили из тюрьмы домой… — 29 флореаля, 21 прериаля и 1 мессидора II года, то есть 18 мая, 9 и 19 июня 1794 г.
80
Дюгазон (наст. имя и фам. Жан Батист Анри Гурго; 1746–1809) — французский комический актер, с некоторой чрезмерностью выказывавший свои симпатии к Революции, большой мастер розыгрышей.
81
— а если бы и знала, все равно не сказала бы. — Протоколы допросов свидетельствуют, что Дельфина в самом деле держалась мужественно и хладнокровно; немалое количество бумаг, в том числе фрагменты анти-революционной комедии ее брата за подписью «Эльзеар», было все-таки найдено в ее доме и предъявлено ей (Bardoux. P. 99–100), однако она решительно отрицала, что имеет ко всему этому хоть какое-нибудь отношение (Maugras. P. 246).
82
— целых полгода… — Дельфина была арестована 2 вантоза II года, т. е. 20 февраля 1794 г., а термидорианский переворот, положивший конец Террору, произошел 27 июля 1794 г.
83
Переворот 9 термидора был заговором бандитов… — Термидорианский переворот был совершен активными участниками Террора (Баррасом, Тальеном, Фуше и др.), которые, желая покончить с диктатурой Робеспьера, объединились с умеренными членами Конвента.
84
…аррасский чиновник… — Максимильен Мари Изидор де Робеспьер (1758–1794) до Революции служил адвокатом в родном Аррасе.
85
— ученых мужей, ухитряющихся оправдывать подобного человека!! «Реабилитацию» Робеспьера начал еще в эпоху Реставрации, около 1820 г., литератор Гийом Лалеман (1782–1829); в начале 1830-х годов Робеспьеру посвятил немало восторженных лекций и брошюр «робеспьероугодник» (по определению библиографа Керара) Альбер Лапоннере (1808–1849); к поклонникам Робеспьера принадлежал также неокатолик Бюше (см. примеч. к наст. тому), издатель (совместно с Ру) «Парламентской истории Французской революции» (1834–1838). Наконец, социалист Луи Блан (1811–1882), автор памфлета против Июльской монархии «История десяти лет» (1841–1844 T-1-5), рассматривал Робеспьера как родоначальника современной демократии.
86
Госпожа де Богарне — Мария Жозефа Роза (урожд. Таше де Ла Пажри; 1763–1814); жена (с 1779 г.) виконта Александра де Богарне (1760–1794), французского генерала, казненного во время Террора; с 1796 г. — во втором браке за Наполеоном Бонапартом, в 1804–1809 гг. императрица французская под именем Жозефины.
87
Госпожа д'Эгийон — Жанна Виктория Анриетта (урожд. де Навай; ум. 1818); ее род прославился в XVII веке благодаря маршалу Франции герцогу де Наваю (1619–1684) и его жене, фрейлине королевы Марии Терезы (оба впали в немилость, так как не хотели потворствовать страсти Людовика XIV к Луизе де Лавальер); муж госпожи д'Эгийон, герцог Арман Дезире де Виньеро д'Эгийон (1731–1800), в описываемый момент, как и Шарль де Ламет, находился в эмиграции; отец его, Эмманюэль Арман д'Эгийон (1720–1788), министр иностранных дел в 1771–1774 гг. покровительствовал фаворитке короля Людовика XV графине Дюбарри (наст. имя и фам. Жанна Бекю; 1743–1793)
88
Госпожа Шарль де Ламет — жена одного из братьев Ламет (1757–1832), аристократов, в 1789 г. принявших сторону третьего сословия, но затем разочаровавшихся в революции; Шарль де Ламет в 1792 г. после недолгого пребывания в тюрьме, эмигрировал в Германию, где и пребывал в ту пору, о которой рассказывает Кюстин.
89
— мужество Буасси-д'Англа, убийство Феро… — депутат Жан Феро (1764–1795) был растерзан толпой во время восстания против термидорианского Конвента, происшедшего 1–3 прериаля III года (20–22 мая 1795 г.) и подавленного с помощью армии; председателем Конвента в то время был граф Франсуа Антуан де Буасси д'Англа (1756–1826).
90
Лежандр Луи (1752–1797) — сын парижского мясника, унаследовавший профессию отца, член Конвента, после 9 термидора принявший сторону победителей.
91
…вторая госпожа Ролан! — Дельфину сравнили с Манон Жанной де Ролан (урожд. Флипон; 1754–1793), женой жирондиста Жана Мари Ролана де Ла Платьера (1734–1793), министра внутренних дел в марте — июне 1792 г. и августе 1792 январе 1793 г. Не ограничиваясь ролью хозяйки политического салона, честолюбивая г-жа Ролан старалась через мужа активно влиять на ход событий. Арестованная после падения жирондистов, она была казнена 8 ноября 1793 г. Поскольку Дельфина де Кюстин никогда не помышляла о роли идеолога революции, основанием для сравнения мог служить лишь тот факт, что обе дамы пострадали от Террора.
92
…в бывший кармелитский монастырь… — Сначала Дельфину отправили в тюрьму Сент-Пелажи и лишь несколько недель спустя перевели в бывший кармелитский монастырь на улице Вожирар, с 1792 г — ставший тюрьмой.
93
Когда она наконец, покинула тюрьму… — 13 вандемьера III года (4 октября 1794 г.); текст постановления о ее освобождении за подписью Лежандра см.: (Bardoux. P. 108–109.)
94
…ей возвратили тот клочок земель ее мужа… — Речь идет об эльзасском имении Кюстинов Нидервилле, которое Дельфине удалось вернуть себе и сыну в 1796 г. благодаря протекции Тальена, Фуше и Буасси д'Англа, с которыми свела ее Жозефина де Богарне (см. примеч. к наст. тому), вышедшая тем временем замуж за Бонапарта (см.: Bardowc. P. 110–113).
95
Из любви ко мне она больше не вышла замуж… — Дельфина была несчастлива в любви: Александра де Богарне (см. примеч. к наст. тому) казнили, следующий герой ее романа — прославленный писатель Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848) — после недолгого (1802–1805) увлечения охладел к ней; немецкий врач Давид Фридрих Кореф (1783- 851), которым она увлеклась в начале 1810-x гг., также, по-видимому, не отвечал ей взаимностью, намерение же Дельфины найти мужа «старого и богатого, чтобы иметь возможность дать подобающее образование сыну» (письмо к матери от 12 января 1797 г. — Maugras. P. 314) нe осуществилось.
96
— на мотив Жан-жаковой песенки… — Имеется в виду «Романс об иве» (вольное переложение песни шекспировской Дездемоны); слова его сочинил Александр Делер, а автором музыки считался Жан Жак Руссо (см.: Rousseau J.-J. Oeuvres completes. P., 1959. T. 1. P. 1316)
97
Лафатер Иоганн Каспар (1741–1801) — швейцарский немецкоязычный философ и литератор, создатель физиогномики — науки об отражении характера во внешнем облике человека.
98
…центром кружка, в который входили замечательнейшие люди того времени… — С Шатобрианом Дельфина познакомилась еще до Революции в доме его старшего брата Жана Батиста (1759–1794), c женой которого была дружна; роман с писателем, к этому времени уже завоевавшим славу благодаря повестям «Атала» (1801) и «Рене» (1802) и трактату «Гений христианства» (1802), начался в 1803 году. Среди ближайшего окружения Шатобриана тех лет особенный интерес представляли Жозеф Жубер (1754–1824), один из самобытнейших продолжателей традиции французских моралистов XVII века (см. фрагменты его «мыслей» в кн.: Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982. С. 308–375), поэт Шарль Жюльен Лиу де Шендоле (1769–1833), философ Пьер Симон Балланш (1776–1847). В своих опубликованных посмертно (1848–1850) мемуарах «Замогильные записки» Шатобриан умолчал о своей любовной связи с Дельфиной де Кюстин, но посвятил выразительный пассаж ей и ее замку Фервак (купленному в 1803 г.), который некогда принадлежал королю Генриху IV («беарнцу», «любовнику Габриэли»): «Среди пчел, обживавших новые ульи, была маркиза де Кюстин, унаследовавшая от жены Святого Людовика Маргариты Прованской, чья кровь текла в ее жилах, прекрасные длинные волосы. Я присутствовал при переселении в Фервак и имел честь спать в постели беарнца. <…> Путешествие это было делом нешуточным: в карете помещались Астольф де Кюстин, в ту пору еще ребенок, его гувернер г-н Берстсшер, старая няня-эльзаска, говорившая только по-немецки, горничная Женни и знаменитый пес Трим, истреблявший дорогой все припасы. <…> Я видел ту, которая выказала беспримерную храбрость в виду эшафота, я видел ее в Сешроне близ Женевы: о былой красоте напоминала лишь копна шелковистых волос; бледнее Парки, в черном платье, исхудавшая от смертельной болезни, она улыбнулась мне бескровными губами и отправилась в Бекс, что в кантоне Вале, где ей суждено было испустить дух; я слышал, как проносили ночью ее гроб по пустынным улицам Лозанны: она торопилась навеки вернуться в Фервак, скрыться в земле, которою владела лишь мгновение, как и своей жизнью. Я прочел на камине в замке скверные вирши, приписываемые любовнику Габриэли:
На даму из Фервака
Я рад пойти в атаку.
Король-солдат говорил подобные комплименты и многим другим дамам: переходя от одной красавицы к другой, эти мимолетные, быстро изглаживающиеся из памяти любезности дошли в конце концов и до госпожи де Кюстин» (Chateaubriand F.-R. de. Memoires d'outretombe P., 1951. Т. 1. P. 472–473). Несмотря на разрыв, Дельфина продолжала боготворить Шатобриана, и этот культ унаследовал от нее Астольф, всю жизнь, впрочем, мечтавший избавиться от литературного и человеческого влияния автора «Рене». «Я должен освободиться от той безраздельной власти, какую он невольно приобрел надо мною, или перестать писать», — признавался он в письме из Италии, включенном в книгу «Записки и путешествия» под 1812 годом (Memoires et voyages. P. 104; слова, любопытно контрастирующие с известным желанием молодого Виктора Гюго стать «Шатобрианом или никем»). В письмах к Варнгагену Кюстин оставил несколько зарисовок Шатобриана в старости, замечательных своей трезвостью и проницательностью. О влиянии, которое оказал на Кюстина Шатобриан, см. также в статье, наст. том.
99
…в основу ее мрачной философии… — В письме к Рахили Варнгаген от 20 июля 1817 г. Кюстин нарисовал любопытный психологический портрет матери: «Чтобы питать интерес к тому, что ее окружает, ей недостает спокойствия и внутреннего света. Она смогла бы как следует постичь смысл существования, лишь если бы увидела его в перспективе. То, что лишено живописности, для нее не существует вовсе. Она живет так, как, я полагаю, видят создатели жанровых полотен. Жизнь ради самой жизни она презирает. <…> Она присутствует при течении жизни, для того же, чтобы она приняла в ней участие, должно произойти одно из тех событий, потрясающих душу до основания, какие свершаются раз в двадцать лет. Повседневность кажется ей пошлой и бесцветной» (Lettres a Varnhagen. P. 210–211).
100
…после гибели герцога Энгиенского… — Луи Арман де Бурбон, герцог Энгиенский (1772–1804), единственный сын принца Конде, был схвачен на территории Баденского маркграфства и расстрелян по приказу Наполеона за участие в антинаполеоновском заговоре, к которому, скорее всего, не был причастен; убийство это отвратило от Наполеона многих людей, прежде относившихся к нему сочувственно.
101
…дабы избавиться от преследований имперской полиции… — Скорее всего, Дельфину заставила отправиться в путешествие и переменить обстановку холодность Шатобриана, предлогом же послужила необходимость поправить здоровье Астольфа.
102
…отправилась в Швейцарию… — Встреча Дельфины с родными состоялась в августе 1795 г.
103
Канова Антонио (1757–1822) — итальянский скульптор, сын ремесленника, в награду за мастерство получивший от римского двора титул маркиза д'Искья.
104
…от той же болезни, что и Бонапарт. — Дельфина умерла от болезни печени — следствия перенесенной некогда желтухи; причиной смерти Наполеона считается рак желудка.
105
…моей жены и моего единственного сына… — Дельфина, сама несчастливая в семейной жизни, особенно горячо желала удачно женить единственного сына; после долгих поисков невеста была найдена, и 12 мая 1821 г. Астольф женился на Леонтине де Сен-Симон де Куртомер (1803–1823), через два года после свадьбы скончавшейся от чахотки; их единственный сын Ангерран, родившийся 19 июня 1822 г., умер от менингита на руках у бабушки 2 января 1826 г.
106
Дельфина — героиня одноименного эпистолярного романа (1802) Жермены де Сталь (1766–1817); пренебрегая мнением света, она отвечает взаимностью влюбленному в нее женатому мужчине. Кюстин, скептически относившийся к г-же де Сталь как писательнице (он, в частности, находил фальшивым изображение немецкого характера в ее книге «О Германии»), был по-человечески привязан к ней (кстати, одной из барышень, которую пытались посватать за Астольфа, была дочь писательницы Огюстина); после смерти г-жи де Сталь, писал он Рахили Варнгаген, «в душе моей образовалась пустота, ибо с тех пор, как ее не стало, я не вправе признать своими множество искренних чувств и естественных мыслей, понять которые была способна она одна. <…> Она обогащала жизнь, которую посреди ственности только и знают, что обеднять; без нее общество кажется мне пустыней» (Lettres a Varnhagen. P. 213–214).
107
Травемюнде, 4 июля. — По старому стилю 22 июня. Проставляя перед каждым письмом дату и место написания и в общем следуя хронологии своего путешествия, Кюстин рассказывает о нем далеко не все. Так, выстраивая маршрут своей поездки по Германии: Эмс-Берлин-Травемюнде-Любек, он не упоминает о курортном городке Киссингене, куда он заехал по дороге из Эмса в Берлин и где встретился с Александром Ивановичем Тургеневым (знакомым ему по парижскому салону г-жи Рекамье), от которого получил рекомендательные письма в Россию и с которым говорил «о России, о Москве, о Нижн(ем) Новгороде) и пр.» (см. подробнее: НЛО. С. 107). В это же время в Киссингене находился и старый друг Кюстина (и одновременно хороший знакомый Тургенева) Варнгаген фон Энзе, живо интересовавшийся русской историей; см., например, запись в его дневнике за 30 июня 1839 г.: «Как для нас, пруссаков, 1806 год играет роль трагического пугала, к которому мы не перестаем обращать наши помышления и от которого некуда нам скрыться, точно такое значение имеет для русских, по-видимому, 1825 год: они не перестают сокрушаться, анализировать и дополнять это печальное событие. Но 1806 году в скором времени противостал 1813-й, а для русских не то» (цит. по: РА. 1875. Т. 2. С. 349). В 1806 г. Пруссия утратила независимость и перешла в подчинение к наполеоновской Франции; в 1813 г. вся Германия была освобождена от власти французов). Можно не сомневаться, что беседы с Тургеневым и Ва-рнгагеном о России оказали существенное влияние на Кюстина, однако он умолчал о них в книге, отведя роль «идеологической увертюры» своим разговорам с князем К*** — П. Б. Козловским (см. письма пятое и шестое), которого не мог скомпрометировать, ибо тот умер в 1840 г.
108
…любекский трактирщик… — Любек был первым заграничным городом для русских, выезжавших из России морским путем, и потому служил в определенном смысле символом Европы. Ср. известный в передаче Вяземского диалог Пушкина и А.И. Тургенева: Пушкин, никогда не бывавший в Европе, «однажды между приятелями сильно русофильствовал и громил Запад»; Тургенев «не выдержал и сказал ему: „А знаешь ли что, голубчик, съезди ты хоть в Любек“. Пушкин расхохотался, и хохот обезоружил его». (Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. 154–155) Эпизод с любекским трактирщиком вызывал нарекания у авторов едва ли не всех опровержений на книгу Кюстина. Н. И. Греч объяснял радостный вид выезжающих весенним хорошим настроением (за границу русские обычно выезжают весной), а печальный вид возвращающихся — осенними дождями; Вяземский язвил: «Странный человек этот трактирщик! Я всегда полагал, что путешественники, едущие из Петербурга и в Петербург, приносят трактирщикам Любека, города, расположенного на полдороге между Россией и Европой, такой большой доход, что те должны почитать Россию за землю обетованную. Я заблуждался. Нашелся в Любеке трактирщик, опровергнувший этот жалкий расчет домашней экономики. В высшей степени великодушный и бескорыстный и вдобавок зараженный русофобией, сей достойный человек согласен даже на то, чтобы его табльдот и спальни пустовали, лишь бы не ободрить путешественников, намеренных посетить такое гиблое место, как Россия» (цит. по: Cadot. P. 267). Французский адвокат Шарль Дюэз указывал, что диагноз трактирщика опровергают уже описанные самим Кюстином русские дамы, его попутчицы на борту корабля: хотя они плывут в Россию, настроение у них самое жизнерадостное (Duet Р. 3–4). Тем не менее российским подданным, не стремившимся непременно уличить во лжи автора «России в 1839 году», случалось соглашаться с выводами трактирщика; так, А.О. Смирнова писала в 1844 г. Жуковскому о своем предполагаемом возвращении в Россию: «Меня туда ничто не влечет, напротив, тоска забирает, когда подумаешь, что точно надобно вернуться. Никто более меня в сию минуту не оправдывает слов Кюстина» (РА. 1902. № 5. С. 104). Ср. также приводимое французским послом в России П. де Барантом суждение графа Строганова о том, что русские дворяне, привыкнув к жизни за границей, тяжело переживают возвращение на родину и испытывают при этом mal de pays (дословно: отечественная болезнь; по аналогии с mal de mer — морской болезнью) (Notes. Р. 156-I57); в сходном значении упоминает это слово в своих воспоминаниях В. С. Печерин: «Одна московская дама с обыкновенною женскою проницательностью заметила обо мне: „Il a Ie mal de pays“, что тогда значило: „у него тоска по загранице“» (Русское общество 1830-х годов XIX века. М., 1989.). Cр. также известную фразу Тютчева: «У меня не тоска по родине, а тоска по чужбине» (Тютчевиана: Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф.И. Тютчева. М., 1922. С. 21).
109
…свежий луговой воздух, красота неба и моря… — Ср. впечатления русского знакомца Кюстина, А. И. Тургенева, от поездки на «малом пароходе» из Травемюнде в Любек «по прелестной излучистой траве»: «берега ее — беспрерывная идиллия» (письмо к Вяземскому от 6 июля 1832 г.; Архив братьев Тургеневых. СПб., 1921. Вып. 6. Т. I. С. 98).
110
…в Вергилиевых Елисейских полях… — Энеида, VI, 638–665.
111
…степи!..восточное слово… — Кюстин именует слово «степи» восточным, потому что во французский язык оно пришло (в середине XVIII века) из русского, т. е. «с востока».
112
В прошлом году… на нем случился пожар… — Это произошло в ночь с 18/30 на 19/31 мая 1838 г. Трагедия на пароходе быстро стала предметом обсуждения в России и в Европе. «Два парохода счастливо прибыли из Петербурга в Любек, третий же, „Николай I“, в ночь с 30 на 31 мая вспыхнул в виду Травемюнде. На борту находились 160 пассажиров, из них погибли только трое: русский полковник, чье имя неизвестно, некий г-н Мейер, управляющий сахарной фабрикой Бобринского, и один слуга. Из вещей ничего спасти не удалось, и некоторые женщины сошли на берег в одной рубашке и босиком», — сообщал И.С. Гагарин, в эту пору секретарь русского посольства в Париже, в начале июня А.И. Тургеневу (РО ИРЛИ. Ф. 309. 3544. 7–8; подл. по-фр.), а тот 3 июля 1838 г. пересказывал брату Н. И. Тургеневу детали происшествия уже со слов другой корреспондентки, очевидицы пожара графини Мусиной-Пушкиной: «Подробности ужасны. Она приготовилась погибнуть вместе с тремя детьми. Некий Тургенев воскликнул: „Погибнуть в 19 лет! Бедная мое матушка!“ Люди спорили из-за мест в шлюпке; с одной стороны их обжигало пламя, едва не касавшееся уже их платья, с другой стерегло море» (РО ИРЛИ. Ф. 309. 950. 94; подл. по-фр.). Упоминаемый в последнем фрагменте Тургенев — будущий знаменитый романист, который затем подробно описал это происшествие в позднем (1883) автобиографическом очерке «Пожар на море» (см.: Тургенев И. С. Сочинения. М., 1983. Т. 11. С. 520–526) По официальным данным, на борту находились 132 пассажира и 38 человек экипажа; погибли, согласно «Северной пчеле» (1838, № 117), пятеро: трое пассажиров и двое членов экипажа; капитан Шталь в самом деле, как и пишет Кюстин, действовал грамотно и спас жизнь пассажирам тем, что «в последнюю минуту, когда еще можно было добраться до машины, изменил направление нашего судна, которое, идя прямо на Любек, вместо того, чтобы круто повернуть к берегу, непременно сгорело бы раньше, чем вошло в гавань» (Тургенев И. С. Указ. соч. С. 301). П.А. Вяземский, также находившийся во время пожара на борту «Николая I» (хотя М. Буянов и утверждает, что он «поехал сухопутным путем, а на корабле отправил свой багаж», — Буянов М.И. Маркиз против империи… М., 1993. С. 35), естественно, не преминул в своем опровержении указать Кюстину на допущенные им ошибки: «Правда в этом рассказе только то, что на пароходе случился пожар. Все остальное преувеличено или искажено и принадлежит к области выдумок. Я был одним из пассажиров и могу рассуждать на сей счет как очевидец. Во-первых, дело происходило не в октябре, а в мае. Вся история молодого француза лжива с первого слова до последнего. Никакого француза, служащего во французском посольстве в Дании, на борту не было, и все приписываемые ему подвиги — выдуманы.»
113
Я поистине не знал, что предпринять… — «Полный паралич воли, глубочайшее равнодушие ко всему на свете и в особенности к себе самому» (из письма к Э. де Лагранжу; цит. по кн.: Florcnne Y. Custine. Р., 1963. Р. 62) были основополагающими чертами характера Кюстина и составляли предмет его постоянных рефлексий. «Деятелен я только с виду; единственное, что я умею, это отказываться от собственных планов», — признавался он в том же письме, а в другом месте утверждал: «В каком-то смысле можно сказать, что испытываем мы только то, что желаем испытать, а ведь желать — это самое сложное; с помощью воли мы способны на все, но не в нашей власти повелеть себе обрести волю, а это значит, что мы не способны ни на что» (Custine A. de. Souvenirs et portraits. Monaco, 1956. P. 99). В этом отношении Кюстин в полной мере был человеком романтической эпохи, для которого одной из главных психологических проблем была проблема «шагреневой кожи», иначе говоря, способности желать, проявлять волю.
114
…я позвал слугу… — Слугой Кюстина в течение полутора десятка лет был итальянец Антонио Ботти, «один из достойнейших людей в мире» (Lettres a Varnhagen. P. 408; письмо от 22 февраля 1841 г.).
115
Гримм Фридрих Мельхиор, барон фон (1723–1807) — немецкий франкоязычный литератор, автор многотомной «Литературной переписки» (изд. 1812–1813), в течение всей второй половины XVIII столетия знакомивший европейских монархов с культурной жизнью, слухами, сплетнями и анекдотами дореволюционного Парижа.
116
— это был вылитый Людовик XVI… русский князь К***, потомок завоевателей-варягов… — Князь Петр Борисович Козловский (1783–1840) в самом деле принадлежал к древнему аристократическому роду (28-е колено от Рюрика). Так как к моменту публикации «России в 1839 году» Козловского уже не было в живых, Кюстин позволил себе в данном случае нарушить правило, декларированное в предисловии: «не только не называть имен своих собеседников, но даже не намекать на их положение в обществе и происхождение» (см. наст. том). Современники поняли это; см., например, в письме П.А. Плетнева к Я.К. Гроту от 22 августа 1845 г.: «О нем <Козловском>: упоминает Кюстин в начале своего путешествия: к счастью, Козловский тогда уже был покойник, когда вышла книга, а то она повредила бы ему» (Плетнев П.А., Грот Я.К. Переписка. СПб., 1896. Т. 2. С. 525). Тем, кто знал Козловского, не составляло труда узнать его, и даже такой неприятель Кюстина, как Вяземский (автор двух статей о Козловском, собиравший материалы для его обширной биографии), скрепя сердце признавал, что «основа речей, ему приписываемых (у Кюстина), справедливо ему принадлежит, но наверно много и прибавлено, а в ином отношении и убавлено» (НЛО. С. 126). Точность страниц, посвященных Козловскому, подтверждает и давний знакомей и близкий друг князя, Н.И. Тургенев, который 15 июня 1843 г. сообщал брату А.И. Тургеневу:
«Я начал читать первый том Кюстина. Он описывает рассуждения и болтовню Козловского на пароходе. Забавно и должно быть верно» (РО ИРЛИ. Ф. 3н9н 494 л. 21). С другой стороны, тем, кто не знал князя, легко было заподозрить Кюстина в создании традиционной марионетки, подающей автору необходимые реплики (см., например: Due,!.. P. 4–5). Были и другие варианты истолкования этого персонажа. Я.Н. Толстой, прекрасно знавший Козловского, намеренно искажал истину и, дабы лишний раз уязвить Кюстина, приписывал все вольнодумные суждения князя К*** самому автору «России в 1839 году»: «Когда любезный старец изрекает очередную нелепость, мы без труда догадываемся, кому ею обязаны, и восстанавливаем истинное авторство»; князя К*** Толстой именует «подставным редактором, выставившим свое имя под фантазиями маркиза» (Tolstoy. P. 21, 34). Наконец, автор анонимной рецензии на книгу В. Дорова «Князь Козловский» (1845) в «Journal de Francfort» (3 октября 1845) утверждал, что «старый сатир» Козловский просто морочил голову легковерному маркизу, изображая, например, Россию страной религиозной нетерпимости. Та же версия была высказана и рецензентом английского «Quarterly Review»: «Нетрудно заметить, что князь Козловский, известный в Лондоне и в других местах как неутомимый шутник, развлечения ради в течение всего плавания морочил голову парижскому простофиле, с которым свел его случай. Кое-какие из анекдотов, которые Кюстин пересказывает со ссылкой на Козловского, неглупы; они отлично смотрелись бы на страницах альманаха, но невозможно понять, как мог умный человек принять их всерьез, пересказывать друзьям и, в довершение всего, перепечатать без комментариев» (цит. по французскому переводу: Bibliotheque universelle de Geneve. 1844. Т. 52. Р. 108).
Сходство Козловского, полного и низкорослого, с последними Бурбонами (Людовиком XVI или Людовиком XVIII) отмечают многие мемуаристы: «в голосе и походке натуральная важность, а на лице удивительное сходство с портретами Бурбонов старшей линии» (Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1928. Т. I. С. 117); «в Варшаве многие отставные туристы находили в князе П<етре Борисовиче> большое сходство с Лудовиком XVIII (Прмсибыльский. Л. з об.). Полнота Козловского с самой его юности была предметом острот (на английской карикатуре 1813 г. он изображен в обществе высокой и сухощавой супруги русского посла в Лондоне Дарьи Христофоровны Ливен, а под картинкой выставлена подпись: „Широта и долгота Санкт-Петербурга“). Ноги у князя распухли от водянки, которая и свела его в могилу; передвигался он с трудом в результате несчастного случая, происшедшего с ним в 1834 г. в Варшаве: кучер направил лошадей прямо в глубокий овраг, и Козловский поплатился за внезапное помрачение ума возницы переломом правой бедренной кости.
117
…вспомнил, что уже давно слышал о мм… — Кюстин мог слышать о Козловском от Варнгагена фон Энзе (см. примеч. к наст. тому, и к т. 2), который занимал должность прусского посланника при дворе герцога Баденского в 1819 г., в то же самое время, когда Козловский был там русским посланником. С тех пор взаимная симпатия связывала Козловского с четой Варнгагенов — Карлом Августом и его женой Рахилью (урожд. Левин; 1771–1833), хозяйкой знаменитого литературного салона. Варнгаген в 1819 г. признавался Козловскому, что дорожит его „просвещенным умом и советами“, а Козловский в 1825 г. называл чету Варнгагенов поразительной, потому что невозможно сказать, кто из двоих „более справедлив в суждениях и более своеобычен в творениях ума“ (ВЛ». HAF. № 16607. Fol. 212; РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 3. № 47. Л. 4; в обоих случаях подл. по-фр.); ср. также дневниковую запись Варнгагена от 23 апреля 1841 г. — отклик на смерть «остроумного, живого, красноречивого» князя Козловского: «Он был человеком величайших способностей, не нашедшим, однако, себе употребления. Родина его не предложила ему дела, а свет, в котором он жил, никогда не умел его оценить. <…> Рахиль любила его оригинальный ум и манеры, равно как и его доброе сердце. Я был ему очень предан, хотя часто посмеивался над ним, что он переносил с величайшим терпением» (Zeitshrifft fur Slawistik. 1990/ Bd. 35. S. 165; подл. по-нем.).
118
…дотоле мы никогда не виделись. — В принципе Козловский и Кюстин могли встретиться задолго до описываемого плавания на борту «Николая I» — осенью 1814 г. в Вене, где Козловский, в эту пору чрезвычайный и полномочный посланник России при сардинском дворе, находился для урегулирования на Венском конгрессе вопроса о присоединении Генуи к владениям сардинского короля, а Кюстин состоял в качестве начинающего дипломата при Талейране, представлявшем на конгрессе Францию. Однако документальных свидетельств о подобной встрече не сохранилось. Козловский упомянул о плавании в обществе Кюстина «из Травемюнде в Петербург» в Письме от 17/29 августа 1839 г. к наместнику Царства. Польского И. Ф. Паскевичу (1782–1856), при котором Козловский в 1836–1840 гг. состоял в качестве чиновника по особым поручениям (см.: НЛО. С. 116); в этом письме Козловский рекомендует Кюстина своему начальнику как «автора нескольких недурных романов».
119
…тоном истинного аристократа… настоящая вежливость… — Профессиональный дипломат (в 1803–1811 гг. — служащий русской миссии при сардинском дворе; в 1812–1818 гг. — чрезвычайный и полномочный посланник при том же дворе; в 1818–1820 гг. — в той же должности при дворах герцога Баденского и короля Вюртембергского, в 1820–1827 гг. — оставлен в ведомстве Коллегии иностранных дел без определенной должности, в 1827 г. уволен от службы, в 1836–1840 гг. состоял в Варшаве при наместнике Царства Польского в качестве чиновника по особым поручениям), Козловский оставил значительное литературное наследие, из которого ныне более или менее известны лишь три статьи научно-популярного характера, опубликованные в пушкинском «Современнике» (1836–1837), французские же политические брошюры практически неизвестны, а некоторые («Социальная диорама Парижа», написанная в 1824–1825 гг.) и неизданы. Европейская известность Козловского, близко знакомого с такими политическими и литературными знаменитостями, как Талейран и Каининг, Луи-Филипп и герцог Ришелье, Шатобриан и Байрон, основывалась прежде всего не на его печатных трудах (хотя Пушкин ценил его слог и манеру изложения так высоко, что признавался: «Козловский стал бы моим провидением, если бы захотел раз и навсегда сделаться литератором» — Пушкин, т. 10. С. 465, 689–690; подл. по-фр.), но на его репутации блистательного собеседника, рассказчика и говоруна, в котором «дар слова был такое же орудие, такое же могущество, как дар поэзии в поэте, дар творчества в художнике» (Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 155). В гостиной князя «малейшее дневное событие подавало тему для обильных и поучительных рассказов, рассуждений и заключений, приправляющихся зачастую незлобным юмором, который пробивался у князя сквозь всю ткань выпавшего ему невеселого существования. Никто никогда не выносил из его беседы ни малейшего неудовлетворительного чувства, — а всяк уходил или с новым запасом сведений, или с исправленным воззрением на вещи, или с облегчением своего тайного горя, или, наконец, уврачеванный от какого-нибудь своего тщеславного недуга, для чего одно даже вступление в эту атмосферу сердечной доброты, изящного ума и философской простоты было уже достаточно» (Прмсибыльский. Л. 5–5 об.). Козловский поражал собеседников «блестящими, игривыми, полусерьезными беседами, характер которых с точностью передает лишь французское causerie (беседа)» (Пржецлавский О. А. Князь Петр Борисович Козловский Ф. 265. On. 2. № 2138. Л. 10), незаемной информацией о жизни и мнениях европейских мыслителей ушедшей эпохи, осколком которой казался сам. Любопытно, что точно такое же впечатление производил на беспристрастных наблюдателей и Кюстин; «он очарователен, благороден и прост в обращении, как последний представитель старинной аристократии <…>, - писал в марте 1854 г. литератор следующего поколения, Ж. Барбе д'Оревийи. — Он ведет беседу, как человек, знавший г-жу де Сталь и сохранивший самый дух настоящей беседы. Он — дерево, ломящееся под тяжестью (исторических) анекдотов. <…> Нужно видеть его, когда за десертом он извлекает из кармана одну за другой всех европейских знаменитостей…» (цит. по: Custine A. de. La Russie en 1839. P., 1991. Т. 1. P. 478–479; совпадает не только общая характеристика, но и упоминание г-жи де Сталь, с которой был хорошо знаком и Козловский — см. ниже примеч. к наст. тому).
120
..в Англии нет дворянства… ничто не способно сделать человека дворянином. — Последнее утверждение вполне отвечает известным нам убеждениям Козловского, который в неопубликованном при жизни фрагменте «Опыт истории России» назвал главным изъяном российского общественного устройства «мнимую мощь» русского дворянства, не образующего сословия, «подобного дворянскому сословию других европейских монархий», и погубленного петровской табелью о рангах, которая отменила наследственные преимущества и открыла путь в дворянство людям любого звания (см.: Из наследия П. Б. Козловского. С. 303–305); как и Пушкин, Козловский выступал сторонником сильной, независимой аристократии. Что касается Англии, где так свято, как ни в одной европейской стране, «уважаются права государей как залог общественного спокойствия, как живые щиты, оберегающие общественный порядок от дерзких самонадеянных честолюбцев» (цит. по: Dorow. P. 72–73), то ее Козловский почитал образцовым государством и «мерил ею свои взгляды и суждения даже в области нравственности и повседневных привычек» (Rewuska. Т. 2. Р. 149). Скептическое восприятие английского общественного устройства, при котором политической свободе сопутствует рабская зависимость людей всех сословий от моды и привычки, было свойственно скорее самому Кюстину, выразившему его в книге «Записки и путешествия» (1830).
121
Лораге Луи Леон Фелисите де Бранка, маркиз де Виллар, граф де (1733–1824), литератор и остроумец, начавший свою карьеру драматурга и эпиграмматиста во времена Вольтера, в царствование Людовика XV, а кончивший ее пэром Франции, притом сочувствующим либеральной оппозиции, при Людовике XVIII, аристократ по происхождению и фрондер по характеру; основатель его рода, выходец из Испании Бюфиль де Бранка обосновался во Франции еще при Карле VII (XV век) и тогда же получил титулы маркиза де Виллара и графа де Лораге.
122
…сопровождал императора Александра в его поездке в Лондон. — Александр находился в Англии с 26 мая/7 июня по 14/26 июня 1814 г. по приглашению принца-регента, в 1820 г. ставшего английским королем Георгом IV (1762–1830); в Лондоне состоялась встреча европейских монархов, членов антинаполеоновской коалиции, предшествовавшая Венскому конгрессу, где победителям предстояло окончательно решить судьбу послевоенной Европы. Перед этим Козловский пробыл в Англии целых полгода (с января по август 1813 г.), покорил английское светское общество и даже — первым из русских — удостоился звания почетного доктора Оксфордского университета по разделу гражданского права (Sim-monsJ. S. G. Turgenev and Oxford//Оxoniensia. 1966. V. 31. P. 146).
123
…очень любит своего лейб-медика… — Лейб-медиком Александра I, сопровождавшим его во всех поездках, был Джеймс (Яков Васильевич) Виллие (1765–1854), выходец из Шотландии, с 1790 г. живший в России; в 1814 г. английский принц-регент «в знак особого внимания к императору Александру даровал лейб-медику Виллие сначала достоинство кавалера <sir>, а вскоре затем и титул великобританского баронета, на что ему была выдана грамота с гербом, оригинал которого сочинен и рисован был самим Государем» (Русский биографический словарь. СПб., 1896. Т. 1. С. 309). Описание Кюстином непонятливости русского монарха вызвало недоумение — на сей раз вполне оправданное — Греча (см.: Gretch. P. 15).
124
…секретарь князя К***… - Карл Франц (Шарль Франсуа) Штюбер (1801 — не раньше 1869) — уроженец Швейцарии, секретарь Козловского в течение последних полутора десятков лет жизни, после смерти князя — служащий русского консульства в Париже, член-корреспондент Французского Восточного общества префектуры Сона-и-Луара, «неразлучный домочадец, заслуживающий добрую память за его беспредельную преданность своему обожаемому патрону. <…> Секретарь под диктовку и по поручению, чтец газет и писем, комиссионер, казначей (sic!), расходчик и эконом, он с французскою дружбою снисходил до всех услуг, какие потребовались в отсутствие единственного лакея или вызывались несметливостю полагавшейся на даче кухарки — по части яиц всмятку. Честный, добросердечный, но иногда угрюмый воркун этот, обходясь сам бессменным серым вроде наполеоновского сюртуком, застегнутым до галстука для избежания прочих прихотливостей туалета, сдерживал благотворительную расточительность князя и заводил горячий с ним спор о распределении изредка появлявшихся денежных посылок.»
125
30 градусов по Реомюру… — Приблизительно 24 градуса по Цельсию.
126
Имеются ли у вас рекомендательные письма… — Кюстин еще в Париже получил рекомендательные письма к директору императорских театров А. М. Гедеонову и обер-церемониймейстеру И. И. Воронцову-Дашкову (см.: Tarn. P. 514; НЛО. С. 107, 127); в Киссингене А. И. Тургенев дал ему рекомендательные письма к московскому почт-директору А. Я. Булгакову и к П. А. Вяземскому. Первого Тургенев просил принять Кюстина «с истинно московским гостеприимством» (НЛО. С. 116), а второму предлагал познакомить гостя в Петербурге с писателем и ученым В. Ф. Одоевским, историком-библиографом, знатоком записок иностранцев о России Ф. П. Аделунгом и поэтессой К. К. Павловой, а если тот поедет в Москву, «передать его Булгакову и Чаадаеву, моим именем, и Свербеевой для чести русской красоты» (ОА. Т. 4. С. 79). E. А. Свербеева, московская приятельница Тургенева, мыслилась тому аналогом г-жи Рекамье, а салон Свербеевых — аналогом парижского салона Рекамье в Аббеи-о-Буа). По-видимому, в Киссингене же Варнгаген снабдил Кюстина письмом к педагогу и литератору Я. М. Неверову (НЛО. С. 127). О причинах, по которым Кюстин не встретился с теми представителями русской культурной элиты, которым хотел «передать» его Тургенев, см. наст. том и примеч. и: (НЛО. С. 108–110).
127
…моя коляска была отправлена… на имя некоего русского князя… — С просьбой помочь ему отыскать пропавшую коляску Кюстин обратился к своему новому русскому знакомцу — князю Козловскому, а тот в свою очередь переадресовал просьбу своему приятелю П. А. Вяземскому, вице-директору департамента внешней торговли Министерства финансов; в ответном письме секретарю Козловского Штюберу Вяземский заверял: «Я немедля отдам необходимые распоряжения таможне, дабы там разобрались в недоразумении, происшедшем с маркизом де Кюстином, и возвратили ему его экипаж как можно раньше» [НЛО. С. 129].
128
Гостиница Кулона находилась по адресу: Михайловская площадь, дом 8.
129
…хваленая статуя Петра Великого… — Почти все европейские путешественники считали своим долгом описать знаменитую статую, «предмет восхищения всей Европы» (Schnitler. P. 223), но восхищение это было отнюдь не всеобщим. Так аббат Жоржель, автор «Путешествия в СанктПетербург» (1818), упрекал скульптора в том, что он обтесал и отполировал глыбу-пьедестал, чем испортил впечатление от памятника, а г-жа де Сталь в книге «Десять лет в изгнании» (изд. 1821) критикует использование в памятнике змеи; сознавая, что функция ее — «удерживать в равновесии колоссальные фигуры всадника и коня», она возражает против вкладываемого в памятник смысла: Петру, по ее мнению, следовало опасаться не столько «пресмыкающихся» царедворцев, сколько приверженцев старины (см.: Voyage en Russie. P. 218–219; 223; Россия. С. 39). О скептических репликах на памятник, изваянный Фальконе, в русской прессе 1830-х гг., см.: Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить…» М., 1987. С. 56–58.
130
Собор Святого Исаака — Исаакиевский собор, строившийся в 1818–1858 гг. по проекту уроженца Франции Огюста Рикара (Августа Августовича) Монферрана (1786–1858); к 1839 г. были уже сооружены все четыре портика, но еще не завершен купол, и собор стоял в лесах.
131
…Зимний дворец… возродился из пепла. — Вечером 17/29 декабря 1837 г. из-за неисправности печной трубы в Зимнем дворце вспыхнул пожар, произведший огромные разрушения (уцелели лишь стены и своды первого этажа). Для восстановления дворца 29 декабря 1837 г. была создана специальная комиссия под председательством министра двора князя П. М. Волконского. Общее руководство строительными работами было поручено генералу П. А. Клейнмихелю, стараниями которого Зимний дворец «возникал из огня на трупах работников» (Герцен А. И. Сочинения. М., 1958. Т. 7- С. 358). На строительстве трудились ежедневно по 8-10 тысяч работников. К весне 1839 г. была завершена первая очередь восстановительных работ; все основные работы были завершены в 1840 г. Европейские читатели были склонны верить картине строительства, нарисованной Кюстином; см., например, в дневнике герцогини де Дино 24 мая 1843 г.: «Я знаю Россию и русскую жизнь недостаточно хорошо, чтобы проверить точность рассказов и описаний, однако как из преданий, так и из собственных моих сношений с русскими я знаю довольно, чтобы понять, что описания Кюстина вполне правдоподобны. Так, все, что он рассказывает о тысячах рабочих, принесенных в жертву ради скорейшего восстановления императорского Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, я слышала в Берлине» (Dino. P. 270–271). О тяжелых условиях, в каких трудились рабочие на восстановлении дворца, Кюстин мог слышать от французского посла Баранта, который в своих посмертно изданных «Заметках» о России специально подчеркивает, что «в обществе об этом не говорили»; а сам он узнал страшные подробности «случайно, после смерти французского художника и французского архитектора, работавших во дворце»; картина, которую рисует в своих «Заметках» Барант, разительно напоминает Кюстинову: «Я слышал от князя Василия Долгорукова, в обязанности которого входил надзор за этими работами, что во дворце имелись комнаты, куда невозможно было войти, не снявши фрака и галстука, а между тем в комнатах этих трудилось множество рабочих. Император навещал строительство ежедневно, почитая его делом своей жизни, главной своей заботой. Испарения гипса, необычайная жара, внезапный переход в другую атмосферу, на морозные зимние улицы, умножали среди рабочих болезни, нередко приводившие к смертельному исходу» (Notes. P. 305–307). Авторы антикюстиновских брошюр (Греч и Толстой) решительно опровергали утверждения Кюстина о гибели рабочих на строительстве дворца; Греч добавлял, что русскому человеку смена температур не страшна: недаром русские из бани бросаются в снег. Заметим, что далеко не все французские путешественники, побывавшие в России на рубеже 1830-1840-x гг., уделяли судьбе рабочих, восстанавливавших дворец, такое же внимание, как Кюстин; так, К. Мармье, посетивший Россию в 1842 г., просто констатирует, что дворец сгорел и был возведен заново в несколько месяцев (Marmier. Т. 1. P. 273). Тон, в каком Кюстин рассказывает о реконструкции дворца, резко контрастировал с риторикой русских официозных сочинений, в которых подчеркивалась чудесная мощь царя, по чьей воле дворец «к назначенному дню встал, прекрасный, из развалин, и это истинное чудо, едва постижимое, совершилось не волшебством, но действием слова, сказанного Государем, вполне постигшим свой народ, и чувством народа, беспредельно и свято преданного Государю» (Башуцкий А. П. Возобновление Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. СПб., 1839. С. 70); ср. у Кюстина ниже полемику с высказываниями такого рода. Характерно, что особо подчеркивалась «русскость» свершившегося чуда, которого иностранцам, «думавшим и писавшим, что едва ли достаточно и двадцати лет, чтоб воссоздать дворец таким, каков он был до пожара», не понять: «Те могут только разгадать это, кому близко знакома Русь» (Там же. С. 74). Среди официозных «топосов» в описаниях возрожденного дворца следует назвать также параллель Николай I — Петр I, не раз используемую и Кюстином: «Петр Великий сделал из России, в четверть столетия, то, на что требовались в других европейских государствах многие веки, и правнук дивного Петра сказал, что он чрез год будет встречать праздник Светлого Воскресения в стенах возобновленного дворца — сказал, и дворец возродился из развалин к назначенному дню» (Северная пчела. 5 апреля 1839 г.). Здесь нелишне напомнить, что сразу после переезда царской семьи в восстановленный Зимний обнаружился фундаментальный дефект вентиляционной системы, который, по мысли великой княжны Ольги Николаевны, служил постоянным источником легочных заболеваний ее родных (см.: Сон юности. С. 117; ср.: Там же. С. 132). Недостатки восстановленного дворца не были тайной и для посторонних; Гагерн замечает (в августе 1839 г.): «Невыгодные последствия столь большой поспешности повсюду видны в Зимнем дворце: сырые, нездоровые стены; все комнаты летом много топились для просушки, поэтому уже во многих апартаментах стало невозможно жить» (Россия. С. 671). Таким образом, сбылись предсказания о том, что «от чрезмерно скорой отделки неминуемо должно во вновь возведенных стенах и каменных сводах остаться много сырости», которые зафиксировало III отделение еще в 1838 году (ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. № 3л. 162 об.).
132
…бракосочетания великой княжны… — Марии Николаевны (1819–1876), старшей дочери императора, которой предстояло стать женой герцога Максимилиана Лейхтенбергского (1817–1852). Об этой свадьбе, на которой Кюстин присутствовал, подробнее см. ниже, в письме одиннадцатом.
133
Герберштейн Сигизмунд фон (1486–1566) — немецкий дипломат, побывавший в России, при дворе великого князя московского Василия III Ивановича (1479–1533) в 1517 и 152^ гг. и оставивший «Записки о московитских делах» (см.: Россия XV–XVIII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 31–150); был послом Максимилиана I Габсбурга (1459–1519) — австрийского эрцгерцога, с 1493 г. императора «Священной Римской империи».
134
…в истории Карамзина… — Кюстин читал «Историю государства Российского» во французском переводе Жоффре и Сен-Тома, начавшем выходить в 1819 г., еще при жизни Карамзина, под названием «История России» (см.: Быкова Т. А. Переводы произведений Карамзина//ХVIII век. Сб. 8. Л., 1969. С. 337; Corbet Ch. L'opinion franyaise face a l'inconnue russe. P., 1967. P. 120–122); Кюстин пользовался парижским изданием 1826 г. (т. 1-11).
135
«(Царь) скажет, и сделано»… — Карамзин. Т. VII. гл. IV.
136
«Удивительно ли… что Великий князь богат?..» — Карамзин. Т. VII. гл. IV.
137
…соучастниками и жертвами которых они являются. — Примечание Кюстина к изданию 1854 г. «У нас работа дает человеку жить; в России она его убивает, если, конечно, не ведется медленно и осторожно».
138
Петербург, 12 июля… — По старому стилю 30 июня.
139
«Дрожка» — В первом и втором издании Кюстин употребляет это слово именно в такой форме; ему указали на ошибку (см., например, Chaudes-Aieues. П. 341–342), и он стал чисать «дрожки» (см. т. 2, Дополнение 1). В настоящем переводе слово употребляется так, как принято в русском языке.
140
…либо плоская шляпа с маленькими полями… — Речь идет о так называемом кучерском цилиндре — «жесткой шляпе с низкой, сильно расширяющейся кверху тульей» и донышком из лакированной кожи (Кирсанова. С. 313)
141
Когда Петр Великий ввел то, что называют здесь чином… в полк немых солдат… — Представления о России как о государстве полностью военизированном, где деспотическая власть уподобляет всех подданных-рабов солдатам и нещадно эксплуатирует их честолюбие, бытовали во французской словесности от «Путешествия в Сибирь» аббата Шаппа д'Отроша (1768) до Ансело, писавшего: «Табель о рангах превратила все дворянство в один нескончаемый полк, а империю — в просторную казарму» (Ancelot. Р. 88–89), и даже обсуждались в Палате депутатов (например, в дискуссии о намерении приравнять военных чиновников к кадровым офицерам 30 апреля 1838 г. Россия была упомянута как страна, существенным изъяном которой является подчинение всей системы управления воинскому уставу). В кюстиновском описании «чина» можно различить и отзвук бесед с Козловским, который в «Опыте истории России» констатировал: «Стремясь заставить всех служить, Петр I возымел сумасбродное намерение уравнять все виды службы при помощи ни с чем не сообразной условной классификации. Он создал табель о рангах: так, титулярный советник приравнен к капитану, коллежский асессор — к майору. Это — звания в абсолютном смысле, как в военном сословии, и обладатели их переходят из одного ведомства в другое, как из одного полка в другой.»
142
Моро Жан Виктор (1763–1813) — французский полководец, сподвижник Наполеона; разочаровавшись в первом консуле, Моро примкнул к роялистскому заговору Кадудаля и Пишегрю, за участие в котором был в 1804 г. арестован и выслан из Франции; жил в Америке, в 1813 г. вернулся в Европу и получил от Александра I должность военного советника; был смертельно ранен в бою под Дрезденом. В начале 1820-x гг. за Кюстина сватали — неудачно — дочь Моро; в 1829 г. Кюстин выпустил отдельной брошюрой стихотворное послание «На могилу генерала Моро». Кюстин, мысливший параллелями и антитезами, упоминает могилы обоих изгнанников (польского короля и французского генерала); предшественник же Кюстина Ансело ограничился описанием могилы Моро, «которую ни один француз не может видеть без боли. Разве в Петербурге следовало покоиться праху этого полководца, столь славно сражавшегося на поле брани и столь мужественно сносившего удары судьбы?» (Ancelot. P. 227–229).
143
…при въезде в город, только что покинутый Наполеоном. — 4 марта 1814 г. вместе с прусским королем и австрийским фельдмаршалом Шварценбергом во главе союзных войск. Наполеон в это время находился в Фонтенбло. Кюстин не присутствовал при въезде союзников в столицу, так как с середины февраля до 10 апреля оставался в Нанси среди сторонников графа д'Артуа.
144
…к французскому послу. — Речь идет о бароне Проспере Брюжьере де Баранте (1782–1866), после в 1835–1841 гг., беседам с которым, по нашему предположению, Кюстин обязан многими сведениями о России. К Баранту, выходцу из того же светского и литературного круга, к которому в молодости принадлежала Дельфина де Кюстин, автор «России в 1839 году» относился с симпатией. «Его любезный ум живо напомнил мне Францию доброго старого времени, а тонкость наблюдений сообщила великую занимательность беседе с ним о здешних краях, — писал Кюстин г-же Рекамье 22 августа / 3 сентября 1839 г. из Нижнего Новгорода, — он смотрит на Россию более снисходительно, чем я, — быть может, по обязанности» (цит. по: Cadot. P. 221).
145
…бракосочетание… послезавтра… — То есть 2/14 июля.
146
…острова… будто попал в английский парк. — Ср. впечатления, какое произвели петербургские острова на Баранта: «Вообразите пространство площадью примерно в два квадратных лье — газон, рощи и сады, орошаемые тысячью ручейков, речек и озер, а кругом, до самого берега моря — высокие сосны. Здесь у всех жителей Петербурга имеются загородные дома, прекрасно ухоженные, прекрасно обставленные и утопающие в цветах. Никаких загородок, всякий может гулять, где хочет, и тем не менее дорожки для прогулок в прекрасном состоянии; одним словом, — огромный общественный сад… Что до зелени, догадайтесь сами, свежа ли она? Жизнь здесь ведут городскую, не деревенскую» (Souvenirs. Т. 5. Р. 400). Более скептически отозвался об островах посетивший их почти одновременно с Кюстином полковник Гагерн: «…печальная растительность, состоящая из берез и елей, елей и берез, вовсе не такого свойства, чтобы вызвать восхищение. При этом климате садоводство не удается, несмотря ни на какие старания» (Россия. С. 673)
147
Парижане… назвали бы эту… местность русскими Елисейскими полями… — Парижские Елисейские поля в первой трети XIX века еще не были той роскошной городской артерией, какой они являются сейчас; в 1800 г. там было всего шесть домов, а в основном пространство было занято садами, прилегавшими к богатым особнякам параллельной улицы — улицы Предместья Сент-Оноре. Застройка Елисейских полей, причем не жилыми домами, но различными увеселительными заведениями (театрами, кафе и проч.), началась лишь в 1830-е годы.
148
«Жимназ драматик» («Драматическая гимназия») — парижский театр, открытый в 1820 г. и представлявший исключительно водевили и музыкальные комедии.
149
Поль де Кок (1793–1841) — французский писатель, чье имя сделалось символом фривольной и забавной беллетристики, описывающей жизнь «средних» классов.
150
…вся эта безлюдная местность отойдет к ее первоначальным хозяевам. — Постройка Петербурга начиная с XVIII века понималась как деяние нового культурного героя, бросающего вызов силам природы и отвоевывающего земную твердь у враждебной стихии. Во французской словесности такая трактовка восходит к Вольтеру, который в «Истории Карла XII» (1732. кн. 3) писал, что «царь упорствовал в желании населить край, по видимости не предназначенный для людей», и основал новый город «вопреки препятствиям, какие воздвигали перед ним природа, дух народов и неудачная война»; из ближайших предшественников Кюстина об основании Петербурга как проявлении деспотической воли самодержца особенно подробно писал Ансело (см.: Ancelot. Р. 40–41; см. также: Вацуро В. Э. Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1969. Т. 6. С. 164–166). Сходные мотивы встречались и в современной Кюстину французской прессе; см., например, в анонимной статье «Петербург и Константинополь»: «В каждом европейском городе прошлое связано с будущим и являет собою плод неустанных трудов и усилий народа. Петербург же, напротив, есть не что иное, как грандиозная импровизация абсолютной власти. Царь сказал: „Я хочу, чтобы здесь воздвигся город“ — и город появился» (Le Polonais. 1834. Т. 3. П. 276). Ср. также у Мицкевича определение Петербурга как «триумфа императорской воли над трупами московитов» (Michiewicz. P. 236–237; ср. с французским прозаическим переводом русский стихотворный: Мицкевич. Т. 3. С. 260). Что же касается предсказаний гибели Петербурга, то первые из них были зафиксированы еще при Петре в форме заклятий: «Петербургу быть пусту» (см. Анциферов Н. П. Душа Петербурга. Приложение к репринтному воспроизведению. М., 1991. С. 26–27).
151
— среди его подданных… царит то равенство… — Ср. сходное впечатление Баранта о «равенстве в послушании абсолютному владыке» (Notes. P. 109) — диагноз, поставленный применительно к деспотическим государствам вообще, в «Духе законов» Монтескье. Ниже, в письме двадцать девятом, Кюстин сам опроверг это утверждение о равенстве подданных деспота в России (см. т. 2, с. 172).
152
Русское правительство — абсолютная монархия, ограниченная убийством… — Форма этого афоризма восходит к мысли Шамфора (1741–1794): «Французское правительство — монархия, ограниченная песнями» (Шамфор. Характеры и анекдоты, № 853; в подлиннике у Шамфора и Кюстина одно и то же же слово: tempcree), а содержание — к «славной шутке госпожи де Сталь» (определение Пушкина из «Исторических заметок» 1822 г.): «деспотические правительства, не ограниченные ничем, кроме убийства деспота» («Десять лет в изгнании», 1821); на тот факт, что Сталь перефразировала Шамфора, впервые указал Ю. М. Лотман (см.: Лотман. С. 364–365) Приведенную выше мысль Шамфора без ссылки на него цитирует в своем опровержении Лабенский (Labinski. P. 43). Вообще мысль об удавке как о единственном средстве «ограничить» абсолютного монарха неизменно посещала людей, побывавших при русском дворе; ср. например, письмо сардинского посланника в Петербурге Ж. де Местра сардинскому королю Виктору-Эммануилу I от 2/14 июня 1813 г.: «Здесь много говорят о всемогуществе императора российского, но забывают, что менее всего могуч тот государь, который все может <…> Султан или царь могут, если им угодно, обезглавить или наказать кнутом, и на это говорят: ах, как он могуществен; а следует сказать: ах, как он бессилен! — так как его могут на другой же день задушить» (РА. 1912. Т. 1. С. 59)
153
Полк кавалергардов — императрица с 1826 г. была шефом этого полка.
154
…Петр I пустил на позолоту дукаты… — Из книги Шницлера автор «России в 1839 году» мог бы почерпнуть более точную информацию: кирпичное Адмиралтейство было выстроено на месте каменного лишь в 1727 г., после смерти Петра, а золотом дукатов его шпиль покрыли в 1734 г. по приказу Анны Иоанновны. Адмиралтейство, которое видел Кюстин, было выстроено на основе прежнего в 1806–1823 гг. архитектором А. Д. Захаровым.
155
Народ здесь красив… Женщины из народа не так хороши… — Критики Кюстина, осведомленные о его сексуальных пристрастиях, нередко иронизировали над подобными оценками; меж тем и наблюдатели, не уличенные в предосудительных наклонностях, высказывали сходные суждения. О том же писал в своей книге о России Кс. Мармье (Marmier. Т. I. Р. 321), полковник Гагерн замечал: «Длинные бороды, придающие лицу мужчин характер и выражение, некоторым образом скрадывают у них безобразие, но среди простого народа не заметишь сносного женского лица: все не только безобразны, но еще и очень рано стареются» (Россия. С. 673), доктор Эжен Робер, одновременно с Кюстином побывавший в Нижнем Новгороде (см. о нем ниже, т. 2., с. 262), в своей книге о России, по словам А. И. Тургенева, хвалил «добродушие крестьян наших, но не красоту прекрасного пола» (письмо к Е. А. Свербеевой от 26 января 1841 г. — РА. 1896. № 2. С. 199)
156
…носят лишь кормилицы да светские женщины в дни придворных церемоний… — «Национальные» придворные костюмы, введенные Николаем I по контрасту с предыдущим царствованием, когда общий придворный стиль был максимально европеизирован, состояли из кокошников и «сарафанов с треном, расшитых золотом» (Тютчева. С. 32). Их подробное описание и указание на то, что прежде в сарафанах и кокошниках ходили только крестьянки и взятые в город кормилицы, Кюстин мог найти в книге д'Оррера «Преследования и муки католической церкви в России» (Horrer J.-M. de. Persecutions et souffrances de l'Eglise catholique en Russie. P., 1842. P. 130–131), которая была ему хорошо известна. Историю «дамского мундира» в русском стиле, введенного законом 27 февраля 1834 г., но практически появившегося уже в самом начале царствования Николая I, в 1826 г., см. в кн.: Кирсанова. С. 245–248.
157
…расширяющаяся кверху картонная башенка, расшитая золотом. — Кюстин описывает кокошник — старинный женский головной убор в виде высокого щитка разнообразной формы надо лбом. Николай I строго следил за единообразием формы кокошников, и когда «на большом дворцовом балу 6 декабря 1840 г. некоторые дамы позволили себе отступить от этой формы и явились в кокошниках, которые, вместо бархата и золота, сделаны были из цветов, государь тотчас это заметил и приказал министру императорского двора князю Волконскому строго подтвердить, чтобы впредь не было допускаемо подобных отступлений», вследствие чего петербургский военный генерал-губернатор Эссен заставил всех дам и девиц, к их ужасу, расписываться на листе с письменным объявлением императорской воли «в прочтении сего объявления» (Из записок М. А. Корфа // PC. 1899. № 8. С. 295).
158
…теперь продавать крестьян без земли запрещено. — Вопрос о запрещении продавать крестьян без земли имел долгую историю, но не был окончательно разрешен до полной отмены крепостного права: в 1812 г. было запрещено «выдавать верющие письма и совершать по ним купчие крепости на продажу людей поодиночке и без земли», но касалось это лишь продажи по доверенности; в 1820 и 1823 г. вопрос о запрещении безземельной продажи обсуждался в Государственном совете, но решения принято не было; Николай I поручил рассмотрение этого вопроса секретному комитету, созданному 6 декабря 1826 г., и в 1830 r. безземельная продажа едва не была запрещена, но дело опять-таки кончилось ничем (см.: Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России. СПб., 1888. Т. I. С. 494–495. Т. 2. С. 16–17). Семевский высоко оценил проницательность Кюстина, сумевшего «понять опасность безземельного освобождения» (см.: PC. 1887. № 12. С. 620). Некоторые сведения о жизни российских крестьян Кюстин мог почерпнуть из книги француза П.-Д. Пассенана «Россия и рабство в их отношениях с европейской цивилизацией» (1822); о том, что крестьяне, мечтая о свободе, полагают, что вместе с нею им дадут и землю, а когда узнают, что земля принадлежит помещикам, будут крайне разочарованы, писал и Ансело (Ancelot. P. 78).
159
…император становится кредитором и казначеем всех русских дворян… — Дворянский заемный банк, дававший ссуды под залог имений, был учрежден Павлом I в 1797 г. Ср. мнение историка о комментируемом пассаже Кюстина: «Это — не случайное объяснение, придуманное для любопытствующего иностранца, а официальная точка зрения. III Отделение всерьез полагало, что толчком, побудившим декабристов на террор против царской фамилии, было желание освободиться от своего кредитора. „Самые тщательные наблюдения за всеми либералами, — читаем мы в официальном докладе шефа жандармов, — за тем, что они говорят и пишут, привели надзор к убеждению, что одной из главных побудительных причин, породивших отвратительные планы людей 14-го, были ложные утверждения, что занимавшее деньги дворянство является должником не государства, а царствующей фамилии. Дьявольское рассуждение, что, отделавшись от кредитора, отделываются и от долгов, заполняло главных заговорщиков, и мысль эта их пережила…“» (Троцкий И. III-е Отделение при Николае I. Л., 1990. С. 23–24). На то, что обычай закладывать имения приобрел из-за мотовства дворян «важное политическое значение», довольно деликатно и туманно указывает также Ансело (Ancelot. P. 90–94)
160
«Русские сгнили, не успев созреть». — Фраза, приписываемая Д. Дидро, который, впрочем, от авторства отказывался (см.; Tourneux М. Diderot et Catherine II. Р., 1899. P. 582). Смысл этого утверждения был оспорен г-жой де Сталь: «Много восхваляли знаменитые слова Дидро: „Русские сгнили прежде, чем созрели“. Я не знаю мнения более ошибочного: даже их пороки, за небольшим исключением, мы должны приписать не их испорченности, но силе их нравственного закала» (Россия. С. 36). Выражение это имело популярность среди критиков России; так, согласно донесению Я.Н. Толстого, адмирал П. В. Чичагов (с 1813 г. живший вне России) в 1842 г. проповедовал в салонах, «что Россия — европейская Ирландия, что она сгнила, не созрев, и проч., и проч.» (ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 4. № 194–261; донесение от 1/13 октября 1842 г.).
161
Не надейтесь отыскать хоть один путеводитель… — Толстой (Tolstoy. P. 56) упрекает Кюстина в незнании книги Свиньина, изданной в 1816–1818 гг. одновременно и по-французски (перевод, впрочем, аттестован Шницлером как «скверный» — Schnitzler. P. 229). В самом начале 1839 г. (рецензия на него в «Северной пчеле» напечатана 27 февраля 1839) был выпущен «Карманный указатель города Санкт-Петербурга с планом» «Manuel portatif de Saint-Petersbourg avec un plan» на двух языках — русском и французском, очевидно, ускользнувший от внимания Кюстина.
162
…сегодня высказывать беспристрастные суждения об этом человеке… небезопасно… — О культе Петра в николаевскую эпоху см., напр.: Аронсон М. «Конрад Валленрод» и «Полтава» // Пушкин: Временник пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 43–50, Костина Н. Г. Освещение Петра I в русской периодической печати в первые годы после 14 декабря 1825 года // Уч. зап. Горьковского гос. ун-та. 1966. Серия ист. — филолог. Вып. 78. С. 653–655; Старые годы. Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX века. М., 1989. Следует, однако, заметить, что к одному из главных информаторов Кюстина, Баранту, восходит свидетельство о достаточно критической оценке петровского «западничества», данной Николаем I (см.: Осповат А. Л. Прения о русской столице // Лотмановский сборник. I. М., 1995. с. 478). В контексте книги Кюстина, где Петр предстает не только благотворным реформатором, но и безжалостным мучителем людей и убийцей собственного сына (см. письмо двадцать шестое), параллель между двумя императорами наполнялась далеко не только комплиментарным смыслом, на что обратил внимание Сен-Марк Жирарден в своей рецензии на книгу (статья вторая — «Journal des Debats», 24 марта 1844 г.), которую Я. Н. Толстой в своей «антикритике» («Письмо русского французскому журналисту о диатрибах французской прессы») назвал эпизодом «дуэли» между журналистом и монархом (Tolstoy. Lettre. P. 7).
163
…тайные любовные похождения, которые злые языки приписывают ныне царствующему императору. — Толки о волокитстве Николая Павловича, постоянно циркулировавшие в Петербурге и проникавшие даже в семейное окружение императора (см.: Сон юности. С. 95) впервые в России были опубликованы (и преувеличены) в статье Н. А. Добролюбова «Разврат Николая и его приближенных любимцев» (1855). Фактическая основа некоторых подобных слухов рассмотрена в статье: Цявловский М. А. Записи в дневнике Пушкина об истории Безобразовых // Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 240–251. Упоминания о том, что Николай I, который «долгое время был образцом супружеской верности, ныне явно пренебрегает женой» (Times, 26 октября 1837 г.), в конце 1830-х гг. появлялись на страницах враждебной России европейской прессы довольно часто. Например, осенью 1838 г. сразу несколько французских газет республиканского направления коснулись отношений российского императора с его фавориткой Амалией Крюденер, женой русского дипломата А. С. Крюденера и кузиной (по женской линии) императрицы Александры Федоровны (ср.: Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 8–9) — В этой связи Я. Н. Толстому пришлось помещать в субсидируемой им газете «La France» (28 октября 1838 г.) опровержение «коварных измышлений», которые превращают всесильного императора в «героя самого жалкого романа».
164
Господин Репнин управлял империей и императором… — Князь Николай Григорьевич Репнин (1778–1845). B 1816–1834 гг. — губернатор Малороссии, с 1834 г. член Государственного совета, вскоре после назначения на эту последнюю должность был уличен в присвоении казенных денег (которые, однако, потратил на постройку благотворительного Института полтавского дворянства — см.: Русский биографический словарь. СПб., 1913. Т. 16. С. 215) и 28 июня 1836 г. уволен от службы, после чего выехал за границу, где жил до 1842 г., а затем вернулся на Украину, где и скончался. Авторы антикюстиновских сочинений подчеркивали, что Репнин не управлял ни империей, ни императором, а был самым обычным губернатором. Кюстин мог слышать историю Репнина, в 1839 г. уже не являвшуюся свежей новостью, от Баранта, который в свое время (2 июля 1836 г.) доносил Тьеру: «Император только что произвел строгий и всех поразивший суд. Князь Репнин — человек, пользующийся большим уважением в армии, в правительстве, при дворе, был два года назад генерал-губернатором Украины. При принятии мер против неурожая были допущены большие беспорядки по административной части. Узнав об этом, император уверился, что в этих скандальных уступках виновен князь Репнин. Он лишил его всех должностей и учредил судебное дознание» (АМАЕ. Т. 191. Фол. 171; ср. о том же: Notes. P. 155). Барант, впрочем, интерпретирует историю Репнина иначе, чем Кюстин; для него это — проявление борьбы с коррупцией, которая, однако, ничуть не уменьшается.
165
…отставка… Шуазеля стала его победой… — Этьенн Франсуа, герцог де Шуазель (1719–1785), государственный секретарь по иностранным делам в 1758–1770 гг. благодаря покровительству фаворитки Людовика XV г-жи де Помпадур пользовался огромной властью; денежные затруднения государственной казны из-за больших военных затрат вкупе со смертью г-жи де Помпадур стали причиной его отставки; он удалился в свое имение Шантелу, немедленно сделавшееся центром оппозиции, и вскоре получил дозволение вернуться в Париж, где, однако, активной политической деятельности уже не вел.
166
Они обожают императора… — Ср. эпизод из жизни русского двора, который по ходу чтения «речей, пересказываемых г-ном де Кюстином», припомнила герцогиня де Дино: русская родственница при прощании сказала герцогине, что у той сегодня «императорское лицо» и в ответ на недоумение герцогини пояснила: «Когда в Петербурге у кого-нибудь особенно доброе лицо, мы называем его императорским» (Dim. P. 278; запись от ад мая 1843 г.) Обожание императора Николая Павловича являлось существенным атрибутом социального этикета буквально всех сословий; столичной и провинциальной бюрократии (многочисленные свидетельства на этот счет содержит, к примеру, обширная переписка А.Я. и К.Я. Булгаковых), гвардии (см. в особенности «Отец Сергий» Л. Н. Толстого), художественной интеллигенции (см., в частности: Каменская М. Воспоминания. М., 1991 С. 165–166), духовенства, купечества и простолюдинов. Возникновению этого культа много способствовала сама наружность императора, которая «сделалась, так сказать, легендарной по всей России; он представлялся народу чем-то вроде сказочного богатыря» (Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. Л., 1988. С. 419)
167
…то непременно искусает. — Примечание Кюстина к изданию 1854 г. (Крымская война была уже в разгаре): «Автор и сам не подозревал, насколько верны эти слова».
168
…лейб-медика… несмотря на его русское происхождение… — В 1829–1839 гг. лейб-медиком Николая I состоял Николай Федорович Арендт (1785–1859), происходивший из давно обрусевшей немецкой семьи.
169
Граф Воронцов — Иван Илларионович Воронцов-Дашков (1790–1864), к которому у Кюстина имелось рекомендательное письмо от русского посла в Париже графа Палена.
170
…представлюсь ему на балу. — Представление состоялось перед балом.
171
14 июля 1839 года… — По старому стилю 2 июля.
172
…свадьба сына Евгения де Богарне… — Жених великой княжны Марии Николаевны, герцог Максимилиан Лейхтенбергский (1817–1852), был сыном принцессы Августы Баварской и Евгения де Богарне (1781–1824). Следовательно, он приходился внуком виконту Александру де Богарне (1760–1794), первому мужу императрицы Жозефины и возлюбленному Дельфины де Кюстин (см. примеч. к наст. тому, с. 47 и 49). Евгений Богарне, пасынок Наполеона и его ближайший сподвижник, носивший в эпоху Империи титул вице-короля Италии, был женат на баварской принцессе Августе и после 1815 г. удалился в Баварию, где получил от своего тестя Максимилиана I титул герцога Лейхтенбергского. На его сына падал, таким образом, дальний отсвет славы Наполеона, что возвышало юного герцога в глазах российского императора, поклонника французской армии (см. признание Николая I французскому дипломату Кюсси: «Я всегда был и остаюсь величайшим поклонником французской армии. Мы не раз себе в ущерб учились уважать ее; а какие в ней солдаты!» — Cussy F. de. Souvenirs. P., 1909 Т. 2. Р. 276). Царь высоко ценил «имена, напоминающие об эпохе Империи» (Souvenirs. Т. 6. Р. 626), и лично отца жениха, Евгения Богарне, за «рыцарский характер» и «верность, не пошатнувшуюся даже в несчастии» (Сок юности. С. 92). «Наполеоновская» тема получила любопытное продолжение в 1852 г., после смерти герцога Лейхтенбергского; жалея молодую вдову с шестью детьми, управляющий III Отделением Л. В. Дубельт записал в дневник: «Дай Бог! чтобы она опять, через год или два вышла замуж и чтобы новые узы утешили ее и государя. Вот бы ей муж Людовик Наполеон» (Российский архив. М., 1995. Т. 6. С. 139). Выбор жениха для великой княжны из числа потомков Наполеона был демонстративен и подчеркивал отчуждение Николая от Орлеанской династии, правившей Францией, — тем более, что в 1837 г. среди возможных супругов Марии Николаевны обсуждалась и кандидатура старшего сына Луи-Филиппа, герцога Орлеанского (см.: АМАЕ. Т. 192. Fol. 226). Однако решающим фактором для Николая I явилось согласие жениха переехать на жительство в Россию, покидать которую его дочь решительно отказывалась (см.: Сон юности. С. 102). В связи со свадьбой герцог Лейхтенбергский стал российским подданным с титулом императорского высочества; в манифесте императора по случаю бракосочетания великой княжны значилось: «Мы утвердим местопребывание ее императорского высочества с супругом ее в России» (Северная пчела. № 146. 4 июля 1839). В обществе отношение к этому браку было скорее скептическое. «Когда я думаю, что это будет первая свадьба в императорском семействе, что ангела красоты и добродетели, любимую дочь императора хотят выдать за сына частного лица, отпрыска не слишком знатного рода, возвысившегося исключительно благодаря узурпации, моя национальная гордость страдает, и я тщетно пытаюсь найти оправдания этому выбору», — писала 18/30 ноября 1838 г. русская католичка С. П. Свечина жене русского вице-канцлера графине Нессельроде (Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode. P., 1908. Т. 7. P. 278–279). Отчет Третьего Отделения за 1839 год отмечал, что «сначала в публике не одобряли брак русской царевны с лицом, напоминающим России о ее бедствиях в 1812 г., и брак сей почитали ниже достоинства нашего царствующего дома» и «ропот умолк», лишь когда в народе узнали, что великая княгиня «и по замужестве останется в кругу своего августейшего семейства» (ГАРФ. Ф. 109. On. 223. № 4. Л. 138 об.). Недовольны были и в Германии: «Подлая берлинская свора во главе с моим шурином Карлом без умолку позорят бедную Мари и кричат о мезальянсе и скандальности подобного брака», — возмущался Николай в письме к жене 17/29 мая 1839 г. (Schiemann. S. 494). Осуждала Николая не только родня жены, но и его собственная сестра, великая герцогиня Веймарская Мария Павловна (см.: РА. 1875. Т. 2. С. 348) и его сын и наследник Александр Николаевич «тоже не видел ничего хорошего» в этом мезальянсе (Сон юности. С. 103). Однако была у этого брака и другая сторона, которая импонировала наблюдателям, лишенным аристократических предрассудков, — он был «основан на свободном взаимном чувстве» (Варнгаген). Петербургские слухи гласили: «Император уже теперь любит герцога Лейхтенбергского как родного сына и охотно уступил воле великой княжны, которая еще в двенадцать лет сказала, что не покинет Россию, и принималась плакать, лишь только с нею заводили разговор о замужней жизни вне отечества. Козловский уверяет, будто сказал императрице: „Во дворце вашего императорского величества недоставало идиллии, но теперь вы ее получили“» (А. И. Тургенев — Н. И. Тургеневу, 25 мая / 6 июня 1839 г. — РО ИРЛИ. Ф. 309. № 706. Л. 3 об.). Брак Марии Николаевны оказался, однако, не очень счастливым: еще при жизни мужа она влюбилась в графа Г. А. Строганова, с которым в 1854 г. обвенчалась тайно от отца. Толки о разногласиях среди супругов начались вскоре после свадьбы. 27 сентября 1839 г. А. И. Тургенев сообщал из Петербурга брату Н. И. Тургеневу о том, что слышал от великого князя Михаила Павловича: «герцогиня Лейхтенбергская страдает от своего нового состояния (Лейхтенбергский не согласился, чтобы детей его воспитывали в греческой вере, и объявил об этом в самый день свадьбы; надеялись, что он уступит, но надежды не сбылись)» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 706. Л. 52 об.; подл. по-фр.).
173
С. 162. Живот можно замаскировать, но нельзя уничтожить. — Очевидцы свидетельствали, что Николай I реагировал на этот пассаж Кюстина очень эмоционально. По одной версии, император развеселился: «Читали ли вы Кюстина? — спросил он после обеда. — Живот можно замаскировать, но нельзя уничтожить, — повторял он, оглядывая самого себя и смеясь от всего сердца. Орлов сказал мне, что эта фраза весьма забавляет императора» (письмо австрийского посланника в Петербурге графа Фикельмона своей невестке графине Тизенгаузен от 23 сентября 1843 г. — Sonis F. de. Lettres du comte et de la comtesse de Ficquelmont a la comtesse Tiesenhausen. P., 1911. P. 54). По другой — менее достоверной — версии, император разгневался (см.; Головин И. Записки. Лейпциг, 1859. С. 94)
174
Император Александр был… иногда неискренен… — Характеристика, восходящая к знаменитому высказыванию Наполеона, назвавшего Александра хитрым «византийцем» (см.: Las Cases E. Memorial de Sainte-Helene. P., 1968. P. 182; первое изд. — 1823). Кюстин цитирует эти слова со ссылкой на Наполеона ниже.
175
Императрица… так слаба, что, кажется, не имеет сил жить: она чахнет, угасает… — Во второй половине 1839 г. императрица Александра Федоровна (1798–1860) перенесла тяжелую болезнь: «Она страдала легкими, и ей было запрещено не только выезжать, но много принимать у себя» (Сон юности. С. 115). «Императрица все нездорова, — писал А. И. Тургенев Н. И. Тургеневу 15/27 сентября 1839 г. — она простудилась от парижских башмачков и от танцев. О ней все жалеют, и я в особенности почти искренно. Она исчезает, хотя это состояние может продлиться. Кашель сошел в грудь (да к тому же у ней какой-то понос и часто возвращается). Боятся, что потеря эта может изменить к худшему еще характер государя. Кто ему ее заменит в домашней жизни? Детей переженит и выдаст замуж, но дети — не жена, которую он очень любит. Горизонт здешней жизни может еще более померкнуть» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 706. Л. 41 об.). Французский посол Барант 28 сентября 1839 г. докладывал в Париж маршалу Сульту: «Императрица была тяжело больна. Теперь ей лучше, но состояние ее все равно внушает тревогу» (АМАЕ. Т. 195. Fol. 134); a 12 октября 1839 г. уточнял: «Императрица чувствует себя гораздо лучше. Она оправляется от раздражения в груди, внушавшего самые серьезные опасения. Но возможно ли излечение от той слабости и того бессилия, в какие она, судя по всему, впала? Это пока сомнительно» (АМАЕ. Т. 195. Fol. 151). Только совершенной невинностью Б. Парамонова по исторической части можно объяснить его трактовку этого сюжета: императрица якобы была совершенно здорова, Кюстин же так старательно подчеркивал ее болезненность исключительно потому, что сам был неравнодушен к императору и подсознательно желал устранить соперницу (см.: Звезда. 1995. № 2. С. 185).
176
…от потрясения, которое пережила в день вступления на престол… — События 14 декабря 1825 г. произвели на Александру Федоровну такое сильное действие, что она заболела нервным расстройством, последствия которого давали о себе знать до конца ее дней.
177
…императору — слишком много детей. — Александра Федоровна родила четырех сыновей: Александра (1818–1881), Константина (1827–1892), Николая (1831–1891) и Михаила (1832–1909) и трех дочерей: Марию (1819–1876), Ольгу (1822–1892) и Александру (1825–1844)
178
…сказала одна польская дама… — Ж.-Ф. Тарн предполагает (не приводя, впрочем, аргументов), что этой дамой была княгиня Анна Чарторыйская (урожд. Сапега; 1796–1864), жена лидера аристократического крыла польской эмиграции в Париже князя Адама Чарторыйского.
179
…император запрещает русским путешествовать… — Заграничные паспорта выдавались с разрешения императора людям благонадежным и способным объяснить цель поездки (например, для лечения), да и то если политическая ситуация была благоприятной. Ср., например, типичный эпизод николаевского царствования: «Доктора сперва разными лекарствами меня пичкали и, наконец, объявили, что мне необходимо ехать в Карлсбад. Д. Н. Блудов выхлопотал мне, конечно, не без большого труда, дозволение мне ехать за границу, потому что вследствие июльской революции <1830 г.> во Франции и последовавших затем беспорядков и возмущений в Польше и Германии император почти никому не разрешал отъезда в чужие края» (Кошелев А. И. Записки. М., 1991). Из французской прессы Кюстин мог знать, что русское правительство постоянно подозревало подданных в желании обманом нарушить этот запрет; так, 30 декабря 1837 г. газета «Constitutionnel» сообщала: «Император, сочтя, что русские и польские дворяне нарочно записываются купцами, чтобы с большей легкостью получать заграничные паспорта, издал специальный указ о том, что всех дворян, даже если они числятся в списке купцов первой гильдии и платят подати как купцы, при испрашивании ими заграничных паспортов следует рассматривать как дворян, каковые могут получить эти паспорта лишь с высочайшего соизволения». Первый секретарь французского посольства в Париже Серее отмечал в августе 1835 г., что под давлением общественного мнения император «сузил сферу действия этой запретительной меры, распространив ее на одну Францию», и что указ о запрещении выезда за границу «постоянно нарушается бесчисленными исключениями» (АМАЕ. Т. 190. Fol. 161). Тем не менее официальных послаблений в этой области не происходило. Уже после выхода книги Кюстина, 15 марта 1844 г. был издан указ «О дополнительных правилах на выдачу заграничных паспортов», еще более ужесточивший эту процедуру: «Всякий платит сто рублей серебром за шесть месяцев пребывания за границею. Лицам моложе двадцати пяти лет совсем воспрещено ездить туда.»
180
…в том виде, в каком существовал при императрице Елизавете. — Зимний дворец в том виде, в каком видел его Кюстин (и в каком он существует и поныне), — это пятый вариант дворца, построенный в 1754–1762 гг. в царствование Елизаветы Петровны (1709–1761), императрицы с 1741 г. архитектором В. В. Растрелли. К 1839 г. изменился также цвет дворца: из зеленовато-белого он был перекрашен в бело-желтый цвет (см.: Анциферов Н. П. Душа Петербурга. Приложение к репринтному воспроизведению. М., 1991. С. 93)
181
— снискала незаслуженную славу благодаря шарлатанской гордыне воздвигнувшей ее женщины… — Имеется в виду Екатерина II, имя которой запечатлено в надписи на постаменте «Медного всадника»: «Петру Первому Екатерина Вторая».
182
дворец, Сената и другие подражания языческим храмам, в которых, впрочем, размещается военное министерство… одну-единственную площадь… — Хотя Дворцовая и Сенатская (иначе Петровская) площадь достаточно удалены друг от друга и ныне представляют собой самостоятельные образования, в начале XIX века все пространство от Зимнего собора до Исаакиевского дворца воспринималось как единое целое (см.: Schnizler. P. 226). Ниже Кюстин дословно повторяет описание этой триединой площади — «Петровской, Исаакиевской и площади Зимнего дворца», — данное Шницлером. Именуя Сенат «подражанием языческим храмам», Кюстин, очевидно, имеет в виду восьмиколонные лоджии коринфского ордера, украшающие его фасад, равно как и фасад Синода. В том же стиле ампир, использующем в выборе форм и декора наследие императорского Рима и древнегреческой архаики, выполнено и здание Главного штаба (построено в 1819–1829 гг. архитектором К. Росси), где размещались многочисленные министерства.
183
Северные пустыни покрываются статуями и барельефами… — Ср. сходное впечатление от тогдашнего Петербурга русского старожила: «Двое маршалов — перед Казанским собором; велико, и пространно, и пустынно» (А. И. Тургенев — Н. И. Тургеневу, 12/24 августа 1839 г., Петербург — РО ИРЛИ. Ф. 309. № 706. Л. 22). О Казанском соборе и установленных перед ним статуях Кутузова и Барклая де Толли см. примеч. к наст. тому.
184
Византий — первоначальное название Константинополя.
185
…в том, чтобы, худо ли, хорошо ли, подражать другим народам… — Мысль о способности к подражанию как одной из центральных черт русского национального характера, — непременный атрибут французских «отчетов» о путешествии в Россию конца XVIII — начала XIX вв.: ср., например, в «Путешествии в Сибирь» Шаппа д'Отроша (1768): «У русских воображение обнаружить почти так же трудно, как и гений, зато они наделены исключительной способностью к подражанию» (Voyage. P. 1175). B «Секретных записках о России» (1800) Ш.Ф.-Ф. Массона: «Русский характер, сказал кто-то, состоит в том, что у русских нет никакого характера, но зато есть восхитительная способность усваивать себе характер других наций. <…> Русский дворянин, единственный представитель русской нации, которого можно встретить за границей и с каким можно свести знакомство у него на родине, кажется, создан нарочно для того, чтобы усваивать себе взгляды, нравы, повадки и языки других народов. Он способен быть легкомыслен, как французский щеголь прежних лет, музыкален, как итальянец, рассудителен, как немец, оригинален, как англичанин, низок, как раб, и горд, как республиканец. Он способен менять вкусы и характер так же легко, как и моды, и эта гибкость органов и ума есть бесспорно его отличительная черта» (Voyage. P. 1187), или в «Десяти годах в изгнании» г-жи де Сталь: «Гибкость их природы делает русских способными подражать во всем другим народам. Сообразно с обстоятельствами они могут держать себя как англичане, французы, немцы, но никогда они не перестают быть русскими…» (Россия. С. 30); сходные мысли высказывает и Ансело (см.: Ancelot. P. 231–232). Больше того, если Ж.Ж. Руссо в «Общественном договоре» (кн. 2, гл. 8) утверждал, что подражательность лишит русских силы и приведет Россию к утрате самостоятельности не только культурной, но и политической, некоторые авторы видели в подражательности залог грядущей мощи России: «Русским предстоит многое копировать, многому учиться. Им незачем заниматься изобретениями, ибо гораздо больше пользы доставят им подражания; они поступают очень верно, когда призывают к себе иностранцев, с которых берут пример и у которых перенимают новые для себя обыкновения. Лишь овладев всеми сокровищами, какими богаты соседние страны, Россия сможет заняться отделкой и усовершенствованием деталей» (Фабер Г.-Т. Безделки. Прогулки праздного наблюдателя по Санкт-Петербургу//Новое литературное обозрение. 1994. № 4. с. З). Подчас сами русские соглашались с подобными определениями и даже гордились ими (см. в дневнике Гагерна его беседу с воспитателем цесаревича генералом Кавелиным, заверявшим гостей, что главный талант русской нации — «гений подражания» — Россия. С. 686). Однако авторы антикюстиновских брошюр были иного мнения; Лабенский указывал на то, что подражание — не прерогатива русских: греки подражали египтянам, римляне — грекам, французы — понемногу всем европейским нациям: «Отнимите у французской цивилизации то, что она заимствовала у греков и римлян (начиная с языка), отнимите у нее то, что она почерпнула у арабов, испанцев, итальянцев, немцев и англичан, — и посмотрите, к чему сведутся собственные ее изобретения» (Labinski. Р. 59–60).
186
Ледяной дворец был воздвигнут зимой 1740 г. между Адмиралтейством и Зимним дворцом по приказу не Елизаветы, а Анны Иоанновны, для потешного праздника — женитьбы шута императрицы, князя М. А. Голицына, на калмычке Бужениновой.
187
…не испытывали один к другому ни малейшей приязни. — Можно полагать, что Николай I, внешне чтивший память «нашего ангела» Александра Павловича и увековечивший эту память в Александрийской колонне, испытывал к нему более сложные и не всегда благодарные чувства. Об этом, впрочем, можно судить только по косвенным данным. См., напр., фразу Бенкендорфа в разговоре с П.А. Вяземским: «Я сказал императору, что ваши ошибки были ошибками, свойственными всем нам, всему нашему поколению, которое прежнее царствование ввело в заблуждение», приведенную в письме Вяземского к жене от 12 апреля 1830 г. (Звенья. М., 1936. Т. 6. С. 234).
188
…более немец, нежели русский. — Русской среди предков Николая I была лишь прабабка Анна Петровна, дочь Петра I и мать Петра III, все остальные были уроженцы немецких княжеств (впрочем, ходили слухи, что Екатерина родила Павла не от Петра III, а от графа Салтыкова, или вообще родила мертвого ребенка, которого подменили крестьянским сыном).
189
Император беспрестанно путешествует… — Эту страсть с неодобрением отмечали французские дипломаты; Барант 12 ноября 1837 г. доносил тогдашнему главе кабинета графу Моле: «Страна не имеет от этого <стремительных переездов> императора) никакой пользы. Огромные траты обременяют бюджет, и без того неспособный удовлетворить все нужды. Никто, даже среди представителей образованного сословия, не видит у этих путешествий иной причины, кроме настоятельной потребности в новых впечатлениях и физической деятельности. Его главной страстью была армия, за что он и получил прозвище Король-Сержант.»
190
…Петербург создавали люди богатые… — К аналогичному выводу прежде Кюстина пришел Г.-Т. Фабер: «Повсюду заметно, что в Петербурге все клонится к удовлетворению нужд одного-единственного класса — класса богачей. Это совершенно естественно: в северной столице раньше других обосновались люди с большими состояниями, родовитые помещики, придворные. Первыми поселились в Петербурге помещики и их крепостные. Однако поскольку последних в расчет не брали, для них в городе ничего не строили» (Фабер Г.-Т. Безделки…//Новое литературное обозрение. 1993 № 4. С. 358).
191
Борьба — это школа Провидения. — Примечание Кюстина к изданию 1854 г. «Это следует отнести к полудиким народам, которые России, кажется, призвана включить в свою политическую сферу, дабы привить им зачатки цивилизации».
192
…было бы весьма предусмотрительно… поставлять русским топливо… Тогда бы северяне меньше жалели о солнце. — Намек на опасность завоевательных войн, которые Россия начнет вести, повинуясь извечной тяге северных народов на юг.
193
…составляют едва треть от общего населения города. — Цифры, возможно, восходящие к Шницлеру, который, со ссылкой на русские газеты, пишет, что в 1828 г. в Петербурге проживало всего 422 166 душ, из них 297 445 мужчин, а в 1833 г. — соответственно 445 135 и 291 290 (Schnitzler. P. 284). Еще ближе к утверждению Кюстина те цифры, которые приведены в отчете санкт-петербургского обер-полицмейстера за 1838 год; согласно этому документу, в Петербурге на 333 669 мужчин приходилось всего 136051 женщина (Северная пчела, 5 января 1839 г.).
194
Я никогда не видел, чтобы… так уважительно обходились друг с другом. — Возможно, на Кюстина это произвело впечатление по контрасту с парижскими нравами, которые В. В. В. (В. М. Строев), фельетонист «Северной пчелы» (впрочем, не слишком доброжелательный) описывает так: «На грязных бестротуарных улицах теснится неопрятный народ в запачканных синих блузах, в нечищенных сапогах, в измятых шляпах, с небритыми бородами; он валит толпою, как стена, и не дает никому дороги. <…> Неучтивость (говорю об улицах) дошла теперь до того, что все толкаются и никто не думает извиняться» (Северная пчела, 10 марта 1839 г.)
195
Петергоф, 23 июля… — По старому стилю 11 июля.
196
…но дает понять вельможе… — Примечание Кюстина к изданию 1854 г.: «Мы пользуемся этим словом, потому что не притязаем на создание слов несуществующих; однако не следует забывать, что в России слова значат не то, что в других странах. Там, где недостает свободы, нет и истинного величия: в России есть люди титулованные, но нет людей благороднорожденных».
197
Император Николай не первый прибегнул к подобному плутовству… — Обычай собирать «весь Петербург» на петергофский праздник в начале июля восходил к Александру I, который учредил эти празднества в честь своей матери, императрицы Марии Федоровны.
198
Сады Армиды — традиционное литературное сравнение, восходящее к «Освобожденному Иерусалиму» Т. Тассо (1580; песнь XVI); в своих зачарованных садах волшебница Армида колдовством удерживала рыцаря Ринальда.
199
Екатерина открывала школы… школы я учреждаю не для нас, а для Европы… — Созданная в 1782 г. «Комиссия об учреждении народных училищ» выработала через четыре года «Устав о народных училищах», утвержденный императрицей, согласно которому в губернских и уездных городах предполагалось открыть соответственно главные и малые училища; большой популярностью училища эти в самом деле не пользовались, и власти вынуждены были даже вербовать туда учеников принудительно. Близкие мысли об опасностях, которыми чревато просвещение русского народа, высказывал Жозеф де Местр в 1810 г. в «Пяти письмах о народном образовании в России», адресованных министру просвещения графу А. К. Разумовскому и распространявшихся в списках среди русских католиков, и в «Четырех главах о России»: «Дадим свободу мысли тридцати шести миллионам людей такого закала, каковы русские, и — я не устану это повторять — в то же самое мгновение во всей России вспыхнет пожар, который сожжет ее дотла» (Maistre J. de. Quatre chapitres sur la Russie. P., 1859. P. 22; эта работа, написанная в начале 1810-x гг., была впервые опубликована только в 1859 г.), см. (Степанов М., Шебунин А. Н. Жозеф де Местр в России // ЛН. Т. 29/30. М., 1937. С. д06-602). Николай I разделял эти опасения и, по свидетельству Баранта, «был озабочен нежелательными последствиями, какие излишняя образованность приносит средним классам, порождая в них тщеславие, зависть, уничтожая всякую иерархию, рождая невостребованные способности и тем умножая гибельную праздность. „Следует, — говорил император, — учить каждого тому, чем он будет заниматься на уготованном ему поприще“» (Notes. P. 80).
200
…обделены подлинным счастьем… у русских же оно невозможно вовсе. — Комментарий Лабенского: «Если верить г-ну де Кюстину, тень смерти и страшный могильный покой царят во всей России
201
Наградой Гуровскому послужило разрешение вернуться в Россию, однако служба в провинциальных русских городах не принесла ему ни удовлетворения, ни повышения по службе, и в 1844 г. он бежал из России, в 1848 г. выпустил в Италии книгу о панславизме, а кончил жизнь в США, куда эмигрировал в 1849 г. После выхода „России в 1839 году“ начали циркулировать слухи о том, что Адам Гуровский „сообщил некоторые подробности Кюстину, дабы отомстить русскому правительству за свой неуспех“ (А. И. Тургенев — Н. И. Тургеневу, 21 июля / 3 августа 1844 г. — НЛО. С. и3). Однако недавно опубликованное письмо Кюстина к Адаму Гуровскому от 31 августа/12 сентября 1839 г. из Петербурга, где маркиз высказывает сожаление о том, что ему не удалось повидать Гуровского в России, окончательно опровергает эту версию (см.: НЛО. С. 129). Гораздо более близким было знакомство Кюстина с младшим братом Адама, Игнацием. Познакомившийся с маркизом в 1835 г., юный поляк жил в его доме на правах любовника несколько лет, до тех пор, пока — уже после поездки Кюстина в Россию — не влюбился в испанскую инфанту Изабеллу, дочь инфанты Луизы-Шарлотты и инфанта Франсиско де Пауло, брата Фердинанда VII и Дона Карлоса, которую 8 мая 1841 г. похитил из монастыря, куда ее поместили родные (заметим, что инфанта была самая натуральная, а не „какая-то девка“ по прозвищу Infanta, как полагает Б. Парамонов — Звезда. 1995). Влюбленные бежали в Бельгию, где поженились, и впоследствии инфанта родила Игнацию девять детей. Одной из целей поездки Кюстина в Россию было желание замолвить слово за Игнация перед императором и упросить его, чтобы он возвратил младшему Гуровскому конфискованное у него после восстания поместье в Польше. Несмотря на ходатайства Кюстина и баронессы Фредерике (ближайшей подруги императрицы), поместье Гуровского в октябре 1841 г. все же было конфисковано окончательно — вероятно, на решение императора повлиял скандал с похищением инфанты, прогремевший на всю Европу. Критики Кюстина были склонны связывать недоброжелательность его книги с неудачей ходатайства за Игнация Гуровского (см.: Gretch. P. 10) и ставить писателю в вину его „противоестественные“ отношения с молодым поляком (Я. Н. Толстой сразу по выходе „России в 1839 году“ доносил Бенкендорфу: „Он <Кюстин> прибыл в Россию с тем, чтобы выпросить прощение для г-на Гуровского, того самого, который похитил испанскую принцессу <…> Этот г-н Гуровский внушил г-ну де Кюстину гнусную страсть; он жил в его доме, распоряжался всем, как хозяин, и всецело подчинил покровителя своему влиянию: здесь его прозвали маркизой де Кюстин“- ГАРФ. Ф. 109. CA. Оп. 4. № 192. Л. 64; подл. по-фр.). Добавим, что за Гуровского просил не один Кюстин, но и П. Б. Козловский; в сохранившемся письме к нему от 10/22 июля 1839 г. чиновник Коллегии иностранных дел Григорий Петрович Волконский (сын министра двора П. М. Волконского) обсуждает способы добиться удовлетворения прошений трех поляков, о которых ходатайствует Козловский, причем имя одного из них — граф Гуровский (см.: BN. JVAF. № 16607. Fol. 333). Козловский по праву пользовался репутацией заступника гонимых поляков, однако совпадение дат позволяет предположить, что в данном случае он действовал не по собственной инициативе, а по просьбе Кюстина.
202
Слушала она меня с большим вниманием. — Некоторые читатели и критики Кюстина считали сцену в коттедже вымышленной или ненатуральной. Так, Сен-Марк Жирарден в первой части своей рецензии (Journal des Debats, 4 января 1844 г.) называет любезное обращение императрицы и цесаревича с Кюстином комедией, какую, по словам самого Кюстина, всегда разыгрывают перед иностранцами русские, причем комедией „стол“ ловкой, что она ввела в заблуждение и Кюстина» (утверждение это было оспорено Я. Н. Толстым в брошюре «Письмо русского к французскому журналисту о диатрибах антирусской прессы» — Tolstoy. Lettre. P. 12–13). Тем не менее известно, что Кюстин в самом деле обсуждал с императрицей судьбу братьев Гуровских, в частности Адама. В письме к Адаму от З1 августа/12 сентября 1839 г. он пересказывает слова императрицы: «Мы многого ждем от графа Адама Гуровского теперь, после того как он образумился и обратился на путь истинный» (Forycki R. Miedzy apostazja a palinodia polityczna; hrabia Adam Gurowski i markiz de Custine//Blok-Notes Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza. Warszawa. 1991. № 10. S. 320).
203
Я встречал его недавно в Эмсе… — Из письма Кюстина к Софи Гэ от 12 июня 1839 г. из Эмса известно, что И. Гуровский, приехавший в Эмс с английским паспортом, боялся столкнуться с кем-то из русских и потому сразу по приезде русского цесаревича со свитой почел за лучшее уехать в Бельгию; поэтому Ж.-Ф. Тарн называет упоминание о встрече великого князя с Гуровским неточностью (см.: Tarn. P. 5 3), однако не исключено, что краткая встреча все-таки состоялась. Летом следующего, 1840 года в Эмсе, когда Кюстин еще раз увиделся с российской императрицей (см. примеч. к наст. тому, с. 263), Гуровский снова находился при нем и «порхал подле русских красавиц, которые, впрочем, весьма некрасивы» (Revue de France. 1934. Aout. P. 740).
204
Кому нужен нынче в России поляк…? — Император не доверял полякам, даже когда они изъявляли ему свою покорность, и на вопрос Баранта, не пытаются ли польские изгнанники вымолить у него прощение и вернуться на родину, отвечал: «Нет, благодарение Богу; это была бы покорность неискренняя; от них ничего хорошего ждать не приходится», — хотя, впрочем, тут же припомнил нескольких поляков, которые, «добившись права возвратиться, вели себя отменно и служили с усердием» (Souvenirs. Т. 5. Р. 49н; донесение от 6 ноября 1836 г.). Такое отношение Николая I к полякам находило отражение во французской прессе: газета «Commerce» 8 февраля 1838 г. пересказывала, якобы со слов Баранта, реплику императора в ответ на ходатайство за какого-то поляка-эмигранта: «У меня и так слишком много поляков; их у меня полно в армии, среди чиновников, а между тем ни один не внушает мне доверия. — Возьмите, например, моего обер-егермейстера графа Браницкого; его мать — племянница Потемкина, его отец был повешен поляками; он владеет в России миллионным состоянием, и несмотря на все это, он отдал бы половину своего состояния за то, чтобы послать меня ко всем чертям». Подозрения императора были далеко не всегда неосновательны; они оправдались, например, в случае с братом Игнация Гуровского, Адамом. «Характер поляков, — утверждал Отчет Третьего Отделения за 1844 год, — ясно выразился в графе Адаме Гуровском, который вместе с другими участвовавшими в польском мятеже удалялся за границу и в 1835 г. получил всемилостивейшее дозволение возвратиться в Россию; здесь он удостоен был многих монарших милостей, но, невзирая на это, в апреле 1844 г. скрылся за границу! Таковы почти все поляки: сколько ни изливают на них милостей, они все смотрят врагами России!» (ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. № 9)
205
Ораниенбаум — местность, где в конце XVII века находилась мыза Теирис, подаренная в начале XVIII века Петром I Александру Даниловичу Меншикову (1673–1729), который в 1710 г. начал строить здесь Большой дворец, в 1727 г., после ареста и ссылки владельца отошедший вместе с территорией в казну. В 1743–1761 гг. Ораниенбаумский дворец был резиденцией великого князя Петра Федоровича (будущего императора Петра III); с 1831 г. стал летней резиденцией великого князя Михаила Павловича и его жены.
206
…развалины маленькой крепости, из которой Петра III вывезли в Ропшу… — Во второй половине 1658 г. в Ораниенбауме возник небольшой военный городок — Петерштадт. В центре его была выстроена земляная крепость с пятью бастионами, а внутри нее — каменный двухэтажный дворец и несколько служебных построек. Если эти последние были разобраны в конце XVIII в., а земляные укрепления снесены в начале XIX в., то дворец Петра III сохранился до наших дней. Во дворце в Ропше император Петр III, низложенный Екатериной II 28 июня 1762 г., был 6 июля 1762 г. убит Алексеем Орловым.
207
Рюльер Клод Карломан де (1735–1791) — французский поет и историк, в 1760 г. прибывший в Петербург в качестве секретаря французского посольства при после бароне де Бретее и ставший свидетелем переворота 1762 г., приведшего Екатерину к власти. По возвращении во Францию, в 1768 г., Рюльер получил заказ написать в наставление дофину, будущему королю Людовику XVI, историю смут в Польше; русский двор предлагал ему большие деньги за то, чтобы он отказался от этой работы, но Рюльер отверг посулы, обещав лишь ничего не публиковать до смерти Екатерины II, и в самом деле полностью «История анархии в Польше и раздробления этой республики» была издана лишь в 1807 г.; тем не менее фрагменты из нее были читаны в парижских салонах и даже открыли их автору путь во Французскую академию (1787); к книге о Польше примыкает сочинение, которое цитирует Кюстин: «Анекдоты о перевороте в России» (изд. 1797; рус. пер. см. в кн.: Россия XVIII глазами иностранцев. Л., 1989), которое цитирует Кюстин и которое рисует перед читателем картину государства, где всеми владеет страх и где деспотическая власть беспощадно угнетает всех подданных. В цитируемом Кюстином отрывке из Рюльера упомянуты: княгиня Екатерина Романовна Дашкова (1744–1810), сподвижница Екатерины II во время переворота; Григорий Николаевич Теплов (1717–1779) — секретарь Екатерины II; князь Федор Сергеевич Барятинский (1742–1814) — поручик лейб-гвардейского Преображенского полка, впоследствии обер-гофмаршал Екатерины; граф Никита Иванович Панин (1718–1783) — дипломат, воспитатель великого князя Павла Петровича; Григорий Александрович Потемкин (1739–1791), впоследствии светлейший князь Таврический и фаворит императрицы.
208
— тот… что утаил записку княгини Дашковой… — Намек на эпизод, рассказанный Рюльером ранее: накануне переворота 1762 г. княгиня Дашкова написала Екатерине записку: «Приезжай, государыня, время дорого» и послала ее с Орловым, а тот, «думая присвоить в пользу своей фамилии честь революции имел дерзкую хитрость утаить записку княгини Дашковой и объявил императрице: „Государыня, не теряйте ни минуты, спешите!“» (Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., 1989. С. 289).
209
…некто Потемкин, семнадцати лет от роду. — Формулировка, дословно повторяющая фразу из письма Екатерины II к Понятовскому от 2 августа 1762 г., посвященного событиям 6 июля. Потемкин (которому было в то время 23 года) конвоировал карету Петра III из Ораниенбаума в Петергоф и был в Ропше в день гибели «бывшего императора», однако при кончине его, по-видимому, не присутствовал (см.: Русский биографический словарь. СПб., 1905. Т. 14. С. 650).
210
…беседок, в которых императрица Екатерина назначала любовные свидания… — Интенсивное строительство в Ораниенбауме шло в первые годы царствования Екатерины II: в 1762 г. к юго-западу от Большого (Меншиковского) дворца началось строительство «Собственной дачи» императрицы, в состав которой входили Китайский дворец и обширный парк; строительство велось десять лет, а затем интерес императрицы к этим местам несколько охладел.
211
Петербург, 29 июля… — По старому стилю 17 июля.
212
…о каких не имеют представления ни в одной другой стране. — Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «См. брошюру г-на Греча».
213
…какая здесь в чести, — это такт. — Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «См. господина Греча».
214
Нам его тайно продала полиция… — Комментарий Греча: «Трупы, подобранные на улице и в других местах, предоставляются полицией Медицинской Академии бесплатно; население Петербурга так велико, что трупов здесь предостаточно, и никто не дал бы за мертвое тело и сантима» (Gretch. P. 63).
215
Берк Уильям (1792–1829) — англичанин, который в конце 1820-x гг. убивал людей, чтобы поставлять трупы в анатомические театры, и сеял страх по всей Англии: люди боялись быть «беркированными».
216
…напоминает свод законов Ивана Грозного. — Имеется в виду судебник Ивана IV (1550), утвержденный первым на Руси Земским собором и сулящий смертную казнь «тем, кто поднимет руку на государя, бунтовщикам, предателям, поджигателям, богохульникам, убийцам, разбойникам, фальшивомонетчикам и главарям банд», а наказание кнутом — «обыкновенным ворам» (Schnitzler J.-H. Essai d'une statistique generale de д'Empire de Russie. P, 1829. P. 274).
217
— им известны все произведения нашей литературы, кроме тех, каким русская полиция не позволяет проникать в страну. — О деятельности русской цензуры Кюстин мог узнать из французских газет; так, «Presse» писала 4 декабря 1837 г.: «Путешественники, недавно возвратившиеся из Варшавы в Берлин, привезли с собой немецкие газеты, в частности, несколько номеров „Прусской газеты“, которые могут дать понятие о том, как действует русская цензура. Некоторые места в газетах вырезаны, а некоторые &»
218
…переменило обращение с иностранцами… не по отношению к нашему автору. — Вероятно, намек на холодный прием, оказанный в Петербурге Бальзаку — писателю, пользовавшемуся не только на родине, но и в России гораздо большей славой, чем Кюстин. Бальзак побывал в Петербурге в августе 1843 г — и, хотя в русских дипломатических кругах от него ожидали опровержения «России в 1839 году» (ср. отражение этих слухов в письме Кюстина к Варнгагену от 7 августа 1843 г.: «Вот уже и Бальзака призвали опровергать меня». - Lettres a Varnhagen. P. 469), прямых предложений ему не сделали и Николаю I он представлен не был (см.: Гроссман Л.П. Бальзак в России //ЛН. М., 1937- Т. 4132 — С. 205–206; см. также в статье, наст. том, с. 392–393)
219
…перенес тяжкую болезнь. — Цесаревич простудился летом 1838 г. в Дании при осмотре портовых сооружений и лечился от последствий этой простуды в том же Эмсе в июле — августе 1838 г.
220
28 августа 1793 года… — Выше Кюстин говорит, что его дед написал предсмертное письмо накануне казни; 28 же августа традиционно считается днем казни генерала Кюстина; возможно, написал он его накануне, но выставил под ним дату своей смерти.
221
Диккенс… о путешествии в Америку… — «Американские заметки» Чарлза Диккенса (1822–1870) вышли в 1842 г. в Лондоне и в том же году (тоже по-английски) в Париже.
222
…лучше описание истории и географии России. — Жан Анри (Иоганн Генрих) Шницлер (1802–1871) — французский статистик и историк немецкого происхождения, в 1820-e гг. живший в России; Кюстин пользовался его книгами «Опыт общей статистики Российской империи, с приложением исторического обзора» (1829) и «Россия, Польша и Финляндия» (1835); прямые ссылки на Шницлера в тексте «России в 1839 году» дали критикам Кюстина (например, Шод-Эгу) повод упрекать его в плагиате — упреки неосновательные, так как Кюстин заимствовал из Шницлера только факты, да и те воспроизводил не всегда точно. Книги Шницлера были выдержаны в духе «искренней преданности России», причем эта доброжелательность не была специально оплачена русским правительством (см. донесение Я. Н. Толстого Бенкендорфу от 30 мая / 11 июня 1838 г. — ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 4. № 188. Л. 150 об. — 151). Книгу Кюстина Шницлер оценил (в письме к Я. Н. Толстому от 11 октября 1843 г.) как «сочинение намеренно злое, но бесконечно остроумное» (BN. JVAF. № 16606: Fol. 110 verso; ср.: Corbet Ch. L'opinion fraraise… P., 1967. P. 225).
223
…взялся остановить сей нескончаемый поток. — Как раз в это время в политических кругах Европы обсуждалось наличие при петербургском дворе влиятельной «русской» («старо-русской») партии, выступающей за усиление изоляции России от Европы и даже угрожающей безопасности других стран; Барант в донесении от 24 марта 1837 г. отмечал, что людей, хорошо знающих европейскую жизнь, в окружении Николая I становится все меньше, зато постоянно увеличивается число людей «достойных, сведущих в делах административных, мудрых советников, надежных и преданных слуг, которые являются русскими и только русскими и мало смыслят в том, что происходит на Западе» [Souvenirs. Т. 5. Р. 554], см. также: The Diary of Philipp von Neumann. 1819–1850. Boston and New-York, 1928. V. 2. P. 111; запись от 24 февраля 1839 г.; автор дневника — высокопоставленный австрийский дипломат). Из пристрастия к романтической концепции местного колорита и национальной самобытности Кюстин отзывается об этой изоляционистской политике одобрительно, хотя ее неизбежные следствия (такие, например, как запрещение русским выезжать за границу) вызывают- в других местах книги — его протест. На недостаток в Петербурге русских лиц и вообще «русскости» жаловался и Ансело: «Прибыв в Петербург, я пожелал увидеть на улицах этой искусственной столицы народ — увидел же лишь князей, дворцы и казармы. Русских, объяснили мне, следует искать не здесь. В Петербурге они, так сказать, теряются среди толпы ливонцев, литовцев, эстонцев, финнов и всевозможных чужестранцев, населяющих этот импровизированный город. <…> Конечно, французскому путешественнику приятно обрести в семистах лье от родины обычаи, язык и даже шутки нашей Франции, но я-то приехал в Россию не за этим и, глядя на этих офранцуженных русских, не раз восклицал вместе с Беранже: „Пусть будет русский русским, британец же — британским, и проч.“» (Ancelot. Р. 39–94). О взгляде на подражательность как основную черту русских см. примеч. к наст. тому.
224
«Преследования и муки католической церкви в России» (1842) — книга графа М.-Ж. д'Оррера.
225
«В октябре 1840 года… поезда столкнулись». — Греч. (Gretch. P. 60) и Толстой (Tolstoy. P. 21) указали Кюстину на ошибку, допущенную газетой «Journal des Debats», на которую он ссылается: катастрофа произошла не в октябре, а 11/23 августа 1840 г. «Я был в ту пору одним из директоров железной дороги, — пишет Греч, — и могу уверить маркиза, что этот несчастный случай лишил жизни в общей сложности пять человек: каретника Даэна, купеческого сына Зверкова, жену красильщика Мозебаха, юношу, чье имя я забыл, и мальчишку — помощника кочегара. Два человека получили ранения — серьезные, но не смертельные. Около десятка отделались легкими травмами или просто ушибами. Если маркиз может назвать мне шестого погибшего, я готов заплатить ему из своего кармана десять тысяч франков. Роковое столкновение произошло в двух с половиной лье от заставы, так что ни одного полицейского поблизости не было. Все меры принимались по приказанию дирекции железной дороги, состоявшей из частных лиц» (Gretch. Р. 60–61).
Примечания
1
Цифры в круглых скобках обозначают номер комментария, помещенного в конце книги в разделе «Комментарии».
(обратно)2
См. брошюру «Реплика о сочинении г-на де Кюстина». (Здесь и далее под строкой примечания автора).
(обратно)3
Мы безуспешно пытались получить у автора согласие на публикацию многочисленных анонимных писем, как бранных, так и хвалебных, которые он получает ежедневно, а также многочисленных лестных отзывов, подписанных известными и почтенными именами. Но никто не может запретить нам привести здесь отрывок из газеты «Пресс» от 31 октября, где французский журналист ссылается на мнение английской газеты «Таймс»: «16 октября российский император возвратился в Санкт-Петербург. „Таймс“ утверждает, что вследствие впечатления, произведенного в Европе последним сочинением г-на де Кюстина, русское правительство решительно переменило обращение с иностранцами (218), приезжающими в Россию, и русскими, желающими отправиться за границу; отныне и тем и другим будет предоставлена самая большая свобода — во всяком случае, на словах». Если этот пассаж ироничен, то отнюдь не по отношению к нашему автору.
(обратно)4
См. письмо двадцать восьмое.
(обратно)5
Цесаревич незадолго до приезда в Эмс перенес тяжелую болезнь(219).
(обратно)6
Не найдутся ли во Франции люди, которые пожелают перенять у пруссаков это благотворное установление и распространить по нашей стране искусство, насаждающее цивилизацию? Вильхем приобщил к нему парижских рабочих: отыщутся ли у него последователи в провинции?
(обратно)7
Перевод М. Гринберга.
(обратно)8
Читая гранки этого письма, я получил точную копию предсмертной записки моего деда, которую полагаю возможным опубликовать на этих страницах. Благородство и простота стиля осужденного подтверждают все сказанное мною выше.
Прощайте, сын мой, прощайте. Помните о своем отце, встретившем смерть со спокойной душой. Я сожалею лишь об одном: иные легковерные люди смогут вообразить, будто в нашем роду оказался человек, способный на предательство. Вступитесь за мое доброе имя, когда сможете; вам будет нетрудно это сделать, если вы получите доступ к моей переписке. Живите ради вашей любезной жены, ради вашей сестры, которой я передаю свой поцелуй; любите друг друга, любите меня.
Надеюсь, что я достойно встречу свой последний час; впрочем, не люблю хвалиться, пока дело не сделано.
Итак, прощайте! Прощайте! Ваш отец, ваш друг К.
28 августа 1793 года, 10 часов вечера220
(обратно)9
Одна из главных причин недоразумения состоит в том, что многие люди почитают слова gentleman и gentilhomme (дворянин — фр.) синонимами, меж тем как на самом деле английское слово означает человека хорошо воспитанного, принятого в хорошем обществе.
(обратно)10
В ту пору регент, позже ставший королем под именем Георга IV.
(обратно)11
Автор надеется, что благосклонные читатели простят ему очевидные противоречия; учиться — значит противоречить самому себе; только постоянно пересматривая мнение о мире и о себе самом, можно прийти в конце концов к мнению наиболее разумному; высказать его — задача философа, путешественник же должен оставаться верным своей роли; всегда последователен только лжец: с ним я тягаться не желаю.
(обратно)12
См. письмо четырнадцатое.
(обратно)13
Так русские долгое время именовали московских князей.
(обратно)14
Беспробудная дрема славян- следствие этого многовекового рабства, своеобразной политической пытки, заставляющей народы и царей растлевать друг друга.
(обратно)15
Князь К *** был католиком. Все русские, стремящиеся к независимости ума и веры, склоняются к переходу под покровительство Римской церкви.
(обратно)16
Прямодушие, которому я стараюсь не изменять, не позволило мне переменить что бы то ни было в этом письме; однако я вновь прошу читателя, который захочет сопутствовать мне в моем странствии, вначале сравнить мои мысли до путешествия с выводами, к которым я пришел после него, а уж затем составлять свое мнение о России.
(обратно)17
Писано 10 июня 1839 года.
(обратно)18
Петр назвался императором только в 1721 году.
(обратно)19
Диккенс в своем рассказе о путешествии в Америку говорит, что нынче то же самое происходит в Америке.(221)
(обратно)20
См. письмо тридцать второе.
(обратно)21
Шницлеру принадлежит лучшее описание истории и географии России.(222)
(обратно)22
У господина де Сегюра читаем: «Петр сам допрашивает этих преступников (стрельцов) под пыткой; затем, по примеру Ивана Грозного, он делается их судьей и палачом; он заставляет бояр, сохранивших ему верность, отрубать головы неверным боярам, которых только что приговорил к смерти. С высоты своего трона он бестрепетно наблюдает за казнями; более того, сам он в это время пирует, смешивая с чужими муками собственные наслаждения. Захмелев от вина и крови, держа в одной руке чарку, а в другой топор, он в течение часа сносит собственноручно двадцать стрелецких голов и, гордый своим страшным мастерством, приветствует каждую смерть новым возлиянием. В следующем году в ответ то ли на бунт царевых янычар, то ли на жестокую расправу с ними, во глубине империи разгораются новые восстания. Верные слуги Петра приводят в цепях из Азова в Москву восемьдесят стрельцов, и снова царь собственноручно отрубает им головы, причем бояре его обязаны во время казни держать казнимых за волосы» (История России и Петра Великого, сочинение господина графа де Сегюра. Париж: Бодуэн, 1829. 2-е изд. с- 327–328).
(обратно)23
Длинный халат.
(обратно)24
Опасения императора, пожалуй, поможет объяснить приводимый ниже рассказ, который прислал мне в январе 1843 года из Рима один из самых правдивых людей, каких мне довелось встречать. «В последний день декабря, — пишет он, — я зашел в церковь дель Джезу, украшенную по случаю праздника великолепными гобеленами. Прекрасный алтарь святого Игнатия, окруженный оградой, сиял огнями. Играл орган, в церкви собрался весь цвет римского общества; слева от алтаря стояли два кресла. Вскоре в церковь вошли великая княгиня Мария, дочь российского императора, и ее супруг герцог Лейхтенбергский в сопровождении свиты и швейцарских гвардейцев; они заняли приготовленные для них кресла, и не подумав опуститься на колени, хотя скамеечки для молитвы стояли перед креслами, и даже не взглянув на святое причастие. Придворные дамы уселись позади принца и принцессы, так что тем, дабы вести светскую беседу, приходилось поминутно оборачиваться. Два камергера остались стоять, как предписывает этикет. Ризничий решил, что эти господа стоят оттого, что им некуда сесть, и поспешил принести стулья; увидев это, принц, принцесса и их окружение разразились совершенно неприличным смехом. Тем временем церковь заполняли кардиналы, один за другим занимавшие свои места; последним явился папа; он опустился на колени и простоял так до конца мессы. Отзвучал Te Deum — песнь благодарности за милость Господню в истекшем году; один из кардиналов благословил верующих. Его Святейшество по-прежнему стоял на коленях; герцог Лейхтенбсргский наконец последовал его примеру, но принцесса даже не шевельнулась».
(обратно)25
Упрек этот относится лишь к памятникам, построенным при Петре I и после него; в средние века, возводя Кремль, русские сумели отыскать архитектурный стиль, подобающий их стране и духу.
(обратно)26
Однажды некий русский прибыл из Петербурга в Париж; соотечественница спрашивает у него: «Как чувствует себя государь? — Прекрасно. — А человек? Человека я не видел». Я постоянно твержу себе это словцо; русские согласны со мной, но никогда в этом не признаются.
(обратно)27
Набережные Невы — гранитные, купол собора Св. Исаака — медный, Зимний дворец и Александрийский столп выполнены из прекрасного камня, мрамора и гранита, статуя Петра I отлита из меди.
(обратно)28
Беседа повторена мною слово в слово.
(обратно)29
Спустя несколько дней после того, как было написано это письмо, в домашней жизни двора произошла сценка, позволяющая судить о манерах нынешних молодых английских модников; они ничем не лучше и не хуже самых невежливых любезников Парижа: их своеобразная изысканная грубость весьма далека от учтивости Букингемов, Лозенов и Ришелье. — Императрица пожелала задать бал в узком кругу для этого семейства, прежде чем оно покинет Петербург. Для начала она самолично приглашает отца, что так славно танцует на своей деревянной ноге. «Ваше Величество, — отвечает старый маркиз, — в Петербурге меня осыпали удовольствиями, но такое обилие их выше моих сил; надеюсь, Ваше Величество позволит мне сегодня вечером откланяться, а завтра с утра перебраться к себе на яхту и возвратиться в Англию; иначе я умру в России от веселья. — Что ж, отступаюсь от вас», — произносит императрица, удовлетворившись сим учтивым ответом, достойным эпохи, когда, должно быть, старый лорд впервые появился в свете; затем, оборотившись к сыновьям маркиза, которые хотели еще задержаться в Петербурге, она говорит старшему: «Я рассчитываю по крайней мере на вас». — «Ваше Величество, — отвечает тот, — как раз в этот день мы отправляемся охотиться на оленей». Императрица, что слывет гордячкой, не отчаивается и приступает к младшему брату со словами: «Вы-то уж, по крайней мере, останетесь со мною». Юноша, не найдя отговорки, не знает, что и сказать; в досаде он подзывает брата и спрашивает его в полный голос: «Так значит, отдуваться должен я?» Анекдот этот изрядно позабавил весь двор.
(обратно)30
Титул после замужества остался за ней.
(обратно)31
Не говорил ли я вам? здесь при дворе все проводят жизнь в генеральных репетициях. Ни один русский император, начиная с Петра Великого, никогда не забывал, что призван сам заниматься обучением своего народа; и все они страшатся, как бы им не выказали недостаточно почтения.
(обратно)32
Этого-то все и хотят.
(обратно)33
В Польше.
(обратно)34
По греческому обряду скульптуры в церквях запрещены.
(обратно)35
Упрек этот, обращенный к Петру I и ближайшим продолжателям его дела, служит дополнением к похвальному слову императору Николаю, который взялся остановить сей нескончаемый поток223.
(обратно)36
1 января в Петербурге и на празднестве в честь императрицы в Петергофе.
(обратно)37
См. «Испанию при Фердинанде VII».
(обратно)38
Автор не вычеркивает сию вспышку раздражения, дабы читатель сам оценил ее уместность. Дурное настроение, усилившееся из-за картины показного, невозможного слияния с народом, толкнуло его на бунт против лжи, тем более опасной, что и светлые умы оказались в ее власти.
(обратно)39
См. далее письмо тридцать первое, писанное в Ярославле.
(обратно)40
См. брошюру г. Толстого, озаглавленную «Взгляд на российское законода тельство», и т. д.
(обратно)41
Буквально: «увешать гирляндами» (прим. перев.).
(обратно)42
См. в конце книги «Краткий отчет о путешествии».
(обратно)43
Беседки, опирающиеся на колонны или пилястры.
(обратно)44
На следующий год эмсские воды вернули императрице здоровье.
(обратно)45
Английская хижина
(обратно)46
Думаю, я должен привести здесь отрывок из письма, что написала мне в нынешнем году одна женщина из числа моих друзей; рассказ ее ничего не добавит к тем деталям, о которых вы только что прочли, — разве только невероятная осторожность живописцаиностранца, который, оказавшись в парижском салоне, поведал о событии, случившемся в Петербурге тремя годами ранее, даст вам лучшее представление о подавлении умов в Ррссии, нежели мои слова. «Один итальянский живописец, что находился одновременно с вами в Санкт-Петербурге, живет теперь в Париже. Он, как и вы, рассказывал мне о катастрофе, в которой погибло около четырехсот человек. Говорил живописец шепотом. „Что ж, я знаю об этом, — отвечала я, — но отчего вы говорите шепотом?“ — „О! оттого что император запретил мне об этом рассказывать“. Я восхитилась подобным послушанием, не ведающим ни времени, ни расстояний. Но когда же вы, человек, не способный держать истину под спудом, напечатаете свои путевые заметки?»
Прилагаю к этому также выдержку из прекрасной статьи, напечатанной 13 октября 1842 года в «Журналь де Деба» по поводу книги, озаглавленной «Преследования и муки католической церкви в России».(224)
«В октябре 1840 года машинисты двух поездов, шедших по железной дороге между Санкт-Петербургом и Царским Селом в противоположных направлениях, не смогли заметить друг друга в густом тумане, и поезда столкнулись.(225) Все разлетелось вдребезги. Говорят, что пятьсот человек полегли на месте — убитыми, искалеченными, либо более или менее тяжело раненными. В Санкт-Петербурге же почти ничего не было об этом известно. Назавтра с самого раннего утра лишь несколько любопытных дерзнули отправиться к месту катастрофы; они обнаружили, что все обломки расчищены, погибшие и раненые увезены, и о случившемся напоминают лишь несколько полицейских, которые, допросив любопытных о причине визита, отчитали их за любопытство и грубо приказали разойтись по домам».
(обратно)47
Я счел своим долгом изменить некоторые обстоятельства и не называть имен, по которым можно было бы опознать конкретных лиц; но суть событий сохранена в рассказе самым тщательным образом.
(обратно)48
Слова эти — ответ на письмо, полученное из Парижа.
(обратно)49
См. портрет русских в письме тридцать втором, из Москвы.
(обратно)50
См. эпиграф к книге и «Краткий отчет о путешествии».
(обратно)51
Русские во всем поверхностны и глубоко овладели лишь искусством притворства.
(обратно)52
См. описание Москвы.
(обратно)53
См. «Россию, Польшу и Финляндию» г-на Ж.-А. Шницлера. Париж, изд. Жюля Ренуара, 1835, стр.93 — Должен раз и навсегда заявить, что это прекрасное и полезное сочинение, получившее одобрение в Петербурге, до крайности пристрастно, во всяком случае по форме своего языка: это необходимое условие для человека, желающего, чтобы в России снисходительно отнеслись к тому, что он пишет об этой стране.
(обратно)54
Перечень памятников, их размеры и всю техническую сторону дела можно найти у Шницлера, стр. 200
(обратно)55
См. письмо двадцать третье. 12 А. де Кюстин, т. I 353
(обратно)56
См. ниже историю о том, как один француз, г-н Перне, был в Москве посажен в тюрьму.
(обратно)57
См. в письме восемнадцатом описание костюма Федора князем *** в истории Теленева.
(обратно)58
См. историю Теленева в письме восемнадцатом.
(обратно)59
«Соединив каналом Мету с Тверью, Петр I установил сообщение между Каспийским морем и Ладожским озером, иначе говоря, между берегами Персии и Балтийского моря; однако на озере часто случались бури, и оно щетинилось подводными камнями, отчего Россия всякий год теряла изрядное число кораблей. Император Петр I замыслил избавить торговые суда от этого пагубного прохода по озеру, соединив посредством нового канала Волхов и Неву. Он приступил к работам, но помощники у него оказались скверные. Инженеры, вошедшие к нему в доверие, допустили ошибку и обманули его самого; они дурно провели нивелировку, и сие полезное сооружение было завершено лишь в царствование Петра II» («История России и основных наций Российской империи» Пьера Шарля Левека, 4-е издание, подготовленное Мальт-Бреном и Деппингом).
Я привожу этот отрывок из чувства справедливости. Я сужу о Петре I иначе, нежели большинство людей пишущих, и почел, что в связи с работами, сделавшими честь последующим царствованиям, уместно привести черточку, которая наглядно показывает проницательность ума основателя нынешней Российской империи. Он ошибся в общей направленности своей внутренней политики, однако в деталях управления обнаруживал безошибочность суждений и тонкий такт.
(обратно)60
Balzac H. de. Correspondance. P., 1967. Т. 3. Р. 425
(обратно)61
О переводах «России в 1839 году» см. примеч. к наст. тому, с. 6
(обратно)62
О запрещении «России в 1839 году» Комитетом цензуры иностранной, воспоследовавшем уже 1/13 июня 1843 г., см. подробнее в примеч. к наст. тому, с. 6. Вначале запрет был наложен даже на верноподданную и весьма критическую по отношению к Кюстину брошюру H. И. Греча (о ней см. ниже), чтобы русская публика, паче чаяния, не ознакомилась с кюстиновскими «наветами» по гречевским выпискам, однако затем Главное управление цензуры все-таки разрешило продажу брошюры Греча в России (см.: Гринченхо. С. 75)
(обратно)63
Под заглавием «Россия и русский двор» книга Кюстина в переводе К. Плавинского была напечатана в «Русской старине» (1891, № 1–2; 1892, № 1–2), затем под заглавием «Николаевская эпоха» — отдельным изданием в 1910 году, а под заглавием «Николаевская Россия» — также отдельным изданием в 1930 году; это последнее было переиздано в недавнее время дважды: в 1994 году отдельно и в l991 году в составе сборника «Россия первой половины XIX века глазами иностранцев». Список на первый взгляд внушительный, однако ни одно из названных изданий не содержит полного и точного перевода кюстиновской книги (не случайно ни в одном из них она не носит того названия, какое дал своей знаменитой книге французский автор — «Россия в 1839 году»). В «Русскую старину» вошли лишь некоторые главы книги, да и те частично не переведены, а пересказаны, издание 1910 года-откровенный пересказ, сопровождаемый пояснениями и восклицаниями издателя, В. Нечаева; издание 1930 года — не столько сокращенный перевод, сколько своего рода «дайджест» книги, дающий о ней примерно такое же представление, как подробный пересказ сюжета многотомного романа «В поисках утраченного времени» — о художественной манере Марселя Пруста.
(обратно)64
Сокращенные переиздания выходили во Франции в 1946 г. и 1975 г — (под назв. «Письма из России») и в 1957 г — под названием «Путешествие в Россию»).
(обратно)65
«Россия в 1839 году» была полностью переиздана в I9901 — парижским издательством «Solin».
(обратно)66
Причем это деление книги на «письма», в противоположность тому, что утверждали многие недоброжелатели, — не просто литературный прием (см. подробнее в примеч. к наст. тому, с. 8 и 192).
(обратно)67
Цит. по: Тагя. Р. 119 (С. П. Свечина — Э. де Лагранжу, 30 июля 1825 г.).
(обратно)68
Аnnuе balzacienne. 1981, Р., 1981. P. 244
(обратно)69
Chasles Ph. Memoires. P., 1876. Т. 1. P. 308–310.
(обратно)70
Цит. по: Тат. Р. 273
(обратно)71
См.: Парамонов Б. Непрошенная любовь: маркиз де Кюстин в России//Время и мы. 1993) (то же: «Звезда». 1995 № 2); Буянов М. Маркиз против империи, или Путешествия Кюстина, Бальзака и Дюма в Россию. М., 1993 (Cм. нашу рецензию на эту книгу: Новое литературное обозрение. 1995-№ 12. С. 400–403).
(обратно)72
Ethel. Т. 1. Р. 293. Эта позиция отверженного вызвала, между прочим, одобрение такого строгого ценителя, как Бодлер; «Господин де Кюстин, — писал он в статье „Госпожа Бовари“ (1857), — представляет собою разновидность гения, чей дендизм доходит до идеальной беспечности. Это простодушие дворянина, эта романическая пылкость, эта честная насмешка, это небрежное проявление личности в каждом слове и жесте, — все это недоступно пониманию стада, так что этот превосходный писатель навлек на себя все несчастья, каких был достоин его талант» (Baudelaire Ch. Curiosites esthetiques. P. 1962. P. 643–644).
(обратно)73
О влиянии Шатобриана и стремлении Кюстина от него избавиться см. также примеч. к наст. тому, с. 60.
(обратно)74
Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982. С. 154
(обратно)75
Memoires el voyages. P. 103.
(обратно)76
Цит. по: Custine A. de. Souvenirs et portraits. Monaco, 1956, P. 123 (письмо к Э. де Лагранжу от 1 октября 1818r.). О том же 26 мая 1817 г. Кюстин писал Рахили Варнгаген: «Если г-н де Шатобриан и принес Франции некоторое добро, он принес ей также и немало зла, и лично я еще долго буду ощущать это на себе самом. Он открыл гордыне и суетности прибежище в мечтательности и меланхолии; он перенес светские страсти в святилище добродетели, и с его благословения честолюбие мятущихся душ стало нередко принимать облик религиозного созерцания; увидеть так ясно, кто ты, и не иметь ни малейшей надежды измениться, — ведь это страшно!» (Lettres u Vamhagen. P. 197)
(обратно)77
Lettres a Vernhagen. P. 197; письмо к Рахили Варнгаген от 26 мая 1817.
(обратно)78
Цит. по: Тат. Р. 46.
(обратно)79
Цит. по: Тагя. Р. 51
(обратно)80
Цит. по: Maugras. P. 474 (письмо к матери 12 апреля 1814 г.).
(обратно)81
Lettres d Vernhagen. P. 360–361. Те же мысли Кюстина высказывает и в «России в 1839 году» (см. наст. том, с. 212).
(обратно)82
Espagne. P. 318.
(обратно)83
См.: Liechtenhan F.-D. La progression de l'interdit: les recits de voyage en Russie et leur critique a l'epoque des tsars // Revue suisse d'histoire. 1993. Vol. 43. P. 15–41.
(обратно)84
PC. 1886, № 7. С. 24. 389
(обратно)85
Лелже. С. 143–151
(обратно)86
См.: ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 4. № 195- Л. 126. В конце концов русское правительство решило прекратить полемику с Кюстином и его «продолжателями», ибо «журнальная война и возражения ни к чему не ведут; они только возбудят внимание и породят бесконечные распри, в которых затмевается самая истина. Несравненно лучше следовать принятому нами правилу — возражать молчанием и презрением, тем более что оно уничтожается собственным своим излишеством; нелепость и огромность обвинений сами собою доказывают их неосновательность и ничтожность» (Отчет III Отделения за 1845 год — ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. № 10. Л. 93 об.).
(обратно)87
НЛО. С. 124.
(обратно)88
См. подробнее: НЛО. С. 114–115; 124–125; русский перевод опровержения Вяземского см.: Невелев Г. А. А. де Кюстин и П. А. Вяземский // Теоретическая культурология и проблемы отечественной культуры. Брянск, I992. С. 66.
(обратно)89
Тютчев Ф. И. Политические статьи. Париж, 1976. С. 8.
(обратно)90
Wiegcl. P. 96.
(обратно)91
Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988. С. 83. 395
(обратно)92
Пушкин. Т. 10. С. 161 (письмо к Вяземскому от 27 мая 1826 г.).
(обратно)93
НЛО. С. 120, 126.
(обратно)94
НЛО. С. 124 (письмо к П.А.Вяземскому от 22 декабря 1843/3 января 1844 г.)
(обратно)



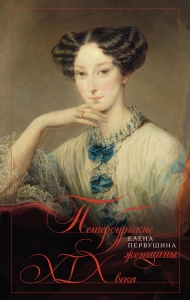
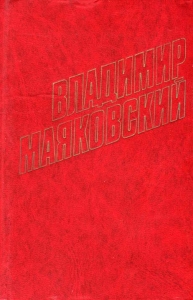
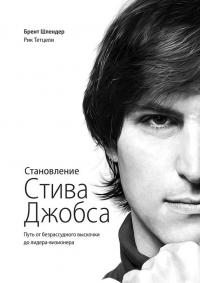
Комментарии к книге «Россия в 1839 году», Астольф Кюстин (де Кюстин)
Всего 0 комментариев