Максвелл
Часть I. ЭДИНБУРГ. 1831-1850
Разум растет у людей в соответствии с мира познаньем.
ЭмпедоклПЕРВАЯ МЫСЛЬ
Однажды его спросили:
«Ты помнишь свою первую мысль?»
...Сначала он подумал, что вспомнить ее невозможно, но почувствовал вдруг, как тренированная и послушная сила воображения легко переносит его на север, в Шотландию, к бесконечно близким и дорогим местам и людям, на заросшие вереском берега Урра, на озеро Лох-Кен, где водятся драконы, к шаловливому пони и любимому терьеру Тоби, к лягушатам, затеявшим бурные неопасные игры в ручье, вытекающем из торфяника, к красивой молодой женщине в длинном белом платье, которая, улыбаясь, что-то говорит ему...
Но не слышно ее слов...
Путешествия в детство беззвучны и чисты, встречаемые в пути персонажи привержены к белой одежде, тишине и чистоте. Самое первое воспоминание — он лежит на спине, погрузившись в траву рядом с отцовским домом. Никаких звуков не слышно — он лежит и смотрит в небо, где повисло неяркое шотландское солнце. И думает...
Мысль заключалась в простом соединении себя с окружающим — небом, солнцем, домом, отцом, от которых до того он был отделен. Это открытие так поразило его, что миг запомнился. Запомнился на всю жизнь.
Солнце несло с собой тепло, оно постепенно прогревало каменистую малоплодородную почву, на которой стоял отцовский дом. Солнце несло с собой свет, пронзительный и яркий, способный высветить самые угрюмые уголки каменного дома, холодные от темноты.
Солнце можно было поймать. Это лучше всего было сделать с помощью начищенной оловянной тарелки. Солнце отражалось в тарелке быстрым теплым зайчиком, которого можно было послать куда угодно — в самые темные уголки холодных по-весеннему комнат.
Мегги! Мегги! Посмотри скорей, что придумал твой подопечный Джеймс, посмотри сама и скорее беги за родителями! Пусть посмотрят, какую ловкую штуку придумал их обожаемый сын и наследник Джеймс — он изловчился и поймал солнце!
Все воспоминания приходят в свете, в красках, не в звуках. Казалось, звук теряется где-то в длинной цепи ушедших лет; его выразительная мощь оказалась для Джеймса слабее, чем мощь света и красок. Но ведь были же звуки, были! Медные колокольчики, звеневшие в углах каменного отцовского дома, звеневшие на разные голоса, составлявшие целый оркестр, призывавшие Джеймса, слуг, отца к обеду, домашним хлопотам... Может, все вспоминается в картинах, не в звуках потому, что не помнит он ничего о себе в возрасте двух с половиной лет, а знает из писем, отосланных матерью своей сестре Джейн и потом, через много лет, прочтенных им?
«...Он очень счастлив и значительно окреп с тех пор, как стало не так холодно; у него по горло работы с дверями, замками, ключами etc, а слова «покажи мне, как это делается» всегда у него на языке.
Он исследует скрытые пути ручейков и проволок от колокольчиков, путь, по которому вода течет из пруда через забор под мостиком в Воду Урра мимо кузницы прямо к морю, где плавают корабли, как у Мегги. Что же касается колокольчиков1, они не заржавеют: он караулит на кухне, а Мег бегает по дому и звонит во все по очереди, или он звонит, и посылает Бесси наблюдать и кричать ему о том, что при этом происходит, потом таскает повсюду отца, чтобы тот показал ему дыры, где проходят проволоки... Его любимое занятие — помогать Сенди Фразеру, когда тот возится с бочкой для воды...»
Значит, звонки-колокольчики все-таки были? Почему же не звучит их сладкоголосый перезвон в томительных воспоминаниях, не бередит душу, не заставляет содрогнуться от щемящего, потерянного много лет назад счастья детства? Может быть, потому, что звуки приносили ему боль? Особенно музыка — ритмическая, острая боль, вонзавшаяся в мозг угловатыми фигурами рила2 «Шотландская реформа» на сельских праздниках урожая, «амбарных балах» — кирнах, боль, приводящая к воспалению уха, обморокам, постели.
Окружающим, наверное, казалось тогда, что он не одарен слухом, ненавидит музыку, то есть как раз то, чего никогда не было. — его слух был настроен на слабейшие звуки, он был деликатен и тонок до такой степени, что самые негромкие шумы наполняли все его существо, а музыка несла с собой настолько сильные ощущения, что он не мог с ними справиться.
Он любил тихие звуки, например «пение лягушат». Он брал лягушат в рот, на язык, слушал, как они поют, а потом смотрел, скосив глаза, как они выпрыгивают изо рта на траву.
Он любил тихое пение скрипки, иной раз даже подходил к скрипачу на кирне, но скорее не ради музыки, а вопреки ей — ради того, чтобы посмотреть, «как это делается». Его кузина Джемима оставила несколько акварелей, относящихся к тем временам. Одна из них изображает кирн после сбора урожая осенью 1837 года: шестилетний Джеймс не смотрит на танцора — его больше интересует тайна смычка, хотя бы и извлекающего болезненные звуки: «как это делается» превозмогает боль и страдание.
Не сладкозвучными аккордами раскрывался мир перед маленьким Джеймсом, но гаммой красок, цепью связей, цепью причин и следствий, мир имел устройство, для всего можно было найти причину. И надо всем царил свет, разлагающийся на тысячи ярких волнующих красок... Краски мира увлекли его, но не своей живописностью, а скорее загадочностью — здесь было трудно разобраться, «как это делается».
— Этот песок красный. Этот камень синий.
— Но откуда вы знаете, что он синий? — спрашивал Джеймс.
Цвета должны были иметь свои «причины» и свойства, как и все остальное. Отправляясь утром на прогулку с няней, Джеймс подготавливал карманы — в путешествии по лесу многое могло встретиться — папоротники, диковинные цветы, цветные камешки, сучки. Все это загружалось в карманы, занимало пригоршни, а дома перекладывалось в большой кухонный буфет, где хранилось до того заветного вечернего часа, когда отец по очереди рассказывал ему обо всех находках, о свойствах камней и растений. Трудно было, наверное, в эти минуты без умиления смотреть на отца — не было для него высшего счастья, чем объяснять Джеймсу, «как делаются» камни, растения, когда расцветают цветы.
Когда через несколько лет роли переменились и уже Джеймс рассказывал стареющему отцу о свойствах вещей, он с удивлением обнаружил, что испытывает столь же блаженное чувство, сочетающее в себе самые сильные его страсти — любовь к отцу и окружающей природе, неспособной скрывать от Джеймса свои секреты. Чистый голос природы наполнял все чувства маленького Джеймса. Но голос этот был беззвучен — он вибрировал оттенками красок, звучал мощными аккордами солнечного света, пробуждающего лежащего на траве малыша к его предназначению — мышлению.
ЭДИНБУРГ. 13 ИЮНЯ 1831 г.
Франсез Кей, дочь эдинбургского судьи Роберта Ходжона Кея, после замужества — миссис Клерк Максвелл, родила сына Джеймса 13 июня 1831 года в столице Шотландии Эдинбурге, в доме номер 14 по улице Индии.
В этот день во всем мире не произошло сколько-нибудь значительного события, лист календаря был пустым. Ничто не началось в этот день, ничто не завершилось.
Главное событие 1831 года, года, когда миссис Клерк Максвелл родила своего сына Джеймса, еще не свершилось. Еще не свершилось, но уже одиннадцать лет гениальный Фарадей пытается постичь тайны электромагнетизма, и лишь сейчас, летом 1831 года, он напал на след ускользающей электромагнитной индукции — уже собирается немудрящая установка, уже обмотано грубой медной проволокой железное кольцо, уже подобран магнит — и Джеймсу будет всего лишь четыре месяца, когда Фарадей, великий труженик Фарадей, подведет итог своему эксперименту по «получению электричества из магнетизма». И откроет тем самым новую эпоху — эпоху электричества. Эпоху, для которой предстоит жить и творить маленькому Джеймсу, потомку славных родов шотландских Клерков и Максвеллов, портреты которых заключены в тяжелые золотые рамы Национальной галереи Шотландии.
Итак, Джеймс Клерк Максвелл родился 13 июня 1831 года в городе Эдинбурге, и именно этот факт, а не какой-то иной, спорящий с ним своим значением для истории, отметил этот будничный во всех иных отношениях день...
Каким был Эдинбург в этот год?
Если сравнивать столицу государства — Лондон с «экс-столицей экс-государства» Эдинбургом, то, как заметил историк И.Тэн, вместо города, хорошо спланированного, выстроенного на равнине, делового и роскошного, вы попадаете в царство седой старины, царство контрастов, в город, построенный на скалах, на холмах и в ущелье. Недаром Стивенсон, коротавший последние свои дни на островах южных морей, тоскуя по родине, писал об «обрывистых скалах моего Эдинбурга».
У подножия холмов, на которых раскинулся город, — серые воды залива Ферт-оф-Форт, с центральных улиц видны корабли разных стран, а далее — к югу — уже совсем высокие горы, гораздо выше, скажем, Касл-Рока — «замковой скалы», — на которой построен древний Эдинбургский замок с башнями, возносящимися в небо, как вопли мучеников. Касл-Рок вырастает из зелени городского парка и с одной стороны обрывается скалами красного песчаника.
Относительно пологий с других сторон, Касл-Рок облеплен постройками средних веков — иногда весьма высокими и внушительными, поскольку в целях безопасности лучше было селиться ближе к центральной скале, там и был раньше весь Эдинбург.
Множество статуй, частью оригинальных, но в большинстве греческих повторений, колонны. Карльтон Гиль, напоминающий Акрополь, миниатюрные повторения греческих храмов — все это дало основание честолюбивым эдинбуржцам назвать свой город «северными Афинами». Однако античная архитектура тут неорганична — она ориентируется на резкие тени от беспощадного солнца; здесь гонимый ветром туман время от времени закутывает греческую архитектуру в свои бьющиеся на ветру ватные полы, очертания зданий тонут во мгле или чуть темнеют в неясном свете. Туман застилает дымкой зеленый луг Карльтон Гиля. К туману примешивается чад фабрик и каминов. Низкие, нависшие над городом облака завершают картину Эдинбурга — «Аулд Риики» — «старого курилки».
Когда с англичанами в конечном итоге был заключен мир и опасность с юга миновала, Эдинбург спустился со скал и прорвался к заливу. На уступах холма вырос «новый город». Здесь, в «золотом веке» Эдинбурга, по улице Индии, 14 был выстроен трехэтажный, серого камня дом. Дом был построен по специальному контракту для Джона Клерка Максвелла, его матери миссис Клерк и сестры миссис Веддерберн, перебравшихся сюда в 1820 году. Рядом с домом, справа и слева, не имея просвета между собой, стоят еще два дома, со своими подъездами, отличающиеся разве что высотой этажей и крыш. Это небольшая хитрость, к которой прибегали почти все хозяева, строившие дома на улице Индии в Эдинбурге в начале века. Хотя уличные фасады создают впечатление разных домов, внутри это — один дом, простирающийся на два, три, а то и четыре фасада. Такие дома при нужде можно было легко делить и объединять, что было весьма ценно при громадном числе родственников в шотландских семьях.
ОТЕЦ
Джон Клерк Максвелл, эсквайр, вовсе не обязан был жить в городе, и даже скорее, не должен был бы жить в Эдинбурге, поскольку был хоть небольшим, но лэйрдом. Ему от дяди, сэра Джорджа, шестого баронета Пеникуикского, отошло имение Миддлби на юге Шотландии. Старшему брату Джорджу отошли от дяди Пеникуик и баронетство — Джордж стал седьмым баронетом и владельцем семейной усадьбы, где время от времени и жил.
Если бы не чудачество одного из прадедов, определившего, что Пеникуик и Миддлби не могут наследоваться одним лицом, все отошло бы старшему брату сэру Джорджу, как того требовал обычай: земли и титул наследовались только старшим сыном. Но Джон уже с десяти лет был владельцем имения, правда крайне запущенного и бедного, и даже имел нескольких «вассалов».
В имение его не тянуло: Джон Клерк Максвелл (вторая фамилия — Максвелл — добавилась автоматически, как только он стал владельцем Миддлби — фамильным владением Максвеллов) предпочитал жить в городе. Он учился в Эдинбургском университете, изучал право, неповторимое шотландское право, берущее, как утверждают, начало непосредственно от римского, и стал в конце концов адвокатом, членом Скоттиш-Бара — адвокатской коллегии, разместившейся в Парламент-хаусе — здании суда, где некогда, до соединения с Англией, заседал шотландский парламент.
Но под «Судебными решениями» Моррисона и «Юридическими инструкциями» Стэра у Джона Клерка Максвелла всегда были искусно запрятаны или чертежи воздуходувной машины, или научные журналы. Он ненавидел юриспруденцию.
У Джона была твердая репутация ленивца — он поздно вставал, со вкусом завтракал, читал после завтрака «Эдинбург ревью», а потом неспешно отправлялся в старый город, на Хай-стрит, где примерно на середине склона Касл-Рока в Парламент-хаусе располагалась цитадель шотландского права, одним из защитников которой и состоял Джон Клерк Максвелл.
Ленивый Джон без большой охоты посещал заседания суда, питая неприязнь, как он сам говорил, к «грязным адвокатским делишкам». Жизнь в разоренном имении (там не было даже дома для лэйрда) его тоже не привлекала, и Джон влачил свои дни в Скоттиш-Баре, которые совсем были бы печальны и тоскливы, если бы нельзя было их перемежать иными, более приятными для Джона днями. Как только случалась возможность, Джон прекращал бесконечное шарканье по мраморным вестибюлям Пардамент-хауса и посвящал себя научным экспериментам, которыми он между делом, по-любительски занимался. Он был дилетантом, сознавал это и тяжело переживал. Джон был влюблен в науку, в ученых, в людей практической сметки, в своего ученого деда Джорджа, в людей, наиболее нужных и популярных в Великобритании, делавшей в то время невиданный нигде ранее скачок в промышленности, технике и науке. Центр мировой науки, блуждавший в Европе и постепенно покинувший Рим, Амстердам, Геттинген, Париж, наконец нашел свое временное местоположение на туманных берегах Альбиона.
...Английский промышленный переворот уже завершался, а Джон Клерк Максвелл, лэйрд еще с тех времен, когда он учился в Хай-скуле со своим братом, все еще проводил свое время частью в Парламент-хаусе, частью — за составлением всевозможных планов, в большинстве своем неосуществимых. Самым большим удовольствием, самым ярким праздником в жизни был для Джона Клерка Максвелла день, когда почтенное Эдинбургское королевское общество собиралось на свое очередное заседание. В этот день мистер Клерк Максвелл, светясь счастьем, проносил свою массивную фигуру в первые ряды для публики и с упоением слушал ученые разговоры. Он был счастлив и ни в чем не нуждался...
Меж тем и юношеский возраст Джона Клерка Максвелла миновал, и однажды пришел час, когда нужно было положить на одну чашу весов ушедшее время, а на другую — то, на что это время истрачено. На одну чашу не слишком легким грузом легли тридцать семь прожитых лет, на другую — малоуспешная карьера адвоката, страстная любовь ко всем техническим новинкам и посещения заседаний Эдинбургского общества. Жизненный актив был крайне скуден, лэйрд так и не смог до тридцати семи лет найти себя, отдать себя делу, которое было бы нужно Шотландии и которое взяло бы все его силы.
Именно в это время у лэйрда умирает мать. Миссис Клерк, урожденная Джанет Ирвинг, скончалась весной 1824 года, оставив на попечение Джона его сестру Изабеллу — вдову государственного министра по делам Шотландии мистера Джеймса Веддерберна — с годовалой Джемимой. С этого времени Джона Клерка Максвелла начинает серьезно беспокоить струящийся неизвестно откуда холодный ветерок вечности.
Жизнь нужно было менять коренным образом, жизнь нужно было упорядочить, перестроить, перевернуть вверх ногами, посмотреть на все свежим критическим взглядом — и ничего не потерять, ничего не пропустить. И первое, о чем подумал Джон Клерк Максвелл, — это о том, что ему тридцать семь, а он одинок.
Первым шагом новой жизни должна была стать женитьба.
НАЧАЛО СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Примерно в это же время дочь судьи Адмиралтейского суда, а впоследствии — судьи-адмирала и комиссара-генерала Роберта Ходжона Кея, Франсез Кей тоже почувствовала себя одинокой и неустроенной. Ей минуло уже тридцать два года, а она, как и ее сестра Джейн, все еще не была замужем и не имела детей, чего ей страстно хотелось. И в то же время единственный человек, от которого она хотела бы иметь детей и с которым мечтала бы прожить всю свою жизнь, был слишком разбросан и инертен, слишком много времени отдавал заседаниям Эдинбургского королевского общества, членом которого не состоял, и конструированию воздуходувных мехов, которые так никогда и не заработали. Конструирование воздуходувных мехов совместно с братом Франсез Кей Робертом занимало у Джона Клерка Максвелла слишком много времени...
Свадьба состоялась 4 октября 1826 года. Она предшествовала трогательному, но, к несчастью, недолгому союзу двух людей, полностью познавших вкус одиночества, людей, созданных друг для друга. Под влиянием Франсез, женщины волевой и решительной, и в то же время необычно тонкой и артистически одаренной, Джон решает навсегда покинуть Эдинбург, наконец поселиться в своем наследном разоренном поместье в Южной Шотландии, создать там земной рай и жить в тесном кругу своей семьи и немногих «вассалов». И, главное, народить и воспитать целую кучу детей. В роду Клерков всегда было принято иметь по доброму десятку детей! Первый баронет, например, имел 14 детей, второй — 15, четвертый — девять, а седьмой — уже к моменту свадьбы Джона, который был младше всего на один год, имел девять детей! Этот путь завоевания вечности, столь философски очевидный, был в большой чести у семейства Клерков. Но и этот путь оказался тернист: первый ребенок Джона и Франсез — дочь Елизабет умерла вскоре после рождения. Все надежды немолодых родителей сосредоточились теперь на младшем сыне — Джеймсе, родившемся в Эдинбурге 13 июня 1831 года.
...Странное было это путешествие — печальное и радостное сразу — путешествие чуть не через всю Шотландию из Эдинбурга на юг, к заливу Солвей-Ферт, к наследному имению Джона Клерка Максвелла и его сына Джеймса, к Миддлби, имению, где не было даже домика для лэйрда. Но пейзаж был упоителен и романтичен: и ни у Джона, ни у Франсез, ни у сестры Джона — Изабеллы, приехавшей сюда с дочерью Джемимой, не было никаких сомнений в том, что землю эту никому нельзя отдать или продать...
Земли, перешедшие Максвеллу, были расположены на правом берегу реки со старинным названием Вода Урра, несущей воды к югу, в залив. Имение Миддлби находилось в семи милях от старинного замка Дугласов, обросшего городком, где был рынок, в десяти милях от маленького городка Далбетти с его гранитными карьерами и в шестнадцати — от Дамфриса. Имение находилось в практически необитаемой местности и состояло в основном из фермы Нижний Корсок и вересковой пустоши Малый Мохрум. Путем обменов и прикупки Джону ждалось несколько расширить имение за счет небольших участков, в частности за счет фермы Верхний Гленлейр.
Новый дом решено было строить там, где Вода Урра и ручей из торфяника, впадающий в нее как раз напротив деревни, скрытой вересковым склоном, образуют мыс, острие которого направлено на юго-восток. На этом мысе, над рекой и ручьем, и должен был возвышаться новый дом, пусть небольшой, но из настоящего шотландского камня, с каменной дорожкой перед парадной дверью. На южном склоне мыса был разбит сад, а за ним — и огород, занимающий узкую лощинку на обоих берегах ручья и простирающийся далее вокруг дома к западной его стороне и оканчивающийся густым кустарником, прячущим дом с севера.
На восточном склоне, спускающемся к Воде Урра, был большой луг, где могли пастись пони и домашний ослик. С северной стороны к дому примыкал двор с прудом для уток и скромными «службами» — остатками прежней фермы.
Через ручей был брод с большими камнями. Там нужно было бы со временем построить, конечно, настоящий мост, но это со временем, когда будут деньги.
Ниже, где сад подступал уже к самому ручью, сделано было в русле углубление для купанья; что может быть лучше купанья в тени деревьев в жаркие летние дни? А там, где к берегам Воды Урра лепилась вересковая кайма, где деревья защищали от ветров, дующих с северо-запада, с Мохрумского холма, высажены были кусты. Там должны были жить и прятаться фазаны, настоящие шотландские фазаны — украшение любого стола, даже самого изысканного.
А окрестности — таких окрестностей можно было бы только желать! Если перейти ручей и идти вслед за солнцем по горной дороге, то миль через семь будут волшебные места — горное озеро Лох-Кен с церковкой на берегу и лососевая река Ди, которую то и дело переходят по одним им ведомому броду королевские олени, не спешащие прятаться в рощицах шотландской сосны, разбросанных на берегу...
МИСТЕР ДЖОН КЛЕРК МАКСВЕЛЛ ПОЗНАЕТ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Именно здесь, в Миддлби, на берегу Воды Урра, строится дом для жены и наследника Джона Клерка Максвелла. Здесь, в этом доме, будет светиться тихая жизнь новой семьи, живущей по своему закону.
Этот закон прост — все должно быть разумно, продуманно, правильно.
Джон Клерк Максвелл решил все сделать по-новому, начиная с дома. Дом должен был содержать лишь самое необходимое, причем лишь в необходимой степени. Все помещения и вещи конструировались лично Джоном Клерком Максвеллом с расчетом их минимального веса и размеров. Когда Джон Клерк Максвелл размещал свои заказы у местных и эдинбургских мастеров, у тех вполне могло бы сложиться впечатление, что речь идет о корабле, возможно даже направляющемся в кругосветное плавание, — такие жесткие нормы задавались мистером Максвеллом.
Каждую вещь, по мнению Джона Клерка Максвелла, можно было сделать лучше, разумней, целесообразней — привычные тривиальные решения, на его взгляд, были если не все, то в своем большинстве плохи. Он всегда о чем-то раздумывал, что-то прикидывал, сравнивал одну вещь с другою, одно решение с другим, сколь малой проблемы бы это решение ни касалось.
Весьма необычной, например, была обувь, которую носили обитатели имения, странная кожаная обувь с квадратными носками. Мистер Максвелл считал, и, возможно, вполне справедливо, что простор для пальцев ноги важнее, чем мода, и велел деревенскому сапожнику сшить соответствующие тупоносые башмаки по колодке, изготовленной лично мистером Максвеллом из лично им подобранной кожи для себя и своего юного сына Джеймса.
Мистер Джон Клерк Максвелл не считал идеальной и современную одежду. Для своего сына Джеймса он сконструировал некое подобие римской тоги — одеяние весьма удобное, если учесть переменчивость шотландского климата, но весьма чудовищное с точки зрения столь же переменчивой моды. Под «тогой» носилась на римский манер столь же своеобразная «туника». С тогой и туникой в одежде юного Джеймса неожиданным образом соседствовали вполне современные брюки, правда, значительно укороченные. Длинные брюки, по понятиям Джона Клерка Максвелла, слишком быстро пачкались.
Стараниями мистера Клерка Максвелла, нашедшего наконец в разработке своеобразного быта своего родного имения радость и смысл бытия, был построен и «большой дом», а на самом деле дом совсем небольшой, «но допускающий возможность расширения», дом, получивший название «Гленлейр» — «берлога в узкой лощине».
В Гленлейре мистер Клерк Максвелл впервые почувствовал себя на месте, поверил в свое предназначение — пусть не столь величественное, как у его именитых родственников, но и немалое — быть хозяином собственного дома на собственной земле, мужем собственной жены и отцом собственного сына, а также — и это было одной из больших радостей — делать все разумно, долговечно, правильно.
Его леность и неуверенность в себе исчезли, когда рядом с ним появилась Франсез — энергичная, тонко чувствующая женщина с сангвиническим темпераментом. Недаром именно к этому времени относится и первая статья мистера Клерка Максвелла, которую наконец приняли к опубликованию. Для мистера Максвелла наступила, быть может и несколько поздно, пора расцвета всех дотоле дремавших в нем сил. Именно на 1831 год — год рождения Джеймса — приходится и первая опубликованная статья его отца, и основная работа по строительству дома, и вообще высшая точка жизни мистера Джона Клерка Максвелла.
В этот лучший год его жизни Джон Клерк Максвелл был уже изрядно располневшим сорокалетним мужчиной с волевым подбородком (запись в дневнике Джона: «вес 15 стоунов, 7 фунтов»3), несколько загадочно выглядевшим на его полном добром лице. Когда уже после смерти Джона его друг, президент Королевской академии Шотландии сэр Джон Ватсон Гордон, написал его стихотворный портрет, основной акцент упал на добрые глаза мистера Максвелла:
Как только я вспоминаю Его серые глаза, В которых отсвечивают сполохи летних гроз, Летнее тепло, радость, ясность ума, здоровье души, Печаль охватывает меня...Мягкий шотландский диалект, на котором он говорил (и надо признать, писал), несмотря на введение в Шотландии в качестве государственного английского языка, никогда не смолкал в клане Клерков. Этот диалект, пронизанный мягким юмором, но ни в коем случае не грубый, не вульгарный, мистер Максвелл довел до совершенства — взлелеянные гласные звуки перекатывались у него на языке сладким кусочком, вишневой косточкой. Хотя мистер Джон зачастую говорил прямо, без обиняков, живописная оболочка делала самые резкие для него речи необидными, мягкими. И вместе с тем, как сказали бы англичане, Джон Клерк Максвелл всегда называл лопату лопатой.
Отец и сын жили в редком взаимопонимании и любви — они были друг другу больше, чем отец и сын, больше, чем братья, больше, чем друзья. Они были в каком-то смысле двойниками — похожи по комплекции (с коррекцией на возраст), по характеру, внешне, они были равно немногословны, скромны, просты, доброжелательны и просто добры — ни один из них не причинил вреда ни одному живому существу, что мистическим образом сочеталось у старшего Максвелла со страстью к охоте и стрельбой без промаха — и именно последним оправдывал он первое. Отец и сын отличались еще тем, что сын, в противоположность отцу, прохладно относился к спорту.
Если говорить о внешних проявлениях характеров, здесь тоже были различия. Если отцу были равно чужды как энтузиазм, так и мистический пессимизм, то его сын затаил в глубоко сидящих под нависшими бровями глазах острый, непреходящий интерес ко всему сущему и происходящему.
ОТЕЦ ПИШЕТ НАУЧНУЮ СТАТЬЮ
Русский путешественник Иван Головин, побывавший в Англии тех лет, верно уловил то, чем дышала страна, чем отличалась она от других, в числе коих была и Россия: «Блистательные успехи английского земледелия не старее 20 лет; оно особенно обязано своим развитием учреждению железных дорог, которые позволили перевозить скот, хлеб и орудия из одной части государства в другую. При Якове II дороги были так худы, что запрягалось по 4 и по 6 лошадей в карету, не из чванства, а из необходимости; а когда между Оксфордом и Лондоном объявлен был дилижанс, который должен был совершить этот путь в один день, седельники кричали, что свет погибнет и люди задохнутся в таких каретах». Не упустил Иван Головин и то, что «в Англии выходит в неделю книг двадцать».
Другой путешественник из России, несколько позже посетивший Англию, харьковчанин К.Таулович, не смог, видимо, разобраться в том, что в это время происходило вокруг него, не заметил промышленного переворота, не заметил тысяч ткацких станков «дженни», чуть не десятка тысяч паровых машин Уатта, не заметил железной дороги, загончики которой с тридцатью пассажирами неслись с небывалой скоростью — 30 миль в час! Поверхностный наблюдатель, Таулович со вкусом описывал роскошную жизнь английской родовой знати, чудесные пиры, «состоящие вообще в богатейшем угощении всем, что только кичливый ум человека мог изобрести и извлечь из четырех царств натуры для наслаждения и славы богатых вельмож Англии, и редких и вкусных плодах и фруктах, привезенных из обеих Индий... в чрезвычайном разнообразии зрелищ и в иных многих приятных предметах, служащих для усугубления веселости...».
Но и поверхностный наблюдатель не мог не заметить яркого газового освещения в Лондоне, «уподобляющегося почти дневному свету», не пропустил «прекрасно устроенных и убранных с великим вкусом магазинов, которым нет равных в мире», не мог не заметить «огромных мостов на реке Темзе, а Тоннель, или Туннель, прокопанный для удобства пешеходов под Темзой, — выше всякого человеческого удивления».
Не мог не увидеть он также и того, что «в естественных практических науках англичане, кажется, шагнули дальше всех прочих народов».
Действительно, в описываемые времена Англия была наиболее промышленно развитой страной мира. Лондон насчитывал уже два с половиной миллиона жителей — больше, чем любой другой город на земном шаре, две трети трудового населения были заняты в промышленности.
Тысячи фабрик со сложными паровыми машинами и усовершенствованными станками четырнадцать часов в день приковывали к себе мужчин, женщин и детей — рабочих, создававших отличного качества товары, потреблявшиеся всем миром. Ограбление колоний — и особенно Индии — требовало быстроходных кораблей и усовершенствованного оружия. На полную мощность работали фабрики, изготавливавшие шотландское виски и лондонский джин.
Промышленность требовала машин все более и более производительных. Не случайно именно в Англии появились быстрые ткацкие станки, паровые машины Ньюкомена и Уатта, паровозы Тревитика и Стефенсона, приборы Фарадея. Все указывало на то, что Англия переживала величественный, хотя и жестокий период своей истории — период технической революции — знаменитого промышленного переворота.
К чести Джона Клерка Максвелла, эсквайра, нужно отметить, что он прекрасно понимал это и стремился хоть каким-то образом участвовать в мощном научно-техническом движении. Так, еще в юности он со своим приятелем Робертом Дундасом Кеем пытался сконструировать воздуходувные мехи, дающие постоянный ток воздуха. Более того, в Эдинбургском медицинском и философском журнале (том 10. 1831 год) им была опубликована статья под таким названием: «Наброски плана соединения машинных устройств с ручным печатным прессом». Если попытаться оценить научную ценность этой статьи отца Максвелла, то придется признать, что она не была чрезмерной. Статья относилась к довольно частному проявлению промышленного переворота («ручной печатный пресс»), имела неконкретный характер («наброски»), и ее влияние на шотландскую науку и технику было, видимо, невелико. К слову сказать, в активе шотландской техники и промышленности были уже к тому времени такие великолепные предприятия, как железо-детальные заводы Каррона и Фалькирке, восхищавшие некогда Петра I и выпускавшие пузатенькие корабельные «карронады» — ими была оснащена уже «Виктория» Нельсона.
Шотландский инженер Джеймс Насмит изобрел паровой молот, коренным образом преобразовавший облик промышленной техники — с изобретением молота появилась возможность обрабатывать в горячем виде гигантские раскаленные поковки, например для винтов громадных пароходов.
На этом внушительном фоне работа Джона Клерка Максвелла теряется. Она скорее показатель его интересов и способностей, не нашедших в шотландской науке должного применения.
ПОСЛЕ СМЕРТИ МАТЕРИ
Матери Джеймс практически не помнил. Отдельные, отрывочные, беззвучные, бессвязные картины. Вот в имение привезли много израненных рабочих — на близлежащих карьерах случилось несчастье — молодая женщина в белом около них, перевязывающая раны...
Молодая женщина в белом, играющая на органе...
Молодая женщина, вышивающая гладью...
Молодая женщина, со слезами прощающаяся со всеми, — ее везут на тяжелую операцию — у нее рак, а наркоз еще не изобретен.
Женщина в гробу...
Максвеллу восемь лет. Он еще не объемлет трагизма ситуации. Вспоминая, как мать страшно мучилась от болей, плача, он произносит:
— Как я рад! Ей наконец не больно!
Он верит в загробную жизнь. Это влияние матери. Целое воскресенье посвящено богу и библии. Джеймс легко выучивает псалмы наизусть.
В воскресенье нельзя не только работать, но и отдыхать. Воскресенье принадлежит богу. В Эдинбурге в воскресенье не работают магазины, не ходят кареты. Один русский путешественник писал, что по сравнению с воскресеньем в Эдинбурге даже воскресенье в Лондоне может показаться веселым.
Протестантская религия имеет для Джеймса большое преимущество перед остальными — она позволяет каждому по-своему понимать библию. Вечернее чтение библии, семейные споры над ее содержанием превращаются в тренировку ума, памяти.
Вечером читаются и другие книги — слащавый «Гудибрас» Батлера и «Джон — Ячменное зерно» Бернса, старинные шотландские баллады, а позже — «Потерянный рай» Мильтона, пьесы Шекспира, «Гулливер» Свифта.
Чтение глубоко действует на Джеймса. Он может не только повторить наизусть то, что ему читают, — он глубоко и критически взвешивает каждое слово, каждую ситуацию. Чтение ранних лет навсегда осталось фундаментом его понимания людей и жизни. Он знал и любил много стихов, много старинных шотландских баллад.
Утром его будил отец. Он пел Джеймсу старинную балладу:
Ты крепко спишь, сэр Джеймс! Вставай! Теперь не время спать. Двенадцать дюжих молодцов Хотят тебя поймать!4А «молодцов» было всего двое — Бобби и Джонни, сыновья садовника Сэнди Фразера, «вассалы», приятели детских игр.
«Молодцы» влекли его к ручью или к пруду — там можно было предаться всеми любимой игре — управлению судном. Судно сделано было из большой бадьи, было очень неустойчивым, и плавать на нем было дело непростое. Умение управлять кораблем-бадьей числилось у Джеймса в арсенале его самых больших, на его же взгляд, достоинств. И действительно, круглая бадья вертелась, перевертывалась, при быстром ходе накренялась вперед и вообще проделывала самые загадочные движения, никак не походившие на плавное скольжение по поверхности моря под парусами. Для «устранения дифферента» Джеймс придумал класть в бадью деревянный брус. Сидя на нем и подогнув под себя ноги с обеих сторон, можно было грести руками и обеспечить довольно устойчивый ход «судна». Об этом важном событии нужно сразу же сообщить уехавшему погостить в Эдинбург отцу:
«29 октября 1841 года
Дорогой папа, мы все живем хорошо. Во вторник мы с Бобби плавали на бадье, то же самое мы делали вчера и достигли многого — я могу теперь плавать без того, чтобы бадья крутилась, а в среду была стирка, и мы не могли плавать5, и пошли собирать картошку...
Мне нечего больше сообщить, и тем не менее я остаюсь твоим преданным сыном,
Джеймс Клерк Максвелл».
А сообщать, конечно, было о чем, лень было писать. Можно было бы написать о том, что он освоил шест-ходулю, которым его снабдил практичный отец: шест позволял легко перепрыгивать через рвы и заборы, быстро передвигаться — круг освоенных окрестностей быстро расширялся. Можно было написать, но, видимо, не стоило, что трясли они фруктовые деревья — один наверху, в ветвях, другие стараются ловить плоды прямо в воздухе — веселая игра! В июле он в один день разорил четыре осиных гнезда и ходил весь опухший — событие, которое стоило отметить!
Важное тоже занятие — пускать мыльные пузыри. Они уплывали в теплом потоке горного ветра, напоенного запахами летних горных трав, поворачивались в воздухе, уменьшались, переливались разными красками. Интересно было бы разобраться, почему мыльные пузыри такие красочные, такие разноцветные, такие переменчивые, но некогда, есть много других важных и интересных дел.
Можно было организовать «экспедицию» вверх по руслу ручья и наблюдать, как пенящийся и вихрящийся поток проделывает в твердом базальтовом основании углубления и борозды, если воронка двигается. Смутное очарование пенящегося потока, несущего гальку в Воду Урра, таинственная неизведанность водоворотов, еще пока непонятных и страшноватых, ничего пока не говорили ему, но уже, возможно, откладывались в его сознании кирпичиками будущих теорий. Еще не называет он водоворот нежным математическим термином «кэрл» — локон, завиток, не соединяет вихревое движение воды с вихревым движением таинственной среды — эфира, дающим еще неизвестные ему явления — электричество и магнетизм. Но уже отложились в это пытливом уме навсегда и воронки, и отверстия в базальтовом дне, и переливчатые краски мыльных пузырей. Все имеет для него образ и подобие в природе — он не умеет мыслить абстрактно, и за вязью формул впоследствии видит он кучевые облака, водовороты, мыльные пузыри, накреняющуюся от нагрузки бадью, падающие яблоки.
Его любовь к природе, ощущение себя ее частью были неотделимы от него самого. Иногда его одолевали раздумья о природе и о себе — он садился на берегу ручья там, где вода была спокойна и сквозь прозрачные струи видно было каменистое дно, и размышлял о своем месте здесь, в этом мире, под этими деревьями, у этого ручья. И бесконечно вкусной была вода, которую он пил ртом прямо из ручья, вместе с зелеными тенями деревьев...
Но особенно хорошо было, когда в имение приезжал из Эдинбурга отец. Джеймс на своем пони всюду следовал за его фаэтоном, учился забрасывать вилами сено в телегу, навешивать плуг, пользоваться шестом-ходулей — это сильно развило его тело. Бесконечные путешествия на шесте-ходуле по окрестностям сделали его физически выносливым.
Отец брал Джеймса на нехитрые сельские праздники, на встречи у соседей. Однажды на новогодний праздник они поехали с отцом к соседям в Ларгнейн, и там Джеймса поразила настоящая фея, выходящая из грота и раздающая подарки. Фея, как и бог, вошли с детства в его жизнь реальнейшими атрибутами природы, в существовании которых не приходилось сомневаться — он их видел собственными глазами, фею во всяком случае.
Иногда обитатели Гленлейра в те великие дни, когда туда приезжали родственники из Эдинбурга — тетя Изабелла с Джемимой и мисс Дайс — будущая жена брата Франсез, Роберта, — устраивали в горах пикники с обязательной стрельбой из лука и вручением призов. После этого ели непременный громадный пирог, говорили о родственниках, о друзьях, о сэре Вальтере Скотте, которого многие из клана знали, который был близким другом безвременно умершего мужа Изабеллы — Джеймса Веддерберна и работал когда-то вместе с дедом — судьей Кеем. Здесь узнал Джеймс и о дяде Джордже, и о самых первых Клерках, отстаивавших с оружием в руках судьбу «несчастной» Марии Стюарт, и о последующих — ученых, адвокатах, моряках.
УВЛЕЧЕНИЯ ДЕТСТВА
Джеймса всегда особенно волновало то, что связано было с развитием событий, с удивительной игрой причин и следствий. Его восхищала почти невероятная трансформация икринки в головастика, головастика — в лягушку. Джеймс и его кузина Джемима нарисовали множество серий картинок для «магического диска» — предшественника кинематографа. Вот икринка. Она лопается, затем головастик, все увеличивающийся, превращающийся в широко раскрывающую рот квакающую лягушку. При быстром вращении «магического диска», или «магического барабана», картинки следовали одна за другой, создавая за счет инерции зрения впечатление непрерывного действия. Молодые люди надрывали животики над этими «фильмами». Вместе с мистером Клерком Максвеллом-старшим.
Корова, прыгающая через луну, собака, преследующая крысу, цирковая лошадь, у которой на спине наездник прыгает через обруч, лягушка, вырастающая из икринки. И еще один рисунок, еще один «фильм», совсем необычный для любителей «магического диска», — зубчатые колесики зацепляют друг за друга, движимые маятником часов, — Джеймс изучал работу храповика. Такой способ изучения какой-нибудь проблемы — с помощью картинок, чертежей, диаграмм, геометрических фигур — так и остался у него на всю жизнь. Его мышление было предметным, он мыслил с помощью понятных, ясных, легко вызываемых воображением образов. А эти колесики с зубцами — маленькие шестереночки, зацепляющие друг за друга, — как напоминают они рисунки тех же шестереночек, с помощью которых уже мудрый, гениальный Максвелл пытается объяснить передачу электромагнитных воздействий от одной точки пространства к другой! В зримости, предметности мышления Максвелла была его сила, и все же основная его роль в науке оказалась в том, что он смог перейти к тому, что нельзя было непосредственно представить, ощутить, — новая наука постепенно переходила ко все более и более абстрактным категориям, порой не поддающимся прямому представлению, механической модели.
Период детских игр, заполненный природой, общением с отцом, книгами, рассказами о родных, «научными игрушками», первыми «открытиями» — типа обуздания своенравной бадьи, — кончался. У всякого свой образ детства — у Джеймса Клерка Максвелла идиллия детства рисовалась прохладной летней ночью: отец поднимал его с постели, бережно брал на руки, завернутого в плед так, что виднелись только блестящие неземные глаза, выносил на крыльцо их фамильного небольшого, но «допускающего возможность расширения» дома в Гленлейре, выполненного из настоящего шотландского камня.
Была темная летняя ночь, и мистер Клерк Максвелл, держа на одной руке завернутого в плед Джеймса, показывал ему другой рукой на созвездия северного неба и говорил их названия. И не было для Джеймса высшего счастья в его удивительно счастливом детстве.
ТЬЮТОР
Отца всегда немного смущало то, что Джеймс не получает систематического образования. Случайное чтение всего того, что есть в доме. Уроки астрономии на крыльце дома и в гостиной, где Джеймс вместе с отцом построил «небесный глобус». Созвездия были выколоты иглой, и, поместив внутрь глобуса свечу, можно было проецировать на стены «настоящее» звездное небо. Научные игрушки. Постоянное общение с влюбленным в науку отцом. Жизнь на фоне нетронутой природы.
В общем, такое образование, на взгляд мистера Максвелла-старшего, было абсолютно разумным. Сам он, некогда учась со своим братом сэром Джорджем в Хай-скуле Эдинбурга, до того возненавидел это почтенное заведение, что не мог представить себе, как он отдаст туда Джеймса.
Да и не очень представлял себе жизнь в разлуке с Джеймсом.
Другая партия — тетушки Джейн и Изабелла — настаивала на систематическом образовании. Они видели, что в знаниях Джеймса имеются «чудовищные» пробелы. Тетушки настояли, чтобы Джеймсу наняли воспитателя — юношу с рекомендациями.
Так и сделали. Тьютором — воспитателем оказался довольно милый юноша, отсрочивший ради этого свои собственные занятия в колледже. Он поселился в Гленлейре и, занявшись Джеймсовым воспитанием, сразу понял, какую нелегкую ношу на себя взвалил. Десятилетний Джеймс много знал — уровень его вопросов держал тьютора в постоянном напряжении. Кроме того, Джеймс с большим удовольствием менял регулярные занятия на такие прелестные вещи, как, например, катанье на бадье. На одном из рисунков Джемимы мы видим Джеймса, пытающегося ускользнуть от своего тьютора на бадье, а тот, в свою очередь, с помощью граблей пытается восстановить справедливость и вернуть беглеца к занятиям. Безмолвными свидетелями этой сцены являются отец с тростью, тетя Изабелла, кузина Джемима, «вассалы» Бобби и Джонни, а также терьер по кличке Тоби (Тобин, Тобс, Тобит — кто как звал) и изгнанные из гусиного прудка утки. В рисунке Джемимы каждая деталь многозначительна — даже палка, которую она на рисунке держит в руках, это не просто палка, а знаменитый шест-ходуля, с помощью которого юный Максвелл покорял гленлейрские окрестности.
Да и сам тьютор, видимо, нашел в Гленлейре более интересующие его проблемы. Короче говоря, план обучения Максвелла с помощью наставника оказался неработоспособным. Окончательный крах этого плана был засвидетельствован в ноябре 1841 года. Необходимо было найти какое-то иное решение для продолжения образования Джеймса.
И тут тетушки предложили, и особенно настаивала на этом незамужняя тетя Джейн, сестра матери, отправить Джеймса в новую школу — не так давно открытую Эдинбургскую академию. Мистер Максвелл всегда прислушивался к мнению тетушки Джейн в том, что касалось Джеймса. — сестра его умершей жены была тем, хотя и слабым, родничком женского влияния на воспитание Джеймса, который был необходим для гармонии воспитания. Джеймс тянулся к тетушке Джейн, даже внешне напоминавшей мать, он переписывался с ней о таких вещах, которые его волновали больше всего, — о своих приключениях и экспериментах, о боге, об оставшихся после смерти матери неоконченных вышивках — их окончила тетушка Джейн, он посылал ей из Гленлейра подарки — пучки мужского папоротника, щитовника.
Решение было принято — и вот в ноябре 1841 года мы можем наблюдать некий экипаж, переносящий юного Клерка Максвелла из любимого им Гленлейра на его родину — в Эдинбург, где предстояло ему, неученому еще отпрыску клана Клерков, принять в себя первые порции школьной премудрости.
ПЕРЕЕЗД В ЭДИНБУРГ. ПЕНИКУИК
Путешествие из Гленлейра в Эдинбург было прервано обязательным визитом в родовое имение Пеникуик, где царил дядюшка Джордж, седьмой баронет Пеникуикский, член правительства, неприступный и важный дядюшка Джордж, где шумно проживала целая ватага кузенов и кузин Джеймса.
Дом дядюшки Джорджа — в старинном густом парке, недалеко от деревни Пеникуик. Это сооружение в витиеватом греческом стиле, построенном сэром Джеймсом Клерком, третьим баронетом, покровителем искусств. Это им собрана большая коллекция живописи и особо — коллекция шотландских древностей. В парке — обелиск в честь шотландского поэта-просветителя Алана Рамзая, «шотландского Горация», открывшего некогда в Эдинбурге первую публичную библиотеку; он жил в Пеникуике на правах друга и протеже сэра Джона Клерка, второго баронета. Дальше в зелени парка — круглая башня. Это обсерватория — утеха любящих науки обитателей имения и его гостей.
Имение и парк неоднократно были свидетелями блестящих зрелищ; сколько раз сюда прибывала шумная и смешливая кавалькада из Эдинбурга — как хорош был в седле хромой Вальтер Скотт, как великолепны молодые Клерки, как очаровательны прискакавшие с ними амазонки!
Сейчас компания была поскромнее. Не то чтобы Джон Клерк чувствовал себя в этом доме предков бедным родственником — в общем, он беден не был. Но извечное противопоставление удачливого сэра Джорджа и «неудачника» Джона, хозяина провинциального имения Гленлейр, было несомненным. Да и Джеймс, спокойный, уравновешенный десятилетний Джеймс, чувствовал себя в этом замке совсем не так, как в вольном Гленлейре. Он чинно разгуливал по бесчисленным залам, разглядывал, лежа на полу, потолок в гостиной — на потолке была изображена некогда известным художником Александром Ранкиманом жизнь шотландского легендарного барда Оссиана.
Пеникуик буквально заполнен живописью. Над лестницей сюжеты из жизни святой Маргариты — сестры чуть не тысячелетней давности шотландского короля Малькольма, прославившейся своей благотворительностью. Эта роспись отнюдь не была случайной — в клане Клерков благотворительность и меценатство имели прочные традиции.
На стенах в гостиной висели портреты предков, но бородатые и безбородые предки в мрачноватой гостиной мало привлекали Максвелла, и он сбегал в парк, упрашивал отца пойти с ним на развалины находящегося неподалеку замка.
Отец, однако, спешил — до Эдинбурга оставалось добрых двадцать миль, да и устраиваться нужно — еще пара дней пройдет. А на дворе ноябрь, уже пошел снег и ударил мороз. Был запряжен экипаж, и в сумерки 18 ноября 1841 года Джеймс Клерк Максвелл, преодолев последний перегон на пути из Гленлейра, появился с отцом и верной их прислугой — Лиззи Маккенд перед подъездом дома № 31 по Хериот-роу, где поселились после брака с мистером Маккензи тетя Изабелла и ее дочь Джемима.
...На рисунке Джемимы, изображающем этот поворотный в жизни Джеймса Клерка Максвелла момент, виден герой дня в картузе, «тоге» и укороченных брюках. Он, как всегда, спокоен. Мистер Максвелл наблюдает за выгрузкой вещей, которой более непосредственно занимается дворецкий Джеймс Криг по прозвищу «Рогоносец», объясняемому его довольно своеобразной прической. У подъезда — группа встречающих. Там тетушка Изабелла, Джемима и мистер Маккензи, новый муж тетушки Изабеллы, профессор Эдинбургского университета. На ступенях — собачка Аски — будущий друг Джеймса, а в руках у тетушки Изабеллы — щенок Аски. Через наддверный люнет видна белая лошадь, не просто белая лошадь, а Белая Лошадь, — эмблема шотландского виски и эмблема этого дома. На рисунке отчетливо прослеживается разница стилей одежды, которых придерживались мистер Джон Клерк Максвелл и его сын Джеймс и профессор Эдинбургского университета мистер Маккензи, и в его лице — светский Эдинбург. Это различие в столь, казалось бы, незначительном предмете позднее сыграло определенную роль и в жизни Джеймса Клерка Максвелла.
ПЕРВЫЙ УРОК
Случилось это в первый же школьный день, в первое появление Джеймса в школе — в Эдинбургской академии, в классе, насчитывающем шестьдесят сорванцов разных возрастов, уже спаянных в определенной степени совместными интересами и бедствиями и настороженно относящихся ко всякому новичку, тем более прибывающему среди года.
Тем более к Джеймсу. Когда он впервые появился перед этими шестью десятками юных джентльменов, был представлен и усажен на свое место, в классе воцарилась зловещая тишина. Юноша в тоге из грубого серого твида с большой медной застежкой, в коротких брюках и туфлях с квадратными носами, опять же застегивающихся на медные застежки, являющийся в класс среди года, был обречен. Мистер Максвелл, возможно, вполне справедливо считал, что тога более подходящая одежда для зимы, чем облегающий тело жакет, что короткие брюки меньше пачкаются, чем длинные, что ступня в башмаке с квадратным носком меньше устает, чем в башмаке с круглым носком, что пряжкой туфли застегиваются быстрее и надежнее, чем с помощью шнурков. Все это было истинной правдой, однако, к большому сожалению, соученики Клерка Максвелла никак не могли взять это в толк.
Джеймс, как новичок, в любом случае должен был бы подвергнуться хотя бы временному гонению, но здесь случай был более тяжелый — юных джентльменов явно провоцировали, и они решили поставить все на свои места. Когда урок кончился и Максвелл, ничего не подозревая, направился в темный уголок между двумя классными комнатами, вся эта ватага набросилась на него, стала срывать столь удобную зимой тогу, отстегивать пряжки.
— Кто сделал эти туфли? — был первый вопрос, сопровождаемый гиканьем, смехом, хохотом и щипками.
— А это — не ночная ли рубашка твоей сестрички? — орали они, дергали за тунику. Но не так-то легко было получить ответ от немногословного мистера Клерка Максвелла. Припертый к стене, он прибег к своему излюбленному оружию — иронии и с чудовищным шотландским акцентом продекламировал:
— Туфли сделал человек, Жил он в домике под крышей. А в подвале жили мыши.Справедливо почувствовав в сентенциях мистера Максвелла нечто непонятное, но, очевидно, неприятное для себя, шестьдесят юных джентльменов вновь накинулись на него. Не учтено было одно — что мистер Клерк Максвелл десять лет своей жизни прожил в деревне на свежем воздухе под влиянием гигиенических идей своего отца, что сила его рук, тренированная шестом-ходулей, была весьма велика.
Когда юный Максвелл вернулся после уроков на Хериот-роу, 31, в «старину 31», вид его был довольно живописен: тога — вся в дырках, туника разодрана, шея в царапинах, а он сам — абсолютно спокоен и доволен собой, хотя, видимо, и несколько удивлен оказанным ему приемом. Видимо, этот прием был впитан им как безусловность — как еще одна сторона неизбежной, но пока еще неизвестной ему жизни, как новая страница, теперь уже с таким рисунком, не менее интересная.
Однако вечером, в выделенной ему комнате, где провел он следующие восемь или девять лет, записал он такие строки:
Мне кажется, страшнее в мире нет, Чем стая мальчиков в их ...надцать лет...ЭДИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ И ЕЕ РЕКТОР
Эдинбургская академия, как важно называлась школа, куда поступил учиться Максвелл, была основана в 1824 году. Открытие было весьма торжественным — выступили Вальтер Скотт и — теперь родственник Джеймса — мистер Маккензи, и завершило оно долгий период борьбы Скотта за создание в Эдинбурге новой школы, которая могла бы дать детям «классическое» образование. Вальтер Скотт, Джон Клерк Максвелл и дядюшка Джордж учились когда-то в Эдинбургской городской школе Хай-скул, которую дружно ненавидели всем сердцем.
Академия была, несомненно, школой для избранных — плата за обучение была здесь весьма высока, что объяснялось, во-первых, отсутствием поддержки со стороны городских властей, во-вторых, хорошим составом преподавателей и, в третьих, дороговизной роскошного здания, построенного для академии. «Такое стремление взбесить городские власти, — сообщает старая эдинбургская хроника, — весьма прискорбно, поскольку более скромное здание академии придало бы более законченный вид спуску с Фредерик-стрит».
Так или иначе, академия была построена, и руководство ею принял «лучший школьный воспитатель Европы», по выражению Вальтера Скотта, — архидиакон Вильямс. Ему, возможно, масштаб академии казался мелким, и, пробыв в качестве ректора два года, Вильямс начал подумывать о более почетном и важном посте. И когда вновь образовавшийся Лондонский университет предложил ему кафедру романской философии, он согласился. Уговоры Скотта и Маккензи не помогли — Вильямс упорно стоял на своем. В конце концов попечители согласились с его отставкой. Тем временем либеральное руководство Лондонского университета узнало о жесткой консервативной позиции Вильямса в вопросах церкви и вынудило его отказаться от кафедры. С другой стороны, Вильямс не мог уже возвратиться в Эдинбургскую академию, где на его место был назначен преемник. Вальтер Скотт писал о сложившейся ситуации в 1828 году:
«Написал Локкарту длинное письмо, о ситуации с Вильямсом и описал, как он сейчас, сидя меж двух стульев,
Упал со звуком непочтенным
На свой крестец преосвященный».
С большим трудом Вильямсу удалось обрести свое персональное место, и он теперь крепко держался за него. Своей главной задачей в академии он считал пестование обожаемого «классического» образования, основной упор в котором делался на латынь, греческий и английский языки, римских классиков и священное писание, то есть как раз на то, что и ожидали видеть в академии ее устроители. В дневнике Вальтера Скотта от 9 июля 1827 года встречаем примечательную фразу:
«В одиннадцать посетил вместе с Маккензи новую Эдинбургскую академию. В классе ректора м-ра Вильямса мы с удовольствием слушали на латинском Вергилия и Ливия».
От поступающих в школу учеников ректор Вильямс требовал знания Саллюстия и Вергилия, по его мнению, никто не должен поступить в школу, если он не держит в памяти основ греческой грамматики и если он не способен достаточно быстро и правильно переводить четыре книги евангелия и деяния апостолов, если он не может перевести любое место из шести книг «Илиады».
Джеймс, несмотря на домашнее воспитание, по-видимому, удовлетворял этим довольно высоким требованиям и был принят в академию.
У Максвелла в академии сразу же появилось прозвище — Дуралей. Он, казалось, нисколько не тяготился им, но с той памятной первой встречи со своими будущими соучениками не искал сближения с ними, предпочитая одиночество. Время от времени он с непроницаемым лицом бросал какие-то фразы, саркастические замечания, большей частью непонятные окружающим. Единственной его реакцией на шутки и поступки его одноклассников была быстрая, летучая улыбка, только ею выдавал он свою большую чувствительность. Только ею и коротким, глухим смешком.
Его успехи в классе были далеко не блестящи. Учитель греческого мистер Кармайкл считал своей первой задачей рассаживать учеников в соответствии с их школьными успехами, и Джеймс никогда не сидел впереди. Он сидел где-нибудь в средних или даже задних рядах и под ритмическое бормотание:
di... do... dum... di... do... dum...
думал о чем-то своем. Он легко мог бы выполнять задания лучше, но дух соревнования в малоприятных занятиях был для него глубоко чуждым. В изучаемых греческих глаголах он видел лишь трупы слов, останки мертвого языка.
Учеба шла все хуже и хуже, он отсаживался все дальше и дальше назад, ко все более и более агрессивным соседям, отдававшим все свои силы и способности издевательству над Джеймсом.
Джеймс редко принимал участие в общих играх, хотя и болел за школьные команды. Особый интерес он проявлял к двум играм — кручению волчка и «камешкам» — игре, в которой нужно было попадать камнем в другой камень и — что еще более желательно — рикошетом и в третий, и в четвертый. Как заманчиво было бы свести позднейшие устремления Максвелла — цветовые волчки и анализ движения молекул — к этим бесхитростным играм! Но цепь связей сложна; она таинственным образом переплетается с другими связями. И тем не менее как бы путаны переплетения ни были, образ школьного или гленлейрского волчка или образ сталкивающихся камешков, несомненно, помог всегда предметно мыслящему Максвеллу в обретении идей иных, совсем не очевидных, совсем не предметно-ощутимых.
Больше всего любил Джеймс бывать один. На зеленом, покрытом травой и цветками дикой примулы и чертополоха заднем дворе академии, на склоне холма ловил Джеймс громадного шумного шмеля, долго разглядывал его, свирепо виляющего брюшком, и отпускал. Несколько деревьев на том склоне служили ему гимнастическим залом — он часто висел на них, иной раз приняв какую-нибудь «классическую» позу, несомненно, перенятую у обожаемых им лягушат.
Лучше всего было в «старине 31», где зимой грелся у камина своей сестры отец, где дом был полон родными, где была кузина Джемима, наблюдавшая за занятиями Джеймса. Сама она занималась изучением искусства гравюры, и даже Джеймсу иногда — в исключительных случаях — разрешалось использовать ее резцы для собственного развлечения. Джеймс резал с удовольствием, результатом были несколько грубоватых гравюр — голова старухи, выполненная не без чувства, но с отсутствием того, что принято называть художественностью. Не зная, куда девать энергию, он занимался вязанием.
Больше всего увлекало Джеймса чтение. Богатая библиотека дома давала для этого все возможности. Он читал Свифта и Драйдена, потом Гоббса.
Первая школьная зима в Эдинбурге прошла с отцом. Отец разрывался — в Эдинбурге был любимый Джеймс, а в Миддлби требовали его присутствия хозяйственные дела. Весной 1842 года мистер Максвелл должен все-таки был уехать в Гленлейр. Но перед отъездом сын и отец почти не расставались — они беседовали, гуляли по Эдинбургу. 12 февраля, в субботу — этот день запомнился, — они оба пошли в Эдинбургское королевское общество, где выставлены были первые «электромагнетические машины», первые ласточки века электричества, первые вестники того века, для которого предстояло жить и творить Максвеллу.
ПЕРЕПИСКА С ОТЦОМ. ПОЯВЛЕНИЕ ТАИНСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Когда отец уезжал, общение с ним продолжалось в письмах. У мистера Максвелла-старшего был, видимо, какой-то талант в завоевании доверия детей — в свое время и кузина Джемима, переписываясь с ним, поверяла ему свои девичьи тайны, используя шифр и «римминги» — подстановки одних слов вместо других, ритмически созвучных. Теперь и Джеймс после весеннего отъезда отца стал писать ему обо всем, о чем можно было бы написать приятелю, поверенному в тайны. Приятеля у Джеймса сейчас не было ни одного, кроме отца, уехавшего по первопутью в Гленлейр.
«Апрель, 1842 год
Мой дорогой папа, в день, когда ты уехал, мы с Лиззи пошли в зоологический сад, и там был слон, и Лиззи испугалась его некрасивой морды. А один джентльмен был с мальчиком, который спрашивал, не индийская ли это корова.
Собачка Аски думает, что она тоже школьник, хотела пойти со мной в школу и сегодня пришла в танцкласс.
А в пятницу, в день 1-го апреля, мы все здесь очень повеселились — мы ничему не верили, потому что все часы «стояли», и у каждого была «дырка в жакете»... Как идут великие работы? Плавает ли еще Бобби на бадье?
Остаюсь твой покорный слуга,
Джеймс Клерк Максвелл».
Из письма мы узнаем о нехитрых событиях, случившихся в жизни Джеймса в апреле. Тут и зоосад, и собачонка Аски, и слон. Школа присутствует вскользь — она еще не тронула сердце Джеймса. Школа скучна, а Джеймса тянет к шуткам, парадоксам, к розыгрышу. Дуралею хочется, чтобы можно было дурачиться весь год, а не только в день 1 апреля. И он шутит, дурачится, посылая отцу, например, такие письма:
«Мой дорогой м-р Максвелл, я видел сегодня Вашего сынка, и он мне сказал, что Вы не могли отгадать его загадок. Если речь идет о греческих шутках, у меня есть в запасе еще одна. Некий простак, попробовав поплыть, чуть не утонул. Как только он добрался до берега, он поклялся, что не ступит в воду до тех пор, пока не научится плавать...
Ваш прдн. племянник -
Джеймс Клерк Максвелл.
(И далее, подозрительно похожим почерком):
Я разрезал орех кэшью, и немного масла попало на мои пальцы, и оно пахло, как льняное масло, но оно не щиплет. У нас в школе один мальчик принес на урок «файк»6 и засыпал его за воротник мальчикам, за это был наказан — должен учить по лишних 12 строчек три дня. Если говорить об успеваемости, я сейчас 14-й, но я надеюсь перебраться повыше. Овидий очень хорошо предсказывал то, что уже произошло, а потом предсказал победу, которой никогда не было. Посылаю свой рисунок волынщика, дабы вызвать бурное восхищение туземцев. У меня есть свой лужок для прыжков и деревянный пугач. Когда ты приедешь? Твой весьма покорный Рапп,
Джайкс Лекс. М'мерквелл7».
Да, ничем пока не выдает себя будущий великий физик. Он пока обычный двенадцатилетний мальчик. Но критически мыслящий и едкий («Овидий очень хорошо предсказывал то, что уже произошло»). И наблюдательный («масло ореха кэшью пахнет, как льняное, но оно не щиплет»). И любопытный — не всякий будет разрезать орех кэшью, куда проще его просто положить в рот! Здесь нет ни слова о физике — и все же все о ней.
«ДЬЯВОЛЬСКОЕ ЛЕТО» В ГЛЕНЛЕЙРЕ
Первый учебный год кончился, и вот Джеймс, повзрослевший на год, пулей слетает с подножек доставившего его на лето в Гленлейр экипажа. Даже его обычная сдержанность и немногословие не могут скрыть острого приступа радости — он мечется от ласково улыбающегося Сэнди к Мегги, от Бобби — к Джонни, от Тобина — к пони, потом — к гусям, в пруд, где качается на невеликих волнах крылатая бадья, к лягушатам. Радость осветила неласковые комнаты каменного дома мистера Джона, еще не оправившегося после смерти жены и одиноко живущего в доме, который некогда предназначался для троих, а может быть, и для большего числа лиц.
Джеймс не отходил от отца — они снова и снова бродят по окрестностям, сами названия которых говорят, конечно, о необычайной истории их создания, если не господом, то дьяволом. Скалистые вершины холмов — Торхолм, Тор-наус, Тор-брае были обследованы вдоль и поперек, как и Паддок-холл, Нокк-вини и Хай-Крэйгз оф Гленлейр. Часто с ними ходила и Джемима. И Джеймс и Джемима, которая была на восемь лет старше, с равным восторгом внимали рассказам мистера Джона о том, как после дня творения пристыженный дьявол на козлиных ногах, в руках — рыбные корзины, набитые не пригодившимися при творении камнями, прибежал, негодуя, в эти места и только тут, сокрывшись, стал созидать свою землю, столь же неплодородную, как плодородна была созданная богом, — он опрокинул свои корзины в Скрилз, а все, что осталось, свалил у Криффеля. Не очень-то органичны были эти рассказы в устах пресвитерианина, признающего лишь библию источником церковной истории, ибо в библии всего этого не было — уж это точно знала тетя Изабелла, придерживавшаяся епископальной церкви.
Такое несоответствие семейных вероисповеданий долго служило яблоком раздора: какого религиозного направления должен был придерживаться Максвелл-младший? Споры длились долго, и принято было наконец соломоново решение: утром в эдинбургское скучное воскресенье шел Джеймс Клерк Максвелл в кирку святого Андрея со своим пресвитерианином-отцом, а после этого уже с тетушкой Изабеллой — в добропорядочную епископальную церковь святого Джона. Может быть, поэтому религиозные взгляды Максвелла были весьма эклектичны, путаны и, с точки зрения многих теологов, даже еретичны.
Лето было наполнено развлечениями. Для всех, но не для мистера Джона. Летом заканчивалась в Гленлейре постройка новых служб. Все чертежи были лично выполнены мистером Максвеллом-старшим, он был сам производителем работ, суровым приемщиком поступающих материалов. Он был занят до такой степени, что не мог совершить свой обычный июньский визит в Эдинбург, и Джеймс, вдвойне соскучившийся, приехав в Гленлейр, ходил по пятам за родителем, наблюдая ход строительства. Мистер Джон с удовольствием разъяснял Джеймсу все детали, продуманные до последней мелочи. И эта стройка, как и все, что он видел в детстве, глубоко запала в душу Джеймса. Можно не сомневаться в том, что через много лет при проектировании своей Кавендишской лаборатории Джеймс Клерк Максвелл воссоздал в своем воображении процесс, которому он был свидетелем. Кавендишская лаборатория поражает своей продуманностью, как поражали своей продуманностью хозяйские постройки мистера Максвелла в Гленлейре.
И еще одно, несомненно, повлиявшее на жизнь и судьбу Джеймса Клерка Максвелла: у него в Гленлейре появилась новая игра. Об игре этой говорилось в доме шепотом, вполголоса, само название ее, казалось, кощунственно затрагивало недозволенное, хотя бы и в шутку. Игра называлась: «Дьявол, дьяболо». Но так впрямую, полностью ее в Гленлейре не называли. Для гленлейрцев существовал «дья--л», «д----л», причем юмористическое понижение голоса при произнесении сего названия воспринималось всегда с пониманием, как старая, но неизбежно добрая шутка. «Дьявол», а точнее — «дьявол на двух палочках», был своеобразной юлой, волчком, раскручиваемым с помощью веревочки, юлой, представляющей собой два конуса, сдвинутых вершинами. Не существовало, казалось, в природе такого трюка, который Джеймс не мог бы проделать с этим своеобразным волчком; он удивительно увлекся этой игрой, не остывал к ней, когда все остальные остывали, пронес ее до профессорских лет, возил с собой «дьявола» по разным городам, развлекал им студентов в Абердине и Кембридже, выдумывал все новые и новые чудеса, которые «дьявол» доставал из своих рыбных корзин и сбрасывал на землю в местах, неподсудных господу богу, как это он сделал однажды в другом своем обличье — с рогами и копытами.
«Дьявол» поехал с Джеймсом в Эдинбург, где его уже поджидали старая академия и не чаявшие в нем души тетки. И еще его ждал в Эдинбурге друг. Первый настоящий друг и защитник, правда, защитник робкий и слабый, более сильный в латыни и греческом, чем в кулачном бою...
В прошлом учебном году после очередной бурной стычки с одноклассниками не отдышавшийся еще Джеймс, глядя исподлобья, ходил насупленный на заднем дворе академии. Вдруг чей-то мягкий, вкрадчивый голос остановил его. Лучший ученик академии Льюис Кемпбелл выражал ему свое сочувствие и понимание. И предлагал дружбу. Через сорок лет после этого, когда Кемпбелл писал биографию недавно умершего друга, он не мог забыть огня страстной признательности, сверкнувшего в глазах Максвелла — Джеймс был невозмутим, но совсем не толстокож.
Дружба укреплялась еще и тем обстоятельством, что Льюис жил через дом от «старины 31», в доме номер 27, по той же улице — Хериот-роу. Отец его был военный моряк, покорявший на кораблях ее величества пока еще непокорные Британии народы, а дядя — известный поэт Томас Кемпбелл, оказавший своими стихами большое влияние на обоих мальчиков.
ОТКРЫТИЕ МАЛЕНЬКИХ ИСТИН
«М-ру Джону Клерку Максвеллу,
Почтазнаетгде
Киркпатрик Дурхам, Дамфрис
«Старина 31», 23 марта 1844 года
Дорогой отец! В прошлую субботу мы прибыли на Морскую Виллу8, там очень сильно пахнет морем, отчего это место мне нравится еще больше. Я выяснил, где пасутся моллюски; они пасутся на морском файке, на нем были гребешки, мидии и устрицы не больше, чем эти 0 0 0 0, прикрепленные к файку нитями. Резвушку и Плаксу9 погрузили было в объятия Нептуна, но тут же извлекли обратно с еще дрожащими конечностями и разными выражениями на лице: один из них возбудил сострадание у Меддиума10 и был ею унесен. Я переселился в маленькую мансарду. На что похож новорожденный головастик, и как Мегги, продолжает ли она свое Тру-ту-ту?11 Хмм, много еще работы с пирогом, сказал мирог. Дом Джона, я полагаю, еще не построен. Пришло несколько писем от дяди Роберта12, по штампу из Гибель-Алтаря, но я не смог понять из них ничего, кроме того, что он должен был прибыть в Суэц в прошлый понедельник. Лиззи говорит, что когда ты вернешься, ей не было бы неприятно, если бы ты привез с собой полный баул серой камвольной пряжи, впрочем под ней она, кажется, подразумевает шерстяную. Я сделал три свинцовые отливки живой, точнее — мертвой натуры: одна отливка — это гребешок, две другие — мидии, причем один из последних должен сию минуту появиться на этом знаке +. Если захочешь узнать больше, взгляни на красные и синие буквы письма по порядку от начала до знака +13.
Как поживают все люди и звери?.. Нянюшка, Мегги, Фанни, Бобби, Тоби и Марко?
Ваш покрн. слг.
Джайкс Лекс. М'Мерквелл».
Письмо как письмо, такие письма часто направляют двенадцатилетние мальчики своим близким доверенным друзьям. Письмо дурашливое, мысли прыгают с одной интересной темы на другую. Но гениальность не может таиться — и вот дает она о себе знать неуловимым штрихом, необычайным поворотом мысли, острой заметкой, юмором, пока еще детским. Свой угол зрения на сущее прослеживается здесь и в необычном сюжете для печаток, и в шутливом искажении имен и названий, и в неожиданном, но довольно точном сравнении (ребенок — головастик). А главное — письмо это содержит первые научные открытия Джеймса Клерка Максвелла, открытия микроскопические, как «эти 0 0 0 0», но все же открытия — обнаружение того, чего раньше никто не знал.
Никто не знал или не мог рассказать Джеймсу, где пасутся в море моллюски. Он обнаружил это сам, и факт — «моллюски в море пасутся на морском файке» — является новым установленным фактом, пусть крайне частным и незначительным, но уже крупицей материала, из которого построен величественный храм науки, фактом, не известным ранее никому.
С этого, малозначащего на первый взгляд открытия и начинается счет все большим и большим открытиям, таким вещам, о которых раньше никто ничего не знал, а впоследствии и таких, о которых никто ничего и не подозревал.
А творческая энергия Максвелла уже находит почву для обнаружения иных, может быть, и незначительных, но неизвестных ранее фактов. Например:
Морским файком можно хорошо полировать.
Открытие мелкое, незначительное, стеснительно упрятанное в искусную шифровальную схему, как и заурядное сообщение о том, что он начал копировать старую печать из Саллюстия.
А разве не открытие сам шифр, с помощью которого передана дополнительная, по отношению к общему количеству затраченных букв, информация? Число букв то же, а информация возросла — принцип, используемый и сейчас в любой компактной системе передачи информации.
СЕКРЕТ ЗАГАДОЧНОЙ ЛИЧНОСТИ РАСКРЫВАЕТСЯ В СИЛУ ВАЖНЫХ ПРИЧИН
«19 июня 1844
«Старина 31»
«Мой дорогой отец! В среду я ходил на Виргинских Менестрелей, иногда они пели так: первая строчка сопровождалась трещотками, вторая — тамбурином, третья — на банджо, вот так... как будто очень быстро играют на гитаре, четвертая — скрипкой, — а потом все вместе с хором.
В субботу, получив отметку за стихи по Лаокоону, я пошел на отвратительного ящура14, пока Мрс М'кензи, Нинни и «куни»15 не поехали с визитом в Крамонд, где я играл с мальчиками, пока не наступил прилив, а младший брат мистера, два мальчика и я купались в «мо» (так называет море «куни») и потом обсыхали на берегу на манер древних греков, а потом еще у нас был предмет вызывающей роскоши — ведро, в котором мы сполоснули ноги.
Как поживают травы, кустарники и деревья? Коровы, овцы, лошади, собаки и люди? Как нравится нянюшке Карлейль? Миссис Роберт Кей была в церкви в воскресенье. Я сделал тетраэдр, додекаэдр и еще два эдра, для которых не знаю правильного названия...
Д жай к сЛ ексМ' М ерквелл
12 13 4 7 68 3 14 15512 9 10 11 16 17 18 19».
«10 июля 1844
Дорогой отец, прости за то, что я так долго не писал, поскольку сейчас все мое существование состоит в приготовлении стихов, английских и латинских. Я сочинил за неделю четыре строчки латинских стихов, чем заслужил высокую отметку, но я вовсе не пытаюсь получить приз... сочиняю английские стихи о видении Крёзы Энею... Кроме того, готовлю священную историю... Каждую субботу я езжу в Крамонд и играю с мальчиками, они девятого уехали в Рейхиллс. Купанье процветает — вода становится теплой и приятной.
Отец! Возможно ль, чтобы те, кого мы погребли, Вернулись ощутить все запахи земли?Я пока что болтаюсь по латинскому где-то около 14-го места.
Твой покрн. слг., приходящийся тебе сыном.
Джеймс Клерк Максвелл».
Два эти письма знаменуют наступление новой поры в жизни Джеймса. После незначащего замечания о том, что он встретил в церкви миссис Кей, жену дяди Роберта Кея и сестру известного художника Дайса, Джеймс пишет:
«...Я сделал тетраэдр, додекаэдр и еще два эдра, для которых не знаю правильного названия».
В академии геометрии еще не проходили. Может быть, из книги, может быть, из разговора или из беседы в Эдинбургском королевском обществе получил он первые понятия о пирамиде, кубе, других правильных многогранниках. Джеймс построил эти геометрические тела из картона и был поражен возможностью создавать один многогранник, более сложный, из другого, простого. Для этого нужно было срезать верхушки изначального многогранника, выкрашенного Джеймсом в какой-нибудь яркий цвет. Верхушки срезались, образовывался новый многогранник, который, в свою очередь, превращался в еще более сложный, но подчиняющийся каким-то строгим гармоническим законам предмет, и все меньше и меньше становилась грань с первоначальной окраской.
Магия этих превращений увлекла Джеймса. Зрелище совершенной симметрии, если угодно — красоты, получаемой с помощью в известной мере механических действий, было для него откровением — он увидел истинную и совершенную красоту геометрических образов, почувствовал интерес и страсть к процессу научного исследования.
Он увидел в учении зерно красоты, даже удовольствия, увидел, как даже небольшое научное исследование может приносить радость и эстетическое наслаждение.
Джеймс резко переменился.
В школе он стал успевать много лучше. Даже латинский и греческий вошли в число удовольствий, а английский язык и священную историю он и так всегда любил.
Изучение арифметики тоже пошло в гору. Да и авторитет Джеймса в школе стал постепенно подниматься. Даже самые отъявленные сорванцы не могли не признать силы его мысли, дерзкой храбрости и всеобьемлющей доброты. Прозвище «Дуралей» не исчезло, но начинало обретать иной, уважительный смысл.
В тринадцать лет Джеймс вступил в новую пору. В письмах постепенно исчезает шаловливость, письмо от 19 июня раскрывает даже невинный розыгрыш подписи, чтобы уже не возвращаться к ней, исчезают нарочитые ошибки.
Способности Джеймса начали находить правильное русло — в постройке симметричных многогранников, в геометрии, отыскании гармонии в алгебре.
И другим важны эти письма. Впервые в письме от 10 июля проскальзывает у Джеймса печальная и серьезная мысль о тех, «кого мы погребли», его волнует смена поколений, неизбежная, как смена листвы, недаром он впервые серьезно и подчеркнуто подписывается: «твой сын». Отец и сын, дед, прадед, более отдаленные предки, сделавшие свое дело, отцветшие ярким цветом, принесшие или не принесшие плодов, умершие давно и недавно, живущие ныне, уже состарившиеся, еще молодые, совсем молодые, как он, и совсем еще малыши, как «куни», становятся в его формирующемся воображении в ряд, не имеющий начала и конца...
Как хотелось бы, чтобы у всех, и у него тоже, была бы возможность снова «ощутить все запахи земли», но невозможно это, нет возврата, неумолимое движение жизни зовет вперед, и вот уже и он всходит на эту несущуюся стефенсоновским локомотивом платформу, в этот круговорот, он вступает на неизбежный путь, он становится взрослым, хотя он еще мальчик.
Джеймс покидает пору своего отрочества с картонными многогранниками в руках и печалью в сердце, щемящим чувством всеобщей обреченности, неизбежно долженствующим быть хотя бы одно мгновение в жизни каждого. Он нашел свой путь, свое место в неразрывной цепи своих родных и вошел в новую пору — пору юности — с твердым желанием не растратить свою жизнь зря, стать полноправным и крепким звеном бесконечной цепи поколений...
ДЖЕЙМС СТАНОВИТСЯ ЛУЧШИМ УЧЕНИКОМ
Новыми глазами смотрел теперь уже Джеймс и на неправильные греческие глаголы (к 13 годам он их знал наизусть чуть не 800). Слова мертвого языка превратились для него в посланцев чьей-то древней, но мудрой мысли, и уже не мертвые глаголы, но Вергилий и Гораций звучали в классе мистера Вильямса, ведь именно ректор вел этот предмет. Заучивать глаголы и стихи на латинском было необходимо по-прежнему, но это уже было не так тягостно и мучительно, и к тому же юный Джеймс придумал великолепный метод, ну просто прекрасный и безошибочный метод заучивания всего того из латинского, что плохо шло в голову.
В своей комнатке в «старине 31» в часы подготовки уроков он прежде всего рисовал в тетради в крупном масштабе класс с его прекрасными широкими витражами. На этом классическом фоне, вполне соответствовавшем величию изучаемых латинских мыслей. Джеймс выстраивал полки глаголов и строк, которые надлежало ему знать к завтрашнему дню. Глаголы и строки послушно застревали меж прутьев оконных решеток, в узорах витражей, между шкафами и картинами.
На следующий день главное было — попасть на свое место, чтобы реальный вид класса соответствовал картинке в тетради. Теперь, глядя на настоящие предметы, Джеймс легко представлял себе те фразы, которые нужно было выучить и повторить в классе вслух.
Повторение у него получалось толковое, правильное, но отнюдь не отчетливое — дикция Джеймса, как, впрочем, и стиль его писаний, всегда оставляла простор для пожеланий дальнейших улучшений. Неясное бормотание и постоянные откашливания служили для мистера Вильямса прекрасным примером для назидания иным: вот как не надо декламировать латинские стихи! Но эти замечания не могли задеть теперь Джеймса, относящегося ко всему с веселым спокойствием и юмором. Он мстил Вильямсу на свой лад, веселой иронией, проскальзывающей иной раз в письмах к тетке, мисс Джейн:
«П--------16 говорит, что человек + с образованием никогда + не говорит... «гм... гм...», + «значит...» и тому подобное; он ведет свою речь + минуя бессмысленные слова и междометия.
N.В. Каждый значок + означает мертвую долгую паузу».
Это была язвительная пародия на речь самого ректора, который в самом деле злоупотреблял паузами в разговоре, а иной раз вместо пауз и сам не брезговал вставить что-нибудь вроде: «Как это вам лучше сказать...» или: «Да... да...»
А вообще-то ректор Джеймсу нравился, и прежде всего как человек, через посредство которого он приобщался к мудрости и поэзии древних.
«14 октября 1844 г. Мисс Джейн Кей
П------- мне нравится гораздо больше, чем М-р Кармайкл17. Мы часто шутим на его уроках, сам он говорит много путных вещей, а нам не приходится делать так много однообразных грамматических разборов. А на уроках английского гораздо интереснее слушать о Мильтоне, чем про историю Греции... Я был у дяди Джона, и он показал мне свой новый электротип, с помощью которого он сделал медную копию жука. Он может покрывать и серебром, и он дал мне одну вещь, с помощью которой это можно сделать. По вечерам я обычно делаю банки18».
Льюису Кемпбеллу, напротив, больше нравился мистер Кармайкл. У Джеймса и его друга Льюиса были и другие темы для споров, когда они возвращались по одной улице домой. Дом Кемпбелла был на один ближе к школе, и они останавливались в дверях, не желая прерывать споров и бесед, на которые Джеймс оказался неистощимым. От математических игр он переходил к забавным анекдотам или стихам, преимущественно из любимого им Драйдена, или пересказывал «Талабу» Саути, или объяснял какое-то новое свое изобретение, которое Льюис частенько не мог разобрать, иной раз из-за неразборчивости и путаности речи, а иногда и из-за сложности предмета.
Геометрические увлечения Джеймса уже зачастую не могли разделяться его сверстниками, и он, ища слушателя и болельщика, обращается с письмом к своей тетке Джейн:
«Я нарисовал картинку — Диану, сделал октаэдр, исходя из нового принципа, а также обнаружил великое множество интересных вещей в геометрии. Если вы нарисуете два равных круга и сделаете три произвольных шага циркулем...» (далее следует длительное объяснение).
Тем временем в школе начали геометрию. Ее, как и все другие математические дисциплины, вел мистер Глоаг, добрый человек, прирожденный учитель, человек с чудачествами и коверканным английским. Его передразнивали, его шутки повторяли.
Мистер Глоаг шутил, но мистер Глоаг и требовал. Он добивался безукоризненной строгости и четкости математических доказательств, заставляя выводить все возможные «следствия» из теорем. На уроках мистера Глоага Максвелл был первым человеком. Ни один ученик, включая лучшего ученика академии — Льюиса Кемпбелла, не мог соперничать с ним в сообразительности, остроте ума, оригинальности доказательств.
Когда пришло время экзаменов, ученики академии поразились — Дуралей стал одним из первых.
Мистер Кармайкл, мистер Глоаг и даже сам ректор мистер Вильямс признали способности юного Джеймса.
Для Максвелла-старшего наступили поистине «звездные дни», дни исполнения желаний, выполнения предназначений. Если и раньше он иногда брал Джеймса на свое любимое развлечение — заседания Эдинбургского королевского общества, то теперь посещения этого общества, а также Эдинбургского общества искусств вместе с Джеймсом стали для него регулярными и обязательными.
В заседаниях Общества искусств самым известным, собирающим толпы людей лектором был мистер Д.Р.Хей, художник-декоратор.
МИСТЕР ХЕЙ ПРОСИТ СОВЕТА У ВАЛЬТЕРА СКОТТА
Летом 1824 года, за двадцать с лишним лет до описываемых событий, к воротам стилизованной под старинные шотландские замки усадьбы в Абботсфорде, основной пожирательницы миллионов Вальтера Скотта, подъехал скромный всадник и попросил разрешения получить аудиенцию у великого писателя.
В гостиной, обставленной старинной дорогой мебелью, увешанной охотничьими трофеями и диковинными шкурами, восседал у камина седой и грузный человек с массивной тростью в руке. Он думал над вопросом, поставленным ему молодым человеком: кем тому быть? Молодому человеку, а звали его Давид Рамзай Хей, хотелось стать художником.
— Да, по вашим рисункам и поступкам видно, что у вас есть и талант и энергия. Но кто мог бы сейчас ответить вам, есть ли у вас зачатки гениальности? Эти детские рисунки еще не доказательство. Если у вас в груди горит такой огонь, что для вас лучше сто раз быть забытым, бедным и непризнанным, чем упустить один шанс к славе, — ныряйте вниз головой в бушующее море жизни, не оглядываясь. Если же вы склонны к малейшему комфорту и независимости, если вы хотите иметь какие-то гарантии и быть спокойным за будущее; если вы хотите быть уважаемым гражданином, живущим в своем доме с крышей над головой, и наблюдать рядом с собой счастливые лица жены и детей — остановитесь и хорошо подумайте. Мне кажется, что у нас в стране нет большого спроса на художественные произведения. Немало художников с высокой и заслуженной репутацией с трудом находят заказы и частенько голодают под грузом своих лавров. Мне кажется, процветают в Британии те, кто ищет занятия, связанные с практической пользой, и иногда мне кажется, что молодые люди, примеряющие уже себя на места Рафаэля и Ван-Дейка, принесли бы и себе и другим больше пользы, если бы они, например, обратились к более практическим предметам, скажем, к введению во всеобщее употребление нового, более элегантного стиля внутренней окраски домов...
Молодой человек был подавлен словами метра и, вежливо обещав поразмыслить над ними, пришпорил коня. О результатах его раздумий и трезвости ума свидетельствует то, что через некоторое время на Вест-Реджистер-стрит объявилась вывеска:
«Д.Р.ХЕЙ, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ».
В деле этом Давид Хей весьма преуспел, разбогател, расписал в знак благодарности весь замок Абботсфорд, написал там множество картин и украсил его геральдическими знаками. Он стал известен в стране и впоследствии расписывал покои в королевском дворце. Он собрал богатую коллекцию шотландских художников, став меценатом, а не гением. Его прикладные работы отличались большим вкусом и чувством цвета. Он написал несколько трактатов о цвете и о проблемах декоративного искусства. Очередной его трактат был посвящен связи декоративных искусств и математики — поверке алгеброй гармонии. Именно на это сообщение и попали в начале 1846 года Джон Клерк Максвелл, лэйрд и ученый-любитель, и его сын Джеймс четырнадцати с половиной лет.
Давид Хей говорил о том, что прекрасное поддается математической интерпретации. Цвет и форма имеют свои математические выражения и зависимости. Стрельчатые своды готических соборов, греческий орнамент, даже форма этрусских погребальных урн могут найти свое адекватное математическое определение, не говоря уже о квадрате, круге и эллипсе. Все эти фигуры могут быть выражены математически и легко построены человеком, не имеющим ни малейшего художественного образования. А они красивы. Значит, человек может делать красивые вещи, зная лишь математику.
Все эти рассуждения мистера Хея имели громадный успех среди эдинбургских ученых. А на юного Джеймса они подействовали просто ошеломляюще. Возможность строить красивые вещи с помощью геометрических понятий и приборов увлекла Джеймса. Если круг можно построить с помощью циркуля, то каков должен быть «циркуль» для построения овала? Как древние этруски, не зная математики, могли строить совершенные овалы? Ведь погребальные урны этрусков, по словам мистера Хея, представляют совершенные овалы! И вообще, нельзя ли создать такое устройство, с помощью которого можно было бы рисовать овалы точно так же просто, как с помощью циркуля рисуется круг?
ДЖЕЙМС ПРИДУМЫВАЕТ СПОСОБ РИСОВАНИЯ ОВАЛОВ
Джеймс возился с овалами несколько недель и в результате придумал забавный циркуль для овалов: вместо иголки циркуля было две булавки.
Вместо грифеля циркуля — обычный карандаш. Вместо ног циркуля, обеспечивающих постоянство расстояния от любой точки окружности до центра круга, — нитка, всегда обеспечивающая равенство суммы расстояний от точки на окружности до обоих фокусов.
Если фокус один, устройство Джеймса превращается в «ниточный циркуль» — нитка, одним концом привязанная к булавке, обеспечивает постоянство расстояния от центра окружности до грифеля — получается обычный циркуль. Если фокусов и булавок по два, получается овал. Если фокусов больше — новые незнакомые фигуры...
Находка Джеймса была одновременно и остроумной, и необычайно простой. И Джеймс и отец поначалу думали, что такая простая вещь не могла не прийти кому-нибудь в голову.
Мистер Максвелл-старший решил рассеять сомнения у самого мистера Д.Р.Хея и направился к нему с визитом.
Художник изучил рисунки Джеймса и согласился с тем, что они содержат нечто такое, что ему было неизвестно.
Мистер Максвелл-старший, ободренный тем обстоятельством, что способ Джеймса не был известен самому мистеру Хею, решил обратиться повыше — теперь уже к профессору Эдинбургского университета Джеймсу Давиду Форбсу.
Джеймса Давида Форбса отцу и сыну Максвеллам послала, видно, судьба. Джеймс Форбс с ранних пор обнаружил большие способности к физике и уже с шестнадцати лет посылал анонимно статьи в издаваемый сэром Давидом Брюстером научный «Философский журнал».
Когда целая серия этих статей была напечатана, авторство было раскрыто, и перед сэром Давидом возник не сформировавшийся физически юноша. Восхищенный Брюстер, всегда покровительствовавший молодым талантам, предложил кандидатуру юного Форбса в члены Шотландской академии наук — Эдинбургского королевского общества, куда Джеймс Форбс и был избран в возрасте девятнадцати лет!
Покровительство молодым талантам приняло позже у Брюстера и Форбса очень серьезную форму. В год рождения Джеймса, в 1831 году, Брюстер и Форбс основали Британскую ассоциацию — общество поощрения молодых талантов, в котором способные молодые люди могли получить помощь и поддержку со стороны больших ученых, послушать их лекции, получить консультации и даже средства на самостоятельные исследования.
Неудивительно, что Форбс принял Джона Клерка Максвелла значительно более внимательно, чем мистер Хей, и отнесся к судьбе его сына с большим участием.
Дневник Джона Клерка Максвелла:
«1846, февраль.
Четверг, 26. Попросил проф. Форбса из колледжа посмотреть овалы Джеймса и высказаться по их поводу, так же как по поводу трехфокусных и многофокусных фигур. Это было ново для проф. Форбса, и было решено написать теорию построения этих фигур и передать ему.
1846, март.
Понедельник, 2. Написал сообщение об овалах Джеймса для проф. Форбса. Вечер. Королевское общество с Джеймсом.
Отдал Форбсу упомянутое сообщение.
Среда, 4. Пошел в колледж к 12 часам и говорил с проф. об овалах Джеймса. Проф. Форбс очень ими доволен и смотрит в книгах, известно ли кому-нибудь что-нибудь об этом. Напишет мне, когда он полностью с этим разберется.
Суббота, 7.Получил записку от профессора Форбса:
«Эдинбург, 8 марта 1846
Мой дорогой сэр, я тщательно ознакомился со статьей Вашего сына, и думаю, что метод очень прост — что, несомненно, замечательно для его лет — и, как мне кажется, совершенно новый. Относительно этого последнего утверждения я еще проконсультируюсь с профессором Келландом. Остаюсь, дорогой сэр, искренне Ваш
Джеймс Д.Форбс».
Среда, 11. Получил записку от профессора Форбса:
«3 Парк-Плейс, 11 марта 1846
Мой дорогой сэр, мне было приятно узнать сегодня от профессора Келланда, что его мнение о статье Вашего сына совпадает с моим, а именно — метод очень прост, надежен и, нам кажется, представляет собой новый метод построения многофокусных фигур... Если Вы желаете, этот метод, в силу его простоты и элегантности, вполне можно доложить перед Королевским обществом. Искренне Ваш
Джеймс Д.Форбс».
Вторник, 17. Джеймс дома у проф. Форбса. Парк-Плейс, 3. Пил чай, беседовал об овалах. Пришел домой к 10 часам. Успешный визит.
Понедельник, 30. На следующем заседании К.О. будут овалы Джеймса.
Понедельник, 6 апреля. Королевское общество с Джеймсом. Профессор Форбс прочел сообщение об овалах Джеймса. Сообщение прослушано с большим вниманием и всесторонне обсуждено».
Первая научная работа Джеймса прочитана в Эдинбургском королевском обществе! Правда, не им, а профессором Форбсом — ведь немыслимо было бы выпустить на столь важную трибуну четырнадцатилетнего мальчика в школьной курточке! После заседания статья вышла в «Трудах Эдинбургского королевского общества», и Джеймс мог впервые увидеть свою фамилию, напечатанную типографским способом. Но и этого было мало — в комментариях профессора Форбса к идеям «Мистера Клерка Максвелла-младшего» показано, что метод построения фигур высокого порядка фокусности восходил к Декарту, причем указывалось, что «метод Декарта был более сложен, чем метод м-ра Клерка Максвелла». Такое соседство имен было более чем многозначительным.
И кроме того: оказалось, что простой на вид метод — с помощью булавок и веревочек — имеет большой физический смысл и аналогию в оптических явлениях; кривые, которые можно было получить с помощью булавок и веревочки, и направления самих веревочек совпадали с конфигурацией гнутых зеркал и отражаемого ими света, с помощью булавок и веревочек можно было воссоздать картины прохождения, преломления света в средах разной плотности, а это уже восходило к работам Ньютона и Гюйгенса, к свету, к оптике.
Трудно отделаться от впечатления, что свет и оптика, цвет и форма, все то, что было связано со зрением, имело для Джеймса особую привлекательность — он все время «ловил Солнце», но уже не в оловянную тарелку, а с помощью так легко дававшихся ему математических методов, геометрических понятий. Все, что он видел вокруг, приобретало для него особый аромат — легкости и трудности физического объяснения, математического описания. Он хотел объяснить окружающий мир окружающим людям, понять его самому.
Сдвигая две линзы, он видел «кольца Ньютона» и понимал, почему расстояние между соседними темными окружностями такое, а не иное.
Он смотрел на море, пенящимися ступенями подкатывающееся к его ногам, и хотел математически описать волны — какие они должны быть у этого берега и какие — у другого.
Он смотрел на переливающиеся тонкие стенки мыльных пузырей и стремился понять магию этих цветных превращений.
Мозг может помогать глазу, считал он, и видел бессчетное количество подтверждений этому. Примеры мощи вычислений, мощи интеллекта тогда появлялись в большом количестве, и Джеймсу суждено было стать если не свидетелем, то современником одного из таких драматических подтверждений.
АДАМС, ЛЕВЕРРЬЕ И НЕПТУН
17 марта 1846 года Джеймс посетил лекцию, прочитанную профессором астрономии из университета Глазго. Это был Джон Прингль Николь, автор нашумевшей некогда книги «Взгляд на архитектуру небес». Николь рассказал слушателям назидательную и захватывающую историю открытия планеты Нептун, окончившуюся чуть ли не на днях.
Главным действующим лицом этой истории был Джон Коуч Адамс, молодой человек двадцати пяти лет.
Еще во время обучения в Кембридже Адамс заинтересовался опубликованными в 1821 году таблицами движения планеты Уран, которые не согласовывались с наблюдениями более ранних астрономов. Уже в 1841 году Адамс предположил, что «незакономерности» в движении планеты вызваны тем, что за Ураном в черной пустоте, невидима, кружится вокруг Солнца еще одна планета. Два года он занимался вычислением звездных координат, где, по его мнению, должна была бы находиться не открытая еще планета, и наконец определил их. Теперь нужно было найти мощный телескоп и с его помощью обнаружить планету. Можно было бы, конечно, опубликовать полученные координаты и ждать, пока какой-нибудь астроном — в Англии, России, Франции или Германии — возьмется за поиски планеты.
Но не таков был Адамс. Его патриотизм был поистине викторианским — он желал, чтобы открытие было непременно сделано английским астрономом, в Англии, чтобы новая планета носила английское название и была бы присоединена к английской короне, украшала бы ее, как брильянты из обеих Индий.
Оставив в своих бумагах меморандум от 3 июля 1841 года о предположительном наличии за Ураном еще одной планеты, неопытный Адамс через своего знакомого Джеймса Чаллиса попытался получить аудиенцию у королевского астронома сэра Джорджа Эйри.
Молодой Адамс, видимо полагая, что вся жизнь впереди, не особенно спешил и лишь в сентябре 1845 года передал через Чаллиса данные своих вычислений. Одновременно Адамс передал в Гринвичскую обсерваторию статью с аналогичными данными. Дело стало за английскими астрономами — ведь астрономы других стран ничего о предположениях и вычислениях Адамса не знали.
А 29 июля 1846 года француз Леверрье, проделав ту же работу, что и Адамс, сделал ее достоянием астрономов всех стран. Ждать пришлось недолго — и уже 23 сентября берлинский астроном Галле обнаружил в указанной Леверрье точке неба неизвестную ранее планету. Жизнь двигалась быстрее, чем это предполагал Адамс.
Когда в свете этих новых событий Чаллис попытался рассказать ученому миру о происшедшем, ему просто не поверили. Чудовищно было предположить, что королевский астроном, обладая данными для открытия новой планеты, не сделал этого. Столь же нелепо было и то, что блестящий математик Адамс не опубликовал своих результатов ранее. Возник спор о приоритете. Французы поначалу решили назвать новую планету «Леверрье», но протест общественного мнения был так силен, что остановились в конце концов на нейтральном названии «Нептун».
Научное общественное мнение разделилось на «адамитов» и «антиадамитов», хотя сами виновники конфликта оставались в хороших отношениях. Королевское общество со свойственной ему непоследовательностью увенчало лаврами Леверрье, королева предложила Адамсу рыцарство, от которого он отказался, а Кембриджский университет основал премию Адамса, присуждаемую раз в два года лучшей работе по прикладной математике, астрономии или физике «в ознаменование открытия Нептуна». Премия эта сыграла большую роль в судьбе Джеймса Клерка Максвелла.
Лекция Николя об открытии Нептуна укрепила Джеймса в мнении о всесилии математических методов, в справедливости и мощи законов Ньютона. Он с еще большим рвением принялся за изучение математических и особенно геометрических методов, которые давались ему необыкновенно легко. Жаль, конечно, что его друг Кемпбелл оказывался зачастую не в состоянии понять его идеи, да и тетушка Джейн уже не в состоянии делать вид, что она понимает все эти громоздкие геометрические построения Джеймса. Джеймсу нужны новые друзья, и он находит их.
НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
И первый среди них — это профессор Джеймс Форбс, искренне привязавшийся к Джеймсу и видящий в нем надежду шотландской науки. Форбс делился с Джеймсом своими научными идеями. Основным увлечением Форбса были ледники. Его книгу «Путешествие через Савойские Альпы и другие участки Пеннинской цепи с наблюдениями ледников» Джеймс прочел с большим удовольствием. Его заинтересовала на некоторое время физика ледников, которые, как казалось Форбсу, были промежуточной субстанцией между твердым телом и жидкостью и в силу этого обладали рядом специфических свойств. Джеймс заинтересовался этим классом тел и некоторое время экспериментировал на чердаке «старины 31» с различными желеобразными веществами. Он интересовался, как ведут себя подобные тела, когда их сжимают, как они при сжатии преломляют свет.
Этому способствует, к счастью и сожалению, слабое здоровье Максвелла, часто отсутствующего в школе. Невозможность бывать на заседаниях Королевского общества угнетала его куда больше, но отец старался дать ему полный о них отчет, а имя Форбса не сходило с губ старшего и младшего Максвеллов.
И еще один друг появился в это время у Джеймса — Питер Гутри Тэт, учившийся классом ниже, но уже поражавший всех своими блестящими математическими способностями. У мистера Глоага не было ни малейших сомнений в том, что Питер со временем станет в Кембридже «старшим спорщиком» и получит премию Смита за лучшее математическое исследование19, и в таком признании математических способностей Питер соперничал с Джеймсом. Естественно, что два лучших математика школы — Максвелл и Тэт — не могли не обмениваться идеями.
В 1847 году обучение в Эдинбургской академии заканчивается, Джеймс — один из первых, забыты обиды и треволнения первых лет.
Счастливое свойство характера Джеймса — быстро забывать неприятные моменты в жизни — сквозит в сочиненной им после окончания «Песне Эдинбургской академии»:
Все, у кого хороший слух, Кто не ущербен и не глух, Пусть славят не за премию Старушку академию!Припев:
Старушка академия, Смешная академия, У нас бывало смеха всласть В старушке академии! Один сочтет: я крепко пьян Иль спятил вдруг совсем я, Зато другой прославить рад Старушку академию.Припев.
Одни надеются на пап, Другой — на короля (не я!), А самый умный сделал так - Он создал академию!Припев.
И каждый здесь, велик и мал, Не рад концу учения, Мы пунша посвятим бокал Шотландским академиям!ЭДИНБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, СЭР ВИЛЬЯМ ГАМИЛЬТОН
Убежденный в необходимости продолжать учение, отец решает отдать Джеймса с ноября в университет, но не куда-нибудь далеко — в Оксфорд или Кембридж, а поближе, где мог бы он заботливой отцовской рукой пестовать сына.
И здесь Джеймсу снова несказанно везет — он поступает в Эдинбургский университет и сразу же попадает в прекрасные руки. В университете преподают признанные ученые, первоклассные педагоги, известные по всей Англии и даже вне ее. Вторым математическим классом руководит профессор Келланд — известный математик. Классом натуральной философии, то есть физики, ведает почитаемый и любимый друг Джеймса Форбс, а класс логики ведет знаменитый Вильям Гамильтон. И этот последний, казалось, затмевает и математика и физика.
Однажды Джеймс, запыхавшись, бежал вверх, в большую аудиторию, где уже рокотала толпа студентов, ожидающих своего кумира. Торопливость была наказана — и Джеймс лежит на лестнице, колено его разорвано и окровавлено.
— Домой, домой, — советуют проносящиеся мимо коллеги. Джеймс и сам чувствует, что дело плохо — удар силен, чуть не до кости, кровь так и хлещет; но жажда идей, утоляющих вопросы души, проливающих свет на непонятное, указующих, куда идти и как, настолько велика, что Джеймс с трудом, на одной ноге допрыгивает до дверей аудитории, садится где-то сзади и, не пропуская ни единого слова, слушает откровения знаменитого философа.
Сэр Вильям был старым знакомым клана Клерков; вместе с Джоном Клерком Максвеллом он служил в Шотландской коллегии адвокатов, был членом Общества антиквариев, где когда-то царствовал сэр Джон Клерк, и дружил с Робертом Кеем, шерифом.
Между Джеймсом, шестнадцатилетним, и уже стареющим философом установились особые отношения; и это не был снисходительный союз метра с юниором. Джеймс привносил в философию Гамильтона уже нечто свое. Там, где логик Гамильтон ограничивался логическими построениями, глубокий реалист Джеймс подвергал выводы этих построений высшему испытанию. Природой. Опытом.
Взгляды Гамильтона, проповедовавшего «истинно шотландскую» доктрину «естественного реализма», «здравого смысла», были близки его собственным, интуитивным представлениям о мире, существующем независимо от него самого, мире абсолютно материальном, не нуждающемся в боге для своего объяснения.
Разрываемый сомнениями, Джеймс успокаивал себя, утолял свою боль несогласованности, несогласия, нелогичности и противоречия тем, что существуют две различные системы — Знания и Веры, и они подчиняются разной логике, и в логике Веры существуют более сильные пловцы, например, Льюис Кемпбелл, уехавший в Оксфорд готовиться к теологической карьере.
Джеймс слушал Гамильтона, и у него зарождалась уже собственная философия. И не ученические упражнения в логических построениях, а самостоятельные трактаты, теперь уже философского характера, приносил Джеймс на кафедру сэра Вильяма. Одно из этих сочинений сохранилось. Гамильтон не мог выбросить эти листки как заурядную студенческую работу, читал и по-своему изучал ее.
Гамильтон лил бальзам на раны несогласованности, раны противоречий. Он примирял объективно существующий мир, в котором все логично, взаимосвязанно, поддается объяснению, и бога, непостижимого и иррационального. Гамильтон лил бальзам, но он не исцелял, лишь временно утолял боль, возводя непреодолимую стену между Знанием и Верой. Законы Знания, законы Логики неприменимы к смутным областям Веры. И нечего требовать, чтобы Вера подчинялась Логике... И нечего вводить Веру в область Знания.
Физика приобрела в такой философии независимое существование, законы природы подлежали исследованию, природа существовала сама по себе и ждала рационального объяснения. Во всех своих проявлениях природа была объяснима, в ней не было ничего святого и таинственного, не подчиняющегося исследованию, не поддающегося объяснению. Сама логика поддавалась математическому трактованию — Максвелл знал это из трактата Джорджа Буля «Математический анализ логики». Любое логическое построение можно было выразить математически. Сама логика могла получить адекватное математическое выражение. В природе не было «святых земель»... Она существовала вне человека и независимо от него, она развивалась по своим законам, все ее области были как-то взаимосвязаны, и эти связи отнюдь не непостижимы. Надо лишь найти их.
Максвелл очень любил лекции Гамильтона.
Гамильтон обычно читал лишь первую половину лекции. Другую половину читал его ассистент, а сэр Вильям, сидя рядом с ним и грузно навалившись на стол, смотрел на студентов. Изредка делал замечания. Машинально перебирал металлические буквы в кувшине. Буквы эти служили для экзаменов. Сэр Вильям рассаживал студентов на скамьи, обозначенные первыми буквами их фамилий. В надлежащий день сэр Вильям запускал руку в кувшин, доставал какую-нибудь букву и экзаменовал студентов, сидящих на скамье, обозначенной ею.
Гамильтон оглядывал свой класс и, возможно, думал: кто из этих юношей подхватит его идеи, использует их, разовьет и подтвердит?
Думал ли он в этот момент о черноволосом Джеймсе Клерке Максвелле, племяннике своего друга шерифа Кея, сидевшем на скамье, обозначенной буквой К? Возможно, и нет. Но главное влияние, оказанное «истинно шотландским философом», «врагом математики», сторонником доктрины «естественного реализма» сэром Вильямом Гамильтоном на судьбы человечества, было опосредствовано именно через него, Джеймса Клерка Максвелла.
«ПРОПЫ»20
Рамки лекций Келланда и Форбса тесны Джеймсу его тянет в более трудные бои...
«С Келландом мы быстренько определили числовые значения величин; заданы были выражения в буквах — легкая работа. С Форбсом мы проходили рычаг, но ведь все это есть в Поттере21, никаких заметок не требуется — знай перебирай все эти черепки22 (легкое чтение)...»
Да, его тянет в более трудные бои, и он вынужден сам придумывать себе задачки. Часто к их решению присоединяются коллеги по Эдинбургскому университету — Питер Тэт, брат Льюиса Роберт (Боб), Алан Стюарт.
Старый приятель Питер гигантскими шагами шел вперед в математике. Его прочили в будущем году в Кембридж, и Джеймс буквально лез из кожи вон, чтобы придумать для Питера задачку покаверзней.
«...Перед тем как выйти из дома, я сочинил «проп» для Тэта (П.Г.); только он его никогда не решит. Это «найти алгебраическое уравнение кривой с вертикальной осью, в любой точке которой как на наклонную плоскость может быть положено тяжелое тело, причем горизонтальная составляющая силы, действующей на искомую кривую, меняется, как «n-ная» степень длины перпендикуляра, опущенного на ось».
Форбс с сочувствием и любовью наблюдает за своим младшим другом Клерком Максвеллом, он старается, чтобы физические и математические понятия обретали для его учеников реальность, жизненность.
«...В субботу физики взбежали на вершину «Артурова трона»23 с барометром. Профессор установил его на самой макушке и заставил нас пыхтеть, добираясь до него, и весь склон был полит нашим потом. Но профессор установил барометр не вполне вертикально, чем заставил холм подрасти на пятнадцать футов; но мы запихали его снова назад».
Форбс стремился к тому, чтобы его ученики находили задачки в самой природе, увязывали с природой свои теоретические познания, видели в задачках реальность. Рассказывая о кривых качения (Джеймс был тут на коне — он даже готовил статью о кривых качения), Форбс дал такую задачку — описать циклоиду от вершины горы Бен Невис24 до Форт Вильяма25 и определить время, за которое ствол дерева, скатываясь с вершины по этой кривой, достигнет подножия.
Джеймс решил оставить задачку до летних каникул, когда группа эдинбургских студентов по предложению Форбса должна была совершить путешествие в горную Шотландию. И вот он в Хайленде.
«Здесь великолепная база для измерения высоты и т.п. Бен Невиса. Это прямой и горизонтальный участок дороги, длиной примерно в милю, через торфяное болото. Во время сессии проф. Форбс задал нам в качестве упражнения описать циклоиду от вершины Бен Невиса до Форт Вильяма и пустить скользить по ней деревья. Мы наблюдали скольжение, но не нашли ничего такого, что могло бы скользить, кроме снега.
Я думаю, что тело, лишенное трения, прибудет в Форт Вильям по циклоиде через 49,6 секунды, а по наклонной плоскости — через 81».
После горной Шотландии — родной Гленлейр.
Гленлейр тих, пустынен и провинциален. Отец занят переустройством сада — его и не видно. Нежаркое солнце, квохтанье кур... Одиночество. Хочется поделиться с кем-то, получить отклик, с кем-то посмеяться, пошутить. Для развлечения Джеймс придумывает для себя массу «пропов»:
— Определить широту Гленлейра при помощи блюдечка с патокой;
— определить жесткость крикетного мяча;
— определить подъемную силу воды при разных положениях тела (Боб Фразер, стоя на берегу, держит веревку, за которую уцепился борющийся с течением Джеймс);
— намагнитить железные бруски и испытать их;
— построить электрическую машину;
— найти уравнение квадрата;
— найти уравнение кривой, которую видит сэр Давид Брюстер, когда он украдкой бросает взгляд на стенку.
Джеймс очень скучал в Гленлейре без друзей, без Форбса, без его аппаратов, которыми получил великодушное разрешение пользоваться в любое время по собственному усмотрению. Лучшее лекарство от сплина — устройство собственной лаборатории в Гленлейре.
«Льюису Кемпбеллу, эсквайру
Гленлейр, 5/6 июля 1848
Был очень рад твоему письму и буду благодарен за повторение. Теперь я уже лучше понимаю, почему ты не приезжаешь. Я уже оборудовал себе лабораторию над баней, у ворот, на мансарде. У меня оказалась старая дверь, которую я положил на две бочки, и два кресла, одно из которых можно даже назвать безопасным, и стеклянная крыша наверху, которую можно поднимать и опускать.
На двери (или столе) — множество сосудов, кувшинов, тарелок, банок и т.п., содержащих воду, соль, серную кислоту, медный купорос, а также битое стекло, железо и медную проволоку, медные и цинковые пластины, пчелиный воск, сургуч, клей, резину, графит, линзу, гальванические аппараты Смее и бесчисленное множество маленьких жучков, паучков, лесных клещей, которые падают в различные жидкости и отравляются.
...А сегодня я поразил аборигенов следующим образом. Я взял синий кристалл медного купороса и направил на него луч линзы, и вода улетучилась, оставив белый порошок. Затем я сделал то же с некоторым количеством стиральной соды и смешал два белых порошка вместе, а потом [плюнул] на смесь, отчего она стала зеленой из-за взаимного обмена: 1. Сульфат меди и карбонат натрия. 2. Сульфат натрия и карбонат меди (синий или зеленый)».
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В лаборатории над баней, у ворот, на столе из старой двери вскоре стали теснить все остальное прозрачные твердые цилиндры, бруски, куски стекла, желатина.
Джеймс решил продолжить в Гленлейре опыты с поляризованным светом, начатые им в Эдинбурге год или два назад, сразу после одного памятного события.
Весной 1847 года дядя Джеймса, брат покойной матери, Роберт Кей зашел за ним, затем зашли за Льюисом и все вместе шумной компанией направились на Инверлейт-Террас. Прямо к дому, где жил знаменитый в Шотландии и наверняка во всем остальном мире физик Вильям Николь. Их встретил лакей, который провел гостей в лабораторию, большую комнату с зашторенными окнами, где проводил в бесконечных экспериментах свои дни апостольского вида седовласый старец — изобретатель «призмы Николя», или просто «николя».
Лакей оказался лаборантом. Он заботливо прикрыл щели, в которые ломились снаружи лучи весеннего солнца, оставив лишь одно отверстие. Яркий луч света, набитый пылинками, прорезавший темноту комнаты, разбивался о кристалл исландского шпата.
И разделялся на два — казалось, одинаковых.
На самом деле — различных. Лучи были разными. Они, например, по-разному отражались от зеркала. Зеркало можно было бы, например, расположить так, чтобы один луч отражался, а второй — полностью исчезал. Эти лучи отличались и друг от друга, и от исходного луча, прорезавшего темень лаборатории Николя.
— Здесь вы видите поляризованные лучи, — говорил Николь, и в голосе его скользила любовь к этим лучам, к призмам-»николям», которые их рождали, к самой этой темной лаборатории, под которую приспособлена была одна из лучших комнат дома.
— Почему поляризованные? — спросил неискушенный Льюис. Джеймс хотел было толкнуть его в бок, да раздумал: Вильям Николь уже стал с увлечением рассказывать, как тридцатитрехлетний французский инженер Этьен Малюс наблюдал отражение последних закатных лучей в окнах Люксембургского дворца через кристалл исландского шпата...
Бесцветный прозрачный брусок обладал удивительным свойством двойного лучепреломления — и молодой инженер видел два дворца с двумя комплектами ажурных окон. Но два этих дворца неожиданно оказались разными: в то время как окна одного полыхали багровыми красками заката, окна другого были мертвы и пусты... Один из лучей, отразившись под определенным углом от окна, пропал.
Малюс заинтересовался этим странным видением и стал исследовать его. И понял, что напал на след нового явления.
Свеча послушно «раздваивалась», когда на нее смотрели через пластинку исландского шпата. Но если смотреть на отражение свечи, например, в воде, то при определенном угле отражения одна свеча пропадала. Малюс пришел к выводу, что отраженный таким образом луч обладает особой асимметрией вокруг своего направления. И назвал такое свойство луча поляризацией. А сам луч — поляризованным.
Новое явление не могло быть объяснено с помощью корпускулярной теории света (хотя Малюс и попытался это сделать). Но не объяснялось оно и волновой теорией. По крайней мере, не объяснялось волновой теорией Юнга, описанной в его статье «Опыты и проблемы по звуку и свету».
Объяснение явления предложил Огюстен Френель. Разжалованный в результате наполеоновской «чистки» 1815 года, инженер сидел без работы. Занялся оптикой, поначалу совсем мало разбираясь в ней. Звук и свет — похожи или нет? Если предположить, что свет — не частицы, а волны, то подобны ли они звуковым? Нет, не подобны. Звуковые волны продольны. Но для продольных волн никакой асимметрии вокруг луча не должно быть — все плоскости, содержащие луч, равноправны! Но поляризация лучей существует. Может быть, световые волны поперечны?
Этот вывод Френеля казался настолько диким, настолько безумным, что великий Араго, сам достаточно смелый в науке, помогая Френелю в опытах, отказался тем не менее подписать представленную статью.
И эта «трусость» Араго была понятна. Продольные волны возникают в воде, когда в нее брошен камень. Возникают они и в воздухе, являясь причиной звуковых явлений. Они могли существовать, по понятиям того времени, и в «эфире» — необычайно тонкой жидкости или газе, наполняющем всю вселенную и «ответственном» за световые явления.
Но во всех этих средах поперечные волны, «бьющиеся» в плоскостях, перпендикулярных направлению движения волны, просто невозможны. Поперечные волны могут существовать только в твердых телах.
Френель ввел в обиход физиков новый эфир. Это была странная субстанция.
Странная среда, неощутимая, неосязаемая, невесомая. Она проникает во все тела, занимает все пространство. Эфир тверд как сталь! Но не оказывает сопротивления движущимся в нем телам...
Неудивительно, что новую среду не жаловали. Знаменитый шотландец Давид Брюстер при каждом удобном случае поносил грубую идею заполнения всего пространства странным эфиром только для того, чтобы объяснить свет.
Брюстер поддерживал Ньютона, и уж заодно с ним — француза Малюса. Ему удалось, идя по стопам Малюса, одновременно с Араго открыть новый вид поляризации — хроматическую. И главное, открыть новый закон — закон Брюстера. Этот закон определял угол отражения, при котором должен был пропадать второй луч. Теперь можно было заранее рассчитать тот угол отражения, на который случайно наткнулся Малюс, наблюдая дворец через кристалл исландского шпата.
Используя закон Брюстера, Николь сделал и свои «николи» — турмалиновые призмы, склеенные наискосок с помощью канадского бальзама. Один луч проходил через прибор беспрепятственно, а другой отражался от внутренней прозрачной перегородки. Николь боготворил Брюстера, Ньютона, поляризацию, «николи». Казалось, что большой вклад, который в открытие и объяснение поляризации внесли французы, доставлял ему скрытые страдания.
— Да, французы многое сделали в области поляризованного света. Но какие французы? Лишь те, что шли за Ньютоном!
Дядюшка Роберт и Льюис одобрительно и понимающе кивали, а Джеймсу казалось, что наибольший вклад, самый великий шаг был сделан именно Френелем, бросившим Ньютону вызов. Джеймсу была ясна правильность идеи о поперечности световых волн — ибо она была единственной, которая могла непротиворечиво объяснить явление поляризации.
А Николь продолжал рассказывать о своих приборах. Он не мог говорить о поляризации равнодушно.
— Поляризованный луч, — страстно говорил Николь, — можно сравнить с путешественником, который, проникнув в неведомые страны, возвращается к нам с богатым запасом сведений, с набитым чемоданом, с заполненными дневниками. Он может рассказать о неведомой внутренней структуре тел и даже помог уже в обнаружении подделок — да, да — к примеру, при экспертизе сахара!
Эти слова Джеймсу запомнились. И когда в лаборатории Николя бушевали еще краски спектра, когда Николь демонстрировал с восторгом, как поляризованный луч «чувствует», когда образец нагревают или механически напрягают, мысли Джеймса были уже далеко. Он видел то, чего не увидели другие, — поляризованный луч можно было использовать для определения внутренних напряжений в нагруженных твердых телах.
Итак — проникнуть туда, куда нельзя было проникнуть раньше. Внутрь твердого тела, где «власть человека», как выразился Николь, «столь же велика, как власть сиамского короля в Англии».
И может быть, тут Джеймс позавидовал тому, что нет у него этих тяжелых полированных «николей», и придется воспользоваться ему несовершенными «турмалиновыми щипцами», дававшими окрашенный луч. Но это уже не могло остановить его.
Некоронованный король шотландской физики Брюстер утверждал, что быстро охлажденное, неотпущенное, с сохраненными внутренними напряжениями стекло и некоторые другие материалы должны давать эффект двойного лучепреломления за счет различия упругости в различных направлениях. Когда луч света падает на такой материал, он расщепляется на два луча, один из которых идет в направлении меньшей упругости, другой — в направлении большей.
А раз так, то изучение пути лучей можно использовать для определения упругости среды в разных направлениях, для обнаружения напряжений в прозрачных материалах типа желатина и неотпущенного стекла. Таким образом, исследование механических напряжений можно свести к оптическому исследованию. Два луча, разделившиеся в напряженном прозрачном материале, будут взаимодействовать, рождая характерные красочные картины.
Эти красочные картины помогут проверить формулы сопротивления материалов.
Для изготовления деталей сложной формы Джеймс решил использовать желатин из рыбьего клея. Он залил его в горячем состоянии в пространство между двумя концентрическими цилиндрами. Когда желатин остыл, Джеймс вынул его из формы и отполировал — получилась толстостенная твердая прозрачная труба, вполне пригодная для испытаний на кручение и для одновременных оптических исследований в поляризованном свете.
Закрепив этот цилиндр, Джеймс мог немного сдвигать в направлении вращения его внутреннюю поверхность. В стенках цилиндра возникали напряжения.
Величину их можно было рассчитать теоретически. Но и более того — напряжения можно было видеть! Для этого цилиндр нужно было рассматривать в поляризованном свете. (В самый разгар этих занятий Джеймс получил от дяди Роберта посылку, а в ней переложенный заботливо в мягкие ткани драгоценный подарок Николя — два «николя», сделанные им самим!)
В поляризованном свете сечение цилиндра представляло собой радужное кольцо, перекрещенное двумя темными полосами. Джеймсу удалось зарисовать эту картину акварелью и показать, что каждая линия ее имеет большой смысл и значение. Так же, как и расстояние между кольцами. И как закономерность смены цветов.
Джеймс показал, что цветные картины носят вполне закономерный характер и могут быть использованы для расчетов, для проверки выведенных ранее формул, для выведения новых. Оказалось, что некоторые формулы неверны, или неточны, или нуждаются в поправках.
И более того, Джеймсу удалось вскрыть закономерности в тех случаях, где раньше не удалось ничего сделать из-за математических трудностей.
Прозрачный и нагруженный треугольник из неотпущенного стекла дал Джеймсу возможность исследовать напряжения и в этом, не поддававшемся расчету случае.
«Радуга» теперь не скрашивала унылую простоту концентрических кругов. Линии одинакового цвета — изохромы — следовали причудливой игре внутренних перенапряжений и рождали красивые, но отнюдь не простые фигуры. Линии наиболее сильных напряжений — изоклины — давали возможность построить кривые направлений сжатия и растяжения. Получившаяся система траекторий напряжений позволяла вычислить главные напряжения.
Красивые цветовые картины приводили к прозаическим, но очень полезным формулам и цифрам. Гармония и в этот раз, как и тогда, когда Джеймс рисовал свои овалы, закономерно приходила к алгебре...
...Если предыдущий доклад — «Теория кривых качения» — сделал в Эдинбургском королевском обществе от имени Джеймса профессор Келланд, то этот, новый — «Равновесие упругих тел», прочесть за него было и неудобно, да и просто трудно!
Девятнадцатилетний Джеймс Клерк Максвелл впервые поднялся в 1850 году на трибуну Эдинбургского королевского общества. Его доклад не мог остаться незамеченным: слишком много нового и оригинального содержал он.
Джеймс доложил обществу свое решение четырнадцати задач из области сопротивления материалов. Он определил математически напряжения, возникающие от усилий и нагрева в полых цилиндрах, стержнях кругового сечения, тонком круглом диске, в полых сферах, плоских треугольниках. Несколько задач уже были решены раньше — Джеймс, не зная этого, решил и их. Несколько были решены Джеймсом более точно, чем раньше. Некоторые решены заново.
Все — «проверено светом».
И более того — с помощью поляризованного света удалось решить задачи, которые ранее считались неразрешимыми из-за непреодолимых математических трудностей.
Красивые акварели, стоящие рядом с Джеймсом на пюпитре, — зарисовки «цветных картин», сделанные им, открывали науке новый, неизвестный ранее перспективный метод исследования. Метод фотоупругости.
Это было главное. Но все оценили и то, что девятнадцатилетний юноша, впервые появившийся перед ними сегодня, попутно решил добрый десяток сложнейших задач из области сопротивления материалов.
Да, в науке это был уже не мальчик, а достойный муж.
В тот год Британская ассоциация собиралась в Эдинбурге. Много собралось в Эдинбурге знаменитых физиков — Фарадей, Тиндаль, Брюстер, Николь, Стокс, Томсон. Джеймс Клерк Максвелл чинно сидел где-то в последних рядах вместе с отцом и дядей Джоном Кеем, рядом с Питером, Бобом и Аланом. Много было прослушано интересного, Джеймс жадно впитывал новые идеи, учился на слух. Лишь однажды не сдержался — пустился в яростный, бескомпромиссный спор с докладчиком — первым физиком Шотландии, автором закона, носящего его имя, изобретателем калейдоскопа Давидом Брюстером. Спор касался теории цветов: Брюстер утверждал, что смешение голубого и желтого цветов дает зеленый, а Джеймс, тысячекратно наблюдавший сложение этих цветов и имевший свой взгляд на это, спорил с ним.
Можно лишь довообразить детали этого спора, ибо никаких документов не сохранилось. Можно представить себе, как какой-нибудь эдинбуржец, пришедший на конгресс Британской ассоциации как на редкое развлечение, удивленно подняв брови, спросит у своего внимательно слушающего этот спор соседа:
— А кто этот юноша?
А сосед, не в силах оторваться от спора, уважительно скажет:
— Это ученик Форбса, из Клерков, Максвелл-юниор! — И помедлив, внимательно и серьезно глядя на соседа: — Надежда нашей шотландской науки!
Да, Джеймса стали понемногу признавать. И не только его коллеги-студенты — его авторитет среди них с первого дня был непререкаем. Его странности уже не были объектом насмешек, как в школе; юные таланты, собранные в Эдинбургском университете, лучше разбирались в сути вещей, в их смысле, ценности и значении. О странностях Джеймса ходили слухи, он становился знаменитостью с совершенно неожиданной стороны.
— Вот тот, черноволосый, — это Джеймс Клерк Максвелл, из Клерков.
— Он никогда не пробовал вина!
— Он ездит в третьем классе — любит жесткие сиденья.
— Не надевает крахмальных рубашек.
— А вы послушайте его мрачные шутки!
— У него вид, как будто он боится что-нибудь сломать.
— Он говорит загадками.
— Он делает открытия даже в полоскательнице для пальцев!
— Он будущий великий шотландский физик.
ЧТЕНИЕ
Джеймс чувствовал, что он быстро продвигается вперед, в каком-то смысле даже становится популярным и известным, и неправдой было бы сказать, что ему это было неприятно. Он отнюдь не был безразличен к успеху, похвалам и славе.
Но промелькнувшая еще в детских письмах самокритичность, способность поставить себя на место других, не дает ему предаться утехам тщеславия. Джеймс прекрасно понимал, что у него все еще недостаточно знаний. Он заказывает массу книг (то, что отец — человек со средствами, здесь очень кстати, ибо книги дороги), берет книги сразу в нескольких библиотеках, они путешествуют за ним громоздким багажом. За три года, проведенных в Эдинбургском университете, он прочел «Математический анализ логики» Джорджа Буля, «О природе вещей» Лукреция, «Исчисление бесконечно малых» Ньютона, «Алгебру» Келланда, «Механику» Поттера, «Меморабилии» Ксенофонта, «Диалоги» Эвклида, труды Цицерона, Еврипида, Геродота, «Лекции» Юнга, «Принципы механики» Виллиса, «Механику и технику» Мосли, «Теплоту» Диксона, «Оптику» Муаньо. «Теорию теплоты» Фурье, «Описательную геометрию» Монжа, «Оптику» Ньютона, «Дифференциальное исчисление» Коши, «Научные мемуары» Тейлора, «Критику чистого разума» Канта, «Левиафана» Гоббса, «Лексикон» Данбара, труды Бернулли и множество иных книг, которые никак нельзя причислить к развлекательной литературе.
Все эти книги требуют вдумчивых размышлений, оценки, отзыва, нехолодного душевного отклика, и Джеймс откликается — он комментирует их, обсуждает с отцом, Питером, Льюисом и Форбсом. Главное, что черпается из этих книг, — конечно, научные сведения. Все, что можно проверить, проверяется. Читаются в основном оригинальные сочинения — компилятивные используются для справок, и Джеймс не устает повторять, что следует читать только первоисточники — только в них можно усмотреть момент зарождения идеи и процесс ее развития, и только тогда знание усваивается наиболее полно. Откликами о прочитанном, о том, что волновало Джеймса Клерка Максвелла, что он хотел прочесть, что читал и что черпал из книг, наполнены его письма к уехавшему учиться в Оксфорд Льюису. Льюис Кемпбелл решил посвятить свою жизнь греческой философии.
Джеймс поверял Льюису самые заветные свои мысли — о боге и дьяволе, о человеке и природе, о прочитанных книгах и придуманных им философских доктринах, о своих планах.
О планах (на лето 1850 г.)
1. Классики. Еврипид — для Кембриджа (он уже решил для себя продолжать учение в Кембридже, но никто, кроме Льюиса, не знал об этом), Греческое евангелие Цицерона и еще что-нибудь по-латыни.
2. Математика — Проблемы Райли и тригонометрия — для Кембриджа, свойства эллипсоида и других тел для практики по сферической тригонометрии.
3. Физика. Простые проблемы механики — научиться с легкостью решать их. Общая оптика. Для эксперимента — кручение и изгиб стеклянных и металлических брусков, самому делать желатин, неотпущенное стекло, изучить строение глаз животных, играть с «дьяволом».
4. Метафизика. Кантовская «Критика чистого разума» на немецком; читать «с целью согласовать мысли автора с мыслями сэра В.Гамильтона».
5. Моральная философия. Метафизические принципы моральной философии. Прочесть «Левиафана» Гоббса, с его моральной философией, как произведение единственного человека, четко определившего свои мысли.
Удивительно, что даже в 1850 году, когда гений Джеймса уже столь уверенно заявил о себе, когда его коллеги и друзья, и само Эдинбургское королевское общество, и Британская ассоциация признали его, когда идеи и исследования по физике потоком шли из-под его пера и из его лаборатории, участь Джеймса отнюдь не была еще решена из-за противоречия чувств, возникших у отца, — Джеймс был у него столь же один, сколь и он у Джеймса, и бедный мистер Джон Клерк Максвелл с ног сбился, стремясь найти правильные решения.
С одной стороны, Джеймс явно перерос уже Эдинбургский университет, и ему следовало бы продолжить учебу в Кембридже. С другой стороны, Кембридж был так далек от Эдинбурга, Гленлейра и Максвелла-старшего.
Делается даже такая пустая попытка, как склонить Джеймса к отцовской карьере — в коллегии адвокатов, в Парламент-хаусе. Джеймс не без интереса проглатывает подсунутые ему юридические трактаты, проглатывает их, комментирует... и равнодушно отставляет.
«Про» было одно, зато «контра» — сколько угодно. Например, слабое здоровье Джеймса.
Может быть, эта некоторая слабость физическая была неизбежной платой за усиленную работу мозга, забирающего все себе? Ведь тогда, когда Джеймс жил на природе в имении, и позже, когда он еще не блистал в Эдинбургской академии, он был отменно здоров и крепок. Лишь позже, с резким усилением умственной нагрузки, здоровье его стало подвергаться первым испытаниям. Болезни ушей, зубов, а потом и глаз — Джеймс заработал своим неуемным чтением близорукость, правда несильную, — стали первыми вестниками его более серьезных болезней.
Много было и других «контра»:
Опасности английских университетов, особенно Кембриджа.
Безбожие, а если религия, то англиканская — немыслимая вещь для пресвитерианина.
Одиночество за сотни километров от отца, родственников.
Сам Джеймс, казалось, не участвовал в этих событиях. Он не говорил ни «да», ни «нет», но в ответ на предложения многочисленных знакомых последовать карьере отца он задумчиво и тихо отвечал, что «его волнуют иные законы», и все же не отказывался, не обижал никого — принципы моральной философии грозили сослужить здесь плохую службу непротивления злу. Он, казалось, готов был поступиться даже физикой ради того, чтобы не увидеть на глазах своего обожаемого отца тяжелых слез расставания. Друзья и родственники, понимающие экстраординарность одаренности Джеймса, уговаривали Максвелла-старшего, среди них профессора Форбс, Маккензи — муж тети Изабеллы, Хью Блекбурн — муж Джемимы, декан Рамзай из Глазго.
Под их влиянием мистер Максвелл-старший заколебался. Преимущества его как состоятельного человека, не обязанного посещать службу, были сейчас благоприятны для Джеймса — отец потратил уйму времени, не жалел его нисколько, желая всесторонне обсудить вопрос. Чаши весов сдвинулись с равновесного состояния, когда оказалось, что единственный оставшийся в Эдинбурге приятель Джеймса — Роберт Кемпбелл, брат Льюиса, уезжает, и это твердо решено, уезжает учиться в Кембридж. К тому времени Льюис учился в Оксфорде, Питер и Алан Стюарты — в Кембридже. Джеймс оставался один, и это было уже невыносимо для него.
У него было мало друзей, но он ими необычайно дорожил. Боб Кемпбелл явился последней каплей, перетянувшей в сторону Кембриджа. Отец, сраженный окончанием заговора молчания, согласился.
Встал вопрос о колледже — в какой нужно было идти и готовиться Джеймсу? Лучше всего было, конечно, идти в Тринити-колледж — колледж святой Троицы, где учился Алан Стюарт. Неплохи были Кийс и Питерхаус, где учился Тэт. Форбс настаивал на самом дорогом — Тринити, но расчетливый Джон Клерк Максвелл настоял на Питерхаусе — он был самый дешевый, и в нем даже новички могли получить комнату.
Кембриджский вариант стал приобретать вполне реальные очертания...
Часть II. КЕМБРИДЖ: ПИТЕРХАУС, ТРИНИТИ-КОЛЛЕДЖ. 1850-1856
Жаден разум человеческий. Он не может ни остановиться, ни пребывать в покое, а порывается все дальше.
Френсис БэконПЕРВАЯ НОЧЬ В КЕМБРИДЖЕ
Майкельмас-семестр в Кембридже начался уже 1 октября, а Максвеллы — старший и младший — были все еще в Эдинбурге и, казалось, не могли смириться с предстоящей разлукой, ждали, что жизнь подскажет еще какое-нибудь решение, оставляющее сытыми волков и нетронутыми овец, но не нашлось такого решения. Лишь через полмесяца после начала занятий выкуплены были билеты на междугородный «Комодор», и вот уже покатился он долгой пыльной дорогой на юг, миновал недавно построенный Робертом Стефенсоном железнодорожный мост — виадук, соединивший Шотландию с Англией. Можно было бы уже чуть не весь путь проехать по железной дороге, но экономный мистер Джон предпочел наружные холодные места в дилижансе. Переезд тянулся долго, точно Максвеллы и здесь старались взять что-то из последних совместных дней и минут.
Одну ночь, осеннюю и холодную, провели в Питерсборо. Утром до отправления дилижанса осмотрели собор, окруженный прекрасными плакучими ивами, а в дилижанс тем временем набились глостерские, говорившие о том, что земля скоро вздорожает, часть перейдет в руки самой королевы Виктории и стоимость ее будет чуть не тридцать шиллингов за акр («как хорошая книга», подумал Джеймс). В Эли тоже осмотрели собор «так подробно, как какие-нибудь архиепископы», забрались на самую верхушку, на балюстраду, и увидели «землю как море». Лишь к вечеру пыльный дилижанс вкатился на умытые, покрытые звонкой брусчаткой улицы Кембриджа, и тут уж Джеймс не пожалел о боковом месте: справа проплывали, появляясь и исчезая с необычайной неожиданностью, покачиваясь на дилижансных рессорах, знаменитые на весь мир мафусаилова возраста колледжи Кембриджа — Сент-Джон на Сент-Джон-стрит, Тринити и Кийс — на Тринити-стрит, Кингс — на Кингс-парад, а это все была одна и та же улица, и когда она уже была не Сент-Джон-стрит, не Тринити, не Кингс-парад, а обычная Трампингтон-стрит, появился на ней небольшой по сравнению с другими, не такой знаменитый, не почтенный вниманием и учением королевской семьи Питерхаус — самый старинный, с семисотлетней историей, с колледжской церковью, чудовищной смесью архитектурных стилей, Питерхаус, скрытый в опадающих уже садах, таящий в самом своем обличье что-то ненастоящее, театральное.
С Трампингтон-стрит видны были и окна колледжа, на некоторых открыты фрамуги, и живущие там, внутри, могли, видимо, в данную минуту, счастливые, сидеть у этих окон и вдыхать воздух осеннего вечера, смешанный с запахом вялой листвы вьюнка, огибающего окна, а на одном окне прикреплен был — странная прихоть! — поперек него прочный железный брус совершенно загадочного назначения. Но не было тихо вокруг — осенний вечер был полон одинокими голосами, диалогами, отдающимися в покрытых камнями трехэтажных строениях, и они, эти голоса, несли не монашеское смирение, не зубрежный гул, как приличествовало бы в монастырском Кембридже, а веселье и смех, и чудилось даже, что этот голос с хрипотцой, отдающийся в вечернем сумраке, принадлежит молодому человеку не вполне трезвому, а может быть, просто очень уж молодому и жизнерадостному.
Здесь, среди них, веселых и общительных, наверняка очень умных и знающих, среди отпрысков хороших семей, опекаемых наставниками — тьюторами, предстояло Джеймсу провести три года, от экзаменов до экзаменов, от первого вступительного до последнего, черневшего нависшей в конце трехлетнего срока черной горой математического трайпоса — мерила способностей и честолюбия, трудолюбия и праздности, жестокой машины отбраковки способнейших, не зависящей ни от чего уже — ни от положения родителей, ни от болезней отца и матери, ни от религиозных взглядов, где никто не мог помочь — даже отец, где все зависит исключительно от него, Джеймса.
«Бык» оказался заполненным до отказа, и отцу пришлось остановиться на частной квартире, в то время как Джеймсу дали место в самом Питерхаусе, с кроватью, местом для письма и хорошим освещением. Разбирая постель, Джеймс едва не уснул — день путешествия, обилие впечатлений, роскошь его новой обители за метровыми кирпичными, но облицованными снаружи камнем стенами давали себя знать, и как только голова его коснулась подушки, мысли смешались, вскипели цвета, пеленой покрылись великолепные каменные стены Сент-Джона, Тринити, Кийса, Кингса и Питерхауса с одним из окон, перекрытым железной балкой неизвестного назначения...
Когда тьютор, мистер Фуллер, поздно задержавшийся в этот вечер в Питерхаусе, пришел заглянуть в комнату к Джеймсу и взглянуть, как тот устроился, никто ему не ответил — молодой Джеймс Клерк Максвелл, будущая краса и гордость Кембриджского университета, слегка похрапывая, вступал в свой первый кембриджский день со счастливой улыбкой на губах...
ЗНАКОМСТВО С КЕМБРИДЖЕМ
И первое, что спросил Джеймс у своего еще незнакомого коллеги во время чопорного завтрака, — зачем на одном из окон Питерхауса прикреплена столь не украшающая его железная балка? Выяснилось, что вмуровал ее в стену один из самых знаменитых членов Питерхауса, поэт Томас Грей, и основное назначение ее — служить для того, чтобы вышеназванный поэт мог спасти свою важную для него и для народа жизнь с помощью веревочной лестницы, привязанной к вышеуказанному брусу в случае возникновения пожара.
— Впрочем, — понизив голос, продолжал его новый коллега, — некоторые утверждают, что лестница нужна была Грею не только на случай пожара... Кстати, моя фамилия — Портер, Портер-младший. Мой отец — тьютор в Питерхаусе.
— Джеймс Клерк Максвелл, — ответил Джеймс, удивившись тому, как громко, отчетливо и естественно прозвучало это имя в тишине и пространствах монастырских стен. Оно прозвучало как заклинание, обрывающее сон, но это не был сон. Джеймс был действительно в древнем монастырском университете, с монастырскими традициями, с тщательно ограничиваемым членством, с запрещением жениться, по крайней мере для членов колледжа, со средневековой системой обучения и экзаменов, где поэт может учиться рядом со священником и математиком, где, с одной стороны, чтят традиции, с другой — не препятствуют странности и эксцентричности, даже если для этого приходится поступиться красотой классического старинного фасада.
Утром за Джеймсом зашел давний знакомый и друг, младший брат мужа тетушки Изабеллы, профессор Генри Маккензи, лектор в Кийс-колледже. Зашли за отцом, за Питером Тэтом и пошли еще сонным осенним утром по улочкам Кембриджа, по его «задворкам», как называется место между колледжами и рекой Кем, или Гранта, что, впрочем, одно и то же, точно так же, как Тринити-стрит есть та же Кингс-парад и Трампингтон-стрит.
В Кембридже царили три цвета. Все слагалось из них. Желто-серые камни древних колледжей, нарядные, ухоженные лужайки, желтые и красноватые листья на узких тропинках в старинных садах, где деревья, расступаясь, дают место уютному убежищу. Там, спрятавшись за каменной стеной неизвестно какого здания, всегда можно согреться, наблюдая, как холодный восточный ветер гонит желтые листья в Кем и река подхватывает их и несет вместе с яликами, на корме у которых обязательно стоит джентльмен с шестом, несет медленно и торжественно через весь город, и «таун энд гаун» — немногочисленные жители Кембриджа, если бы они задержались, присели на береговую траву, могли бы наблюдать, как листья эти совершают свой путь, плавный на середине, беспорядочный где-то у берегов, могли бы видеть целеустремленное, спиралеобразное, со все увеличивающейся скоростью, движение воды и листьев в воронках. Но некогда «фрешменам» — первокурсникам, не имеют времени «софоморы» — второкурсники, третьекурсники через два-три месяца предстают перед экзаменаторами трайпоса — до листьев ли им? А «феллоу» и профессора, подоткнув полы мантий и придерживая руками шапочки, бегут, бегут «задворками» на лекции, или на церковные службы, или еще куда, куда зовут их важные, неотложные дела, а здесь холодно, холодно здесь, на открытом берегу реки Кем, холодно от пронизывающего восточного ветра, несущего красно-коричневые и желтые листья...
Все колледжи осмотрели Джон Клерк Максвелл и его сын, сопровождаемые мистером Маккензи и Питером, но самое большое, странное и необъяснимо глубокое впечатление — предчувствие? — оказал на Максвелла-младшего Тринити. Джеймс долго не отпускал всех из Тринити-чапел — церкви святой Троицы, церкви колледжа. Всматривался в лица мраморных Ньютона и Бэкона, бывших здесь студентами. Стрельчатые арки. Разноцветные витражи. Полумрак. Легкие колонны, возносясь, переходят в крутые ребра свода...
Не может понять отец, что так привлекает Джеймса в этой церкви, — ведь видели они и куда более величественную Кингс-чапел, и иные церкви, да и Джеймс не может понять, какая таинственная сила тянет его сюда, к этому узкому и высокому пространству между колонн — ведь ни отец, ни сын не могут еще предположить, что не пройдет и тридцати лет, как в этом самом высоком и узком пространстве таким же осенним днем установят гроб с телом великого физика Джеймса Клерка Максвелла и здесь отпоют его, скажут недолгие речи друзья, отдадут последние почести. Но не дано нам знать будущее, и то, что только это помещение из многих десятков иных отметил Джеймс в своих последующих письмах, можно отнести к возникновению у него в сознании иного, не родственного уже ряда, в который он хотел бы поставить себя, — не нумерованные баронеты оф Пеникуик, славные Клерки, а мужи науки, в которых продолжается она, как в сыне продолжается жизнь отца; ряда, в котором стоят величественные фигуры Ньютона и Бэкона.
Печальные без видимой причины и посерьезневшие вышли они из Тринити-чапел, и лишь объявление под строгим черным крестом разрядило это печальное настроение, заставило улыбнуться. А объявление это гласило буквально следующее:
«Принимая во внимание, что некий Вильям Кук сделал синдикату университета заявление, по которому он жертвует на устройство конного заведения; а также принимая во внимание то, что вследствие аморального характера такого заведения, это пожертвование было единодушно отвергнуто; принимая во внимание также и то, что, несмотря на отказ, вышепоименованный В.К. вновь публично подтвердил свое намерение открыть упомянутое заведение, да будет известно всем: решено и подписано, что в случае, если какой-нибудь студент, или уже окончивший, или тьютор, или член колледжа, или мастер колледжа будет пойман в указанном заведении, то будет он подвергнут наказанию изгнанием, исключением, полным или временным, суровым осуждением или иным наказанием, которое будет соответствовать данному случаю».
— Ты помнишь Вильяма Кука, Джеймс? — спросил мистер Максвелл-старший.
— Не тот ли это Кук, которого мы видели в Йорк-отеле, когда мне было пять лет и он выступал с конным цирком? Как хорошо, что я успел сотворить этот грех еще до поступления в Кембридж!
ПИТЕРХАУС ИЛИ ТРИНИТИ?
А Джеймс в университет еще не поступил. Для поступления необходимо еще было сдать экзамены, и последние дни они с Чарльзом Хоупом Робертсоном — знакомым еще по Эдинбургской академии, готовились к «прелиминарис», но не боялись их. Так и оказалось. Оба были благополучно приняты — Чарльз в Тринити-колледж, а Джеймс — в Питерхаус, и это обстоятельство сразу же делало его новое почетное положение ущербным — Джеймс страстно хотел учиться именно в Тринити — из-за друзей и из-за некоего не осознанного пока еще им самим чувства духовного родства с «людьми Тринити». Все советовали Тринити — и Форбс, и Блекбурн, и Маккензи, и Вильям Томсон — будущий лорд Кельвин, молодой профессор из Глазго, приятель мужа Джемимы профессора Блекбурна. Он быстро поднимался в эти годы по небосклону славы, в двадцать два года был уже заведующим кафедрой физики университета в Глазго. К его мнению прислушивались больше всего, хотя он был всего на семь лет старше Джеймса. Знакомы они были еще с тех пор, когда Джеймсу было всего двенадцать и он проводил у Вильяма Томсона в Глазго свои рождественские каникулы. Вильяму было тогда всего девятнадцать лет, но он опубликовал уже довольно много статей, в которых, в частности, не оставлял камня на камне от теории мистера Келланда, будущего преподавателя Джеймса в Эдинбургском университете. Итак, Вильям Томсон тоже советовал Тринити.
Почему же Джеймс попал все-таки в Питерхаус? Неужели только из-за того, что Питерхаус был самым дешевым, а Тринити-колледж самым дорогим колледжем в Кембридже? Или из-за того, что во всех других колледжах не хватает комнат и студенты младших курсов вынуждены снимать квартиры?
Со смешанным чувством торжества и неудовлетворенности, радости и не осознанной полностью обиды приступил Джеймс к первому кембриджскому семестру, и радостное ожидание, подспудно жившее в нем, оказалось неутоленным: его странные манеры, чудачества и легко уловимый галлоуэйский акцент не способствовали тому, чтобы он сразу же почувствовал себя как дома. Он не ощущал себя на вершине свершившихся желаний, среди «фрешменов» — свеженьких первокурсников, снова вгрызающихся в Эвклидов «ослиный мост» или «пифагоровы штаны», мотонно и гулко вновь и вновь совершающих грамматический разбор греческих пьес. Куски желатина, гуттаперчи, неотпущенного стекла, брусочки намагниченной стали, привезенные им из Эдинбурга, здесь были неподходящими вещами в неподходящем месте — выведывание у природы ее секретов считалось для первокурсника занятием преждевременным. А отец бомбардирует из Гленлейра вопросами:
«Видел ли профессор Томсон твое «барахло» и что он об этом думает?
Обращался ли ты к профессору Седжвику в Тринити и к Стоксу в Пемброке? Если нет, обязательно нанеси им визит. Стокс, если он возьмется помогать тебе, будет рядом с тобой всю жизнь. Седжвик — тоже большой Дон в своей области, и если ты займешься геологией, он будет для тебя очень ценным знакомством; кроме того, не зайти к ним было бы просто невежливо...
Кстати, закажи себе визитные карточки...»
Милый, заботливый, немного неземной отец... Джеймс вдруг начал чувствовать в себе по отношению к отцу нечто новое — щемящее чувство жалости и некоторого превосходства, и отец, понимая, что сын перерастает его, не стесняется задавать уже сыну всегда столь интересующие его вопросы научного характера:
— Объясни мне эксперимент с маятником Фуко.
— Что это за теория ментального прогресса?
— Что ты думаешь об электробиологии?
ПЕРЕВОД В ТРИНИТИ
О чем Джеймс меньше всего сейчас думал — это об электробиологии и теории ментального прогресса. Он думал о том, как перебраться в Тринити, искал доводы для того, чтобы убедить отца в необходимости этого, имеющего определенные финансовые последствия шага. И такой довод нашелся — оказалось, что в маленьком Питерхаусе мало вакансий, мало надежды на то, чтобы остаться в колледже после его окончания — даже лучшие из лучших не могли надеяться на то, что все они сразу же станут высокочтимыми «феллоу», а в Питерхаусе было много сильных студентов, будущих «спорщиков», с которыми Джеймсу было бы вовсе не стыдно скрестить оружие, и среди них старый знакомец Питер, а еще Стил, Раус, да и много других. И Джеймс как бы между прочим упомянул об этом отцу...
И вот этот-то довод, довод в общем-то несерьезный и вовсе для Джеймса не решающий, убедил практичного отца — он сам настоял на переводе в Тринити! Джеймс даже не ожидал столь легкой победы. Вопрос упирался теперь лишь в Мастера Тринити — Вильяма Вевелла, сурового пятидесятилетнего ученого с непререкаемым авторитетом в области если не чистой науки, то научной терминологии — даже Фарадей советовался с ним, когда подбирал названия для своих вновь введенных понятий. Вевелл был могучего телосложения. («Что за человека потеряли мы, когда он стал священником», — восклицали кембриджские, тринитские чемпионы по перетягиванию каната.) Его лицо выражало власть жесткую и непреклонную, его внешность была настолько мужественна, что внушала Джеймсу даже некоторое отвращение. Но и этот мрачный человек, услышав фамилию Джеймса, смягчился и улыбнулся — оказывается, его близкий друг Джеймс Форбс, эдинбургский профессор, уже дал Джеймсу блестящую рекомендацию!
Таким образом, вопрос о переводе в Тринити решился неожиданно просто, без осложнений, и во втором семестре Джеймс учится уже в Тринити, живет на квартире в «Лоджингс» на Кингс-парад вместе со своим эдинбургским приятелем Чарльзом Хоупом Робертсоном, имеет возможность ежедневно видеться с Питером, решать вместе с ним и Чарльзом, а также вместе с тьютором из Питерхауса, отцом его первого питерхаусского знакомого, мистером Портером-старшим интереснейшие задачки, которых, разумеется, не было в программе и которые поэтому приходилось выдумывать самим!
Все трое друзей были одной крови — все они были рождены неустанными «объяснителями», все трое самозабвенно отдавались физическим экспериментам; Чарльз в процессе оптических опытов повредил глаза, и Джеймс читал ему. Но и это никого не остановило.
Работы было много, если учесть, что оставались и лекции, и Тацит, и Демосфен. Нужно было использовать свой день наиболее рационально, сделать как можно больше — и единственным выходом из этого было модернизировать свой распорядок дня, привести его к разумной системе.
Кто сказал, что вставать надо утром, а спать ночью? Это еще надо проверить!
И Джеймс с двух до половины третьего ночи носится по коридорам общежития: бег — полезная штука для тех, кто не занимается физическим трудом! Сначала он бежит верхним коридором, спускается по правой лестнице на этаж, затем нижним коридором назад, по левой лестнице вверх — и так до тех пор, пока не пройдут полчаса, и пусть обитатели иных квартир, притаившись в черноте своих дверей, мечут в него башмаками, щетками и другими небольшими и не слишком ценными предметами! Джеймс твердо знал, что в Кембридже прощается эксцентричность — пример Чарлза Дарвина, окончившего университет до Джеймса, был наготове. (Пистолетными выстрелами он гасил свечу, и никто ему слова не сказал, только пошли светские разговоры:
— Странный человек этот Дарвин — целые вечера проводит, щелкая плетью!
И это не в осуждение, не в упрек — в своем доме как за стенами крепости!)
После ночной беготни Джеймс ложился спать и спал до семи. С семи утра до пяти вечера — рабочий день. С пяти до полдесятого вечера — сон. С полдесятого вечера до двух ночи — четыре часа чтения.
Так проходил первый учебный год, и не нес он в себе никаких особенно ярких событий, если не считать яркими новые знакомства, лекции, чтение, катание на лодке (однажды, вспотев от гребли и пытаясь стянуть с себя фуфайку, он вызвал столь сильные и возрастающие колебания лодки, что она перевернулась, к великому удовольствию сидевших на зеленом бережке Кема школяров) и прыжки в воду (здесь тоже была своя теория — Джеймс забирался на дерево на берегу и прыгал в воду так, чтобы удариться плашмя лицом. Затем взбирался снова и прыгал так, чтобы удариться о воду спиной и затылком — он утверждал, что таким образом совершенствует свое кровообращение).
Но Джеймсу было все-таки скучновато пока в Кембридже, его мозг рвался вперед, его обуревали иные идеи, жажда деятельности. Суета кембриджского фрешменства — «первокурсья», суета, царившая и в более высоких сферах, контрастом своим с истинно научной деятельностью, к которой он уже начал предназначать себя, стала тяготить его, и в письмах к Льюису он высказывает свои сомнения и душевные боли.
«Человеку нужно многое. Отыскание «X» и «У» для него недостаточно питательная пища. Греческий и латинский для него неудобоваримы, а школяры — тошнотворны. Он умирает от голода, когда занимается зубрежкой. Он жаждет человеческого мяса. Есть ли Правда где-нибудь, кроме математики? Создается ли Красота из элегантных человеческих слов? А Право — из вевелловской «Морали»? Должны ли Природа и Откровение изучаться сквозь канонические очки при потайных фонарях Традиции и затем преподноситься учеными неучам? Я мог бы долго продолжать в том же духе. Но не спеши сделать вывод о том, что я разочарован Кембриджем и раздумываю о ретировке.
В каждой области знания прогресс пропорционален количеству фактов, на которых оно построено, и, таким образом, связан с возможностью получения объективных данных. В математике это просто. Вам нужно количество? Возьмите «X» — вот оно! Взято без трудностей, и вы имеете столько чисел, сколько хотите. Так и в других науках — чем более абстрактен предмет, тем лучше он поддается изучению... Уровень прогресса прямо связан с уровнем абстрагирования. Какими бедными слепцами считаем себя мы, математики! Но взгляните на химиков! Химия — это колода карт, которая медленно перетасовывается трудом сотен людей, и один или два фокуса — бледная имитация Природы — весь ее актив. Но Химия — далеко впереди всех наук Естественной Истории; все они — впереди Медицины, Медицина — впереди Метафизики, Законоведения и Этики; и все они впереди Теологии...
Поэтому умоляю простить меня за то, что я считаю, что более приземленные и материальные науки отнюдь не могут быть презираемы в сравнении с возвышенным изучением Ума и Духа».
Льюис твердо решил посвятить себя теологической карьере. Он был столь же твердо убежден в неоспоримом преимуществе «высоких» материй перед «пресмыкающимися, низкими, приземленными». В его письмах к Джеймсу — негласные упреки в пренебрежении первыми, а письмо Джеймса — попытка оправдаться в «грехе», попытка успокоить своего друга, пытающегося вытащить его из «трясины», куда он, по мнению Льюиса, медленно скатывается. Вообще, читая единственную биографию Максвелла, написанную современником и другом — Льюисом Кемпбеллом, — невольно приходишь к мысли о том, что религиозность Максвелла, которой столько внимания уделил Кемпбелл, в известной мере преувеличена. Письмо говорит само за себя, а то, что Максвелл, по словам Кемпбелла, был строг и непроницаем во время проповедей, еще ничего не доказывает.
Действительно, приходя в церковь, Максвелл делал свое лицо абсолютно непроницаемым, и невозможно было догадаться, что его занимает в этот момент. Лишь однажды забегали глаза, было странно видеть их быстрое движение на неподвижном лице, забегали глаза, взгляд скользил от одного Дона к другому и явно обозначал истовость и волнение...
Чарльз, заметив это странное явление, подошел к Джеймсу после службы:
— Что-нибудь случилось?
— Твои глаза так бегали во время службы...
— Ах, это... я пытался без приборов измерить угловое расстояние между профессорами. И знаешь как? Предположим...
И Джеймс углубляется в очередной «проп» — задачку.
Пропуски служб послужили причиной конфликта между Джеймсом и Старшим Доном, Джоном Александром Фрером, и Джеймс, извиняясь за свое нечестивое поведение, послал Старшему Дону следующее послание, которое лишь с большой натяжкой можно признать серьезным:
«Его Преподобию Джону Александру Фреру
Трин. Колл. 26 февраля 1853 г.
Дорогой сэр — окидывая мысленным взором прошлую неделю, я обнаружил, что только семь раз был в церкви. Мне нет за это никакого прощения. Причина этого тем не менее такова. Не подозревая о том, что День Всех Святых случится именно на этой неделе, я в понедельник отдал свой стихарь в стирку. Поэтому я не мог присутствовать в церкви вечером в среду и четверг, что я обязательно сделал бы во всяком другом случае. Но даже и тогда я мог бы еще совершить требуемое число служб; однако, к несчастью, зачитавшись в пятницу вечером допоздна, я обнаружил наутро, что не в состоянии присутствовать в церкви и в субботу.
Хочу также известить Вас о получении от Вас небольшой записки, касающейся воскресной службы. Я прочел ее, и она всегда будет стоять у меня перед глазами.
Верящий, что мои прошлые и будущие регулярные посещения могут искупить мою теперешнюю халатность, остаюсь искренне Ваш
Д.К.Максвелл».
А когда Старший Дон уже прощался с Кембриджем, уходя на покой, Джеймс, этот безобидный Джеймс, неспособный без нужды причинить зло любому живому существу, сломать цветок или ветку, этот добродушный Джеймс не отказал себе в удовольствии распространить среди своих кембриджских друзей такое стихотворение собственного сочинения:
Джон Александр Фрер, Джон, Прошло немало лет, С тех пор как нас ты опекал В семестр веселый Лент. Джон Александр Фрер, Джон, Подумай-ка, давно ль Густой крутой твой локон Был черен, точно смоль. Но ты лысеешь, друг мой Джон, Настал прощальный час, И будь ты счастлив, милый Джон, Подалее от нас! Людей немало здесь, Джон, Но ни один — не в Вас, Навеки я запомню Записочки от Вас: «Вы пропустили службу, Была закрыта дверь, Где были? — знать хотел бы с почтеньем, Д.А.Фрер»26.ДЖЕЙМС СТАНОВИТСЯ СТИПЕНДИАТОМ КОЛЛЕДЖА
Изменился ли он в Кембридже? Да, и очень сильно. И даже внешне. В его фигуре появилась некоторая массивность, наверняка унаследованная от отца, которая раньше не замечалась. Лицо приобрело мужественность, стало серьезным и сосредоточенным. Карие глаза еще более потемнели — иногда казались почти черными, и залегли несколько глубже. Кожа у него всегда была чуть желтоватой, а волосы — черными, блестящими, цвета воронова крыла. Начала пробиваться в Кембридже столь же черная и густая бородка, черные тугие кольца которой невольно наводили на мысль о том, что человек этот из другого, более древнего века.
В его фигуре была некоторая странность, необычность, и это сразу было видно, когда он стоял, но непонятно было, отчего она кажется странной. Может быть, из-за того, что грудная клетка была у него более широкая и короткая, чем обычно? Казалось, что высокий скелет с трудом мог вынести столь массивную верхнюю часть, и хотя Джеймс был высок, он все же был недостаточно высок для идеальной гармоний отдельных частей фигуры. Несомненно, Джеймс был более привлекателен, когда он сидел, чем когда стоял.
Одевался он скромно и аккуратно — никаких излишеств! Не могло быть и речи о крахмале, отложных воротничках, запонках — все самое простое и обычное, но очень чистое и аккуратное. И еще одна особенность отличала его одежду — она всегда свидетельствовала о его тонкой восприимчивости к цветам и их гармонии, и его одежда доставила бы удовольствие человеку с большим художественным вкусом.
Вообще в Кембридже его топкое понимание цветов еще более укрепилось: он хорошо разбирался в очень тонких цветовых оттенках — чистых и неярких, совсем непохожих на «краски ассирийских знамен, сияющие пурпуром и золотом». Он всегда упрекал современных ему поэтов в пристрастии к некоторым определенным, часто грубоватым цветам: «белому», «красному», «черному», «рубиновому», «изумрудному», «сапфировому», чем грешили, например, Теннисон и Браунинг.
Однако теорией цветов, да и никакими иными теориями в годы кембриджского учения Джеймс серьезно не занимался — и человеку постороннему это, быть может, могло бы показаться застоем, незаслуженным пока отдыхом, потерей драгоценного времени. Нет, время сейчас не терялось — Джеймс потратил его не зря, он мужал, формировал свои взгляды, приобретал друзей, оставшихся на всю жизнь, и с удовольствием повторял шутливую поговорку, ходившую среди студентов:
— Университет место скучноватое, но зато с какими замечательными людьми ты там знакомишься!
Круг знакомств и друзей Джеймса быстро расширялся, и в письмах Льюиса начала проскальзывать чуть заметная ревность. Теперь уже в число друзей входили не только эдинбургские знакомые.
Когда в 1852 году Джеймса сделали стипендиатом колледжа, он получил возможность съехать с частной квартиры и жить непосредственно в колледже, литер Джи, Старый Двор, южная мансарда. Стипендиаты имели большую привилегию: обедать в колледже. Весь обед превращался в ритуал. Высокий и холодноватый холл с лучами солнца, поступающими откуда-то сверху, из витражей, резные стены, портрет Генриха VIII, покровителя колледжа в стародавние времена, похоже, что кисти Гольбейна, ряды столов, один пониже — для стипендиатов, другой, стоящий на возвышении, — для высокочтимых «феллоу», членов колледжа, — все это наводило на мысль о монастырской общине, о замкнутости, о единстве, и в этой атмосфере, разумеется, легче было заводить друзей. Круг сузился, но стал тесней.
Здесь, в полутемном Тринити-холле, Джеймс познакомился со своими новыми друзьями. Поиски себя и своей философии, утверждение собственных мыслей приводили к тому, что Джеймсу было интересней общаться со стипендиатами иных направлений — и чаще всего классического, гуманитарного. В его письмах стали мелькать новые имена, и все люди, которым они принадлежали, были гуманитариями: Кракрофт, Уитт, Блакистон, Гейдж, Говард Эльпинстон, Исаак Тайлор, Макленнан, Вахан Хаукинс.
13 июня 1852 года Джеймс Клерк Максвелл достиг совершеннолетия — ему исполнился двадцать один год. Отец прислал ему письмо с необычайной для него выдержкой из святого писания:
«Я верю, что ты будешь благоразумен в совершеннолетии, как ты был благоразумен несовершеннолетним».
А он никак не становился «благоразумным». В то время как все студенты-математики, понимая, что от места, полученного ими при сдаче трайпоса, — от того, каким «спорщиком», «старшим» или «младшим», они окажутся, будет зависеть, по тогдашним колледжским законам, вся их жизненная карьера, без устали готовились к экзаменам, в это время Джеймс, казалось, думал о трайпосе меньше всего...
Не проблемы трайпоса, неизбежного математического трайпоса, волновали Джеймса в день его совершеннолетия, а проблемы жизни, общества, религии, науки. Обилие разных и сильных умов в Кембридже обусловливало существование самых различных влияний, часто противоречивых. Но он и сам излучал свет и влияние — и вокруг него самого теснились «ученики»; в любой компании, на стипендиатской вечеринке он сразу же становился центром внимания. Остроумие и необычность высказываний. Глубина мыслей. Его влияние и популярность в Кембридже возрастали, и однажды настал день, когда ему была стипендиатами предложена высшая честь в признание особых заслуг в области мысли — он был избран в «Селект Эссей Клаб», то есть в избранный круг людей, рассуждавших о мире и политике, о человеке и науке, об абстрактных на первый взгляд проблемах. Членов «Селект Эссей Клаб» называли в Кембридже «апостолами», потому что в клубе согласно уставу не должно было быть больше двенадцати членов. Клуб «Апостолов» был квинтэссенцией кембриджских умов, и Джеймс мог вполне гордиться такой честью.
Джеймс любил свой клуб, его атмосфера соответствовала строю его мыслей. Он подготовил для клуба довольно много эссе, порой шаловливых, порой серьезных, но неизбежно несущих частицу его искренности. Уже сами названия его работ: «Решительность», «Какова природа очевидности замысла?», «Идиотские побеги» (об оккультных науках), «Все ли прекрасное в области искусств обязано своим происхождением природе?», «Могут ли идеи развиваться без обращения к вещам?», «Мораль», «Язык и мысль», «Возможна ли автобиография?», «Естествен или неестествен страх перед инстинктом, заменяющим мысль?», «Ощущение», «Причина и религия» — показывают, что в Джеймсе зреет мудрый и нестандартный философ, возможно, несколько эклектичный, но глубокий и диалектически мыслящий. Для него не было вопроса об объективном существовании внешнего мира, о его непрерывном развитии и совершенствовании, о взаимосвязи всех явлений, и только суровым религиозным воспитанием в семье, академии, университете и Кембридже можно объяснить существовавшую у Джеймса наряду со всем этим веру в бога. Вера Джеймса была скорее верой в какие-то извечные законы, его богами были Добро, Справедливость, Свобода, Равенство, Братство.
Такое странное смешение доктрин, эклектическое по своей форме и органичное, если учесть, что вкладывал Джеймс в понятие бога и в чем видел ценность религии, отразилось и в принятии им новомодной теории христианского социализма, смешении идеалов христианства и социализма. Джеймс не мог быть чистым социалистом — этому мешали незримые, но тяжелые тени феодального клана Клерков, его воспитание и образование. Он, по сути дела, никогда не встречался накоротке с представителями все мужающего в Англии класса рабочих, не знал их жизни: его обществом были трудовые интеллигенты, ученые, священнослужители. Он не мог быть просто социалистом, но притягательность лозунгов социализма, как притягательность лозунгов французской революции, ясно ощущалась Джеймсом, и это часто проглядывает в его письмах. Он мечтал соединить то доброе, что видел в религии, с социализмом. И это противоречие, ясное и неразрешимое, волновало его, беспокоило — его философия была ущербной, и он понимал это. А примирить две эти несовместимые доктрины было невозможно, и лишь очень опытный, очень искушенный человек мог смягчить противоречие лавиной сложных построений и убедительных слов. И именно таким был Фредерик Денисон Морис, один из основателей клуба «Апостолов».
Морису было в те годы около пятидесяти, он был очень известен, чтобы не сказать — знаменит, в кругах либералов-интеллигентов. Священник, выходец из многодетной семьи преуспевающего торговца, выпускник Тринити, окончивший его по «первому классу», что могло бы быть приравнено к тому, как если бы он стал «старшим спорщиком» в математике, не внушал либеральной интеллигенции подозрений, как какой-нибудь чартистский вождь.
Замкнутый и немногословный, он тем не менее умел завоевывать сердца, и среди них — сердце Джеймса. Джеймса подкупало уже то, что Морис был как бы над церковью: он не был ни в одной церкви — и в то же время был во всех. Морис был идеологом так называемой «брод чёрч» — широкой церкви, объединяющей все. Джеймсу, путающемуся в своей религии, но верящему в бога, как в нечто внешнее, более сильное, чем человек, что-то подобное богу Спинозы — природе, такая свобода религиозных взглядов импонировала, тем более что она сочеталась с проповедью всеобщей доброжелательности и взаимопомощи, выражавшейся прежде всего в разработке схемы «рабочих колледжей». Джеймс, полагавший в те времена, что общество можно улучшить единственным путем — путем совершенствования его культуры, путем образования, нашел в Морисе выразителя тех же мыслей и более того — активного проводника их в жизнь. С тех пор Джеймс Клерк Максвелл не уставал по вечерам читать популярные лекции в «рабочих колледжах».
ЛЕКЦИИ СТОКСА, СЕМИНАРЫ ГОПКИНСА, СОВЕТЫ ОТЦА
К первым кембриджским годам относится и сближение Максвелла с другом Вильяма Томсона Джорджем Габриэлем Стоксом, профессором в Кембридже, который был старше Джеймса на двенадцать лет. Стокс был лукасианским профессором кафедры математики, основанной двести лет назад на деньги, завещанные университету лицом, через это пожертвование прославившимся, — Генри Лукасом. Таким образом, Стокс с 1849 года до своей смерти в 1909 году занимал в Кембридже тот же пост, что и Исаак Ньютон. Лицо, находящееся на таком посту, вправе было рассчитывать на уважение, да и без этого Джеймс был необыкновенно привязан к Стоксу, хотя бы из-за того, что Стокс был один из тех немногих, кто мог понять его научные идеи.
Да, их было немного уже — тех людей, которые могли бы понимать его сложные построения с ходу, так, как он этого требовал, так, чтобы они могли непосредственно следовать за причудливым течением его мысли. Постепенно из числа его научных слушателей выбыл Льюис, затем отец, затем бесконечно терпеливая тетушка Джейн. Оставались Питер, Вильям Томсон и Джордж Габриэль Стокс. Многочисленные друзья-гуманитарии не шли в счет — с ними можно было говорить лишь о предметах, далеких от научных устремлений Джеймса.
А из вещей, которыми занимался Джеймс во время кембриджской учебы, нужно прежде всего назвать развитие его геометрических исследований, начатых «Овалами», и исследования по цветовому зрению Джеймс написал несколько статей для «кембриджского и Дублинского математического журнала», где редактором был Вильям Томсон, а постоянным автором — Джордж Габриэль Стокс.
Статей было немного, но, может быть, и к лучшему. Джеймс получил возможность осмотреться. Вокруг было множество тем, которым он мог бы посвятить себя, и Джеймс тщательно взвешивает, что ему ближе, интересней. Джеймс просто учится. И в первую очередь — у лукасианского профессора математики. Лекции Джорджа Габриэля Стокса, несомненно, оказали на формирование Максвелла чрезвычайно сильное влияние. В некоторых отношениях Стокс и Максвелл напоминали друг друга по характеру — оба были замкнуты и немногословны (Стокс — просто молчалив27), да и сам Стокс, несмотря на свой возраст, постоянно учился — был вечным студентом. Его ничего не стоило зажечь, увлечь какой-нибудь интересной «задачкой». Томеон все свои новые идеи в области теории пробовал на Стоксе — Стокс был язвительным и тонким критиком. В пятидесятые годы Стокс опубликовал исследования о кольцах Ньютона, о поляризации, дифракции. В работе «Динамическая теория дифракции» Стокс решал проблему распространения поперечных световых волн в эфире — шаг к будущей максвелловской теории, но Максвелл еще не знал, что он пойдет по этому пути.
С самого начала своей деятельности в качестве лукасианского профессора математики в Кембридже Стокс поставил своей задачей поднять преподавание математики до невиданного прежде уровня, а ведь и раньше этот уровень был весьма высок28. На высшем математическом уровне написаны даже самые ранние исследования Стокса — о движении жидкостей — продолжение исследований Лагранжа и набросков Навье, тоже кембриджца.
Лишне говорить о том, что Максвелл не пропускал ни одной лекции Стокса.
Тьютором Джеймса был Гопкинс — без сомнения, лучший тьютор в Кембридже. У него «под началом» были когда-то и Стокс, ставший «старшим спорщиком» и лауреатом премии Смита в своем году, и Вильям Томсон, ставший «вторым спорщиком» и лауреатом премии Смита — в своем. Гопкинс был крайне высокого мнения о своем ученике Максвелле. Гопкинс говаривал, что Джеймс не способен мыслить о физических материях неверно. Да и другие ученики Гопкинса, кроме, может быть, Рауса, а всего он вел в то время пятнадцать человек, без сомнения и колебания признали Джеймса самым способным среди них.
Мистер Лаусон, бывший в то время учеником Гопкинса, вспоминал позже, как потел он над его задачками, зачастую безрезультатно. В это время Максвелл заходил к нему поболтать и вообще вел себя крайне легкомысленно. Когда до очередной встречи с Гопкинсом оставалось уже каких-нибудь полчаса, он говорил обычно:
— Ну, пора мне приниматься за «пропсы» старины Гопса!
Когда через полчаса они встречались у Гопкинса, Джеймс мог уже показать решение всех задач.
Вряд ли, впрочем, это давалось всегда легко. Работал Джеймс много, и Гопкинс даже советовал ему не переутомляться — здоровье Джеймса по-прежнему оставляло желать лучшего. Письма отца заполнены советами:
«Тетушка рекомендует: ежедневно — стакан вина: лучше всего — портвейн».
Отец беспокоится о тлетворном влиянии воздуха Кембриджа на своего единственного сына, как бы невзначай задает вопросы о роде церковных служб (далеко не кальвинистского толка, как хотелось отцу), дает советы относительно времяпрепровождения.
В пасхальные каникулы 1853 года Джеймс поехал погостить к одному из своих друзей — Джонсону Гейджу. Отец, прослышав о том, что Джеймс едет с Гейджем в Бирмингам (Бруммагам, как его называл Максвелл-старший на шотландский манер), прислал ему следующее письмо, содержащее программу действий на несколько дней:
«Эдинбург, 13 марта 1853 г.
Попроси Гейджа дать тебе инструктаж по Бруммагамским заводам. Познакомься, если сможешь, с работой оружейников, с производством пушек и их испытаниями, с производством холодного оружия и его испытанием; с папье-маше и лакированием; с серебрением, цементацией и путем накатки; с серебрением электролитическим способом — на заводе Эклингтона; с плавкой и штамповкой — на заводе Брэзиера; с обточкой и изготовлением чайников из белого металла и т.д.; с производством пуговиц различных сортов, стальных перьев, иголок, булавок и всевозможных мелких предметов, которые очень интересно изготавливают путем разделения труда и при помощи остроумных инструментов; там делают разные сорта стекла, и есть также литейное дело во всех видах, производство машин, инструментов и приборов (оптических и научных), как грубых, так и точных.
Если тебе Бруммагам надоест, развейся и посмотри Кенилворт, Варвик, Лимингтон, Стратфорд-на-Эйвоне и т.п.».
Неплохая программа на неделю отдыха!
ПОДГОТОВКА К ТРАЙПОСУ
А по возвращении в Кембридж начался один из труднейших семестров, ведь до трайпоса оставалось всего чуть более полугода. Сейчас Джеймс занимался приведением в систему своих математических знаний, учился умению упрощать, умению объяснять.
Вечера заполнены друзьями — их уже так много, что иной раз уклонение от совместного обеда вырастает в проблему. Он чувствует ограниченность круга его шотландских знакомых, его замкнутость и клановость, ревниво оберегаемые Питером Тэтом. Новые друзья Максвелла — англичане. С более близкими — Тейлером, «фрешменом» — новичком Исааком Тайлером, Фарраром, Батлером, Гейджем — по вечерам метафизические дискуссии, чтение Шекспира «в лицах», каждый — актер, и среди них не последний — Джеймс.
Не были забыты на этих встречах и рабочие ассоциации, и христианский социализм, и стимулы хорошей работы для инженеров (не прибыль, а более высокое положение), и достоинства социализма, и уроки французской революции, и схемы, позволяющие рабочим участвовать в руководстве и прибылях фабрики (а Максвеллу казалось, что один хозяин — это лучше, чем много), и даже такая животрепещущая проблема, как смысл понятия «вечное проклятие».
Постепенно выкристаллизовывается жизненное кредо.
«...Вот мой великий план, который задуман уже давно, и который то умирает, то возвращается к жизни и постепенно становится все более навязчивым... Основное правило этого плана — упрямо не оставлять ничего неизученным. Ничто не должно быть «святой землей», священной Незыблемой Правдой, позитивной или негативной. Вся вспаханная под пар земля должна быть пропахана снова и пущена в регулярный севооборот. Все должны быть определены на службу, которую никогда нельзя будет оставить по собственной воле до тех пор, пока ничего не останется делать, то есть до + ¥н.э.».
В стихах того времени проскальзывают мысли о своей роли в этом мире, о своих задачах здесь, яа земле.
И в них то же жизненное кредо — Правда, какой бы она ни предстала...
В сердце уличных изломов, Где торговли вьются сети, Вы встречали незнакомцев, То идеи — наши дети. Все они достойны веры, Все торопятся без меры, В них, плодах воображенья, Я ищу свои творенья. Как-то летом среди скал, Там, где тень берез упала, Я в колодце наблюдал, Что с моею тенью стало. Там мой облик повторенный, То поникший, то взнесенный, Не успев возникнуть, таял: Капли падали, играя... Я ущельям среди гор Задавал свои вопросы, Эхо, как насмешниц хор, Их кидало на утесы, Может быть, тот хор не в силах На вопросы дать ответ, Но в гордыне слов услышит, Есть в них Правда или нет. Этих малых форм тесненье, В скалах — звуков ослабленье, Света танец на воде - Все мои волнует чувства, Возвращается ко мне Светом Правды на земле... Пусть же в Правде отразится Все, чем ум людской кичится!...Прошел еще один семестр, сдан был «Маг» — очередной экзамен, и возник вопрос: куда ехать на каникулы? «Фрешмен» Тайлер, тронутый дружбой и постоянной поддержкой Джеймса, пригласил его провести каникулы в Суффолке. Собственно, приглашал Джеймса даже не столько сам «фрешмен», сколько его дядя — приходский священник. Мистер Тайлер писал приглашающие письма, но визит все откладывался, так как у дяди загостился посетитель из Америки. И Джеймс оставался пока в опустевшем летнем Кембридже. Днем купался в Кеме, а вечером писал письма.
«Мисс Кей
Трин. Колл. 7 июня 1853 г.
Я договорился поехать к одному человеку в Суффолк, но там запасная постель занята в настоящее время «прославленным доктором Тингом из Америки». Я дожидаюсь здесь его отбытия. Сегодняшний день провел в приведении в порядок бумаг. Многие были оставлены для истопника, а дубликаты экзаменационных задании отложены для друзей.
Думаю завтра встать пораньше и приготовить завтрак для всех тех, кто уезжает, разбудить их в урочный час, затем почитать, пока не наскучит, «Прелюд» Водсворта, затем сделать вылазку к колледжам и посмотреть, все ли они закрыты на сезон, а затем устремиться на поля и побрататься с молодыми лягушатами и старыми водяными крысами. Вечером что-нибудь нематематическое. Возможно, напишу биографический очерк доктора Тинга из Америки, о котором Вы знаете ровно столько, сколько я».
Наконец, «прославленный доктор Тинг из Америки» отбыл восвояси, и Джеймс поехал в Отли, недалеко от Ипсвича, где для него была уже приготовлена злополучная «запасная постель».
В Отли Джеймс тяжело заболел, выздоровление заняло две недели, и в течение всего этого времени семейство Тайлеров ухаживало за ним, причем умудрялось это делать каким-то одним им известным способом, при котором Джеймс не чувствовал себя мучителем и тираном. Анализируя потом эти две недели жизни в английской семье, Максвелл, возможно, именно их счел тем поворотным пунктом, когда стал он отрешаться от замкнутости своего шотландского кружка, от национальной ограниченности, которой в той или иной мере страдали члены этого сообщества. И может быть, пожалел Джеймс о том, что ему, а не Питеру суждено было провести эти две недели в английской семье. Питеру это было бы еще полезней — шотландский национализм Питера был развит в такой совершенно невозможной степени, что это мешало впоследствии его научной работе.
Из Ипсвича Джеймс вернулся в Кембридж. Здесь математика без него скучала в лице Гопкинса, как и он без нее. Он снова начал посещать семинары «старины Гопса» и с благословения его стал понемножку втягиваться в математические проблемы, наверстывать упущенное во время болезни. Не ослаблена ли болезнью сила его ума? Нет, в письме к м-ру Тайлеру он пишет, что «написал реферат о дифференциальном исчислении и не устал» и что «все идет как обычно». Более того, Джеймс продолжает искать в природе «пропы» - задачки, достойные его внимания, самые интересные, самые сложные.
Джеймс приехал в Кембридж 4 июля и тут же, перебирая журналы, наткнулся на номер «Атенеума» за 2-е число. И - замер, как пойнтер, почуявший долгожданную дичь. В «Атенеуме» было сообщение великого Майкла Фарадея о его научных экспериментах по исследованию явления столоверчения (о, это было как раз то, чего боялся отец Джеймса, от чего предостерегал в опасном Кембридже - от столоверчения и электробиологии!). Для Джеймса же эти проблемы представляли особый интерес - на прошлых рождественских каникулах он был в Эдинбурге и присутствовал на частном магнетическом сеансе вместе с Льюисом. Так он попался на глаза оператору (по фамилии, кажется, Дуглас) и, багровея от смущения (а может быть, это ему только казалось?), стал центром внимания «кружка». Оператор, пассируя руками у его головы, резким, необычным голосом заставлял его забыть свое имя, и Джеймс очень хотел ему помочь - неужели правда можно заставить забыть свое имя? - но, когда оператор после тяжкого и, видимо, завершенного наконец труда спросил его: «Ну-с, как вас зовут, молодой человек?» - Джеймс не смог солгать и тихо произнес: «Джеймс Клерк Максвелл».
Эти магнетические сеансы были каким-то образом связаны со столоверчением, или, как его называли на континенте, спиритизмом - вызыванием духов, которые таинственным движением стола относительно букв неподвижного алфавита могли передавать свои потусторонние желания. Занятие это захватило пол-Европы, но ученые справедливо относились к спиритизму с подозрением.
Фарадей решил иначе: если движение стола - это научный факт, то он должен воспроизводиться в любой момент, при свидетелях и поддаваться опытному исследованию. Он решил не тратить попусту слов и провел эксперимент в темной комнате с медиумом, с таинственными заклинаниями, круглым столом, прозрачными занавесями и прочими аксессуарами «сеансов». И обнаружил, что стол действительно движется и что это движение вполне может быть условно превращено в буквы алфавита и что эти буквы действительно могут при известных условиях составляться в слова.
Но вопрос - за счет чего движется стол? - тоже подлежал исследованию, и дотошный Фарадей однозначно установил: движение стола происходит не за счет каких-то потусторонних сил, а за счет бессознательного движения пальцев. И если первая часть сообщения Фа-радея вызвала восторженный рев столовращателей, то вторая - столь же громкое их негодование.
«М-ру Тайлеру
Трин. Колл. 8 июля 1853 г.
...В "Атенеуме" от 2-го было сообщение Фарадея о его экспериментах по столоверчению, где он прямыми механическими исследованиями доказал, что стол движется за счет бессознательного движения пальцев людей, которые хотят, чтобы стол двигался. Сообщение, помимо всего прочего, доказывает, что столовращатели вполне могут быть честными людьми. Следствием было то, что Фарадею сейчас шлют резкие письма с требованием объяснить то, другое, третье, как будто бы он апологет оккультных наук. Такова судьба человека, который делает реальные эксперименты в области столь популярных оккультных наук... Наши антинаучные деятели празднуют сейчас победу над Фарадеем...»
«Льюису Кемпбеллу, эсквайру
Трин. Колл. 14 июля 1853 г.
...Эксперименты Фарадея по столоверчению, ответы спровоцированных верующих и состояние общественного мнения в целом показывают, что общество всегда относится с почтением к принципам естественных наук. Закон тяготения и замечательные действия электрического флюида - это вещи, о которых вы можете спросить любого мужчину или женщину, не страдающих от недостатка или избытка информации. Но они верят в это так же, как они верят в историю, потому что это есть в книгах и не подвергается сомнению. Я готов верить в то, что столы поворачиваются; да-с! причем при помощи неизвестной силы, которую, если вам нравится, назовем жизненной силой, действующей, как говорят верующие, через пальцы. Но как она воздействует на стол? Посредством механического действия, бокового давления пальцев в направлении, в котором и должен был бы двигаться стол, как это показал Фарадей. При этом последнем заявлении вращатели отшатнулись...»
Все нужно проверить, ничто не оставлять «святой землей», не подлежащей исследованию, — и в этом программа юного Максвелла полностью согласна с программой Фарадея. Но не вступил еще Максвелл на путь электромагнитных исследований Фарадея, не знает как следует его трудов, и Фарадей пока еще упомянут в письмах вскользь с симпатией и сочувствием, но совсем еще не так, как человек, научная судьба которого будет впоследствии столь тесно связана с судьбой исследований Максвелла.
В столовращении не оказалось ничего таинственного, научно ценного. Фарадей «раскопал» до дна всю «науку» этого популярного увлечения, не оставив ничего неясного, ничего сверхъестественного, подлежащего научному исследованию. Осталась только мистическая шелуха, свое отношение к которой Максвелл выразил в эссе «Идиотические побеги», прочитанном на одном из очередных заседаний клуба «Апостолов».
— Как относиться к оккультным наукам — враждебно или доброжелательно? — вопрошал Максвелл, стоя перед одиннадцатью своими коллегами, собравшимися субботним вечером у Хорта.
И после каскада блестящих доказательств отвечал на свой вопрос другими вопросами:
— Не достигли ли эти науки максимальной степени темноты? Не пришли ли они уже сейчас к абсолютному абсурду?
Джеймс не может выбрать еще направления своих основных исследований, а ведь ему уже двадцать два года. Разные планы роятся в его голове:
«М-ру Тайлеру
Трин. Колл. 8 июля 1853
...Завтракал с издателем Макмилланом... Макмиллан говорил сегодня об элементарных книгах по естественным наукам, в которых сейчас испытывается недостаток... Когда я решусь, я запишу некоторые начальные принципы и практические эксперименты по свету... но это в свое время...»
Что делать? Заняться, как Фарадей на склоне лет, исследованиями различных оккультных наук? Написать книгу по оптике? Или продолжать исследования геометрических фигур, столь успешно начатые в четырнадцатилетнем возрасте?
Джеймс принимает решение, единственно правильное в этой обстановке, — бросить сейчас все силы на сдачу трайпоса. Он твердо решил после окончания университета остаться в Кембридже и заняться научными исследованиями. Только не знал какими. И особенно не задумывался об этом. До поры до времени. До трайпоса. До января 1854 года.
«Мисс Кей
Трин. Колл. 12 ноября 1853
Состояние моего здоровья нормальное, чего нельзя сказать о состоянии моих занятий, поскольку я считаю, что это вредная практика — читать, когда делать этого не хочется. Так, я читаю неделю, а затем пропускаю несколько дней, никогда не забывая своих колледжских обязанностей и того, что предписывает Гопкинс, но избегаю всего иного. Фрэнк Маккензи продвигается вперед, и, кажется, довольно успешно. Он говорит мне, что не засиживается допоздна: но поскольку я не поставляю ему свечей, я не знаю, что вкладывает он в понятие «поздно». Я уже довольно давно не засиживаюсь после двенадцати, за исключением воскресений, когда я не читаю вообще...»
Приближался день трайпоса, страшного трайпоса, пугала кембриджских лет, оставалось до него уже меньше месяца, и шли от одного школяра к другому страшные порой рассказы о зарождении этого испытания, о монашеской строгости в традиционном Сенат-хаусе, где проводится трайпос.
У трайпоса, как и у всего в этом древнекаменном Кембридже, была своя история, уходящая в седые глубины средневековья. Некогда, несколько сотен лет назад (какими великолепными сроками оперирует история Кембриджа!), в одной из столь же старых церквей на трехногой подставке — трайпосе — восседал один из самых острых и язвительных бакалавров колледжа и вел диспут с находящимся где-то внизу ничтожным прозелитом — претендентом на звание бакалавра.
У язвительного старого бакалавра было имя: его звали «мистер Трайпос», и самое страшное — ему дана была «привилегия юмора» — привилегия издевательства над ничтожным претендентом.
В XVIII веке трайпос в таком унизительном для претендента виде был отменен, но страх перед ним остался, причем вполне обоснованный — спрашивали со студентов строго, тем более что Стокс с недавних пор решил еще более возвысить математические науки в Кембридже.
А может быть, трайпос назывался трайпосом просто потому, что это был трехступенчатый, сложнейший экзамен. А может, и потому, что имел три степени отличий.
Существовавшая многоступенчатая система сдачи экзаменов позволяла более или менее точно выделять наиболее способных, а место, полученное на трайпосе, волочилось потом за выпускником всю его жизнь, и котировался он дальше уже, например, как «Мистер Смит, 16-й спорщик такого-то года». И даже столь большая цифра была достаточно почетна.
Экзаменующиеся по математике могли завоевать высшее отличие — «старший спорщик». Затем следовал «второй спорщик», «третий», «четвертый» и так далее. После шли «старшие оптимы», затем — «младшие оптимы». Потом — просто бакалавры. Без отличий. Самый последний получал на всю жизнь прозвище «деревянная ложка».
Был и еще один экзамен, подтверждающий трайпос, — математическое исследование на премию Смита. Как правило, премию Смита получал «старший спорщик», и эта премия служила как бы доказательством беспристрастности и объективности экзаменаторов трайпоса.
Впереди было еще много работы...
ТРАЙПОС
Итак, приближался новый, 1854 год, а вместе с ним и трайпос.
Но экзамен ожидает Джеймса через несколько дней! А пока — новогодний чай с друзьями, задушевные беседы на самые отвлеченные, никак не относящиеся к трайпосу темы. Мистер Лоусон, вспоминая этот день через тридцать лет, расскажет о том, как поражал тогда Джеймс всех присутствующих своими глубокими знаниями и самой необычной информацией во всех вопросах, которых касалась дружеская новогодняя беседа...
Когда Джеймс вошел в полутемный и холодный Сенат-хаус для решения первой задачи, он чувствовал в голове звонкую пустоту — ему казалось, что он не сможет распутать сейчас и школьного примера. Механически получил задание, оно оказалось нетрудным — но это тогда уже, когда жерновами загудела голова, возникли в ней тысячи путей и вариантов, они отбраковывались и отбрасывались молниеносно работающей мыслью, и наконец, остался один-единственный ход, блестяще и быстро приводящий к цели. Ясность мысли была сверхъестественной, рука не успевала за ней, путалась и петляла среди леса символов, в котором так бесстрашно продиралась мысль...
Коллега Байнес, видевший, как он выходил после экзамена, поразился происшедшей в Джеймсе перемене: он шел, пошатываясь, держась за мраморные колонны Сенат-хауса. Должно было пройти немало времени, чтобы кончилось головокружение и Джеймс полностью пришел в себя. Чтобы не беспокоить тетку, обо всем этом в письме к ней — ни слова.
«Мисс Кей
Трин. Колл. 13 января 1854
...Снег здесь почти сошел, и похоже, что снова похолодает. Я никогда не пропускаю длинной и утомительной прогулки по слякоти. А когда ты хорошо промерзнешь на заснеженных улицах, а потом отряхнешься, обсушишься и сядешь перед пылающим камином с хлебом, маслом и «пропами», ты можешь есть и работать как зверь...»
Экзамены наконец окончились, были зачитаны списки. Джеймс уступил звание «старшего спорщика» своему старому сопернику Раусу из Питерхауса и стал «вторым спорщиком» из-за недостаточной внятности его математического изложения — черты, к сожалению, теперь уже неистребимой. И через много лет книги и статьи Максвелла будут оставлять большой простор для пожеланий их улучшения в том, что касается стиля и удобства понимания и чтения.
Эдвард Джон Раус был в этом отношении сильнее. Выходец из Канады, из Квебека, всего на несколько месяцев старше Джеймса, он долго учился в университетском колледже в Лондоне, сначала в школе при нем, потом в нем самом под руководством прекрасного математика — педагога Августиниуса де Моргана. Он был принят в Лондонский университет и в 1849 году был там уже бакалавром искусств, а в 1853 году получил там же золотую медаль по математике и натуральной философии в экзаменах на звание магистра.
Затем он поступил в Питерхаус в Кембридже, где в тот же семестр, несколько запоздав, появился Максвелл. Уже в первые дни стало ясно, что между ними возникнет соперничество. Оно продолжалось и на семинарах Гопкинса — общего тьютора. Естественно, что соревнование с уже готовым даже не бакалавром, а магистром искусств было для соискателя Джеймса нелегким делом, а Джеймс вовсе не был лишен честолюбия.
Раус был сильнее в систематике, в изложении, в том, что так ценилось экзаменаторами трайпоса, и поэтому закономерно стал «старшим спорщиком». Максвелл был оригинальней в идеях, но невнятней в рассуждениях — он стал «вторым спорщиком». Такое соотношение их способностей и качеств подтвердила и жизнь: систематичный Раус сам стал тьютором и подготовил сотни людей к математическому трайпосу. Среди его учеников такие звезды, как лорд Рэлей, Джон Гопкинсон, Дональд Мак Алистер, Джозеф Лармор — все «старшие спорщики», а также знаменитый Дж.Дж.Томсон — «второй спорщик». Из 990 «спорщиков», окончивших Кембриджский университет в период с 1862 по 1888 год, 480 были учениками Рауса. Он читал лекции по математике вплоть до 1904 года (умер он в 1907 году). Он выпустил много книг по математике и динамике, очень систематических и четких учебников, то есть совершил то, что Джеймсу было бы абсолютно недоступно. Даже газета «Таймc» в своей редакционной статье почтила впоследствии смерть Рауса. Что же касается его научных достижений — увы! — они были хоть и значительными, но несравненно слабее Максвелловых. Раус был прирожденным учителем, точно так же как Джеймс Клерк Максвелл был прирожденным ученым.
Разочарование Джеймса и его несколько поникшее настроение были сглажены результатом следующего испытания — экзаменационного письменного математического исследования — на премию Смита.
Премия Смита тоже, как и все в Кембридже, имела свою историю и значение. Доктор Смит, Мастер Тринити с 1742 года, предшественник нынешнего Вильяма Вевелла, был весьма богат и завещал университету проценты с основного капитала в 3500 фунтов в акциях южных морей. Проценты с капитала должны были использоваться таким образом. Сначала должен был быть устроен для попечителей один раз в год «щедрый обед в знак благодарности за их хлопоты с выполнением обязанностей опекунов», а оставшиеся после обеда деньги (их оставалось уже не так много) делились на две равные части: половина шла на увеличение зарплаты преподавателей, другая — на оплату двух призов, которые должны были ежегодно присуждаться тем молодым бакалаврам искусств, которые, будучи проэкзаменованы попечителями, продемонстрируют перед ними «наибольшие способности в математике и физике». Кроме того, патриот Тринити, Смит, оговорил, что «при прочих равных условиях следует предпочесть кандидата от Тринити-колледжа».
Иногда случалось так, что «старший» или «второй спорщик» оказывался неспособным получить премию Смита, и эта разница между мнением экзаменаторов трайпоса и экзаменаторов, оценивающих исследования на премию Смита, очень беспокоила отцов университета, хотя, разумеется, в этом не было ничего странного — исследование на премию Смита было более творческим, требовало большей творческой отдачи, здесь не годились готовые рецепты.
Для исследования на приз Смита была выбрана сложная тема. Ее предложил сам Стокс. Необходимо было доказать теорему, касающуюся преобразования поверхностного интеграла в интеграл по контуру. Джеймс выполнил работу с блеском. Он как бы предчувствовал важность этой теоремы, которая потом будет названа теоремой Стокса, для своей главной жизненной задачи — формулировки уравнений электромагнитного поля.
Раус тоже решил задачу, но, видимо, менее красиво, поскольку мнения разделились: первым призом следовало бы наградить Максвелла, но это не понравилось бы отцам университета, поскольку якобы свидетельствовало бы о неравноценности требований двух экзаменационных комиссий. Принято было соломоново решение: провозгласить Рауса и Максвелла «равными» призерами премии Смита.
Получило еще одно подтверждение подмечаемое всеми сходство судеб Вильяма Томсона и Джеймса Клерка Максвелла. Оба они воспитывались без матерей; оба рано обнаружили необыкновенные способности в математике и физике; теперь добавилось еще одно — Джеймс, как некогда Томсон, стал «вторым спорщиком» и лауреатом премии Смита!
ЖИЗНЬ КЕМБРИДЖСКОГО БАКАЛАВРА
Вот прошел и трайпос. Пора школярского рабства, годы ученичества миновали, настала пора расслабления, отдыха, раздумий.
Чем заниматься, чему посвятить свою жизнь и талант? Некоторое время набравший головокружительный темп, вошедший в сумасшедший ритм подготовки к экзамену Джеймс не может остановиться, решительно отсечь то, что ему не свойственно, поспешить к электромагнитным теориям, сделавшим его талант отточенным, превратившим его в гениальность. Он продолжает кембриджскую рутину, лишь постепенно замедляя ход, оглядываясь, осматриваясь, разбираясь в клубке запутанных научных и жизненных проблем, выбирая те из них, которые ему суждены.
Он решительно избрал Кембридж, решил остаться в нем, стать «феллоу» — досточтимым членом колледжа, но эта честь должна быть заслужена еще одними экзаменами, в скором будущем предстоящими молодому бакалавру.
Жизнь в Кембридже включает в себя сейчас для него занятия с учениками, прием экзаменов в Челтенхем-колледже, но главное — занятие тем, от чего оторвали его кембриджские годы, растравили его аппетит, разожгла волчью ненасыть к собственным исследованиям, — любимой оптикой. Он стремится усовершенствовать микроскоп и для этого изучает по книгам технологию производства микроскопов, перечитывает «Теорию видения» Беркли, достает из дальних ящиков некогда подаренный ему Д.Р.Хеем набор удивительных цветных бумаг и с их помощью пытается смешивать различные цвета в различных пропорциях. (Не было ли это следствием памятного спора с Давидом Брюстером на конгрессе Британской ассоциации в 1850 году в Эдинбурге?)
В общем мирно и незаметно протекала жизнь Джеймса Клерка Максвелла после трайпоса. Почти два года оставалось до предстоящих осенью 1855 года экзаменов на право стать членом совета колледжа — «феллоу».
«Джеймс Клерк Максвелл — мисс Кей
Трин. Колл. Канун троицы 1854
Я живу здесь просто роскошно, имея только двух учеников и имея возможность все остальное время дня отдать чтению... Здесь жаркая погода, и я только что пришел со встречи коллег, строящих в складчину купальню; мы решили, что наше сообщество должно иметь характер «Клуба любителей плавания», а не то что «плати деньги и получай ключ».
Соловей выбрал себе местечко как раз под моим окном и работает без устали каждую ночь. Сейчас он просто неистовствует. А ночью совы приходят на помощь, тихо подпевая ему на свой манер...»
Тянуло домой, в Гленлейр. И вот Джеймс решается на довольно рискованное предприятие. До Карлейля добраться просто. Но между Карлейлем и городком Далбетти, недалеко от которого находится Гленлейр, дорога плохая, дилижанс идет вокруг, делает большую петлю, и Джеймс решает спрямить дорогу — пройти от Карлейля до Галлоуэя пешком. А это более пятидесяти миль!
...Невеселая это была встреча с отцом — отец надрывно кашлял, плохо выглядел, полнота его выглядела болезненной, волосы поседели.
Отец по-прежнему жил делами сына — узнав, что издатель Макмиллан из Кембриджа (отпрыск знаменитого рода Кавендишей) предложил Джеймсу написать книгу по оптике, отец заботится о том, чтобы сына не торопили, убеждает многократно просмотреть рукопись перед изданием, ибо в противном случае грозит «потеря доброго имени в науке».
Джеймс придерживается скорее другого мнения — для него важнее, чтобы правильными были исходные предпосылки и результат, он склонен допускать небольшие погрешности в процессе доказательств — физическая достоверность результатов для него важнее математической строгости. Эта черта сохранится в нем и позже — уже в «Трактате», труде всей жизни Максвелла, он никогда не встанет в тупик перед лишним членом в уравнении, если он препятствует получить изящное выражение с ясным физическим смыслом, и просто не замечает его. Недаром многие математики, куда более низкого класса, чем Клерк Максвелл, всплескивали руками от ужаса при лицезрении вольностей, допускаемых им в своих работах.
Отец интересуется, как идут дела с «платометром» — изобретенным Джеймсом прибором для измерения площадей, на постройку которого Философское общество выделило громадную, по его мнению, сумму — 10 фунтов. Отец предупреждает, что новая вещь, еще не испробованная в производстве, всегда стоит дороже, он вполне житейски интересуется, кому будет принадлежать прибор после постройки — Джеймсу, механику или обществу?
Отец требует заботы, и в зимние каникулы Джеймс снова едет к нему, на этот раз уже в Эдинбург, да там и остается надолго — отца нельзя покидать в тяжелом положении.
Отец поправлялся медленно, но, видя положение Джеймса, заставил его поехать назад в Кембридж, уверив, что все в порядке, и в Галлоуэй он уже сможет вернуться сам, без него. В Кембридже царило весеннее настроение, подъем. Многие друзья Джеймса, самые способные и смелые, принялись за сочинение собственных книг. Раус принялся за книгу о Ньютоне, Питер Тэт, ставший «первым спорщиком» 1852 года и первым призером Смита, был уже в Дублине и тоже подумывал о собственной книжке. Да и сам Джеймс с осени потихоньку принялся за предложенную Макмилланом «Оптику», одновременно работая над теорией цветов и усовершенствованием офтальмоскопа.
ДРУЗЬЯ
«Работа — хорошая вещь, и книги — тоже, но лучше всего — друзья!» — часто заявлял Джеймс и находил себе все новых и новых друзей. Требование было одно — высокая интеллектуальная активность. Хорт, Лашингтон, Померой, Сесил Монро — вот ближайшее окружение Максвелла в период 1855-1856 годов. Мы не можем составить их точных портретов — большинство из них не оставило глубокого следа в истории. Мы можем судить о них по одному из писем Джеймса к отцу, посвященному молодым кембриджцам, сдававшим в то время экзамены для зачисления на работу в Восточно-Индийскую компанию:
«Трин. Колл. Суббота 21 апреля 1855
Целая куча людей сдает экзамены в В.И.К.29 — Померой, В, С, Д (высшее двойное отличие за много лет), Е («старший спорщик») и т.п. — мне кажется, что состязание будет довольно активным; очевидно, однако, что все эти люди будут совершенно различными судьями, и т.д., хотя все они могут прекрасно сдать экзамены.
Померой — это гениальный гигант, благородный и сильный, но склонный к поспешности при осуждении кого-либо за его поведение, хотя ярость его нарастает медленно. В — умен и способен определить любую нелепость, кроме своих собственных; однако возбудим и крайне невыдержан по отношению к людям, которых он не знает. С — имеет сильные чувства и привязанности. Он во всех случаях действует с большой долей доброжелательности, но ему не хватает храбрости, он скрывает свои добродетели, всегда пытаясь перенять манеры тех, с кем он рядом. Д — это настоящий человек дела, успешно использующий каждую минуту своего времени наиболее успешным образом. По-моему, он честный человек. Так мне верится. Е — это что-то неизвестное, но я могу вполне представить, как обстоятельства вынуждают его играть в Индии роль... [вице-короля]. Я надеюсь, однако, что обстоятельства будут иными, и тогда он может стать безобидным математиком или судьей научных споров и приобрести высокую репутацию».
Мы не знаем, кто это — В, С, Д, Е, но можем попытаться решить это уравнение. Д — обладатель высшего двойного отличия за несколько лет — это, видимо, Питер Гутри Тэт. Его характеристика, данная Джеймсом, подтверждается и в роскошно изданном труде, посвященном Тэту, прожившему долгую и плодотворную жизнь. Не терявший ни минуты времени даром, предельно сосредоточенный на науке, Тэт был в свое время одним из наиболее известных физиков. Правда, его уже тогда считали производной от Томсона, обозначая первого Т, а второго Т' (второй производной обозначали Тиндаля — Т''). Ему всегда немного не хватало философской культуры, глубины — и ему много доставалось за это впоследствии от действительно крупных философов. Е — это «старший спорщик» 1854 года Раус. Его характеристика поразительно точна. Обстоятельства сложились так, что он действительно стал «безобидным математиком» — преподавателем в Кембридже, выпестовавшим большое количество «спорщиков».
Кто В я С — мы сказать не можем. Возможно, это Хорт и Лашингтон, может быть — Эльпинстон или кто-нибудь еще. Да и важно ли это? Важно, как Максвелл относился к ним — с неизменной симпатией, но и с полным сознанием недостатков своих друзей.
Могучий ум и доброжелательность Максвелла привлекали к нему сердца многих коллег по колледжу и университету. Эти четыре кембриджских года, несмотря на внешнюю непродуктивность, никак не прошли даром — завершились уже исследования по теории цветов и цветовому зрению, нашли правильное русло мысли об электрической теории. И еще главное, завоеванное в эти годы, — это большое число друзей, уважающих, любящих и понимающих его, особенно среди студентов-гуманитариев. Как отмечал один из исследователей впоследствии, «его предложения реформ в позднейшие годы всегда получали поддержку у тех, кто знал и любил его, и не имел нужды вникать в детали его аргументов».
В октябре 1855 года его избрали в Рэй-клуб. Еще одна возможность завести друзей, отточить свой ум, поспорить, поучиться у других!
«Джеймс Клерк Максвелл — отцу
1 ноября 1855
...Мне кажется, я писал тебе уже о Рэй-клубе. Я был избран ассоциативным членом в прошлую среду. В прошлую субботу у нас было обсуждение эссе Помероя о положении британской нации в Индии мы искали в древней и новой истории примеры таких отношений между двумя нациями, но не нашли... Одно ясно: если мы не проявим о них заботу, или пустим на волю волн, или дальше будем выжимать из них деньги, тогда мы должны обратиться к Испании и американцам для примера негодного управления и последующей разрухи...»
В ноябре 1855 года заболел один из близких друзей Джеймса — Померой. Отец его воевал в то время под Севастополем. В Кембридж приехала мать, и Джеймс вместе с ней, забросив электрические теории, бессменно дежурил у постели любимого друга, великана Помероя, страдающего разлитием желчи, убирал за ним, через каждые два-три часа давал ему еду и предписанный портвейн (доктор Пагет, лечивший Помероя, предупредил, что больной может поправиться только при самом внимательном уходе).
Ноябрь выдался сырой и холодный. Джеймс для сохранения боевой умственной формы систематически посещал вновь открытый в Кембридже гимнастический зал. Сезон был нездоровый, и Померою опять стало хуже. Джеймс с грустью видел, как его друг-великан в эту погоду чувствует себя все слабее.
А вскоре в номере «Таймc» Померой-младший нашел имя своего отца Помероя-старшего под короткой рубрикой «Потери под Севастополем». Этого уже Джеймс скрыть не мог...
Сырая осень 1855 года была печальной в недолгой жизни друга Джеймса Клерка Максвелла Помероя. Бесцельность смерти отца пробила, быть может, первую брешь в ура-патриотическом сознании уверенного в себе и Англии кембриджского выпускника, юриста, великана и красавца Помероя.
...И еще одно лицо вошло в эти годы в круг друзей Джеймса, в круг друзей, может быть, не столь близких, но весьма сильно влияющих. В конце ноября приехал в Кембридж властитель умов Морис, приехал инспектировать систему образования для рабочих. В один из вечеров, когда разгоряченная толпа студентов и бакалавров окружила мэтра на квартире у мистера Гудвина, Джеймс, как один из активных участников движения рабочих колледжей, смог лично познакомиться с Морисом. Старый кембриджец, основатель клуба «Апостолов», Морис рассказывал об истории возникновения старых колледжей Кембриджа, о том, как они боролись за возможность работать и учиться без ухода от мира, о старом «апостоле» — поэте Теннисоне. Джеймс слушал, раскрыв рот, но что-то странное происходило с ним: бог, сойдя с небес, оказался поучающим всех и вся мэтром: многое из того, о чем он рассказывал, было всем известно, Джеймсу во всяком случае.
Влияние Мориса было сильным, но не абсолютным. Джеймс увидел его слабые стороны: «Морис — это человек, которому я не хотел бы возражать или обвинять в предумышленном искажении фактов; однако в некоторых отношениях он впадает, как мне кажется, в большую ошибку, например переоценивая веру в бога среди обычных респектабельных христиан».
Это была пора иногда жестоких, но всегда полезных разочарований...
ЛЕКЦИИ, ЧТЕНИЕ И «ПРОПЫ» В КЕМБРИДЖЕ
Отец, беспокоящийся о сыне, о его чересчур широком круге интересов, бьет тревогу:
«Гленлейр, 21 мая 1855
Сделал ли ты все, чтобы обуздать ручей, чтобы он тек спокойно, а не бил в берега?»
И действительно, как разобраться во множестве интересного? Как отделить то, что необходимо делать, и то, что может подождать?
«Джеймс Клерк Максвелл — отцу
Трин. Колл. 25 октября 1855 — 12 ноября 1855
Я отказался взять учеников в этом семестре, так как хочется иметь время для чтения и кое-какой своей математики. Кроме того, должен еще тратить время на людей, посещающих лекции...
В плохую погоду иду в спортзал, только что открытый для всех видов спорта — прыжков, гимнастики и т.п. Посредством ежедневных несложных упражнений рук можно приобрести хорошее дыхание и спать много лучше, чем в том случае, если не предпринимать ничего, кроме прогулок по ровным дорогам...»
«1 ноября 1855
Я уже в течение двух недель читаю лекции, и класс как будто бы продвигается вперед. Они встают и задают вопросы, что является добрым признаком...»
«Льюису Кемпбеллу, эскв.
Трин. Колл. 17 октября 1855
Думаю, что мне придется в этом семестре потрудиться. Лекции по гидростатике и оптике, бумаги для пассменов30... Кроме того, мне, возможно, придется читать лекции для рабочих, и в результате у меня будет весьма скудное свободное время. И все же я надеюсь использовать его на разные проблемы, которые будут занимать меня, так что мне в этом семестре не стоит иметь учеников. Я... прочел Карлейля по французской революции и много английской литературы, включая Чосера, сэра Тристрама, Ф.Бэкона, Попа, Беркли, Гольдсмита, Купера, письма Бернса, «Субботнюю ночь» Исаака Тайлора, Карлейля, Раскина, Кингсли, Мориса, сочетая все это с «Английским прошлым и настоящим» Тренча. От всего этого я получаю удовольствие и информацию, но ни слабейшего проблеска, касающегося теории слов.
И все же я должен вскоре установить, то ли слова формируют мысль, то ли мысль рождает слово. Не стоят ли эти теории одна другой?..»
Джеймс был уж устроен так, что ни одна проблема, казавшаяся ему интересной, не могла пройти мимо его внимания неизученной. Однажды Джеймс заинтересовался такой проблемой — как коты умудряются, падая даже с небольшой высоты, всегда приземляться на все четыре лапы?
Проблема получила шуточное название «котоверчение» с явным намеком на «столоверчение» и исследовалась в основном экспериментально — яростно сопротивляющиеся коты сбрасывались на землю: нужно было определить минимальную высоту, падая с которой кот встает на четыре лапы. Это занятие Джеймса (кстати, совместно с профессором Стоксом) стало известным в Кембридже, вошло в его фольклор как одна из странностей великого человека и в конце концов деформировалось до такой степени, что Максвеллу пришлось через много лет разъяснять, что в его исследовании ничего живодерского не было.
«Джеймс Клерк Максвелл — жене
Трин. Колл. 3 января 1870
В Тринити существует предание, что, когда я был там, я открыл способ кидать кошек таким образом, чтобы они не приземлялись на лапы, и что я, бывало, выкидывал их из окон. Я должен был пояснить, что истинной целью исследования было определить, насколько быстро кошка может повернуться в воздухе, и что истинным методом было позволить кошке падать на стол или кровать с высоты примерно двух дюймов; надо сказать, что даже в этом случае кошка приземлялась на лапы».
ЦВЕТОВОЕ ЗРЕНИЕ
— Этот песок красный. Этот камень синий. Но откуда мы знаем, что он — синий? — спрашивал когда-то маленький еще Джеймс. Когда прошел трайпос и возникла возможность остановиться, одуматься, поискать себе по плечу проблемы, их сразу оказалось несколько — и среди них такая:
— Этот песок красный. Этот камень синий. Но откуда мы знаем, что он синий?
И оказалось, что вопрос этот не праздный, что занимал он не один великий и мощный ум.
Сначала — ум Ньютона. Почти за двести лет до того, как Джеймс впервые появился в Тринити, в тех же толстых монастырских стенах, набрав небольшую группу студентов, пожелавших его слушать, великий Ньютон прочел им свои лекции. Лекции по оптике, мысли о цвете. Лекции в то время опубликованы не были, и лишь отголосок их вошел в мемуар, направленный Исааком Ньютоном тогдашнему секретарю Королевского общества Ольденбургу. Ньютон впервые показал, что «цвет белый и черный, а также пепельный или более темные промежуточные цвета создаются беспорядочным смешением лучей всякого рода. Таким же образом прочие все цвета, не являющиеся первоначальными, производятся различными смесями этих лучей... первоначальные цвета при смешении лучей одного с другим могут проявлять смежные цвета; так, зеленый — из желтого и синего, желтый — из прилежащего зеленого и лимонного и также и других».
Сколько этих первоначальных цветов? Для Ньютона в том вопроса не было — сверкающая разными цветами радуга, получившаяся из белого цвета после призмы, говорила сама за себя. Цветов, конечно, семь — разве не видно этого, разве недостаточно различаются они, когда мы рассматриваем спектр, любуемся радугой?
Конечно, семь! Возьмите звуковые колебания — там тоже семь тонов, а законы природы должны быть просты и общи, видимо, есть некая связь между семью звуками, семью цветами, семью планетами... Конечно, семь!
Гюйгенс, суровый Ньютонов критик, говорил: два! Желтый и голубой. Из них можно произвести красный и синий, а из этой четверки — все остальные цвета.
Ньютон шел дальше, копал глубже. Он первый указал, что объективные физические свойства разных лучей и субъективность восприятия их нужно строго различать.
Лишь немногие осмелились за годы, прошедшие с Ньютоновой смерти, и противостоять ему, и спорить. Среди них — Мариотт и Ломоносов, они склонялись к тому, что существуют только три физически простых цвета — красный, желтый и голубой, которым соответствуют три рода эфирных частиц сферической формы, но разной величины. «Прочие цвета рождаются от смешения первых трех», — писал Ломоносов.
Девятнадцатый век, век Максвелла, начался для теории цветов Юнгом. В своей лекции 12 ноября 1801 года «О теории цветов» он подтвердил: основных цветов — три: красный, желтый, голубой. Доказательство носило скорее физиологический и спекулятивный характер. «Почти невозможно представить, что каждая чувствительная точка сетчатки содержит бесконечное число частиц, каждая из которых способна колебаться в унисон с любым возможным волнообразным движением. Возникает необходимость в предположении, что это число ограничивается, например, тремя основными цветами — красным, желтым и голубым».
Почему именно этими? Во-первых, такие были взяты предшественниками. Во-вторых, опыт живописцев, познавших на практике возможность получения прочих цветов путем смешения этих трех.
Неточные, ненадежные основания! Когда Волластон провел в 1802 году более точное изучение цветов призматического спектра, а сам Юнг наблюдал последовательность цветов в тонких пластинках, появилась у Юнга другая тройка: красный, зеленый, фиолетовый.
Каждому из этих основных цветов соответствуют три вида нервных волокон в окончании глазного нерва. Юнг прочно связал теорию цветов с физиологией, восприятием цветов человеком. И доказательством правоты этой теории послужили люди, больные неопасной, но в то же время странной и распространенной болезнью, о которой раньше никто не подозревал.
Этой странной болезнью, оказалось, болели многие, и в том числе старый знакомец Клерков Вальтер Скотт. Когда это выяснилось, его тут же «оседлал» Брюстер, «изобретатель калейдоскопа», и завел по этому поводу длительную переписку. Сам Брюстер никак не мог согласиться с новой юнговской тройкой цветов, прочно и непоколебимо оставаясь на позициях Мариотта — Ломоносова, хотя они как будто бы и оказывались непрочными. Не таков был Брюстер, чтобы легко клевать на всякие новинки. Он надеялся с помощью Вальтера Скотта утвердить мир на своих позициях. Скотт охотно переписывался с Брюстером, описывал свое восприятие цветов, докладывал в Эдинбургском обществе, печатался в его изданиях.
Вальтер Скотт, как выяснилось, вообще не знал, что такое зеленый цвет, а розовый и бледно-голубой были для него одним и тем же цветом; сочетание ярко-красного и ярко-зеленого цветов казалось ему очень нежным и свидетельствующим о хорошем вкусе. Он не мог отличить пурпурного от темно-синего, но отличал все оттенки желтого цвета и оттенки синего, кроме небесно-голубого.
Отец Скотта, дядя с материнской стороны, его сестра и два сына тоже страдали этой же болезнью, как многие другие.
Николь описал случай, когда морской офицер купил форменный черный мундир и под него — красные бриджи, а Гарвей некогда рассказывал о плимутском портном, всегда подшивавшем черные вещи малиновыми нитками.
Для Дальтона весь спектр лучей, вышедших после призмы или рожденных радугой, был всего двухцветьем. Весь спектр состоял для него из желтой и синей полос.
И вот тут-то и вскрывалась во всей глубине мысль Ньютона о различии между физическими характеристиками лучей и их субъективным восприятием разными людьми.
Для определения основных цветов нужно было тоньше изучить физиологию цветового зрения, сравнивать зрение нормальных людей с восприятием цветов цветослепыми людьми — дальтониками. Вслед за Ньютоном, Гюйгенсом, Мариоттом, Ломоносовым наступил черед Дальтона, Вильсона, Поля, Мейера, Гельмгольца, Максвелла.
Оптика с детства была для Джеймса обетованной землей, где он чувствовал себя свободно, как птица, без притяжения, без земных оков. Он умел объяснить друзьям и отцу самые причудливые оптические явления, знал, отчего расстояние между ньютоновыми кольцами то, а не иное, почему голубое небо сменяется вечером кроваво-красными покрывалами, почему волчок, разрисованный всеми цветами радуги, при быстром вращении кажется белым. Он разлагал белый цвет при помощи призмы в многоцветье радуги, сравнивал получившиеся цвета с «образцовыми».
Еще до памятного спора с Брюстером на конгрессе Британской ассоциации возник для Джеймса конкретный вопрос: из каких компонентов слагается белый цвет? Какие цвета можно получить смешением? Сколько нужно конкретно взять такого-то цвета и такого-то, чтобы получить такой-то? Для точного сложения цветов Максвелл использовал и уже давно применявшийся цветовой волчок, и «цветовой ящик» — довольно громоздкое устройство, состоявшее из линзы, призм, щелей, экранов, образцовых цветов — цветных листков (от Хея). И тот и другой приборы постоянно совершенствовались Джеймсом, и однажды, весьма точно складывая цвета, Джеймс пришел к выводу, что красный, зеленый и синий цвета с «весьма высоким приближением» дают любой другой цвет спектра, в том числе и белый. Цвета, как оказалось, поддаются строгому математическому осмыслению. Оказалось возможным заранее довольно точно предсказать биологическую реакцию человеческого глаза на любой цвет. Смешивая цвета, можно было расчетом показать, каким будет вновь создаваемый цвет.
Цветовой волчок и цветовой ящик оказались совсем не игрушками, а довольно точными физическими измерительными приборами. А метод Максвелла, основанный на численных законах получения данных из измерений в цветовом ящике и на волчке, стал с тех пор общеупотребительным. Цвета, оказалось, тоже можно было вычислять.
«Джеймс Клерк Максвелл — мисс Кей
Трин. Колл. 24 ноября 1854 г.
...Я много занимался «верчением» цветов и пришел к очень точным результатам, доказывающим, что все глаза обычных людей созданы одинаковыми, хотя одни — лучше, чем другие, и что некоторые люди видят два цвета вместо трех; но все, у кого это случается, согласуются в показаниях друг с другом... Белый цвет не может быть создан с помощью синего, красного и желтого; если вы смешаете синий и желтый, вы получите не зеленый, а розовый... Те, кто видит два цвета, различают только синий и желтый, а не красный и зеленый...»
Старый друг Джеймса — Форбс придерживался такой же точки зрения и вместе с ним искал всё новые доказательства того, что желтый и синий цвета не дают в сумме зеленого. Для доказательства Джеймс предложил использовать две скрученные шерстяные нитки — желтую и зеленую, а потом наблюдать их с большого расстояния, может быть, даже через телескоп при нарушенной его фокусировке.
Нужно сказать, что оптические исследования Максвелла того времени во многом напоминали и повторяли исследования других ученых, в частности Германа Гельмгольца. Хотя многие выводы, сделанные им, вошли в золотой фонд учения о цветах, оптические исследования были скорее данью времени, данью, которую неизбежно нужно было заплатить, чтобы быть на самом переднем крае, на самой линии огня, где видны уже вспышки неприятельских выстрелов и нужно идти вперед самому, не полагаясь ни на чью помощь.
Первая статья Максвелла по цвету имела многозначительное название «Теория цветов в связи с цветовой слепотой» и была даже, собственно, не статьей, а письмом. Максвелл отправил его доктору Вильсону (в обычае ученых того времени было обмениваться письмами, сообщая о своих взглядах и открытиях); а доктор Вильсон счел письмо Максвелла настолько интересным, что поместил его целиком в свою книгу, посвященную цветовой слепоте. Так что Джеймсу не пришлось даже заботиться о публикации своих мыслей.
Когда-то в Гленлейре Джеймс исследовал глаза трески и вола, разрезая их. Но этого было ему мало. Джеймсу хотелось бы проникнуть внутрь живого глаза. Но как самому придумать и сделать простой прибор, с помощью которого свет мог бы быть направлен через зрачок внутрь глаза и выхватить из темноты для изнывающего от любопытства Джеймса пребывающее в темноте глазное дно?
«Джеймс Клерк Максвелл — Вильяму Томсону
Дорогой Томсон!
...Я сконструировал глазное зеркало на принципе Гельмгольца, но с выпуклыми стеклами (рисунок)... Преимущество этого приспособления в том, что... глаз... получает весь свет, который возвращается через зрачок. Таким способом я видел изображение свечи темно-коричневого цвета в глазах многих людей и заметил некоторые кровеносные сосуды. В собачьем глазу я видел блестящие цвета внутренней оболочки со всем ее сетчатым узором. Это поистине прекрасный объект, причем совсем нетрудный для наблюдения. Собака, во всяком случае, как будто бы не имеет ничего против».
«Джеймс Клерк Максвелл — м-ру Джону Клерку Максвеллу
...Я усовершенствовал свой инструмент для обозрения внутренности глаза. У Вэйра есть маленькая зверюшка, похожая на старину Аски, которая сидит довольно спокойно и, кажется, любит, когда ее изучают, а я знаю некоторых людей с большими зрачками, которые не хотят позволить мне заглянуть внутрь...
В прошлую среду я ходил с Хортом и Эльпинстоном в Рэй-клуб, который заседал в комнатах Кингсли из Сиднея. Кингсли — колосс в фотографии и микроскопах, он показал нам фотографию инфузории, просто прекрасную, а также снимки живых растений и животных, сделанные с помощью... микроскопа...»
Джеймс обнаруживает вокруг себя десятки других «пропов», требующих решения:
— Почему лист бумаги, падая на пол, совершает колебательное движение?
— Как выглядел бы мир в конической проекции?
— Каким условиям должно удовлетворять лучшее средство для чистки одежды?
Но самым долговечным из его юношеских научных увлечений оказалось все-таки цветовое зрение.
МАКСВЕЛЛ — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БРАКОНЬЕР
И все же Джеймса безотчетно влекут к себе тайны более глубокие, вещи куда более неочевидные, чем смешение цветов и изобретение глазного зеркала нового типа. И именно электричество в силу его интригующей непонятности неизбежно, рано или поздно, должно было привлечь энергию его молодого ума. Еще в Гленлейре среди «мусора» молодого Максвелла были самодельные магниты, гальванические элементы, еще в Эдинбургском университете знал он о Фарадее, о его великих трудах. И нет поэтому ничего удивительного, что, отдохнув после трайпоса всего месяц, Джеймс пишет своему старому другу, молодому, но уже знаменитому будущему лорду Кельвину, а сейчас пока еще просто Вильяму Томсону, профессору университета в Глазго:
«Трин. Колл. 20 февраля 1854
Дорогой Томсон!
Сейчас, когда я перешел в нечестивое состояние бакалавра, я начал подумывать о чтении. Конечно, приятно провести время среди книг признанного достоинства, которые ты не читал, но должен был бы. Однако у нас есть сильная склонность к тому, чтобы возвратиться к физическим теориям, и некоторые из нас хотели бы напасть на электричество.
Представьте себе человека, имеющего популярные сведения о демонстрационных электрических экспериментах и небольшую антипатию к учебнику по электричеству Морфи — как должен он читать и работать, чтобы приобрести хотя бы небольшое понимание сущности предметов, которое могло бы пригодиться при дальнейшем чтении?
Если бы он захотел читать Ампера, Фарадея и других, как ему это сделать, и на какой стадии и в какой последовательности он мог бы читать Ваши статьи в кембриджском журнале?»
Томсон ответил ему доброжелательным длинным письмом, в котором обстоятельно разъяснил порядок чтения и вообще дал свое благословение на занятия Джеймса электрическими материями, на вторжение в то, что Джеймс называл «электрическими заповедниками» Томсона. Томсон в те времена был, несомненно, самым видным после Фарадея физиком Англии, а ему было всего тридцать лет.
«Трин. Колл. 13 ноября 1854
Дорогой Томсон!
...Я хотел бы направить Вам исповедь электрического новичка.
Я довольно легко воспринял фундаментальные принципы напряженного электричества. Мне сильно помогла здесь аналогия с передачей тепла, которая, как мне кажется, есть Ваше изобретение, поскольку я нигде больше не находил ее. Затем я попытался создать теорию притяжения токов, но, хотя я уже мог видеть, как можно определить этот эффект, я не был удовлетворен формой теории, которая имеет дело с элементарными токами и их взаимодействиями. Не вижу, как из этого можно создать какую-нибудь общую теорию. Читал в этом семестре исследования Ампера и искренне восхищался ими, хотя это была наглядная демонстрация [взаимодействий элементарных токов], которая должна была бы всех убедить (после того, как Ампер убедил самого себя), что все это соответствует его философским взглядам и что все происходит так, как должно было бы быть.
И все же у меня нет сомнения в том, что Ампер сам открыл эти законы, причем, возможно, и посредством метода, который он привел. Да, я как-то слышал, что Вы говорили о «магнитных линиях сил», которые Фарадей будто бы использовал с большой пользой, в то время как другие, кажется, предпочитают представление о непосредственном взаимодействии элементов токов. Сейчас я считаю, что... каждый ток создает магнитные линии и действует так, как это ему предписывается линиями...»
Знаменательное письмо! Намечен разрыв с методами Ампера, строящего свою теорию на непосредственном мгновенном взаимодействии элементов токов через пространство — на дальнодействии. Переход к фарадеевскому восприятию действия через посредство магнитных силовых линий, заполняющих пространство. Принятие «близкодействия» — действия одного тела на другое через посредство некоторой промежуточной среды было ярким подтверждением твердости философских воззрений Максвелла. Еще на давнишней эдинбургской лекции о судьбе двух ученых — Леверрье и Адамса, открывших «на кончике пера» новую планету — Нептун, Джеймс должен был бы получить импульс в сторону «дальнодействия» — ведь планеты были открыты на основании законов тяготения, имеющих четко выраженный в те времена акцент «дальнодействия». Эта теория получила в открытии Нептуна столь мощное подтверждение, что усомниться в ней мог лишь нестандартно мыслящий ум, ничего не принимающий на веру.
Теория Ампера была целиком пронизана дальнодействием. Элементы токов взаимодействовали между собой, как маленькие планетки. Закон Кулона для взаимодействия электрических зарядов поразительно напоминал по конструкции закон тяготения Ньютона. Формальное сходство законов, математических выражений для, казалось бы, разных явлений — гравитационного и электрического взаимодействия — убедило Ампера в том, что основой любой общей теории электромагнетизма должно быть хорошо зарекомендовавшее себя дальнодействие. И ничто его не могло сбить с этого пути. Он выводил формулу за формулой, элементы взаимодействия с элементами, выражения все более и более усложнялись, формализовались, и Ампер, искуснейший математик, все с большим трудом выпутывался из дебрей сложнейших формул, не смущаясь иной раз и перед очевидными физическими несообразностями. Все амперовские токи были, например, замкнутыми, а взаимодействие токов определялось для изолированных, незамкнутых элементов...
Джеймс Клерк Максвелл в поисках теории, более соответствующей его философским взглядам, обращается к еще неясным для него силовым линиям Фарадея.
Фарадей, не получивший образования, не знавший математики, мог лишь любоваться совершенно непонятными ему математическими символами в трудах великих французов и немцев. Однако Фарадей противопоставил математическому камуфляжу здравый смысл реалиста. Он не понимал, как что-то может воздействовать на что-то через ничто, как бы красиво это ни было математически оформлено на бумаге.
Что значит — магниты воздействуют друг на друга на расстоянии? Но почему же вокруг полюсов магнита налипают опилки, почему опилки, если их посыпать на бумагу и поднести к магниту, собираются в стройные лохматые цепочки? Значит, есть что-то в пространстве, значит, наполнено чем-то это ничто?
И все-таки этому опыту, опыту с опилками, сторонники дальнодействия могли дать альтернативное объяснение. Такое: линии, по которым располагаются опилки, — лишь направления равнодействующей магнитных сил. Лишь направления! Но вот другому опыту сторонники дальнодействия дать объяснение могли лишь с трудом. Установка проста: две проводящие пластины, между которыми можно помещать разные непроводящие жидкости. Если подводить к пластинам напряжение от одной и той же батареи, система в каждом случае будет вести себя по-разному, например, скорость зарядки этого конденсатора будет в каждом случае своей, и его емкость будет в каждом случае разной. Значит, промежуточная среда играет роль в электрических взаимодействиях?
И вот здесь-то, когда заходила речь о промежуточной среде, язык сторонников дальнодействия сразу начинал заплетаться, он становился все туманней и запутанней, что уже само по себе являлось признаком непонимания и замешательства.
Все возрастающая сложность математических теорий электричества, создаваемых сторонниками дальнодействия, явно заводила в тупик. Для того чтобы свести концы с концами в опыте с зарядкой конденсатора, приходилось вводить в формулы поправочный коэффициент — диэлектрическую постоянную: объяснить же физический смысл этого коэффициента сторонники дальнодействия оказались не в состоянии. Факты упрямо выпирали из теории, ломали, разрушали ее, взрывали изнутри вавилонскую башню Амперовой электродинамики. Но снаружи пока еще этого видно не было.
И лишь одно могло бы окончательно примирить факты с теорией — принятие совершенно новой модели явлений, новой физической философии, философии, с одной стороны, естественной и в силу этого неправдоподобно простой, а с другой — сложнейшей, поскольку таила она в себе тысячи новых сложностей. Но пока выручала.
Лишь один Фарадей придерживался в науке этой новой философии и тем навлекал на себя насмешки и презрение. Его грубые материальные силовые линии, ранее, возможно, использовавшиеся им скорее для наглядности, теперь уже пронизывали для него тела и пространство и обладали обыденными физическими качествами, например сжимались и растягивались. Никто не понимал его и не поддерживал. Его идеи казались слишком абстрактными.
Но на стороне Фарадея был его реализм, склонность проверять всех и вся — «люди склонны ошибаться», способность воспринимать лишь то, что может быть проверено опытом. Признание за телами присущего им изначального свойства притягиваться к другим через ничто, просто на расстоянии, свойство, подобное длине или ширине, было глубоко чуждым и невозможным для него. Гигантская фигура Фарадея предстает на поле брани в полном одиночестве, противостоя объединенной блестящей гвардии немцев и французов — сторонников отнюдь не ближнего боя, сторонников дальнодействия.
...Он был совсем одинок, если бы не Томсон, а потом Максвелл.
Максвелл, как Фарадей, сердцем не мог принять идею взаимодействия на расстоянии. Этому противоречил и склад его ума, стремящегося объяснить все, не знающего никаких «священных земель», все его воспитание, все его юношеские физические и химические эксперименты. Не зря стоял на дворе век пара, век машин и механизмов, сложных, но вполне доступных для объяснения и понимания. Не зря Джеймс исследовал когда-то, как звонят колокольчики в его родном доме в Гленлейре. Не только удобное средство для связи с домашними видел он в этом нехитром устройстве. Он вникал в суть вещей, видел их скрытый смысл и значение.
«...Когда мы наблюдаем, что одно тело действует на другое на расстоянии, то, прежде чем принять, что это действие прямое и непосредственное, мы обыкновенно исследуем, нет ли между телами какой-либо материальной связи; и если находим, что тела соединены нитями, стержнями или каким-либо механизмом, способным дать нам отчет в наблюдаемых действиях одного тела на другое, мы предпочитаем скорее объяснить действия при помощи этих промежуточных звеньев, нежели допустить понятие о прямом действии на расстоянии.
Так, когда мы, дергая за проволоку, заставляем звонить колокольчик, то последовательные части проволоки сначала натягиваются, а затем приходят в движение, пока наконец звонок не зазвонит на расстоянии посредством процесса, в котором принимали участие все промежуточные частицы проволоки одна за другой. Мы можем заставить колокольчик звонить на расстоянии и иначе: например, нагнетая воздух в длинную трубку, на другом конце которой находится цилиндр с поршнем, движение которого передается звонку. Мы можем также пользоваться проволокой, но, вместо того чтобы дергать ее, можем соединить ее на одном конце с электрической батареей, а на другом конце — с электромагнитом, и таким образом заставим колокольчик звонить посредством электричества.
Здесь мы указали три различных способа приводить звонок в движение. Но во всех этих способах есть то общее, что между звонящим лицом и звонком находится непрерывная соединительная линия и что в каждой точке этой линии совершается некоторый физический процесс, посредством которого действие передается с одного конца линии на другой. Процесс передачи — не мгновенный, а постепенный; так что, после того как на одном конце соединительной линии дан импульс, проходит некоторый промежуток времени, в течение которого этот импульс совершает свой путь, пока не достигнет другого конца...
Кому свойства воздуха не знакомы, тому передача силы посредством этой невидимой среды будет казаться столь же непонятной, как и всякий другой пример действия на расстоянии...»
Максвелл, хоть и не сразу, принял силовые линии Фарадея. «...Не следует смотреть на эти линии как на чисто математические абстракции. Это направления, в которых среда испытывает напряжение, подобное натяжению веревки, или, лучше сказать, подобное натяжению собственных наших мускулов». Картины силовых линий казались ему естественными. Не видел ли он глубокой внутренней связи между ними и его красивыми картинами напряжений, выявляемыми поляризованным светом в неотпущенном стекле? Не были ли примитивные грубые опилки тем «поляризованным светом», который позволял теперь уже проникать не внутрь вещей, а внутрь самого пространства между ними?
Ампер не отвергнут, он переработан, у него взята правильная идея о том, что каждый ток окружен магнитным полем (идея, кстати, абсолютно «близкодейственная», как Ампер не понял этого?), и Максвелл ищет уже для этой идеи адекватное математическое выражение — первое уравнение Максвелла, первое из четырех, которым суждено в будущем прославить имя «электрического новичка». Максвелл ищет: может быть, кто-нибудь, кроме Ампера, напал на правильный след, создал непротиворечивую электродинамическую теорию? Кроме школы французской, в которой царствовал Ампер, и иже с с ним: Лаплас и Араго, Био и Савар, считалась в Европе сильнейшей и школа немецких электродинамиков — Вебер, Нейман, Гельмгольц.
«Трин. Колл. Май 1855
Дорогой Томсон!
Благодарю за Ваш список работ по электричеству. Мне кажется, что я смогу достать все то, о чем Вы упомянули. Я читаю «Электродинамические мероопределения» Вебера, о которых, как я слышал, Вы говорили. Я изучаю его способ соединения электродинамики с электростатикой, индукцией и т.п. и с сожалением признаюсь, что мне он с самого начала не понравился. Он дает выражение для притяжения двух элементов электричества..., определяя «а» и «в» из законов Ампера...»
Опять взгляды Ампера, опять дальнодействие, стыдливо замаскированное в сложных формулах для взаимодействия токов! И все же Джеймс надеется извлечь из «Мероопределений» некое рациональное зерно.
«Джеймс Клерк Максвелл — отцу
Королевское общество было очень заботливо, прислав мне мою статью о цветах как раз тогда, когда она была мне нужна, здесь для Философского [журнала]...
Сегодня вечером в моих комнатах состоится встреча для обсуждения «Теории моральных чувств» Адама Смита, так что мне придется сейчас ликвидировать беспорядок. Я продолжаю снова упорно работать над электричеством и с трудом пробиваюсь через построения тяжелых германских авторов. Нужно довольно много времени для того, чтобы привести в порядок все идеи, которые можно было бы взять у этих людей, но я надеюсь увидеть в этой проблеме свой собственный путь — и прийти к чему-нибудь определенному...»
В общем, веберовская электродинамика была довольно здравой и стройной теорией. Она довольно хорошо подтверждалась экспериментами и соответствовала общепринятым в то время физическим принципам.
Были в ней, конечно, явные несообразности, физические бессмыслицы — вроде бесконечного возрастания кинетической энергии частиц в замкнутой системе. Никак не могла веберовская электродинамика перебросить мост между движущимися зарядами и обычным, наблюдаемым на практике током в проводниках. Не могла ответить на вопрос: существуют ли незамкнутые токи, действующие на магнитную стрелку? Давало себя знать наследие Ампера. Но в принципе все это могло быть принято за легкие облачка, не способные испортить погоды.
А Максвелл глядел глубже. Он начинал понимать механику образования этих «облачков». «Облачка» были органичны для теории Вебера — главы геттингенской школы. И обязаны были они своим происхождением тому, что любое взаимодействие в этой системе было мгновенным, в то время как для любого взаимодействия, для передачи возмущения, по глубокому убеждению Максвелла, требовалось время. (Возможно, его поддерживало то, что и быстрые световые лучи обладали конечной скоростью. Очень большой, но конечной. Всего шесть лет назад Ипполит Физо нашел для нее чудовищное значение — 313 с лишним тысяч километров в секунду.) Пусть бесконечно малое. Но не равное нулю. В конечном счете именно деление на этот нуль приводило в теории Вебера к появлению физически абсурдных бесконечностей.
В этом видел Максвелл корень зла, и этот корень подлежал выкорчевыванию. Вот где «мгновенное дальнодействие» обнаруживало, по его мнению, свою полную несостоятельность.
МЕТОД МАКСВЕЛЛА И «АНАЛОГИИ» ТОМСОНА
Максвеллу было ясно, что Фарадей прав и его силовые линии были поистине великим открытием. Но фарадеевские силовые линии не годились для расчетов. Нельзя было, например, наперед сказать, каковы будут силовые линии двух совокупностей зарядов, если были бы известны силовые линии каждой совокупности в отдельности. А новая нарождающаяся уже электротехника, получавшая в те годы вдохновляющий и романтический образ трансатлантического телеграфа, требовала решения куда более сложных задач.
Нужно было идти дальше.
И разрабатывать теорию.
Не такую, как у Ампера — основанную на дальнодействии и ошибочную в основе, какие бы правильные результаты она пока ни давала. Но какую?
На что она будет похожа, эта теория? Какие связи можно усмотреть между ней и уже имеющимися в физике теориями, за что можно было бы «уцепиться», с чего начать? Какой применить метод исследования?
«Следуя (только) математическому методу, — пишет Максвелл, — мы совершенно теряем из виду объясняемые явления и потому не можем прийти к более широкому представлению об их внутренней связи, хотя и можем предвычислять следствия из данных законов. С другой стороны, останавливаясь на физической гипотезе, мы уже смотрим на явления как бы через цветные очки и становимся склонными к той слепоте по отношению к фактам и поспешности в допущениях, которые способствуют односторонним объяснениям».
Каков же выход?
«Мы должны найти такой прием исследования, при котором мы могли бы сопровождать каждый свой шаг ясным физическим изображением явления, не связывая себя в то же время какой-нибудь определенной теорией, из которой заимствован этот образ».
«Для составления физических представлений, — заканчивает свою мысль Максвелл, — следует освоиться с существованием физических аналогий (сравнений). Под физической аналогией я разумею то частное сходство между законами в двух каких-нибудь областях явлений, благодаря которому одна область является иллюстрацией для другой».
Максвелл решил использовать для исследования метод физических аналогий.
Метод аналогий во времена Томсона и Максвелла был общеизвестен и широко использовался. Максвелл позже любил по этому поводу шутить:
«...Когда Моссоти заметил, что Фарадей доказал аналогичность некоторых величин, относящихся к электростатической индукции в диэлектриках, и некоторых величин, относящихся к магнитной индукции в железе и других телах, он смог воспользоваться математическими исследованиями Пуассона, относящимися к магнитной индукции, переведя лишь их с магнитного языка на язык электричества и с французского на итальянский...»
Максвеллу прежде всего нужно было найти правильную аналогию.
Таким образом, в методе исследования у Максвелла колебаний не было: нужно было искать аналогию, причем скорее всего механическую, или, как он выражался, «динамическую». Ведь до сих пор не было еще в физике явлений, которые нельзя было бы объяснить механически, которые не удавалось бы свести к простейшим механическим действиям.
Механика в век пара царила над всем, механика была всесильна — и в этом убеждала промышленность. Механика была и универсальна — даже молекулы сталкивались в физике того времени как упругие бильярдные шарики. Но для электричества и магнетизма такие простые модели не годились.
Как представить себе электричество и магнетизм?
На что они похожи?
...Может быть, похожи они на потоки тепла? Может быть, электричество и магнетизм точно так же «перетекают» от одного тела к другому, как перетекает тепло от горячего тела к холодному в тепловой теории Фурье?
Вильям Томсон первым подметил электротепловую аналогию и применил к электрической теории не принципы ньютоновских законов, трактуемых сторонниками дальнодействия, а вполне близкодейственные принципы. Таким образом, Вильям Томсон, старший друг и советчик, тоже стоял, хотя и не подчеркивал этого, на фарадеевских позициях близкодействия и первым доказал, что концепция силовых линий может приводить к правильным результатам.
В том, что Максвелл ценил аналогии, — прямая заслуга Томсона. Максвелл всегда восхищался подмеченной Томсоном аналогией, существующей между вопросами притяжения электрически заряженных тел и вопросами установившейся теплопередачи. Это остроумное наблюдение обогатило обе отрасли физики; с одной стороны, оказалось возможным использовать при разъяснении распределения электричества многие результаты, полученные Фурье для теплоты. С другой стороны, оказалось возможным распространить результаты, полученные Пуассоном для электричества, на область тепловых явлений.
Будущему лорду Кельвину, а тогда еще кембриджскому «фрешмену» — первокурснику, было всего семнадцать лет, когда он подметил эту далеко идущую аналогию; все видели, что в стержне, имеющем два конца — теплый и холодный, тепло от точки к точке распространяется с одного конца к другому. Но никто до Томсона не усмотрел сходства этого процесса с электрическими явлениями.
Распределение электрических сил в области пространства, содержащей наэлектризованные проводники, напоминало юному Томсону найденное Фурье распределение потоков тепла в твердом теле бесконечных размеров. Поверхности равного потенциала в первом случае соответствовали поверхностям, имеющим равную температуру, во втором — электрический заряд уподоблялся источнику тепла.
Увидеть за сходством формул и внутреннюю аналогию явлений — это было уже следующей задачей, нашедшей отражение в статье первокурсника Томсона.
«Эта статья, — говорил Максвелл впоследствии, — впервые ввела в математику мысль о том, что электрические действия происходят при участии непрерывной среды, которая, хотя ее и объяснил некогда Фарадей и использовал ее как ведущую идею своих исследований, никогда еще не принималась ни одним ученым, а математиками считалась несовместимой с законами электрического действия, установленными Кулоном и разработанными Пуассоном».
А в статье 1846 года, написанной уже не Томсоном-»фрешменом», а Томсоном, год назад ставшим «вторым спорщиком» своего года, исследуется уже новая аналогия — аналогия электрических явлений с явлениями упругости (не помогла ли эта аналогия Максвеллу в наведении моста между его поляризационными картинами и силовыми линиями Фарадея, между светом и электричеством?).
Но Томсон не пошел дальше, не задумался над естественным вопросом: не передается ли электрическая или магнитная сила тем же способом, как распространяется упругое смещение вдоль твердого упругого тела? Он не пошел дальше и доказал тем самым свое неполное исследование им же введенного метода. А этот путь мог бы в конце концов привести к теории электромагнитного поля...
ЗАНЯТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ
Более года прошло со времени первого письма Томсону с просьбой порекомендовать книги по электричеству. Уже в прошлом ноябре пришел Максвелл к мысли о правоте Фарадея, наполнившего пространство реальными силовыми магнитными линиями. Но не опубликовано ничего Максвеллом по электричеству, да, по-видимому, не считал он еще тогда электричество лейтмотивом своих грядущих исследований, а может быть, природная деликатность мешала ему вторгаться в томсоновские «электрические заповедники», и ждал он от своего друга четкого и недвусмысленного разрешения вступить в эту область исследований и опубликовать полученные результаты. Он с нетерпением ожидал встречи с Томсоном в Глазго — туда его пригласил в сентябре сам Томсон. В сентябре 1855 года в Глазго должен был состояться ежегодный конгресс Британской ассоциации. И именно здесь должно было, по мнению Максвелла, состояться решающее объяснение между ним и Томсоном по поводу возможности его, Клерка Максвелла, вторжения в вожделенные чужие владения. Однако встреча та, казалось, сорвется — отцу становилось хуже, и в сентябре 1855 года Джеймс возвращается в Гленлейр. Оттуда к Томсону спешит письмо молодого Максвелла:
«Гленлейр, 13 сентября 1855
Дорогой Томсон!
...Если бы я увидел Вас в Глазго, то задал бы Вам ряд вопросов, которые некоторое время хранил про себя...
Я многое почерпнул из Ваших работ по электричеству, как непосредственно от Вас, так через Типографа и Издателя. Я использовал также другие виды помощи... Среди этого — фарадеевская теория полярности... а также его общие идеи относительно силовых линий с «проводящей способностью» различных сред относительно их.
Затем идет Ваше аллегорическое представление наэлектризованных тел как проводников тепла и Ваша теорема относительно ур-ния... (следуют математические выкладки).
Затем — амперовская теория замкнутых гальванических цепей, затем часть Вашей аллегории о несжимаемых упругих твердых телах и, наконец, метод... содержащийся в Вашей статье по магнетизму для К.О.31. Я изучаю также веберовскую теорию электромагнетизма и воспринял ее как математическую спекуляцию, в которую я не верю, но которая должна быть сопоставлена с другими и, несомненно, дает много правильных результатов, правда, ценой некоторых просто шокирующих допущений.
Сейчас я планирую и частично разрабатываю систему предложений относительно силовых линий, которые потом могут быть применены к электричеству, теплу, магнетизму или гальванизму, но которые сами по себе есть собрание чисто геометрических истин, облеченных в форму геометрических концепций линий, поверхностей и т.п.
...Поскольку не может быть сомнений в том, что в Вашем столе имеется математическая часть теории, все, что Вы должны сейчас сделать, это обнародовать Ваши результаты и разъяснить, что означают они по отношению к электричеству. Я думаю, что, если Вы сделаете это публично, это может ввести в обращение новый комплекс электрических идей и спасти нас от необходимости ненужного выдумывания.
Я не знаю Правил Игры и Патентных Законов науки. Возможно, ассоциация сможет сделать что-нибудь, чтобы зафиксировать их, но я, несомненно, намереваюсь сейчас браконьерствовать среди Ваших электрических символов...»
Максвелл деликатен, но он не в состоянии ждать еще годы, чтобы его идеям позволили вылиться наружу Правила Игры и Патентные Законы науки. «Электрические» мысли теснятся в его голове, ему уже видится стройная теория, в которую входят фарадеевские идеи близкодействия, их своеобразное воплощение Томсоном, амперовское магнитное действие замкнутых проводников с током. Он видит путь выхода из, казалось бы, безнадежного конгломерата идей и сведений, он находит путь, совершенно неожиданный и смелый. Геометр по характеру мышления, глубоко понимавший пространство, линии, кривые, точки, Максвелл решил описать форму фарадеевских силовых трубок посредством математических формул, сочетая такое описание пространства с основными электромагнитными идеями.
Трудно теперь, через столетие, утверждать, что так это было и на самом деле. Но верится именно в такой путь. У гениев нет напрасно засеянных делянок — однажды засеянное на них взрастает когда-нибудь необычным и диковатым цветком и оказывается незаменимой приправой к казавшейся прежде столь обычной и пресной идее. Многогранники школьника Клерка Максвелла, его глубокое увлечение формой некоторых сложных кривых, занятия поляризацией света и упругими свойствами тел буквально накануне занятий электрическими теориями не могли не быть рядом и в его мыслях, не могли не сплетаться в причудливых сочетаниях.
Ничто из занятий Максвелла не прошло всуе — «дьявол на двух палочках», волчки, цветовой ящик, картонные многогранники, цилиндры из желатина. Развитая в детстве, промелькнувшая в каскаде шаловливых детских писем способность сочетать, казалось, несочетаемое, искать неожиданные повороты, мыслить нестандартно, видеть глубокие аналогии вылилась рождением новой теории, мощной и жизненной.
Конечно, невозможно обойтись здесь без признания во всем этом, безусловно, важнейшей роли крестного отца — Вильяма Томсона, друга и умного соперника, роли, зачастую недооценивавшейся. Ранние статьи Томсона действительно содержат плодотворные идеи, воспламенившие мозг Максвелла, но их роль — роль вызова, роль встревоженного гонца, роль утренней песни военного трубача, призывающего к сражению...
Самая, пожалуй, большая заслуга Томсона — это то, что ему первому удалось показать: используя «непонятные» силовые линии, можно прийти к тем же правильным результатам, к которым приводила теория дальнодействия.
БРИТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ, ГЛАЗГО, 1855
Максвелл надеялся прибыть в Глазго к 24 сентября; успеть на ежегодную встречу Британской ассоциации и убить тем по меньшей мере двух зайцев — выяснить «электрические» отношения с Томсоном, а заодно послушать, что скажет знаменитый Брюстер об оптических теориях мастера Тринити — Уильяма Вевелла, на счет которых Джеймс имел свое собственное мнение. Начиная с первого же трактата Вевелла, относящегося к поискам бога во вселенной, полной реальных астрономических тел, Брюстер стал его личным критиком. Нужно сказать, что в тот раз убийственную критику Брюстера в «Эдинбургском ревью» приходилось признать правильной.
Но столь же сурово отнесся Брюстер и к основному труду Вевелла — «Истории индуктивных наук», в которой тот попытался проследить историю всего естествознания. Любая задача такого масштаба, конечно, заранее обречена на критику — всегда найдутся люди, знающие ту или иную частность лучше.
Брюстер безжалостно раскритиковал «Историю», как и ожидалось, в том же «Эдинбургском ревью» в 1837 году. Точно так же он поступил и с «Философией индуктивных наук» Вевелла, разгромив ее в том же журнале в январе 1842 года. Новая книга Вевелла — «О множественности миров», в которой он отрицал возможность существования других обитаемых миров, была издана уже анонимно, без указания автора, но проницательный Брюстер разглядел знакомый почерк своего старого научного противника и тут же разнес ее, впрочем, вполне справедливо.
(Странная вещь эта научная «вражда»! После смерти Вевелла в 1866 году о нем появилось три статьи с воспоминаниями — причем, по единодушному мнению, воспоминания Брюстера, опубликованные в «Трудах Эдинбургского королевского общества», там, где Джеймс опубликовал свою первую статью, были наиболее теплыми и искренними.)
Когда Максвелл прибыл в Глазго, выяснилось, что Томсон совершенно неуловим, что ни Джемимы, ни ее мужа, профессора Блекбурна, в Глазго нет, и Джеймса стали опекать профессор Рамзай и его жена. Рамзай был дружен с Брюстером и ожидал его в гости после заседания 18 сентября. И именно это случайное обстоятельство, как оказалось, помешало Джеймсу выступить на заседании со своей теорией трех цветов, которая в качественном отношении была близка теории Гельмгольца (все цвета суть порождение трех основных), но была единственной, с помощью которой можно было количественно определить точные численные законы сложения цветов, на которых впоследствии будут основаны все другие теории цвета.
На заседании сэр Давид Брюстер говорил о тройном спектре. Он был убежден в том, что спектр составлен из трех цветов — красного, синего и желтого, а все промежуточные цвета суть порождение их сочетаний, например, зеленый есть смесь синего и желтого.
Джеймс сидел как на иголках. Его так и подмывало встать и показать всем свой цветовой волчок, с помощью которого можно было легко опровергнуть тезисы Брюстера. Однако вечером того же дня Брюстер ожидался у Рамзая, и Максвелл мог продемонстрировать цветовой волчок и там, чтобы не выглядеть слишком развязным на заседании.
Дальше Брюстер перешел к критике других теорий цветов и наиболее подробно остановился на взглядах Вевелла. Он выразил Вевеллу свое глубокое сочувствие по поводу его болезни и прямо на заседании порекомендовал обратиться к профессору Вертману в Женеве, крупнейшему в мире специалисту, который один только может помочь бедному мистеру Вевеллу, страдающему, очевидно, цветовой слепотой.
Грохоча пюпитрами, багровый Вевелл вылетел из зала, чтобы избежать публичной ссоры, и Джеймсу после этого осталось только ждать конца заседания и вечера, чтобы в спокойной обстановке изложить свои взгляды по теории цветов и доказать их с помощью цветового волчка.
После Брюстера дерзнул выступить лишь осторожнейший и дипломатичнейший Стокс, который сделал несколько вежливых замечаний по теории Брюстера, довольно безобидных; но распалившийся Брюстер решил, что Стокс подвергает сомнению точность его экспериментов. Он так и заявил репортерам газет.
Вечером Джеймс с цветовым волчком был у Рамзаев, однако Брюстер не явился, неизвестно по каким причинам. С Томсоном также встретиться не удалось, и только буквально накануне отъезда Джеймс получил от него приятное письмо.
По пути из Глазго в Кембридж, на станции в Холбруке, возле Дерби, Джеймс пишет отцу письмо, где после описания заседания делает приписку:
«Я привожу в порядок свою электрическую математику, и мне уже ясны некоторые вещи, которые прежде были довольно туманными; но мне не хватает времени на это, поскольку сейчас я много читаю по теплу и жидкостям, чтобы не наврать в моих лекциях... Получил длинное письмо от Томсона о цветах и электричестве. Он начинает верить в мою теорию относительно того, что все цвета можно свести к трем стандартным, и он очень рад, что я буду браконьерствовать в его электрических заповедниках...»
Великая вещь — дружба, особенно научная дружба!
Вильям Томсон, будущий лорд Кельвин, разрешает своему молодому собрату по науке и другу Джеймсу Клерку Максвеллу поохотиться в его заповедных угодьях и благородно сообщает ему не известные еще никому места, где водится наиболее крупная дичь. Более того, в некоторых случаях дичь уже взята на мушку...
«Электрический браконьер» возвращается в Кембридж, чтобы сдать экзамены на право стать досточтимым «феллоу» колледжа — членом совета колледжа. Экзамены сур вы, но Максвелл легко выдерживает их и становится одним из трех математиков-бакалавров, которые стали членами колледжа, будучи бакалаврами всего лишь второго года.
С сентября 1855 года Максвелл — член совета колледжа, «феллоу». Это большая честь — теперь он обедает за высоким столом в Тринити-холле, переместившись с более низкого стипендиатского стола. Но и новые обязанности: он берет на себя обет безбрачия! Монастырские законы Кембриджа суровы, хотя в двадцать четыре года обет безбрачия не кажется чем-то сильно обременяющим.
Новый «феллоу» сразу назначен читать труднейшие главы курсов гидростатики и оптики наиболее способным студентам третьего года — отнюдь не легкое занятие. Приходится отказаться, «чтобы не наврать в лекциях», от частных учеников. А нужно еще готовить к экзаменам по арифметике, алгебре и т.п. «пассменов», готовить им вопросники и просматривать их сочинения.
И еще одно занятие, отвлекающее от электрических теорий, но отнюдь не бесполезное, — работа над предложенной Макмилланом книгой по оптике. Он составил несколько планов и написал часть рукописи этой книги.
Большие потери времени на «Оптику» и лекции, подготовку к ним отвлекали его от главного сейчас — от электромагнитных теорий. Отцовское «Не позволяй ручью бить в берега» стояло перед ним, и, однажды заявив: «Я не намерен иметь ничего общего с оптикой!», он забрасывает начатую рукопись и снова принимается за Пуассона и систематизирование своих собственных идей относительно фарадеевских силовых линий.
После столь счастливого оборота дела с Томсоном Джеймс получил возможность обнародовать свои мысли по электродинамике.
Первый «электрический» год Джеймса заканчивался его докладом в Философском обществе Кембриджа. Он пишет отцу:
«Трин. Колл. 11 декабря 1855
Вчера вечером прочел лекцию о силовых линиях в Философском. Отложил вторую часть на следующий семестр. Я нарисовал целую кучу линий с помощью простой уловки, сделав это довольно точно без всяких вычислений...»
Он чувствует себя внутренне обязанным Томсону, первому математику, признавшему силовые линии Фарадея, показавшему, что с помощью этой «дикой» концепции могут быть получены правильные результаты, не противоречащие проверенным на опытах результатам сторонников «дальнодействия».
Однако не все нравится Джеймсу в теории Томсона — в ней силовые линии исходили из полюсов магнитов и заряженных тел, как от нагретого тела исходит тепло: Томсон построил свою электрическую модель на основе тепловых аналогий. Джеймсу электрические явления тепловых не напоминали; движение электричества напоминало ему быстрый бег ручьев, спокойное течение Кема, загадочные воронки и водовороты.
Джеймс принял другую модель — силовые линии уподоблялись течению некой несжимаемой жидкости, и эта жидкость, казалось, кровью наполняла абстрактные силовые линии и трубки, давала им реальную силу, делала их упругими, похожими на мышцы...
...Да, Максвеллу «ток» электричества и магнетизма напоминал течение реки, несущей свои воды спокойно и степенно, когда далеки берега, ревущей в стремительном потоке, когда она стеснена скалами, вихрящейся в водоворотах, втягивающих в себя желто-зеленые листья, сметенные осенним ветром с каменных мостовых Кембриджа...
Несжимаемая жидкость, и похожая и непохожая на воду, — таков в первой статье Максвелла образ электричества.
Электрогидравлическая аналогия увлекла Максвелла, быть может, и потому, что на ее непротоптанной тропе он все-таки не чувствовал себя совсем одиноким. Где-то впереди почти физически ощущал Максвелл плотную спину своего предшественника Ома.
Георг Симон Ом, видимо, первым воспользовался представлениями гидродинамики для объяснения законов электрического тока. И как в гидродинамике количество жидкости, проходящей в единицу времени через трубку, пропорционально гидравлическому напору и обратно пропорционально гидравлическому сопротивлению, так и у Ома сила тока была пропорциональна напряжению между концами проводника и обратно пропорциональна его сопротивлению.
Такая аналогия была очень кстати Максвеллу. Там, в гидродинамике, была уже разработана теория трубок, в которых течет жидкость. При сужении сечения трубки скорость течения жидкости в ней увеличивалась.
Подставив вместо скорости величину электрической или магнитной силы, Максвелл пришел к своей электрогидравлической аналогии. Различие в давлениях жидкости представляло различие в электрическом давлении, или «разность потенциалов». Через эластичные стенки передавалось от трубки к трубке давление. Так моделировалась электростатическая индукция. Теперь пространство между зарядами или магнитными полюсами Максвелл заполнял гипотетической жидкостью, текущей по силовым трубкам. Некоторые трубки замкнуты сами на себя, и в них свершается постоянная циркуляция жидкости. А некоторые трубки не замкнуты, и в них «жидкость на одной стороне постоянно восполняется из неизвестного источника, а на другом — втекает в неизвестный резервуар».
Оказалось, что струи несжимаемой жидкости, текущей вдоль силовых линий, жидкости несжимаемой и невесомой, приводили через формулы гидродинамики, по сути дела, к тем же результатам, что и электротепловые аналогии Томсона и теории великих французов и немцев.
Воззрения Фарадея о силовых линиях оказывались вполне жизнеспособными, и в доказательстве этого Максвелл видел основную ценность своей статьи. Ибо жизненной оказывалась сама глубоко материалистическая идея силовых линий, идея близкодействия, в котором передача воздействия требовала времени.
Силовые трубки, заполненные движущейся несжимаемой жидкостью, легко объясняли опыт Фарадея, обнаружившего влияние диэлектрика, промежуточной непроводящей среды, на процесс зарядки конденсатора. В рамки теории Максвелла легко и просто укладывались понятия о сопротивлении, испытываемом струями жидкости. Сопротивление, по Максвеллу, естественным образом зависело от свойств материала, через который проходила неизвестная жидкость.
...Но закрадывается в душу червь сомнения. Не было ли обращение Максвелла к несжимаемой невесомой жидкости возвратом назад — к «тепловой жидкости», теплороду, «флогистону», к старым, недоброй славы жидкостям, которыми некогда заполняли все тела?
Конечно, нет! Максвелл не считал свою модель гипотезой. Он искал аналогию, образ. Он не искал гипотезы. Пока. Считал, что автор гипотезы смотрит на все с предубеждением, стремится во что бы то ни стало подогнать к ней факты. Что автор ее зачастую слеп по отношению к фактам.
Но нельзя отказываться от моделей, аналогий. Максвелл горячо оправдывает эту точку зрения. Хотя она в оправдании не нуждается.
Зная законы одной отрасли знания, одной науки, и усмотрев формальную аналогию ее законов с законами иной науки, можно было бы ожидать наличия и во второй науке закономерностей, присущих науке первой.
Электрогидравлическая аналогия позволила Максвеллу в осязаемых механических образах силовых трубок и линии представить явления электростатики, магнитостатики и электрического тока. Но в эту теорию пока никак не укладывалось открытое Фарадеем явление электромагнитной индукции.
ЗАМАНЧИВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФОРБСА
Отец часто говорил о своей скорой смерти, и Джеймс, хотя и переводил всегда разговоры на другую тему, не мог не видеть, что здоровье отца ухудшается. Максвелл пользовался любой возможностью побыть вместе с ним. Зимой 1856 года он перевез отца в Эдинбург, ближе к столичным врачам, на попечение тетушки Джейн. Отцу стало как будто лучше, и в феврале Джеймс вернулся в Кембридж. Он писал отцу чуть не каждый день (это было всегда, но сейчас перерывы были просто немыслимы), описывал свои занятия.
«Трин. 14 февраля 1856
Вчера Рэй-клуб собирался у Хорта. Я взял туда свой большой волчок и вращал его вместе с укрепленными на нем окрашенными образцами. Я задумал сделать волчок с большими возможностями разнообразных движений, но пока еще я разрабатываю теорию, так что подожду осуществлять этот план, пока не узнаю необходимых размеров...»
Планов было много, но однажды пришло письмо, смешавшее их, заставившее подумать о своем будущем, об отце, о Шотландии. Его старший друг, эдинбургский профессор Форбс, уже десять лет, со времен первого научного доклада Джеймса, опекавший его, прислал письмо, в котором делился новостями.
«Эдинбург, 13 февр. 1856
...Вы, возможно, не слышали о том, что умер м-р Грей, профессор натуральной философии в Маришаль-колледже, Абердин...
Не знаю, представляет ли для Вас интерес сложившееся положение, но я подумал, что должен упомянуть о нем, поскольку было бы жаль, если бы эта вакансия не была бы заполнена шотландцем, и Вы, как мне кажется, лучше всего подходите для этой должности.
Не вообразите из моего письма, что я обладаю в этом деле малейшим влиянием или имею в виду какие-нибудь личные выгоды, помимо блага и процветания шотландских университетов.
Эта должность находится в ведении Короны. Нужно обращаться к Генеральному прокурору в Шотландии — Лорду-Адвокату и к Министру внутренних дел. Я не знаком ни с тем, ни с другим.
В отчете специальных уполномоченных за 1830 год указано, что установленное жалованье составляет около 350 ф. ст. в год...
И другое. Я считаю, что Вы, несомненно, должны быть членом Эдинбургского королевского общества. Мне будет приятно предложить Вашу кандидатуру, если Вы этого желаете».
Не каждому суждено иметь в жизни такого друга, и Максвелл с благодарностью вспомнил тот день, когда его познакомил со знаменитым Джеймсом Форбсом отец, вспомнил, как Форбс прочел за него его первое сообщение в том самом Эдинбургском обществе. Предложение было заманчивым — самому стать Доном, профессором! Но главное было даже не в этом. Абердин — это Шотландия. Там близко и Эдинбург и Гленлейр. А это позволит ему чаще бывать с теряющим силы отцом.
«Джеймс Клерк Максвелл — отцу
Трин. Колл. 15 февр. 1856
Профессор Форбс сообщил мне, что должность профессора нат. фил. в Маришаль-колледже, Абердин, вакантна вследствие смерти м-ра Грея. Он спрашивает, буду ли я использовать сложившуюся ситуацию. Мне хотелось бы знать, какова твоя точка зрения и план действий.
Что касается меня, то я, со своей стороны, считаю, что чем скорее я начну регулярно работать, тем лучше, и что лучший способ влезть в такую работу — это заявить во всеуслышание о своей готовности подать заявление».
Было, конечно, кому похлопотать за Максвелла и в верхах — дядюшка сэр Джордж Клерк, тайный советник королевы, секретарь казначейства и попечитель монетного двора, член Королевского общества, мог бы порадеть за племянника, но что-то, видимо, легло между братьями Джоном и Джорджем. Несходство характеров, судьбы, благосостояния. Седьмой баронет оф Пеникуик был женат на кузине графа Элленборо, а не на какой-то дочери судьи, как его брат Джон, жил на Итон-сквер в Лондоне, а не в какой-то шотландской глуши. Больно уж они были разными, эти люди, — величественный аристократ сэр Джордж и сельский джентльмен эсквайр Джон Клерк Максвелл. Не сочли нужным обращаться к сэру Джорджу отец и сын Максвеллы, списали это для себя как то, что не хотели мешать дядюшке в проведении избирательной кампании — нелегко было получить место в парламенте от Дувра. Решили, что не стоит разыгрывать из себя бедных родственников.
«Джеймс Клерк Максвелл — отцу
Трин. Колл. 20 февраля 1856
Что касается рекомендаций, то их написание идет полным ходом, и если ты веришь в рекомендации, ты можешь подумать, что от правительства зависит сейчас, будет триумф или развал в области образования вообще, в соответствии с тем, изберут они какого-то имярек или нет...
Делаю большие стереоскопические картинки для своих лекций... Намереваюсь выбрать некоторые из них, нарисовать их очень аккуратно в размере обычных стереоскопических картинок, написать пояснение к ним и опубликовать их как математические иллюстрации. Я собираюсь сделать одну из таких картинок прямо сейчас, чтобы проиллюстрировать теорию контурных линий на картах и показать, как должны течь реки и где должны быть линии водораздела...»
Практичному мистеру Джону сейчас вовсе не до водоразделов рек, хотя в другое время он с удовольствием бы обсудил эту тему — мистер Джон Клерк Максвелл стремится дать сыну последние советы:
«22 февраля 1856
...Там не такое уж плохое жалованье, однако гонораров и учеников, мне кажется, будет не слишком много. Ну а если ты получишь это место и оно тебе не понравится, ты сможешь оставить его. Во всяком случае, ты будешь занят там не более полугода в году».
Но Джеймс не перенял еще всей «практичности» отца, не стал «разумным» в отцовском понимании. Он многосторонен, неограничен, у него много друзей, он занимается несколькими предметами и темами сразу, он ждет ответа от правительственной канцелярии и находит еще время для преподавания в рабочих колледжах — несомненное влияние Мориса:
«Джеймс Клерк Максвелл — отцу
Трин. Колл. 12 марта
Был сегодня в колледже для рабочих, проходили с ними десятичные дроби. Мы организуем курсы для уже довольно взрослых юношей, чтобы подготовить их к вступительным экзаменам, агитируем в пользу раннего закрытия магазинов. Мы добились этого у всех торговцев скобяными изделиями и у всех обувщиков, кроме одного. Продавцы книг сделали это уже давно. Питтовская пресса32 поддерживает поздние часы, нужно будет написать петицию и собрать подписи, чтобы она заткнулась.
Я только что написал тезисы второй части моей статьи о фарадеевских линиях сил. Надеюсь вскоре написать статью, которой соответствуют эти тезисы. С тех пор как я прочел мемуар, прошло четыре недели, а я еще ничего не сделал в этом направлении, но как раз сейчас я начинаю чувствовать, что на меня снова находит электрическое состояние. Надеюсь сделать эту работу в следующем семестре...»
СМЕРТЬ ОТЦА
А письма отца приходят все реже и реже... И вот Максвелл, не в силах больше ждать вестей, спешит к нему, Джеймс спешит в Эдинбург, где еще так недавно оставил отца в довольно благополучном состоянии. Так оно казалось и по приезде. Клерк Максвелл-старший был полностью в курсе дел сына. (Да и как могло быть иначе? Он ими жил.) И казалось, именно вакансия в Абердине поддерживала в нем сейчас живость духа и бодрость.
После нескольких дней в Эдинбурге отец и сын, как некогда мистер Джон с Франсез, своей женой, пересекли всю Шотландию, проделав, казалось бы, обычное путешествие из Эдинбурга в Гленлейр. Но отец был слаб сейчас — не то что четверть века назад, и Джеймс внимательно следил за его состоянием.
Однако все обошлось, мистер Джон и Джеймс благополучно прибыли в Гленлейр, были встречены уже постаревшими Сэмом Мурдохом и Сэнди Фразером, их чадами и домочадцами. Все, казалось, было как раньше, и ничто не изменилось... Остаток каникул близился к концу, Джеймс уже должен был возвращаться в Кембридж, когда отец внезапно скончался. Это случилось в четверг, 2 апреля.
«Джеймс Клерк Максвелл — Джемиме
Миссис Блекбурн оф Киллеарн
Гленлейр, четверг
Дорогая миссис Блекбурн, отец умер сегодня в 12 часов. Он давал указания насчет сада, а потом сказал, что посидит и отдохнет немного, как обычно. Через несколько минут я попросил его лечь на софу, и мне показалось, что он не в силах это сделать. Тогда я решил дать ему немного эфира, который помогал ему раньше.
Но он не успел принять лекарства; непродолжительная агония — и все было кончено. Больше он уже не дышал...
А ведь мы все считали, что ему сейчас лучше, чем в Эдинбурге. Он был очень рад снова вернуться сюда.
Вы можете сказать об этом м-с Веддерберн. Она должна знать, и я прошу Вас сообщить ей об этом таким образом, чтобы не причинить ей боль и страдания. Скажите ей, наоборот, что он был рад тому, что он оставляет все в полном порядке, и тому, что он снова у себя дома.
Я попросил дядю Роберта приехать и помочь мне в разных вещах, поскольку чувствую себя сейчас одиноким. Разумеется, я написал сэру Джорджу и напишу другим родственникам, как только смогу.
Ваш любящий кузен
Джеймс Клерк Максвелл».
Внешне, казалось, он был спокоен. Спокойным, твердым голосом давал указания. Дядюшка Роберт старался не оставлять его одного, занимал непрерывными разговорами и вытаскивал два раза в день на воздух под предлогом того, что его, дяди Роберта, здоровье может ухудшиться, отвлекал разговорами о прореживании посадок овощей и прочих злободневных делах...
Джеймс был спокоен. Внешне. Но трудно представить себе, что это была для него за потеря. Отец заменял ему одновременно весь род, был за обоих родителей, сочетал в себе мудрость отца и нежность матери. Это был друг и советчик. Не помнивший матери, Джеймс сосредоточил на отце всю свою любовь и нежность.
Смерть настраивает на философские размышления, и так непохож Джеймс Клерк Максвелл сейчас на того Джеймса Клерка Максвелла, который описан после его смерти Льюисом Кемпбеллом! Смерть отца отнюдь не приблизила Максвелла к богу, она дала почувствовать ложь прекрасных слов...
...С каждым днем она дороже - слабость наших бренных дней, И все нимбы серафимов так ничтожны, так ничтожны рядом с ней! Да, я знаю, что те, кто встречает меня, - не созданья ума И тела у них смертны, и страшная боль им дана...НАЗНАЧЕНИЕ В АБЕРДИН
Максвелл вернулся в Кембридж в середине апреля. Все как будто оставалось по-прежнему, даже абердинский вариант. Правда, теперь Абердин терял одно из своих основных преимуществ — быть к отцу поближе. Но оставались другие преимущества — регулярная преподавательская работа и большие возможности выдвинуться именно в шотландском университете.
Да, как ни странно это звучит, в Кембридже Джеймс Клерк Максвелл, будущая краса и украшение Англии, встретился с откровенной дискриминацией. Будь его отец победнее, ему бы пришлось столкнуться с дискриминацией сразу — ему просто не удалось бы поступить в Кембридж, не имея возможности выплачивать многие сотни фунтов в год; но Джеймс был потомственным аристократом, а имение в Шотландии приносило доход, позволявший единственному отпрыску рода мистера Джона Клерка Максвелла благополучно учиться в университете, не думая о хлебе насущном.
Дискриминация была в другом — она уходила корнями в истоки противоречий между Англией и Шотландией, во взаимоотношения кровавой Елизаветы и не менее кровавой Марии Стюарт, в противоборство церквей. Если степень бакалавра в Кембридже мог получить с некоторых пор англичанин любого вероисповедания, то уже степень магистра, как и все последующие, мог получить только правоверный англиканин.
И поэтому для Джеймса, вероисповедание которого было весьма сложным, в Кембридже возникало вполне объективно препятствие для роста, и в связи с этим абердинский вариант приобретал весьма весомые преимущества. Националистические и религиозные противоречия здесь уже играли на руку Джеймсу — в Абердине желали шотландца.
А вскоре Джеймс получил новое письмо от Форбса.
«Бридж оф Аллан, 30 апреля 1856
Мой дорогой сэр, я только что прочел в газете, что Вы назначены на кафедру в Маришаль-колледж, с чем я позволю себе искренне поздравить Вас...
Поверьте, всегда искренне Ваш
Джеймс Д.Форбс».
Итак, кафедра за ним! Настоящая кафедра физики, или, как ее тогда называли, натуральной философии! Ни в одном из университетов Англии, включая Кембридж, отдельной кафедры физики не было, и именно в шотландских университетах физика несколько ранее приобрела права гражданства. Поэтому Джеймс сразу же оказывался на довольно-таки уникальной в университетском мире должности, тем более в родных местах, где его особенно уважали и любили. В ученом мире Шотландии наперечет знали «старших» и «вторых спорщиков» Кембриджа — выходцев из родных мест. Возможно, отчасти и этим объяснялся успех Джеймса на абердинском конкурсе.
Предабердинское лето было проведено в Гленлейре. Джеймс стремился завершить все отцовские планы, содержать имение в порядке, но ему не хватало здесь двух вещей: друзей и работы. Он приглашает в имение друзей и родственников.
Джеймс Клерк Максвелл — Р.Б.Литчфильду, эскв.
«Гленлейр, 18 мая 1856
Я могу пообещать тебе и молоко, и мед, и барашка, и ветер, и воду — и еще в придачу не очень многочисленную, но колоритную группу туземцев».
Летом к Джеймсу приехали два его кузена Кеи, простодушный и велеречивый Макленнан, легко простивший Максвеллу свое поражение в абердинском конкурсе, и Лушингтон. Джеймс как мог развлекал их — водил в «дьявольские» горы, ездил с ними верхом, но главное — заставлял их вместе с ним испытывать новую придуманную им «транспортабельную цветовую машину», волчок и цветовые диаграммы.
И еще: он стал подумывать о новой теме, предложенной в 1855 году Кембриджским университетом на соискание премии Адамса, и работа эта была сравнима по сложности с работой самого Адамса. Требовалось теоретически выяснить природу колец Сатурна. Работа была верхом сложности для математиков-прикладников и в силу своей трудности и ясного физического смысла представляла для Джеймса громадный интерес, особенно если учесть его недавние увлечения волчками и теорией вращения. Еще в Гленлейре начал он «возиться с Сатурном», с этим жестоким стариком с косой, пожирающим своих детей. Но главная часть работы была проделана все-таки потом в длинные и скучные абердинские вечера.
В октябре нужно было уже быть в Абердине и приступать к чтению лекций, а вступительная речь нового профессора еще не была готова.
«Джеймс Клерк Максвелл — Сесилю Монро, эскв.
Гленлейр, 14 октября 1856
...Сейчас я пишу торжественный манифест для физиков Севера. Боюсь, придется не раз прибегать к помощи кофе и анчоусов, и ревущего жаркого камина, и расправленных сюртучных фалд, чтобы сделать это обращение естественным. Между прочим, я доказал, что, если бы было девять коэффициентов магнитной индукции, установилось бы вечное движение и небольшая кристаллическая сфера неминуемо разрушила бы всю вселенную за счет увеличения всех скоростей до тех пор, пока трение не привело бы всю природу в состояние белого каления...»
А уже нужно было ехать в Абердин.
Часть III. АБЕРДИН. 1856-1860
Не огромность мира вызывает восхищение, а человек, который измерил его.
Блез ПаскальДЖЕЙМС КЛЕРК МАКСВЕЛЛ ЗАСТУПАЕТ НА КАФЕДРУ В АБЕРДИНЕ
Через сто лет после того дня, как Джеймс Клерк Максвелл начал работать на кафедре натуральной философии в абердинском Маришаль-колледже, в портретной галерее упомянутого колледжа состоялось знаменательное для Абердинского университета событие — открытие бюста величайшему ученому.
Это было в понедельник 15 октября 1956 года. На торжественный митинг собрались студенты университета, профессора, гости, приглашенные из Кембриджа и Лондона. Председательствовал Принципал университета. А выступал кембриджский, специально для этого приехавший мастер Корпус Кристи-колледжа сэр Джордж Пагет Томсон. И все понимали, какая честь была оказана Абердинскому университету, когда на одну из его кафедр заступил Джеймс Клерк Максвелл.
Сто лет назад это не казалось столь очевидным... Тогда еще не были известны даже основные направления его грядущих исследований...
В жизни Джеймса Клерка Максвелла нет яркой сюжетной канвы, вся она заключена в его мышлении — и там уже не полноводная широкая река, плавно несущая свои воды в заранее заданном направлении, но скорее дельта великой реки — еще более полноводная, но разбитая на миллионы протоков, соединяющихся замысловатым образом один с другим, вливающихся друг в друга, образующих обитаемые и необитаемые острова...
Лишь ретроспективно, через сотню с лишним лет, абстрагируясь от многого, не упоминая о чем-то второстепенном, можно проследить тенденцию этого устья, направление его стока. Но имеем ли мы на это право? Не обязаны ли мы, отдавая себе отчет в главных и второстепенных занятиях гения, отбросить второстепенное и никогда, скажем, не упомянуть о глазном зеркале Максвелла, его стереоскопических приборах, о занятиях цветным зрением, которые были в его творчестве все-таки чем-то второстепенным? Не отсечем ли мы, отметая эти моменты его жизни, самую суть его гениальности, черпающей вдохновение в самом неожиданном? Разве можем мы, сказав однажды: «Максвелл всегда был в великой работе ума», не описывать ее каждодневность и разносторонность, даже если это принесет ущерб цельности и связности повествования?
Разве эссе и стихи Максвелла меньше говорят о нем, чем непосредственно «Трактат об электричестве и магнетизме» и многие статьи?
Опасная вещь — описание жизни гения. Стоит выпятить одну из его сторон, как образ теряет правильные пропорции, искажается, и перед читателем предстает совсем иной человек, может быть, более рациональный, правильный и симпатичный, но другой, а нам нужен тот, изначальный.
По-видимому, самое мудрое для того, кто дерзнул взяться за биографию великого человека, — это больше доверять документам и беспристрастным свидетельствам, чаще использовать их для доказательства своей концепции и не упускать ничего, каким бы маловажным оно поначалу ни казалось. Поэтому, может быть, в нашем описании будет иной раз отсутствовать последовательность и стройность. Не негодуй, читатель. Здесь автор следовал за Джеймсом Клерком Максвеллом, не избравшим еще тему исследований, Джеймсом Клерком Максвеллом мятущимся, сомневающимся, чье творчество, мощное, как устье великой реки, еще не определило точно, где его исток, а где назначение...
И была еще одна, может быть, незаметная сразу особенность обстановки этого небольшого митинга, состоявшегося через сто лет после того дня, как Джеймс Клерк Максвелл переступил порог Маришаль-колледжа. Секрет прост: сэр Джордж, да и все собравшиеся в тот день вокруг него и бюста Клерка Максвелла работы Пилькинтона Джонса, — шотландцы, и шотландский акцент явно слышится во всех торжественных речах.
Действительно, если число знаменитых инженеров и ученых-шотландцев отнести ко всему населению Шотландии то получившаяся цифра будет значительно превышать аналогичную величину для Великобритании. Может быть, действительно, как говорил физик Д.Макдональд, в шотландском характере заложены некоторые черты, «показанные» ученым.
«Я подозреваю, — пишет он, — что постоянная неопределенность климата, хотя и с редкими крайностями, сыграла свою роль в формировании людей недоверчивых, скептиков, людей, с трудом поддающихся убеждениям, — короче, «осторожных» шотландцев. По-видимому, во многих отношениях эти черты являются хорошей основой для того, чтобы стать ученым».
Может быть, Макдональд и прав, но доверять его утверждениям без остатка не стоит — ведь предательская приставка «Мак» в его фамилии с головой выдает в нем коренного шотландца.
Так это или не так, но среди шотландцев, пришедших с хайлендских холмов, с лоулендских низин, гораздо больше ученых и инженеров, чем это можно было бы ожидать, исходя из сравнительно небольшого населения этой страны. Среди них — имена Джеймса Айткенса — видного метеоролога, ольстерского шотландца Вильяма Томсона, впоследствии лорда Кельвина, новозеландского шотландца Эрнеста Резерфорда, впоследствии лорда Резерфорда, Бальфура Стюарта, одного из первооткрывателей спектрального анализа, Вильяма Дж.М.Рэнкина — виднейшего термодинамика, сэра Вильяма Рамзая — нобелевского лауреата, открывшего гелий и неон, сэра Давида Брюстера — автора «закона Брюстера», но больше известного в качестве изобретателя детской игрушки, немногословного, сэра Джеймса Дьюара — изобретателя «сосуда Дьюара», попросту — термоса, и первого, кто превратил в жидкость водород, и, конечно, величайшего из всех Джеймса Клерка Максвелла, который, по словам Эйнштейна, «изменил весь аксиоматический базис науки»...
Но не известен никому пока Максвелл, кроме шотландских почитателей, не родился еще Эйнштейн, которому впоследствии придется сказать эти немалозначащие слова. А пока мы лишь можем представить себе, как молодой, двадцатипятилетний черноволосый и кареглазый Джеймс Клерк Максвелл появляется в октябре 1856 года на земле своих предков, в Абердиншире, в Шотландии, на улицах северного шотландского порта, «города над серым Северным морем», древнего Апардиона, Абердонии, Абердина. В «Философском журнале» в Кембридже осталась рукопись статьи о фарадеевских силовых линиях. В бумагах, которые он везет с собой, — чертежи волчка, призванного доказать его теорию вращения, и наброски теории колец Сатурна.
Джеймс Клерк Максвелл, двадцати пяти лет, победив на конкурсе своих многочисленных соперников, назначен профессором в Маришаль-колледж, Абердин, на кафедру натуральной философии, или, как сказали бы теперь, заведующим кафедрой физики.
Идет молодой и интересный внешне Джеймс Клерк Максвелл, профессор натуральной философии, от дома 129 на Юнион-стрит, мимо матери шотландских церквей — кирки святого Николая, мимо старинных Широких ворот к месту бывшего францисканского монастыря, где размещается Маришаль-колледж оф Абердин.
Он идет по утренней тихой улице, одной из центральных, но тихой, и спокойной, слегка провинциальной, по тем местам, где некогда грабили и насильничали викинги, где дымом костров, на которых горели ведьмы, застилало небо. Под этими арками и в этих дворах вершилась шотландская история — здесь ступал Вильям Лев, Роберт Брюс, Мария — королева Скоттов, на этой земле привечали восьмилетнюю «норвежскую невесту» и где-то в этих краях хоронили ее.
История делалась здесь, на холодном северо-востоке Шотландии, на междуречье и в устье рек Дона и Ди, на берегах залива и неизбежного шотландского «лоха» — озера между скал, некогда отделившегося от моря.
Джеймс тоже приехал делать историю, но не подозревал об этом. Пока он дивился историческим камням, интересовался историей своего колледжа. Почему Маришаль? Не королевский — Кингс, не Королевы — Квинс, не тела Христова — Корпус Кристи, не троицы, наконец, — Тринити? Почему наречен он смертным именем Маришаль?
И это тоже оказалось историей, причем в ней Джеймс нашел и отголоски истории своей семьи, семьи Клерков.
Ярый католик, шотландский король Вильгельм разрешил бездомным монахам, «красным фрайерам», красным монахам, членам тринитарианского ордена, поселиться в 1211 году в Абердине, дал им земли и разрешил ловить рыбу в Ди и Доне, а там шел тучами лосось, монахи богатели. Затем пришли черные монахи — «черные фрайеры» — доминиканцы, белые монахи — кармелиты, серые — францисканцы, и все они построили себе монастыри и дома, и так продолжалось долго, и особенно хорошо было им при ревностной Марии Стюарт. Но недолго было ее правление — всего семь лет. А потом наступили тяжелые времена — король Джеймс VI хартией от 30 декабря 1567 года упразднил все привилегии «братьев», все католики и сторонники Марии Стюарт вынуждены были прятаться в горах или бежать во Францию, к «истинно католическому» королю, и с ними из Кильгентли в Баденоге бежал куда-то капитан Джон Клерк, древнейший известный предок Джеймса Клерка Максвелла.
Единственный сын Джона Клерка, Вильям, был скромным и незаметным купцом в Монтрозе, а уже его сын, Джон, был человеком необычайно активным и деятельным, с сильной торговой сметкой. Двадцати трех лет он развил бурную торговлю в Париже. Разбогатев, вернулся на родину, в Шотландию. Деньги могли сделать все — и Джон Клерк, процветающий тридцатилетний купец, купил не только земли в Пеникуике, но и звание барона!
Бурные были времена. Едва удержали Клерки Пеникуикское поместье, а баронство у них было отобрано. А затем уже сын Джона Клерка, купца, тоже Джон Клерк, пожалован был за преданность Стюартам званием баронета новой Шотландии. Он и был первым пеникуикским баронетом, членом парламента Шотландии — Джон Клерк, с которого берет начало ветвистое генеалогическое древо Клерков. Семейное древо Джеймса Клерка. Джеймса Клерка Максвелла. Просто Максвелла.
Переход на чужую фамилию — Максвеллов был для Джеймса в известной мере случаен: где-то в гуще веков на древе Клерков привита была ветвь Максвеллов: один из Клерков, Вильям, когда-то женился на Агнес Максвелл, бедной наследнице славного шотландского рода, прославленного в балладах. Агнес Максвелл привнесла в семью и имение Миддлби, где сейчас был Гленлейр, и фамилию Максвелл, которую теперь добавляли к своей фамилии Клерк все мужчины из рода Клерков, которые владели имением Миддлби.
Так Джеймс и стал Джеймсом Клерком Максвеллом, сейчас — молодым профессором Абердинского университета, Маришаль-колледжа, ступившим через три столетия на землю своих предков, первым из которых был капитан Джон, бежавший вместе с монахами из абердинских краев в 1568 году.
А вот Томас Грей, приор серых монахов, был не так прост, чтобы бежать как заяц, спасаясь от преследований. Еще до Марии, учуяв в тревожном и сыром шотландском воздухе опасные веяния, приор вместе с несколькими верными братьями погрузился тайно на корабль и отчалил к французским берегам, на которых окончил свою безгрешную жизнь в городе Руане в возрасте 137 лет.
Собственность серых братьев перешла в руки абердинского магистрата, который хотел распорядиться ею по-своему, да не тут-то было — сильный человек Джордж Кейс, пятый граф Маришаль, наложил свою руку на «дом, строения, церковь и двор» францисканцев и объявил, что на этом месте им на собственные деньги будет построен университет, который будет называться Маришаль-колледж, или университет Маришаль-колледжа.
Известие о том, что граф Маришаль употребил собственность церковную на цели мирские, принято было с шепотком, враждой, намеками и угрозами. Но граф был не трус, и его фраза на старошотландском языке: «Они сказали. Что они сказали? Пусть говорят!» — стала девизом нового университета и колледжа и была вырублена на каменных плитах, из которых он был построен. Впоследствии, через триста лет, когда создавался герб университета, на нем была сделана надпись:
«INITIUM SAPIENTIAE TIMOR DOMINI» -
то есть «Начало мудрости — страх божий». И в применении к Маришаль-колледжу это звучало издевкой, а может быть, и ханжеством, а может быть, и насмешкой, искрой столь ценимого шотландцами юмора.
На бюсте Максвелла, установленном в Абердинском университете в 1956 году, тоже есть герб университета со злополучной надписью:
«INITIUM SAPIENTIAE TIMOR DOMINI».
Нет, не правы были создатели герба и бюста. Не в страхе божьем, а скорее в обратном лежало начало мудрости и при создании Маришаль-колледжа, и в творчестве его знаменитого профессора Джеймса Клерка Максвелла.
Принципал — глава колледжа, его высокопреподобие Даниэль Дьюар, доктор богословия — принимает молодого профессора в полутемном кабинете с деревянными высокоспинными жесткими креслами. От мистера Дьюара веет неуютом церковных служб, схоластикой, жестокостью и скукой (а это будущий тесть). Джеймс знает, что Принципала не любят в колледже, не любят его ни профессора, ни студенты. И это уже в течение двадцати пяти лет, и привычка, заменяющая счастье и симпатию, давно уже вошла в плоть профессоров и студентов, заставила свыкнуться с этим крепким, но уже довольно пожилым мужчиной, который в 1832 году после отчаянной грызни между претендентами был назначен на должность Принципала декретом Короны. А он с тех самых пор непрерывно вел службы, занятия, читал проповеди, председательствовал на заседаниях сената, создавал свои объемные труды, которые давно уже выброшены из книжных шкафов, творил суд, всегда справедливый. Вот каков был Принципал Дьюар, предельно учтивый и невыразимо старомодный в разговоре и обычаях.
Принципал поздравил Джеймса Клерка Максвелла с назначением, пожелал успехов, поведал об обычаях колледжа.
— Помните: начало мудрости есть страх божий! — и наконец безо всякого перехода пригласил к себе домой в гости.
Максвелл внутренне содрогнулся, но затем, по трезвому размышлению, решил, что в этом чужом, хотя и на земле предков, городе такая поддержка и общество, как общество Принципала Дьюара и его семьи, придутся весьма кстати.
Молодой профессор приступил к своим обязанностям, а их поначалу оказалось немного, поскольку ни один студент не записался на его лекции, не захотел слушать нового молодого профессора.
МОЛОДОЙ ПРОФЕССОР
Сразу же выявились преимущества и недостатки нового положения Максвелла. К серьезным преимуществам относилось то, что он мог полностью располагать порядком изучения курса, был полным «хозяином физики» в Маришаль-колледже. Правда, достоинство это проистекало из недостатка: кафедры физики в колледже фактически не существовало, и Джеймсу предстояло создать ее.
Он пишет своему старому другу Питеру:
«Юнион-стрит, 129
Абердин
3 декабря 1856
Дорогой Тэт!
...Я был бы весьма обязан, если бы имел возможность поразмыслить над любыми крохами, которые могли бы упасть с твоего пера, иллюстрируя современное состояние и занятия кафедры Математики твоего колледжа.
Могу сказать, что последние признаки кафедры Натуральной Философии здесь исчезли уже довольно давно, и моя единственная реальная поддержка — это те два крюка, которые по моему указанию были вбиты в потолок.
И все же работа здесь куда больше мне по вкусу, чем чтение лекций для второй группы в Тринити. Даже первая группа, которая могла бы сделать гораздо больше, чем мы здесь, все свое время тратит на занятия с репетиторами и не может серьезно готовиться к лекциям.
Всю эту и прошлую неделю у нас были необычайно ранние, сильные и длительные морозы и глубокий снег... Я отыскал здесь человека, который может изготовить медный динамический волчок с последними гироскопическими усовершенствованиями. Увидишь его в «Атенеуме» с материалами о конгрессе Брит. Ассоц. в Челтенхеме. Если он будет работать хорошо, я разошлю циркуляр физикам. «Фарадеевские линии сил» в состоянии корректуры (в типографии). Я пошлю тебе экземпляр...
Завтра я буду присутствовать на лекции по Практической Религии проф. Пири. Проф. Пири — величайший висельник в колледже. Он изучает все, что попадается под руку, и самые затасканные истины, будучи обработаны им, становятся потрясающими. Он заявил нам, что он знает точно, что средний возраст мальчиков, которые поступают в колледж, каждый год увеличивается, и вычислил (сделав при этом арифметическую ошибку) стоимость нашей загробной жизни в денежном выражении, как дарованной ренты.
Твой
Д.К.Максвелл».
Из этого письма мы узнаем, что у профессора появилось новое занятие — он спроектировал «динамический волчок», с помощью которого хочет доказать некоторые положения, касающиеся теории вращения твердых тел вокруг оси. Видимо, эта работа занимала Джеймса весьма серьезно, поскольку через два месяца в письме к Питеру он снова возвращается к ней — «Фарадеевские линии» пока оставлены...
«Юнион-стрит, 129
Абердин, 15 февраля 1857
Дорогой Тэт!
...«Фарадеевские линии сил» в печати и очень скоро выйдут... Мистеры Смит и Рамадж из Абердина заняты медным волчком с изменяемым моментом инерции, с помощью которого теория вращения становится ясной как дважды два. Курим мы тут немного. Бахус более в чести. Наши другие достижения также забавны и весьма интересны, но о них надлежит спрашивать лично или [если письмом], то безо всякой таинственности.
Твой
Д.К.Максвелл».
Когда волчок был сделан, Максвелл был в восторге — большое количество возможных регулировок позволило испытывать самые разнообразные типы вращения. Фирма «Смит и Рамадж» потрудилась на совесть: у волчка была большая инерция и очень малое трение.
Когда Джеймс показал свой волчок друзьям в Кембридже, он крутился так долго, что все разошлись по причине позднего времени, а Джеймс заснул. Утром он проснулся, заслышав на каменной мостовой одинокие шаги спешащего к нему приятеля, одного из тех, что были вчера. Тут Джеймс мгновенно вылез из-под одеяла, запустил волчок и, снова забравшись на кровать, отвернулся к стене. Когда приятель зашел в комнату Джеймса, он увидел похрапывающего хозяина и этот удивительный волчок, который, без сомнения, крутился еще со вчерашнего вечера!
Когда мистификация раскрылась, молодой профессор хохотал до упаду, неизвестно куда дев свою шотландскую сдержанность.
Преимущество произвольной программы Максвелл использовал полностью: он стремился сделать своих студентов (они с течением времени, правда в небольшом числе, все-таки появились) участниками своих экспериментов, он учил их, заставляя проводить исследования, учил наукой, причем наиболее сложными и современнейшими ее областями на тот день. Его студенты должны были сразу окунуться в гущу научного творчества, он бросал их в бурную и опасную реку науки, не сверившись с тем, хорошие ли они пловцы...
Проблемы преподавания волнуют его; некоторое время он занят поисками правильной методики; он относится к этому делу как к еще одной научной проблеме, ничего не принимая на веру. Казалось многим: простая вещь — преподавание, читай себе лекции да принимай потом экзамены, но Джеймс не был удовлетворен такой схемой, он не любил проповедей, и однажды, наблюдая Льюиса в его приходе за этим занятием, уже в буквальном смысле слова, сказал ему:
— Слушай, а почему бы тебе не дать им этого поменьше?
И вместе с тем Джеймс добросовестно изучал опыт профессоров-традиционалистов, импонировавших ему, старался перенять лучшее, что у них есть.
«Джеймс Клерк Максвелл — Вильяму Томсону
Юнион-стрит, 129, Абердин
17 декабря 1856
Дорогой Томсон!
Хочу узнать у Вас о методе, с помощью которого Вы можете заставить кого-либо просматривать чужие упражнения. Это было бы полезно для них, для моих студентов, но я никак не могу найти способ заставить их делать это. Я хотел бы знать, какие темы Вы даете своим и как Вы критикуете их работу.
От 9 до 10 должны были бы быть у меня устные экзамены, а с 11 до 12 — лекция, но я подумал, что лучше будет заняться обоими этими делами сразу в оба эти промежутки и экзаменовать всех без предупреждения, ибо экзамен в чистом виде — это скучная вещь для тех, кого не экзаменуют, а лекция в чистом виде вызывает в пассивных людях пассивность, а среди косномыслящих — разговоры и писание записочек. По вторникам я диктую им 10 вопросов (с короткими ответами, чтобы на них можно было бы ответить письменно тут же в классе). В пятницу я объясняю им ошибки и вывешиваю список, в котором указано, на сколько вопросов ответил каждый...
Еще я выдаю им упражнения для домашней работы, более сложные, но не обязательные для выполнения...
...Я разрабатываю машину для метания пуль за счет веса груза, которая, как я надеюсь, будет вполне работоспособной...
Моя статья о фарадеевских линиях где-то застряла, и я пытаюсь выяснить, где же все-таки находится вторая часть рукописи. Вся первая часть полностью обоснована. Ее просмотрел Стокс, причем он обнаружил несколько жутких ошибок, например целую страницу, где написано «делить» вместо «умножать»...
Джеймс стремился сделать из своих студентов исследователей, обучающихся в процессе исследования, каких-то «рисеч-стьюдентов» — стажеров-исследователей, будучи абсолютно правым в том отношении, что ничто так не продвигает вперед пытливый ум, как самостоятельное исследование, поиск ответов на загадки, поставленные природой.
Ошибался он в одном — полагая, что все его студенты повторяют его, что им в той же степени интересно разгадывать эти загадки, как ему самому, что они получают наслаждение от самого процесса познания. Его выработанная в непрестанном поиске способность понимать суть физических явлений с полуслова, с полунамека, способность, укрепившаяся в общении с отцом, для которого не нужно было липших слов, старая привычка, сопутствующая мысли, опережающей слова, приводила к тому, что он с его горящим взором был всегда бесконечно впереди скучающей на лекции аудитории, он был «невеждой для невежд», его пылкий энтузиазм мог поджечь только способное к горению.
Напрасно он горами таскал книги из библиотеки и раздавал их студентам. Напрасно навлекал на себя немилость библиотекарей и начальства.
— Книги можно брать только для себя или в крайнем случае для друзей, — поучал молодого профессора университетский библиотекарь, хранитель рукописей.
— Но я и беру их для друзей, — щуря близорукие глаза и улыбаясь, отвечал молодой профессор. — Студенты — это мои друзья!
Напрасно это было... Студенты, конечно, с радостью принимали в круг друзей, в круг равных себе молодого профессора — им импонировали его быстрый ум, его юмор, его эксцентричность, его доброжелательность, энтузиазм, его известность и, наконец, его шотландское произношение. Но слишком разные они были — молодой гений и неоперившиеся и малознающие студиозусы. Он с радостью набрасывался на лекциях на любую трудность, встретившуюся на пути, а их приходилось ввязывать в преодоление ее чуть не силком. Соучастие студентов в его исследованиях, не говоря уже об их самостоятельных работах, оставалось несбыточной розовой мечтой.
Напрасно он вытаскивал для них из своих запасников свои самые «лакомые» задачки, «пропы». Его неизмеримо более тренированное воображение и острота ума выхватывали его из аудитории, и он несся уже где-то высоко и далеко, легкий и свободный, преодолевая одну грозу за другой, в то время как студенты, переглядываясь, видели лишь заикающегося, косноязычного, путающегося и близорукого лектора. Волны его идей рождали неизбежную интерференцию, и там, где гений видел их взаимодействие, неискушенный взгляд улавливал лишь темную полосу, отсутствие всякого света.
Но ужасней всего было, если он вдруг во время лекции начинал понимать свою отрешенность от аудитории — тогда он начинал смущаться, говорить парадоксами, делать хаотические путаные заявления, перемежающиеся блестками юмора, который не каждый мог оценить.
Студенты любили его, а он предпочел бы, чтобы они любили физику. Но добиться этого в Абердине ему так и не было суждено.
СТАТЬЯ «О ФАРАДЕЕВСКИХ ЛИНИЯХ СИЛЫ» (1855-1856)
И вот, наконец, после долгого плутания по редакциям и рецензентам появилась в 1857 году в «Трудах Кембриджского философского общества», в десятом томе за 1856 год, первая статья Джеймса Клерка Максвелла по электричеству, пятьдесят шесть страниц математики. Называлась она, разумеется, «О фарадеевских линиях силы» и была развитием доклада, который Джеймс сделал в декабре позапрошлого года перед Философским обществом в Кембридже.
По настроению эта статья, если у научной статьи может быть настроение, резко отличается от прежних. В ней ощутима сильная, отчетливая философская струя. Стремление объяснить, «как это делается?», перерастает уже частные формы. Как устроен мир? Из чего он состоит? Пуста ли пустота? Почему происходят притяжение и отталкивание?
«Фарадеевские линии» — это не просто интересная работа одаренного ученого, работающего над важной проблемой электричества и магнетизма. «Фарадеевские линии» — это работа крупного ученого-философа, знающего, что от решения проблемы зависят судьбы не только физики.
В этой первой работе по электричеству — уже вся его программа. Программа его исследований по электричеству на всю жизнь. Программа глубоко продуманная. Многие удивлялись потом, как у него, двадцатичетырехлетнего, могли в столь зрелом и законченном виде появиться такие глубокие идеи.
Реакция Вильяма Томсона и Стокса была сдержанной — видимо, они были заняты своими делами. Проявил интерес к статье Питер — да и тот занялся сейчас гамильтоновыми «кватернионами», бесконечно далекими, казалось тогда, от электричества.
Другие — те, кому Джеймс был известен лишь своими исследованиями по фотоупругости и оптике, пожимали плечами. Этот Максвелл так блестяще владеет математикой, так хорошо знаком с теориями, основанными на дальнодействии, — знай себе работай да выводи полезные формулы. А он все оригинальничает. Видимо, хочет понравиться бывшему переплетчику и лаборанту Фарадею! Списали все на его странности. И про статью забыли. Простили ему эту выходку.
Снова он стал для всех блестящим, тонко чувствующим молодым физиком. Метод фотоупругости. Эксперименты по цвету. Блестящее владение ньютоновскими методами. Прошло подозрение. Максвелл был своим. А то была шалость и баловство. Чего не бывает у молодых?
А Максвеллу не привыкать было к тому, что его считали странным и чудаком. Он давно уже не обижался на это. Еще со школьных времен. Еще с тех пор, когда его звали Дуралеем.
Не надеялся, вероятно, молодой абердинский профессор Клерк Максвелл, рассылая в марте 1857 года свою только что вышедшую статью «О фарадеевских силовых линиях» по списку всем крупным британским физикам, что получит ответ и даже ответную статью от самого Фарадея.
И тем не менее это было так.
В конце марта 1857 года Джеймс, волнуясь, распечатал письмо с гербом Королевского института:
«Профессор М.Фарадей — профессору Д.К.Максвеллу.
Альбермарл-стрит, 25 марта 1857
Мой дорогой сэр, я получил Вашу статью и очень благодарен Вам за нее. Не хочу сказать, что благодарю Вас за то, что Вами сказано относительно «силовых линий», поскольку я знаю, что Вы сделали это в интересах философской правды; но Вы должны также предполагать, что эта работа не только приятна мне, но и дает мне стимул к дальнейшим размышлениям. Я поначалу испугался, увидев, какая мощная сила математики приложена к предмету, а затем удивился тому, насколько хорошо предмет ее выдержал...
Всегда истинно Ваш
М.Фарадей».
К письму была приложена статья Фарадея — и в ней, как и в письме, увидел Джеймс колебания великого, неуверенность мэтра и корифея в том, что мир, созданный им, верен, ибо понятие силовых линий, как казалось ему, было не общим для природы. Тяготение, например, как будто бы не укладывалось в рамки силовых пиний и, казалось, упрекало их автора в недостаточной предусмотрительности, приводя всегда к притяжению тел, в то время как силовые линии объясняли два эффекта — притяжение и отталкивание.
И в письме и в статье было много такого, о чем стоило подумать: и оброненная как будто вскользь фраза о «времени установления электротонического состояния», которое, «возможно, так же мало, как время прохождения света», и мысли о связи электрического и магнитного притяжения с притяжением гравитации.
Письмо Фарадея стало столь большим событием в спокойной жизни Максвелла, что вытеснило из обихода все другие, и даже через месяц казалось, что это произошло вчера. Он и не заметил, что к тому моменту, как он решился написать ответ, прошло полгода.
«Профессор Джеймс Клерк Максвелл — профессору Майклу Фарадею
129 Юнион-стрит
Абердин, 9 ноября 1857
Дорогой сэр... Этой весной Вы были настолько добры, что выслали мне копию последней статьи и спрашивали, что я о ней думаю...
Сейчас, насколько мне известно, Вы являетесь первым человеком, у которого возникла идея о том, что тела действуют друг на друга на расстоянии посредством обращения окружающей среды в состояние напряжения, идея, в которую действительно следует поверить. У нас были когда-то потоки крючочков, летающих вокруг магнитов, и даже картинки, на которых изображены окруженные ими магниты; но нет ничего более ясного, чем Ваше описание всех источников силы, поддерживающих состояние энергии во всем, что их окружает, состояние, усилением или ослаблением которого можно измерить проделанную в системе работу. Мне кажется, что Вы ясно видите, как силовые линии огибают препятствия, гонят всплески напряжения в проводниках, сворачивают вдоль определенных направлений в кристаллах и несут с собой везде все то же самое количество способности к притяжению, распределенной более разреженно или густо в зависимости от того, расширяются эти линии или сжимаются...
...Но когда мы встречаемся лицом к лицу с вопросом о гравитации: требует ли она времени? Полярна ли она чему-нибудь «за вселенной» или чему-нибудь еще? Имеет ли она какое-нибудь отношение к электричеству? Или она покоится на самых глубинных фундаментах материи, массы или инерции? — тогда мы ощущаем необходимость экспериментов — будут ли объектами их кометы или туманности, или лабораторные образцы, или даже дерзкие вызовы по отношению к истинности общепринятых мнений.
Я только попытался сейчас показать Вам, почему я не считаю гравитацию опасным объектом в смысле применения Ваших методов. Вполне возможно и на нее пролить свет, воплощая те же идеи, которые математически выражаются функциями Лапласа и сэра В.Р.Гамильтона в планетарной теории...
Искренне Ваш
Джеймс Клерк Максвелл».
Фарадей тут же ответил Максвеллу теплым письмом, в котором нетрудно почувствовать благодарность не балуемого пониманием стареющего человека, мудреца, нашедшего на склоне лет родственную душу, сток душевных и научных излияний.
«Профессор Фарадей — проф. Максвеллу
Альбермарл-стрит
Лондон, 13 ноября 1857
...Ваше письмо для меня — это первый обмен мнениями о проблеме с человеком Вашего образа мышления. Оно очень полезно для меня, и я буду снова и снова перечитывать его и размышлять над ним...
Есть одна вещь, о которой я хотел бы Вас спросить. Когда математик, занятый исследованием физических действий и их результатов, приходит к своим заключениям, не могут ли они быть выражены общепонятным языком так же полно, ясно и определенно, как и посредством математических формул?
Я думаю, что это так и должно быть, потому что я всегда обнаруживал, что Вы могли донести до меня абсолютно ясную идею Ваших выводов, которые даже без понимания шагов Вашего математического процесса дают мне результаты не выше и не ниже правды, причем настолько ясные в своей основе, что я могу над ними думать и с ними работать».
НОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ — САТУРН
Когда Джеймс приступил к занятиям в Абердине, у него в голове уже созрел новый «проп», новая задачка, которую пока никто не мог решить, новое явление, которое подлежало объяснению. Это были Сатурновы кольца. Определить их физическую природу, определить за миллионы километров, без каких бы то ни было приборов, пользуясь только бумагой и пером, — это была задача, созданная как будто специально для него. Вот где будут использованы, наконец, и опробованы теории вращения, проверявшиеся на динамическом волчке! Вот куда приводила его теперь странная и, казалось, незакономерная цепочка, начавшаяся «дьяволом на двух палочках»! К самому Сатурну!
С той июльской теплой ночи 1610 года, когда Галилей впервые направил свою трубу на Сатурн, многие любовались через телескоп этим чудом вселенной. Сатурн был действительно самым удивительным объектом на небе.
У планеты были уши! Два отростка непонятного происхождения вырастали с боков планеты, причем эти отростки жили, дышали, изменялись по величине — и не было объяснения такому странному явлению. Может быть, это два больших спутника Сатурна? И иногда эти живые отростки Сатурна исчезали — и не было ли это подтверждением мифа о жестокости коварного старика — Времени?
Гюйгенс, пользуясь более совершенным инструментом, утверждал в 1659 году, что Сатурн окружен кольцом, напоминающим нимб серафимов, — и долго не смолкали восторженные клики служителей боговых, видевших в этом если не прямое подтверждение желанного, то полунамек, достаточно откровенный!
Затем выяснилось, что одним кольцом дело не ограничивается.
— Не кольцо, а два, одно внутри другого! — это Кассини в 1675 году.
В 1850 году внутри светлого внутреннего кольца обнаружена темная полоска, и эта темная полоска оказалась прозрачной — через нее можно было видеть поверхность планеты.
Сравнением своих наблюдений с наблюдениями Гюйгенса и Гершеля петербургский астроном Струве заключил, что конфигурация колец изменчива, а ширина их возрастает с удалением от планеты.
Вот что было известно в условии конкурса на соискание премии Адамса. Требовалось определить: из чего состоят кольца Сатурна? Твердые они, жидкие или газообразные? Гершель поддерживал гипотезу сплошного твердого кольца, Лаплас доказывал, что кольца — твердые, но очень узкие. А безвестный Томас Райт из Дурхама, не приводя доказательств, когда-то утверждал, что кольцо Сатурна состоит из множества спутников, не связанных между собой.
Такая проблема не могла не увлечь Джеймса. Он работал с самого начала быстро и уверенно. Быстро был готов первый вариант — изящное эссе.
«Когда мы действительно видим, что гигантская арка вертится над экватором планеты без какой-либо видимой с ней связи, наш мозг не может оставаться в бездействии. Мы не можем просто принять, что это так и есть, и описать этот факт как один из фактов, наблюдаемых в природе, не предполагающий и не требующий объяснения. Мы или должны объяснить ее движение на принципах механики, или принять, что в условиях Сатурна может существовать движение, регулируемое законами, которые мы не в состоянии объяснить».
За каждым словом этой фразы — убежденность в конечной познаваемости мира, в том, что не существует в нашей вселенной предметов и явлений, недоступных для человеческого понимания. Нет, не в страхе божьем лежало у Джеймса Клерка Максвелла начало мудрости!
Начало работы над кольцами Сатурна относится к гленлейрскому, предабердинскому лету. Первое упоминание об этой работе в письме к другу — Р.Б.Литчфильду:
«Джеймс Клерк. Максвелл — Р.В.Литчфильду
Гленлейр, 4 июля 1856
...Я посвящаю часть своего времени кольцам Сатурна, которые оказались крепким орешком, но довольно занятным, особенно в случае движения жидкого кольца».
Через год работа с Сатурном еще не окончена.
«Джеймс Клерк Максвелл — Льюису Кемпбеллу
Гленлейр, 7 августа 1857
...Мне посчастливилось обнаружить, что в моих сатурновских лабиринтах есть ошибка, но я еще не знаю, где она...»
«Джеймс Клерк Максвелл — Льюису Кемпбеллу, эскв.
Гленлейр, 28 августа 1857
Я веду осаду Сатурна, то и дело атакуя его. Мне удалось пробить несколько брешей в твердом кольце, а сейчас я плюхнулся в жидкое кольцо и нахожусь в окружении поистине удивительных символов. Когда я вынырну, я окажусь в кольце из тумана, из некой сумрачной среды, которая несколько напоминает состояние воздуха, скажем, во время осады Севастополя. Лес пушек, занимающих площадь 100 миль в одну сторону и 30000 миль — в другую, непрерывно изрыгает картечь, которая уже никогда не остановится и вращается по кругу радиусом 170000 миль...»
«Джеймс Клерк Максвелл — Г.Г.Друпу, эскв.
Юнион-стрит, 129
Абердин, 26 ноября 1857
Помимо моей регулярной работы, я очень занят Сатурном. Он полностью перекроен и перешит, но у меня еще с ним много возни, поскольку я стараюсь искупить грехи математиков и сделать проблему доступной для понимания...»
Несколькими днями раньше в письме Питеру Тэту, профессору.
«Абердин, 21 ноября 1857
Я все еще корплю над кольцами Сатурна. Я показал, что любое твердое кольцо должно быть ужасно изуродовано, если оно будет вращаться целиком, и отбросил такой вариант.
Жидкое кольцо должно или разлететься за счет неравенства центробежных сил, или рассыпаться на капли за счет продольных сил. Но капли, сформированные таким образом, могут составить кольцо спутников и будут лететь закономерно, сами по себе, если не будут слишком велики или слишком многочисленны для того, чтобы Сатурн мог ими управлять.
Я нашел условие для максимального числа спутников, которые Сатурн мог бы удержать в форме кольца, для определения того, как много может вращаться вокруг него спутников и как много должно быть сформировано ими коалиций друг с другом.
Сейчас я вожусь с двумя кольцами спутников, вращающихся с различными скоростями и оказывающих возмущение одно на другое...»
Работа над Сатурном не окончена и в декабре. Из письма к Льюису Кемпбеллу, только что получившему ранг священника и ставшему «его преподобием».
«Проф. Джеймс Клерк Максвелл — Его преподобию Льюису Кемпбеллу
Юнион-стрит, 129, Абердин
22 декабря 1857
...Я все еще в Сатурновых кольцах. Сейчас два кольца спутников возмущающе действуют одно на другое. Я придумал машину, которая иллюстрирует движение спутников в возмущенном кольце, и Рамадж уже делает ее в назидание чувствительным поклонникам моделей...»
Зима была суровой, а уже в феврале погода установилась мягкая, по-летнему теплая и солнечная. Когда случалось время, Максвелл гулял вдоль берега моря, среди черных скал Кинкардиншира. Здесь он нашел для себя уютное местечко, совершенно уединенное, с изуродованной морским ветром сосной, на ветках которой можно было хорошо поразмяться. А потом искупаться, спасибо необычно теплому февралю! А потом полежать на теплом песке, глядя на кружевные буруны волн.
Иногда он задерживался здесь до темноты и дожидался того момента, когда в небе загорались первые огоньки. Вот Марс и Меркурий... А вот и Сатурн, к которому устремлены сейчас его мысли... Максвелл чувствовал нежность и теплоту к этой удивительной безразличной планете, летящей где-то в мертвящем холоде пустоты за миллионы километров. Он был сейчас единственным человеком на Земле, который постиг ее тайну, разгадал ее силой математики.
Максвеллу было приятно здесь, на морском берегу, но почему так сладко тревожит его необычность этой теплой весны? Почему таким странным кажется ему расположение планет — никогда не видел он, чтобы Юпитер и Венера так приближались друг к другу? Нет ли тайного смысла в смешных предсказаниях чудаков астрологов?
Таинственно мерцало звездное небо над головой молодого профессора. Бездонность неба вселяла беспокойство. Космос был безмолвен и полон тайн. Все объяснимо в этой бескрайней вселенной, но сложны ее загадки — хватит ли жизни, чтобы разгадать их? Что такое пространство? А время? Как устроены планеты? Сможет ли человек когда-нибудь достигнуть их? Что такое тяготение — и вообще, почему тела притягиваются друг к другу? А что управляет симпатиями и антипатиями людей?
Ночной горной тропинкой, освещаемой звездами, добирался Максвелл до города, до Юнион-стрит. А здесь уже занималась заря, над островерхими церквами древнего города поднимался новый день этого необычного года...
Этот, 1857 год принес несчастье — весть о смерти дорогого друга-кембриджца, молодого юриста Помероя, попавшего сразу после жарких дискуссий в Рэй-клубе на место действия, в Индию, и полностью познавшего на своем горьком опыте цену приобщения индийской нации к британской культуре. Его юношеские иллюзии, видимо, так и не рассеялись до конца, а благородство души заменяло ему порой трезвый голос рассудка. Именно он защищал на памятном заседании Рэй-клуба позицию Британии в Индии, именно он сдал лучше всех экзамены на высокооплачиваемую должность в почтенной Восточно-Индийской компании. Тем более грустно было его разочарование. Он умер от излишнего служебного рвения и лихорадки во время первой вспышки восстания сипаев и, может быть, лишь благодаря болезни избежал смерти от руки индусов, которым, как он был убежден еще во времена рэй-клубовских дискуссий, он нес цивилизацию.
Максвелл очень переживал смерть Роберта, они сдружились во времена жарких споров и дискуссий в клубе. Джеймс, у которого отец и все родственники по мужской линии были юристами, всегда находил темы для бесед с будущим юристом Помероем, поверял ему свои мысли о государстве и праве, как Льюису — студенту богословия — о боге. Максвелл имел особенность жить интересами своих друзей и совершенно не требовал того же от них, да и вряд ли это было возможно.
Видимо, трудно приходилось ему в Абердине в смысле обзаведения новыми друзьями. Его коллеги по колледжу были старше его, общение с коллегами из второго, соперничающего университета, Кингс-колледжа, негласно не одобрялось, а шотландская чопорность исключала случайные знакомства. Максвелл не устает писать своим старым друзьям:
«Джеймс Клерк Максвелл — Р.Б.Литчфильду, эскв.
Гленлейр, 23 сентября 1857
Я только что вернулся с далекого Хайленда и по пути узнал все индийские новости... Тогда я подумал о тех... кто умер, о том, что их характер остался неизвестным миру, о том, что их дело не сделано так, как оно было бы сделано, останься они живы. Но насколько печальна эта тайная мысль, настолько вселяет она в нас и новые силы, ибо жизнь наших братьев — это и наше наследство, и мы получаем его там, где они пали, и мы встаем, подобно Триамонду, чтобы вести их борьбу, как нашу собственную. Не пойми это как теорию. Я хочу сказать, что мой личный союз с моими друзьями — это то, в чем я стремлюсь избежать безысходности, к которой приводят размышления о внешней стороне вещей... Или быть машиной и видеть во всем не что иное, как «явления», или попытаться быть мужчиной и чувствовать, что твоя жизнь переплетена со многими другими и укрепляется ими как в жизни, так и в смерти...»
ЖЕНИТЬБА
Как в жизни, так и в смерти... Трудно найти таких друзей. Но нужно — и можно. И вот какие-то новые события и проблемы увлекли его, и уже не кольцами Сатурна занят молодой профессор, а обручальными кольцами и сопутствующими проблемами... Друг нашелся там, где Джеймс никак не ожидал найти его.
В первые абердинские годы Максвелл, страдающий от отдаленности своих друзей, со смешанным чувством принял приглашение Принципала Маришаль-колледжа посещать его дом, сделал это однажды, да и зачастил туда. В доме Дьюара ценили его ум, глубокие знания, там его необычайно разносторонняя осведомленность в литературных, исторических и богословских материях получила благодарных слушателей и ценителей, да и, можно прямо сказать, ценительниц.
У Принципала Дьюара, этого черствого и непопулярного в колледже человека, оказались две дочери, причем одна незамужем, которые за отсутствием иных светских развлечений в этом суровом и неуютном доме знали большой толк в разговоре, умели оценить новые книги и научные открытия, раскрыть безболезненно створки панциря сарказмов, в котором заточен был Джеймс. Да и сам он представал перед ними совсем другим, тем, каким был на самом деле, — быстрым, блестящим, остроумным, великодушным.
Летом 1857 года он получил приглашение Принципала провести с его семьей часть сентября в Ардхаллоу близ Дунуна, где жил зять Принципала, мистер Мак-Кунн, и, не медля ни мгновения, согласился.
Он спешил в Ардхаллоу, и ему казалась черепашьей тридцатимильная скорость железнодорожного экспресса. Чтобы время шло быстрее, он наблюдал на проносящихся мимо скалах (дорога шла по берегу озера Лох-Экк) разрушение и раздвоение геологических слоев. Потом это ему наскучило, и он решил сочинить для своего друга Вильяма Томсона шуточный гимн компании атлантического телеграфа.
Максвелл за последнее время написал Томсону множество «длинных и скучных» писем о кольцах Сатурна, но тот не ответил. Объяснялось это тем, что Томсон участвовал в прокладке первой линии трансатлантического телеграфа. Гений Томсона был инженерным, и в символах своих математических статей Томсон видел не только физические явления. За ними для Томсона явно вставали телеграфные линии, усовершенствованный компас, машина для предсказания приливов... Поначалу свысока отнесшиеся к этому мужу «абстрактной науки» практики вскоре горько пожалели о том, что не воспользовались его советами и порвали первую линию кабеля. После этого Томсон стал признанным научным шефом величайшего научно-технического предприятия века. Казалось, все результаты, еще вчера полученные им за письменным столом, уже сегодня воплощались в конструкции кабеля, в конструкции приемных и передающих устройств этой уникальной телеграфной линии.
«Джеймс Клерк Максвелл — Льюису Кемпбеллу
Ардхаллоу, Дунун, 4 сент. 1857
Послушай-ка новые слова к известной песне, которые я придумал, пока ехал на поезде в Глазго. И поскольку я имею смутное-прерывающее-разговор-и-наносящее-смертельный-удар-беседе воспоминание о словах ортодоксального варианта песни, я не уверен, что правильно взял размер. Чтобы избежать ненужных повторений, давай предположим, что
(Т) = Там, на дне моря,
и, следовательно, 2(Т) по аналогии представляют собой два повторения указанной фразы. Уговорившись об этом, мы будем иметь следующее:
ГИМН КОМПАНИИ АТЛАНТИЧЕСКОГО ТЕЛЕГРАФА
I
2(Т)
Слышится песнь телеграфного хора.
2(Т)
Сигналы плывут вперед
Хвостиком — плюх-плюх-плюх!
Игла телеграфа дрожит на опоре,
Сигналы оттуда получим мы вскоре,
Но трудно им: ух-ух-ух!
По тросу бежать вперед.
II
2(Т)
По тросу бегут не сигналы — а горе.
2(Т)
Время кричать: караул!
Кабелю: крах-крах-крах!
Что за причина — поймем мы не скоро.
Может, кораблик наш шел больно споро,
Жалко как, ах, ах, ах!
А может быть, сильно рванул!
III
2(Т)
Рыбы все шепчутся в вольном просторе.
2(Т)
— Что там, в тиши ночной,
Длинное столь, столь, столь,
Что не сломаешь ни нынче, ни вскоре,
Что не разъестся ни нынче, ни вскоре?
В море же соль, соль, соль!
Кабелю — хоть бы что.
IV
2(Т)
Оставим мы кабель — лишь рыбам подспорье.
2(Т)
Новый уж кабель корабль ведет.
Будет не прост, прост, прост!
Кабель тройной проложим мы вскоре,
Будем контракт заключать через море,
Через наш трос, трос, трос,
Уж этот не подведет!
Старый друг, — Вильям Томсон становился уже одной из самых популярных личностей в Англии: он стал участником и научным шефом самого грандиозного и эффектного технического события века, и Максвелл не мог не завидовать ему, он не мог не увлечься идеями быстрого проникновения электричества в повседневность, в жизнь.
Необходимость быстро заключать через океан коммерческие сделки привлекла Сайруса Филда — руководителя компании по прокладке трансатлантического телеграфа. Задача осуществления технической идеи привлекла Томсона. Теоретические трудности объяснения электрических явлений увлекли Максвелла, точнее — дали его занятиям электричеством новый импульс. И лишь важные события и отчасти — украшение звездного неба — Сатурн мешали тому, чтобы он тотчас занялся бы им.
Сейчас у Максвелла в голове было совсем другое — они с Кетрин Мери гуляли по осенним открытым холмам, любовались пятнами, созданными высохшим папоротником-орляком, на еще зеленых склонах холмов. Однажды, забравшись очень далеко, набрели они на одинокую хижину. Там жил вдали от мира настоящий отшельник. Отшельник пригласил их к себе. Звали его Дункан Маршалл, хижина была завалена книгами, а письменный стол с открытой чернильницей свидетельствовал о том, что отшельник над чем-то работает. Он оказался ученым!
Нет, Максвеллу определенно больше нравился другой тип ученого, олицетворенный в Вильяме Томсоне, и он, возможно, жалел в те минуты, что склад его ума и характера не дает возможности броситься в гущу событий, политики, деловой суеты, туда, где так легко чувствовал себя старый дружище Томсон. А может быть, поделился он тогда с Кетрин Мери еще не оформившейся вполне мыслью о том, что его проблемы, те, которым он решил посвятить себя, в конечном счете глубже и труднее и, возможно, решение их сослужит еще более важную службу человечеству, даже не подозревающему пока об этом...
Кетрин Мери Дьюар и Джеймс Клерк Максвелл в этот необычный год многое узнали друг о друге. И однажды, во время ночного катания на лодке, они решили, что созданы друг для друга. И захотели соединить свои судьбы...
В феврале 1858 года состоялась помолвка Джеймса Клерка Максвелла, профессора Маришаль-колледжа, и Кетрин Мери Дьюар, младшей дочери Принципала упомянутого колледжа.
«Джеймс Клерк Максвелл — мисс Кей
129, Юнион-стрит
18 февраля, 1858
Дорогая тетя, сообщаю Вам, что я намереваюсь жениться. Я не собираюсь приводить каталог ее качеств, поскольку я не подхожу для этой цели; однако могу вам сказать, что мы стали нужны друг другу и понимаем друг друга лучше, чем большинство пар, которые я встречал.
Не бойтесь, она не математик; но есть кое-что и помимо этого, и она, безусловно, не будет тормозить математику. Единственный, кто может говорить как свидетель, — это Джонни, да и он видел ее в то время, когда она и я старались казаться безразличными друг другу...
Вот теперь вы уже знаете, кто она. Точно, это Кетрин Мери Дьюар (пока еще). Я слышал, как дядя Роберт говорил (с чужих слов) о ее отце, Принципале. Ее мать — настоящая леди, очень спокойная и учтивая, она имеет свойство преодолевать все препятствия методом долготерпения... Таковы дела. Я говорил с ней относительно нас, она согласна, а все остальные слушаются ее.
Надеюсь, что когда-нибудь вы познакомитесь получше. Я едва ли допускаю, что Джонни видел ее как следует, как он увидит ее, когда она будет выглядеть в истинном свете... А сейчас вы должны принять все, что я Вам говорю, на веру. Вы знаете, что мне не даровано говорить громкие слова. Потому верьте, и Вы будете знать... Итак, до свидания. Ваш любящий племянник».
Счастливое, радостное состояние Джеймса, приподнятое состояние ума, легкость скользят в его письмах:
«Джеймс Клерк Максвелл — Р.В.Литчфильду, эскв.
Юнион-стрит, 129
Абердин, 5 марта 1858
Мои «занятия» настолько приятны, что иной раз кажется, что все должны заходить ко мне, чтобы подхватить инфекцию счастья. Работа в колледже — это как раз то, что мы с отцом давно уже подыскивали, — и обнаружилось, что мы оба были правы — эта работа как раз для меня...
В Абердине меня окружили со всех сторон большой добротой, и ты знаешь сейчас мое величайшее научное открытие, а именно: метод превращения дружбы и уважения в кое-что несравненно лучшее. Мы используем это открытие и извлекаем из него с каждым днем все больше и больше; все глубже и глубже погружаемся в таинства наших «я» с тем, чтобы обнаружить, что мы едины, и нас влекут друг к другу не только физические и умственные добродетели...».
Время, отнятое у Сатурна и электрических материй свадебными хлопотами, не прошло даром. Отдалившись на время от физики, он получил возможность посмотреть на нее со стороны, сравнить, сопоставить ее с иными науками и увидеть то, чего не видел раньше. Он убедился в том, что путь, избранный им, — путь к Правде не может миновать «материальных наук», он увидел философскую ценность физики в процессе познания природы, общества и человека.
Видимо, это открытие взволновало его, и трогательное письмо к Литчфильду, письмо, посвященное приятным свадебным хлопотам, вдруг неожиданно модулирует в серьезную философскую тональность.
«Что касается материальных наук, то именно они кажутся мне прямой дорогой к любой научной истине... касающейся метафизики, собственных мыслей или общества. Сумма знаний, которая существует в этих предметах, берет значительную долю своей ценности от идей, полученных путем проведения аналогий с материальными науками, а оставшаяся часть, хотя и важна для человечества, есть не научная, а афористическая. Основная философская ценность физики в том, что она дает мозгу нечто определенное, на что можно положиться. Если вы окажетесь где-то не правы, природа сама сразу же скажет вам об этом. Каждый шаг этого познания истины оставляет более или менее представительный след в памяти, а полученные материалы более чем где-либо в другом месте пригодны для ответа на великий вопрос: откуда приходит знание?
Я обнаружил, что все ученые, продвигавшие своими трудами науку (то есть сэр Дж.Гершель, Фарадей, Ньютон, Юнг), хотя и очень сильно отличались друг от друга по складу своего ума, имели четкость в определениях и были полностью свободны от тирании слов, когда имели дело с вопросами Порядка, Законов и т.п. Этого никогда не смогут достигнуть литераторы и люди, занимающиеся только рассуждениями...»
Да, время, отнятое у Сатурна и электричества, не прошло даром. У Максвелла сформировались уже прочные взгляды на жизнь, на науку. И на счастье тоже.
СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ
Рассказал мне сосед, Что открыл он секрет, Как в здоровье быть, в злате, в чести: «Ты поменьше мечтай, Ты как все поступай. Любопытству не дай возрасти. А девиз твой пусть будет несложен: Быть как все, не грустить ни о ком, Нам не нужно любить, ненавидеть, Нам все время — радеть о своем. Пусть мир сотрясают волненья, Пусть стенка на стенку идут, Ты выкушай ужин с вареньем И пестуй семейный уют. Коль согласен, изволь: Будешь жить как король, Рассуждать о вращенье Земли». Но не это для нас, Мы восстали тотчас, Мы спокойными быть не смогли. Если все мы в покое пребудем, Смысл бытия навсегда пропадет, А спокойными — в камне мы будем, Когда радость со смертью уйдет. Наш мир, может, несколько страшен, И жизнь наша — без толку труд, Я буду работать, отважен. Пускай Дуралеем зовут!(24 марта 1858 г.)
Свадьба была назначена на июнь, о чем, разумеется, было тут же сообщено Кемпбеллу, а тот, оказывается, опередил друга и уже приглашает Максвелла быть шафером на своей свадьбе, а она состоится в мае. В прошлом году женились Тэт и Бальфур Стюарт.
Кембриджские и оксфордские друзья обзаводились семьями. Для Максвелла, как для «феллоу» — члена совета Тринити-колледжа, брак имел немаловажные последствия — ведь «феллоу» при вступлении на пост дает обет безбрачия! Строгий монастырский устав Кембриджа разрешал одновременно иметь лишь одно удовольствие из двух, и Джеймсу ничего не оставалось, как ждать официальной бумаги из Кембриджа, уведомляющей его о лишении знания.
В голову ничего особенно не лезло, и поэтому Максвелл с радостью согласился поехать в Милфорд, в Хемпшире, где Кемпбелл был назначен приходским священником, с тем чтобы потом поехать в Брайтон. Там должна была в мае состояться свадьба Льюиса.
А пока бомбардировал друга письмами о своих — вместе с Кетрин уже! — планах.
«Проф. Джеймс Клерк Максвелл — Преп. Льюису Кемпбеллу
Абердин, 15 мая 1858
Мы покончили сегодня с наблюдением солнечного затмения. Следующие наши научные занятия были посвящены вычислению даты бракосочетания. Грубые приближения дают такой результат: начало июня...
Первую половину мая я [был] занят по дому. Вторую половину могу провести в Лондоне, Кембридже, Брайтоне, как будет надумано. После чего мы сконцентрируем свои силы в Абердине по принципу согласованной тактики. Как только это будет сделано, мы незаметно сделаем марш-бросок и направим все силы в Счастливую долину, которую займем безо всякого страха, и будем там только ждать сигнала, чтобы быть готовыми приветствовать подкрепление из Брайтона... Спокойной ночи. Твой любящий Д.К.Максвелл.
Мы собираемся провести летом совместные оптические эксперименты. Я достал две призмы, а наши глаза настолько хороши, что смогли увидеть точку на Солнце сегодня безо всякого телескопа».
Уезжая из Абердина, Джеймс договорился с невестой о способе, посредством которого они будут сохранять иллюзию близости друг с другом чуть не через всю Шотландию и Англию. Способ, придуманный Джеймсом, был довольно прост. Уговорились в заранее обусловленный час вечером, когда уже стемнеет и появятся первые звезды, садиться, она — в Абердине, он — в Гленлейре, Милфорде или Брайтоне — где окажется, — садиться у настольной лампы и читать вместе одно и то же место из библии, а потом в письмах описывать друг другу, что они думали при этом. Нельзя без волнения читать письма Джеймса к Кетрин — все строфы и главы библии вызывали у него реминисценции любви, семейного счастья, счастливой, благородной и спокойной жизни вдвоем.
Свадьба была скромной. Приглашены были только самые близкие — и среди них молодожены, только-только из церкви, Льюис с супругой.
Пришло много поздравлений. Поздравление из Кембриджа было шуточным, но между тем извещало, что досточтимые «феллоу» сожалеют, что не могут далее числить Клерка Максвелла в своих рядах — славных рядах членов совета Тринити-колледжа, поскольку он нарушил ранее данный им обет безбрачия.
После свадьбы родственники растерялись — слова, случайно, казалось, брошенные для забавы и игры стиля, упавшие на бумагу в письме Льюису, оказались глубоко продуманным военным планом. После воссоединения частей действительно последовал скрытый (никто к ахнуть не успел) марш-бросок в Гленлейр, где счастливая молодая чета расположилась на отдых. Вскоре прибыло и брайтонское подкрепление, а еще правильнее было сказать, что подкрепление прибыло почти одновременно с основными частями.
Период «притирки» был нелегок, хотя с обеих сторон было большое желание лучшего взаимопонимания. Кетрин ясно представляла себе, что Джеймс не обычный человек и что любовь к науке и физике занимает в его сердце далеко не последнее, если не первое, место. Начав с совместного наблюдения солнечного затмения (ох, как они смеялись, когда Кетрин пятна на Солнце называла «точками» и уверяла, что может их видеть безо всяких приспособлений!), молодые супруги перешли в Гленлейре к научным развлечениям, начав с несложных оптических экспериментов с призмами.
Проблема взаимопонимания, для которой требовалось хотя бы минимальное знание основ физики, сильно беспокоила Джеймса Клерка Максвелла. Даже через год после свадьбы эта тема, видимо, еще была злободневной.
«Проф. Д.К.Максвелл — миссис Клерк Максвелл
16 сентября 1859
...Миссис Сабин после того, как вышла замуж, выучила математику своего мужа, а она, надо полагать, не ради этого выходила замуж. Мёрчисон, когда женился, не знал геологии, а его жена немного знала; а у них неподалеку рано утром ополз склон скалы, и ее служанка сказала ей об этом, и ей захотелось быстро встать и посмотреть. Поэтому Мёрчисону пришлось встать тоже, а в разломе оказались громадные кости ихтиозавров. Он заинтересовался этим и подался в геологию. Перед этим он был праздным и пустым молодым офицером».
Первое лето, проведенное вместе с молодой женой и друзьями, кончалось, Максвелл был, конечно, счастлив, но неутомимый червячок, видимо, гнездился где-то в его сознании, не признавая научной праздности, — мозг требовал работы. Максвелла призывали к себе кольца Сатурна и невидимые фарадеевские силовые линии.
Джеймс Клерк Максвелл вернулся к любимой им физике...
СЛИЯНИЕ КОЛЛЕДЖЕЙ
Да, Сатурн, спокойно почивавший несколько месяцев в своем необъятном кольце, вновь подвергся атакам молодого профессора. Здесь, однако, все было уже практически сделано — гипотеза твердого жесткого кольца отпала сразу, жидкое кольцо распалось бы под влиянием гигантских возникших бы в нем волн — и в результате, по мысли Джеймса Клерка Максвелла, вокруг Сатурна скорее всего витает сонм мелких спутников — «кирпичных обломков», по его выражению.
И этот вывод — пользуясь только пером и бумагой! Успех, вполне соизмеримый с достижением Адамса и более удачливого его соперника Леверрье. Сам королевский астроном сэр Джордж Эйри, прочитав трактат Максвелла, посвященный кольцам Сатурна, заявил, что эта работа — самое блестящее применение математики к физике, какое он когда-либо видел. Еще раньше, в 1857 году, Джеймсу за эту работу была присуждена премия Адамса.
Молодой профессор Абердинского университета был признан одним из самых авторитетных английских физиков-теоретиков.
Жаль, что Абердинский университет, а точнее — Маришаль-колледж, не мог уделить этому событию сколь-нибудь серьезного внимания — у него были в это время свои заботы. И проистекали они прежде всего оттого, что знак равенства между Абердинским университетом и Маришаль-колледжем ставил только Маришаль-колледж. Дело в том, что в Абердине было два абердинских университета, и второй, ненавидимый маришальцами, был Кингс-колледж, тоже довольно солидное и древнее учебное заведение, почти полностью копировавшее по структуре и направлению обучения Маришаль-колледж.
Между колледжами была глухая вражда, профессора не здоровались друг с другом, а жены не ходили друг к другу с визитами. Дружба Джеймса с «людьми из Кингса» никак не могла быть одобрена маришальским начальством, и прежде всего тестем — Принципалом.
Забавнее всего было, пожалуй, то, что эти два заведения формально были объединены уже более двухсот лет: еще в 1641 году была издана королевская хартия, по которой Кингс-колледж Старого Абердина и Маришаль-колледж Абердина объединялись под названием Университета короля Чарльза. Но время было бурное, и о такой мелочи забыли. А университеты и не спорили. Ведь объединение, помимо прочего, несло с собой сокращение высокооплачиваемых должностей, сокращение числа профессоров и прочие бедствия. Так продолжалось двести лет, пока в 1858 году, в безоблачный первый год семейного счастья Джеймса, в университеты не нагрянула комиссия.
Выводы комиссии были категоричными, и 2 августа 1858 года, когда Максвелл с женой и друзьями проводил счастливые дни в Гленлейре, была дана королевская санкция парламентскому акту под названием: «Акт об обеспечении лучшего управления и дисциплины шотландских университетов, улучшении и упорядочении в них курса обучения и о слиянии двух университетов и колледжей Абердина».
Этим актом с 15 сентября 1860 года упразднялась одна из двух параллельно существовавших в университетах кафедр натуральной философии и одна из должностей Принципалов. Максвелл и его тесть Джеймс Дьюар теряли свои места в университете, и если для второго это было уже в большей степени безразлично из-за возраста, то для первого означало необходимость снова искать себе кафедру, а это было делом совсем нелегким.
Тут, казалось, удача снова улыбнулась Максвеллу — его старый друг профессор Джеймс Форбс был назначен главой объединенного университета Сент-Эндрюс, и в этой связи кафедра натуральной философии, которую он занимал в Эдинбургском университете, оставалась вакантной. Максвеллу перспектива занять кафедру Форбса очень нравилась, но обстоятельства сложились не совсем так, как ему хотелось бы. На кафедру натуральной философии Эдинбургского университета нашлось много претендентов, и среди них — старый соперник Раус и самое главное — старый друг Питер Тэт, которому кафедра математики в Белфасте никак не подходила — он, как и Максвелл, правда в несколько ослабленном варианте, был склонен находить в самых простых вещах загадки мироздания, любил искать для всего объяснение. Математика как таковая, несмотря на то, что он ею прекрасно владел, Питера не привлекала. Его тянуло к физике, и кафедра в Эдинбурге была, разумеется, для него пределом мечтаний.
Слухи быстро распространяются в сравнительно узких научных кругах Шотландии. Уже знают в Эдинбурге и о необычных методах преподавания молодого профессора Максвелла, о том, что не любит он читать лекций-»проповедей», о том, что он говорит на лекциях о непонятных вещах, может напутать и вообще держится со студентами не как Дон, а как их товарищ, равный им. Не помогли рекомендательные письма.
На должность профессора был избран Питер — прекрасный лектор, утонченный методист, будущий автор наиболее популярных в Англии, да и за рубежом учебников физики. Питер взял реванш за поражение на конкурсе в Абердине и был очень счастлив. Отношения друзей были прочны — их связывало даже несколько большее, чем дружба, — научное единомыслие, партнерство в мало кому понятных развлечениях, ребусах и шарадах, и поэтому такие «мелкие» злоключения, как поражение на конкурсе, ни в коей мере не могли на них повлиять.
До конца дней Максвелл и Тэт находились в самых сердечных, дружеских отношениях, разумеется, не исключавших подтрунивания и столь обожаемых Максвеллом юмористических стихов и пародий на книги, научные статьи и доклады Питера, которые, к сожалению, удавались ему несколько хуже, чем учебники.
Часть IV. ЛОНДОН — ГЛЕНЛЕЙР. 1860-1871
...цикл исследований, в котором Максвелл вывел свои уравнения с помощью механических представлений, принадлежит к наиболее интересному, что только знает история физики.
Л.БольцманСчастливы те, кто развивает науку в годы, когда она не завершена, но когда в ней назрел уже решительный переворот.
А.-М.АмперЕЩЕ ДВА ВРАЖДУЮЩИХ УНИВЕРСИТЕТА
С эдинбургской неудачи начинается новый этап жизни Джеймса Клерка Максвелла. Этап необычно плодотворный для его научной деятельности. И начинается он краткой канцелярской записью в журналах Кингс-колледжа, но уже не в Абердине, а в Лондоне.
В протоколах совета колледжа от 13 июля 1860 года содержатся записи, касающиеся назначения профессора на кафедру натуральной философии:
«...3. Мистер Грин, единственный присутствовавший член комитета, виделся с джентльменами (подававшими на конкурс) и с помощью профессоров Холла и Миллера в полной мере ознакомился с их заслугами.
4. Мистер Грин, а также профессора Холл и Миллер единодушно сошлись во мнении, чтобы рекомендовать мистера Джеймса Клерка Максвелла, «второго спорщика» и второго лауреата премии Смита в 1854 году, бывшего «феллоу» Тринити-колледжа, Кембриджа, и в настоящее время профессора натуральной философии в Маришаль-колледже и университете Абердина, на кафедру натуральной философии Кингс-колледжа...»
Итак, Лондон... Один из двух лондонских университетов. Университетов-соперников, чтобы не сказать — врагов...
Странная вещь, не перестававшая до 1825 года удивлять иностранцев в Англии, — это то, что в Лондоне никогда не было университета и авторитет научной мысли струился из находящихся, конечно, недалеко, но все же не в столице, Кембриджского и Оксфордского университетов. А мысль научная в Оксфорде и Кембридже была в основе своей мыслью церковной, причем самого ревностного догматического толка, так что даже люди отнюдь не атеистических взглядов стали с тревогой вдумываться: не стоит ли воспользоваться поводом отсутствия в Лондоне университета, чтобы создать некий противовес чрезмерно мощной англиканской церковной струе? «В Лондоне составилось, — пишет русский путешественник, в середине прошлого века посетивший Англию, — общество из вольномыслящих и образованных людей33 для устройства университета, который бы вовсе не имел никакого влияния на вероисповедания, с неограниченной при том свободою и вольностию излагать науки. Этот проект понравился многим: составлена подписка и собран огромный капитал, потребный для содержания, усовершенствования и увековечения нового университета с излишним устройством. В 1825 году положен краеугольный камень этого здания герцогом Суссекс, и через два года началось в оном учение. Но едва сделалось известным это превосходное для Англии заведение, как вдруг в один голос закричали все высокие тори, духовенство и другие приверженцы англиканской церкви, что это заведение богохульное. В оном обучаются не только все христианские еретики без разбора, но даже жиды вместе, и одним и тем же наукам с правоверными англичанами, что противно господствующей церкви. Но так как устав этого университета был уже подписан и утвержден королем и парламентом, то этот университет должен был остаться во всей своей силе.
По открытию первого университета скоро соединились все вышеупомянутые противники оного в одно общество и устроили в подрыв этому университету другой университет в Лондоне согласно своим началам и образу мыслей и назвали Кингс-колледж. Этот университет получил также нужное согласие и утверждение парламента и короля. Высокие и богатые протекторы и учредители этого заведения успели поместить этот университет в прекрасном месте, на левом берегу Темзы, близ моста Ватерлоо, в прекрасном мраморном строении Сомерсет-хаус. Тут преподаются почти все принятые у них науки, начиная с первых начал за умеренную плату, то есть вполовину против других университетов, и поэтому это заведение наполнено слушателями и учащимися».
Видно, не совсем классической схемы при обучении придерживался новый университет, поскольку, судя по всему, главное внимание было уделено более насущным предметам, чем греческий и латинский. Посмотрим, что дальше отметит русский путешественник, посетивший в шестидесятых годах прошлого столетия Лондонский университет № 2, точнее — Кингс-колледж Лондонского университета.
«Произношение латинского и греческого языков у них так уродливо, что я через долгое время насилу мог понять, на каком языке читают и переводят, и то не прежде, чем сам взглянул в книгу, из которой лучший студент читал. Это были «Буколики» Вергилия. Зато кабинеты сего университета были превосходны, но не огромностью своей, а самыми редкими предметами, каких я нигде не видел.
В физическом кабинете я видел почти те же самые машины, какие в других богатых европейских кабинетах. Но самый главный и редкий инструмент, который меня с удивлением занимал, есть устроенный на середине одной залы магнитно-электрический телеграф, который действует под землею и на расстоянии 400 английских миль, в пять минут на сделанный вопрос доставляет ответ. Директор уверял меня, что посредством этого телеграфа можно целую печатную книгу сообщить другому телеграфу».
Так беспристрастными глазами русского очевидца описан Кингс-колледж того времени, когда Максвелл был избран туда на должность профессора кафедры натуральной философии и вступил во владение всеми упомянутыми сокровищами физического кабинета.
ОСЕНЬ В ГЛЕНЛЕЙРЕ, БОЛЕЗНЬ
Остаток осени перед занятием должности в Кингс-колледже решено было провести в Гленлейре. Нужно было накопить силы, побыть на свежем воздухе, заняться немного спортом. Врач уже давно рекомендовал Кетрин, вообще отличавшейся слабым здоровьем, больше бывать на воздухе, почаще совершать конные прогулки.
И вот однажды молодые супруги отправились на знаменитую Руд-Фэйр, конную ярмарку, где нужно было выбрать для Кетрин лошадь. На ярмарке было много статных, хороших кровей, норовистых и покладистых жеребцов и кобыл, дорогих и дешевых, но Кетрин увлекла Джеймса в не столь уж шумный уголок ярмарки, и Джеймс увидел там любимцев своего детства — настоящих шотландских пони. Тепло детских воспоминаний, оказывается, увлекло и Кетрин — она желала во что бы то ни стало иметь пони, настоящего галлоуэйского пони, породистого и горячего.
И когда подвели к ним пылкого гнедого пони с весело развевающимся хвостом и высоко поднятой головой, Кетрин вопросительно посмотрела на Максвелла: одобряет ли?
Пони назвали Чарли — честь, но и в то же время маленькая месть Чарльзу Кею, двоюродному брату, который обещал приехать летом в Гленлейр, да так и не приехал, — «пони будет всегда напоминать нам о нем».
В гленлейрской конюшне новенький пугливо смотрел на лошадь Джеймса — роскошную кобылу по кличке «Дарлинг», на которой он мог делать чудеса. Он вообще был первоклассным наездником. Корсокские и партонские жители долго после смерти Джеймса Клерка Максвелла вспоминали о том, как лихо он заставлял лошадь вставать на дыбы, прыгать через изгороди. Мог он объезжать и незнакомых, диковатых лошадей и пони, а Чарли был пока еще именно таким, и Джеймсу пришлось объезжать и его.
Чарли был очарователен, но через него в дом Максвеллов вошла неприятная болезнь — видимо, где-то на ярмарке Максвелл подхватил оспу, хорошо еще не в самой тяжелой форме.
Преданность домашних подверглась суровому испытанию. Джеймс запретил кому-либо заходить в комнату, где он лежал. К больному была допущена только Кетрин, и домашние, принося что-нибудь, оставляли все у дверей — дальше их не пропускали. Опасность была велика, и врачи полагали даже, что есть возможность смертельного исхода — Джеймса могли спасти только покой, режим, внимательный и беззаветный уход.
Кетрин выходила его, и Джеймс, потом уже, не уставал повторять, что Кетрин спасла ему жизнь, да так это было и на самом деле. Печальные вечера, печальные разговоры в печальных комнатах, где некогда умирали и мать и отец, одиночество среди необитаемых просторов и перед лицом возможной смерти — вот обстановка, предшествовавшая шумному, оживленному и многолюдному Лондону. И Джеймс, и Кетрин с радостью ожидали переезда в Лондон, начала работы Джеймса в Кингс-колледже.
КИНГС-КОЛЛЕДЖ
Научный крен нового университета, его устремление к проблемам сегодняшнего дня как нельзя лучше соответствовали сейчас устремлениям Джеймса Клерка Максвелла, личная жизнь которого устроилась как нельзя лучше. Со здоровьем и работой тоже все образовалось, теперь оставалось лишь одно — заниматься своими научными проблемами, завершить то, что начато.
А сделать это оказалось неожиданно трудно. Кингс-колледж принадлежал уже иному веку. Должность профессора в прочих, более почтенных университетах в силу сложившихся традиций заключалась лишь в чтении курса лекций, а времяпрепровождение его, «особенно если учесть блестящее окружение выдающихся людей, хорошую кухню и славные винные погреба колледжа», как выразился английский физик Д.Макдональд, было довольно приятным. Но в Кингс-колледже за счет большого числа студентов, необходимости проводить большое число демонстрационных экспериментов и значительного объема внеуниверситетских обязанностей привлекательность преподавательской работы сильно снижалась. У Джеймса Клерка Максвелла иной раз просто не хватало времени.
Здесь уже нельзя было, как прежде, в Абердине, пользуясь слабым интересом студентов к физике, полгода проводить в имении. Визиты туда теперь становятся чуть ли не событием.
Здесь, в Кингс-колледже, было все же далеко до того метода обучения, который больше всего импонировал Максвеллу, — учебы в процессе самостоятельных исследований, в процессе занятий экспериментальной физикой. Здесь скорее были лишь подходы к этому, но то, что профессор Максвелл читал своим студентам в 1864-1865 годах, было, несомненно, курсом экспериментальной физики. Студенты не занимались еще самостоятельной работой, но учились в процессе экспериментов, и эксперименты эти ставились Максвеллом. Но и такой способ преподавания натуральной философии казался пугающе новым, поддерживался и одобрялся далеко не всеми, и в том числе не всеми студентами.
Кингс-колледж по оснащенности своих физических лабораторий был впереди многих университетов мира. Во многих университетах, включая Кембриджский и Оксфордский, вообще, по существу, не было физических лабораторий. Физика должна была восприниматься в основном на слух, как, например, математика. Любой ученый, взявшийся бы в те времена за чтение курса физики, сопровождаемого экспериментами, вынужден был бы делать это на свой страх и риск. И, что для многих было значительно болезненней, за свой счет.
Кингс-колледж был в этом отношении скорее исключением. Еще в 1834 году, когда на должность профессора экспериментальной философии там был избран Уитстон, ему в торжественной форме сообщили, что он имеет возможность тратить за счет университета 50 фунтов в год на физические приборы. Отныне он мог заказывать их для своих лекций, и это было равноценно прибавке к жалованью, причем довольно весомой.
Таким образом, в Кингс-колледже образовалась за истекшие двадцать пять лет солидная физическая лаборатория, в которой и проводились занятия.
Собственно, занятия в лаборатории, занятия с физическими приборами проводились в английских университетах и раньше. Студенты встречались с ними и у Форбса в Эдинбурге, и у Томсона в Глазго, да и у Максвелла в Абердине, но их скорее допускали к наблюдению за научной работой профессоров. Следующим шагом должно было стать превращение физических приборов, на которых раньше проводились исследования, в атрибуты повседневного учебного физического практикума. Этого, пожалуй, и добился Максвелл в Кингс-колледже, особенно когда читал лекции по экспериментальной физике студентам-экстерникам в 1864-1865 годах.
До следующей, высшей ступени было еще далеко, но Максвелл никогда не уставал мечтать о ней. Самостоятельная научная работа студента — лучший способ учиться физике — вот что было его убеждением, основанным на личном опыте. Только самостоятельное исследование могло принести глубокие знания, понимание сущности вещей и явлений. Для реализации этого нужно создать большую лабораторию, где у каждого студента были бы постоянное место и собственные физические приборы для собственных исследований, проводящихся по собственному плану, лишь корректируемому преподавателем. Это было, конечно, несбыточной мечтой — для осуществления такой программы нужны были многие тысячи фунтов. А главное — перелом в воззрениях на физику, на ее роль в жизни людей XIX века, на ее преподавание. Джеймс Клерк Максвелл вряд ли предполагал, что его мечтам суждено будет через десять лет, хотя и не в полной мере, осуществиться.
ЛОНДОНСКАЯ ЖИЗНЬ, ЛОНДОНСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В Лондоне Максвеллы поселились по улице Палас Гарден-террас, в доме № 8, двухэтажном стандартном особняке, плотно сжимаемом с обеих сторон своими двойниками. Район был чудесный, в каком-то смысле даже редкий — с чистым воздухом, струящимся из Кенсингтонских дворцовых садов, из Гайд-парка, без заводов и железной дороги поблизости. Кругом — дворцы, история и политика. Совсем неподалеку — Кенсингтонский дворец, оккупированный шумной ватагой королевских отпрысков, детей королевы Виктории, между домом Максвеллов и дворцом — русское посольство. Рядом — улицы, где жили Ньютон, Маколей, Теккерей, Свифт.
А вот с соседями дело было плохо, то есть сначала, может быть, было и хорошо, но, как только Максвелл стал производить свои эксперименты со светом в цветовом ящике, они полностью испортились. Соседи избегали Максвелла, прятали глаза, суетливо расступались перед ним. Максвелл долго не мог понять причины, до тех пор, пока однажды не попытался заглянуть в свои окна с улицы. Как он и предполагал, с улицы, из окон соседних домов, если не задвигать занавеси, прекрасно был виден рабочий стол. Но то, что было на столе, заставило Максвелла содрогнуться — на столе стоял... гроб.
Цветовой ящик, самый большой из тех, которые были построены к тому времени и на котором можно было производить самые тонкие эксперименты по смешению цветов, представлял собой продолговатую коробку. Длина ее была чуть больше двух метров, и окрашена она была для чистоты эксперимента — для отсутствия бликов, подсветок — черной краской. Осталось положить это дьявольское сооружение на стол, и иллюзия получалась полной — на столе, несомненно, стоял гроб.
Молодая чета, неделями хлопочущая рядом с гробом, веселящаяся рядом с ним и в присутствии его, и более того, молодой мужчина, целыми часами подглядывающий внутрь гроба через дырочку (окуляр!), — все это могло кого хочешь вывести из себя. Соседи дружно сочли Максвелла маньяком.
А он был не маньяк. Но одержимый. Одержимый мыслью о том, что мир жаждет понимания — все можно понять и объяснить, но не дошли еще до чего-то руки, не хватило смекалки и нет пока облегчения старающейся выразить себя и быть понятой природе. Вот почему и неровная кромка берега, и форма облаков, и идеально гладкая внутренняя поверхность водоворота, и даже способность кошки падать с небольшой высоты именно на четыре лапы становятся для него объектом пристального внимания и исследования. Он был из счастливой породы физиков-»объяснителей», как Ньютон и Фарадей, Томсон и Тэт.
Он изучает свои глаза, заглядывает внутрь глаз Кетрин, они вместе ставят эксперименты по восприятию цветов разными людьми, и прежде всего ими самими. Сохранилась таблица измерений характеристик цветовой восприимчивости глаз для «Дж» и «К». Из этих таблиц видно, что слепота отдельных участков глаз к синему цвету сильно выражена в его, Джеймса, темных глазах, а в ее — светлых — такого эффекта почти нет. Еще одна форма выражения любви — научное изучение глаз близкого человека? А может быть, есть в этом что-то неуловимо трогательное, может быть, это и есть одна из находок, позволяющих им и, может быть, другим быть еще ближе друг другу? Может быть, стремление «все глубже и глубже погружаться в таинства наших «я», стремление постичь внешность и суть близкого человека и составляют дополнительную грань любви?
Их жизнь текла счастливо.
ПЕРВАЯ В МИРЕ ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ
В Лондоне Джеймс Клерк Максвелл впервые вкусил плоды своего признания в качестве крупного ученого, а ведь главное было еще впереди, пока были лишь предгорья его вершин, предвестники его великих успехов.
В июне 1860 года он присутствовал на ежегодном конгрессе Британской ассоциации, который в том году проводился в Оксфорде. Пришлось доставлять в разобранном виде в Оксфорд «гроб» — цветовой ящик. Доклад, сделанный Максвеллом, убедил скептиков если не в трехкомпонентной теории цветов, то в том, что в связи со смешением цветов можно производить точные количественные измерения. Что «гроб» — громоздкое черное сооружение, состоящее из призмы, двояковыпуклой линзы, эталонных образцов бумаги разных цветов (работа Хея) и экрана, — является для цветов тем же, чем для длины является линейка, для массы — весы. Джеймс Клерк Максвелл ввел в физику два новых измерительных прибора — цветовой волчок, раньше служивший лишь для демонстрации, не для измерения, и цветовой ящик. Члены Британской ассоциации могли быть довольны — к викторианской плеяде творцов в области науки, сменивших творцов материальной сферы Уатта, Эйркафта, Стивенсона, к этому созвездию умов, блистающему именами Фарадея, Томсона, Брюстера, Джоуля, добавлялась новая звезда, может быть, еще не столь яркая, не альфа, может быть, и не бета, но все же достаточно заметная. За исследования по смешению цветов и оптике Королевское общество наградило Максвелла медалью Румфорда, официально закрепив его положение на викторианском небосклоне.
А Джеймс одержим новыми планами — он задумывает доказать свою трехкомпонентную теорию цветов наиболее эффектным способом, смелым до неправдоподобия. Он решает при первом удобном случае продемонстрировать своим ученым коллегам цветную фотографию. Цветная фотография в век едва чувствительных пластинок, требующих чудовищных выдержек, когда проблема простейшего черно-белого снимка была еще поистине проблемой из-за немыслимых характеристик пластинок, «видящих» мир совсем не в тех цветах, что человеческий глаз... Действительно, это было неправдоподобно смело.
17 мая 1861 года Максвеллу была предложена высокая честь — прочесть лекцию перед Королевским институтом — учреждением, прославленным именами Румфорда, Дэви и Фарадея. Тема лекции — «О теории трех основных цветов». И вот на этой-то лекции Джеймс решил привести окончательное, уже бесспорное доказательство своей трехкомпонентной теории.
Когда он обратился к одному из самых искушенных фотографов того времени, редактору издания «Заметки по фотографии» Томасу Саттону, с предложением сделать цветную фотографию, тот поразился. И, разумеется, отказался. Максвеллу стоило больших усилий уломать его.
Решено было сфотографировать бант, повязанный из трехцветной ленты, помещенный на фоне черного бархата. Фотографирование велось при ярком солнечном свете и проводилось три раза. Первый раз бант фотографировался через прозрачный плоский сосуд, наполненный раствором хлорида меди. Раствор был ярко-зеленого цвета. Другой раствор, через который проводилось экспонирование второго негатива, был раствором сульфата меди — он был ярко-синего цвета. Еще один негатив получили через ярко-красный раствор тиоцианата железа.
Все эти негативы были затем напечатаны на стекле.
Не без тревоги входил 17 мая 1861 года Джеймс Клерк Максвелл в многоколонный особняк на улице Абермарл, Пикадилли, где помещался Королевский институт. Съезжались кареты, подвозя важных и немощных, поспешали пешком помоложе и без заслуг, с женами и без.
Вот установлены в зале три волшебных фонаря, наготове тяжелые стеклянные позитивы. Перед линзами каждого фонаря — те же фильтры, которые использовались при съемке, — красный, синий и зеленый.
Джеймс разъясняет собравшимся дамам и господам сущность трехкомпонентной теории, настаивая на том, что основными цветами, с помощью которых можно получить все другие, являются именно они: красный, синий, зеленый.
Нужно доказательство? Пожалуйста! Джеймс дает указание Саттону и ассистентам поджигать бруски углекислого кальция — друммондов свет для волшебных фонарей. Бруски разгораются, давая яркий белый, чуть синеватый свет.
Красные лучи одного фонаря прорезают темноту зала, потом в воздухе лекционной аудитории возникают зеленые и синие лучи. Три цветных изображения проецируются на белый экран таким образом, чтобы они совпали, и тогда...
Все видят цветное, совершенно натуральное изображение банта из многоцветной ленты, как бы созданное яркими красками художника. Это уже совсем непохоже на обычную продукцию примитивного устройства, дающего черно-белое, как плохая гравюра, изображение.
Это был, конечно, полный триумф трехкомпонентной теории цветов. И никто тогда не понял, что главное значение того дня было вовсе не в торжестве трехкомпонентной теории, а в том, что в процессе доказательства этой теории миру была впервые продемонстрирована цветная фотография!
Довольные, удовлетворенные, расходились. Максвелл с трудом пробирался к выходу, где ожидала Кетрин, — его затолкали в большой толпе, расспрашивая по пути о деталях. Джеймс, работая локтями, никак не мог выбраться, и в это время откуда-то сверху, с лестницы, донесся до него знакомый, уже далеко не молодой, но бодрый и веселый голос:
— Послушайте, Максвелл! Уж вам-то, специалисту по движению молекул, сам бог велел легко пробираться в толпе!
Это был Фарадей, и Максвелл тут же поспешил к нему — приглашать на торжественный обед, посвященный такому славному дню.
Но что это за «специалист по движению молекул»? Ведь речь шла о трехкомпонентной теории цветов? Что же, Максвелл опять нашел себе новую проблему? Но об этом после, а пока перенесемся на сто лет вперед от этого заседания Королевского института.
16-18 мая 1961 года в Лондоне состоялась научная конференция, посвященная столетию со дня демонстрации первой цветной фотографии. Был прочитан ряд докладов, из которых особенно поразил присутствовавших сделанный Р.М.Эвансом.
Эванс с помощью Кавендишской лаборатории и могучей фотографической компании «Кодак» сумел достать чудом сохранившийся комплект негативов Максвелла и полностью воссоздать условия демонстрации цветных диапозитивов. Для этого специалистам фирмы пришлось создавать специальные низкочувствительные пластинки (что оказалось трудной задачей) с чудовищно плохими цветовыми характеристиками (а это было уже совсем трудно!), подготовить растворы тех же солей, с тем чтобы сделать светофильтры, провести специальное спектрофотометрическое исследование пластинок и фильтров.
Ученым удалось точно воссоздать условия опыта и полностью проанализировать все свойства фильтров и материалов Саттона — Максвелла. Вывод был поразителен: при имевшихся тогда фотографических материалах было принципиально невозможно продемонстрировать цветную фотографию! Материалы того времени были абсолютно нечувствительны, например, к зеленому цвету! Впрочем, точно так же, как и к красному...
И все же цветная фотография была продемонстрирована. И это произошло в присутствии столпов английской научной мысли! Современные ученые вынуждены были продолжать поиски и пришли к совершенно парадоксальному выводу: Максвелл, сам того не подозревая, фотографировал в синих и невидимых ультрафиолетовых лучах, третьим компонентом был зеленый цвет, который оказался «внутри синего»! Вместо тройки основных цветов, которую намеревался доказать Максвелл, эффект цветной фотографии создавала совершенно другая тройка цветов!
Максвелл случайно, с помощью почти невозможного счастливого стечения обстоятельств, смог продемонстрировать цветную фотографию за пятнадцать лет до того, как создание новых фотографических эмульсий сделало это по-настоящему возможным.
Максвеллу было тридцать лет. Он был молод, энергичен и смел. Ему в то время удавалось даже невозможное...
КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГАЗОВ
Настало теперь время пояснить, почему Фарадей, стоя наверху лестницы, весело крикнул Максвеллу, проталкивающемуся локтями через толпу:
— Послушайте, Максвелл! Уж вам-то, специалисту по движению молекул, сам бог велел легко пробираться в толпе!
Действительно, и в конце абердинского периода, и в начале лондонского у Максвелла появилось наряду с оптикой и электричеством новое научное увлечение — кинетическая теория газов. На занятия ею его натолкнули две статьи Клаузиуса 1857 и 1859 годов. В статьях рассматривалась роль, которую могла бы играть вращательная энергия молекул в теплосодержании вещества, и была сделана попытка определить физический смысл понятия свободного пробега молекулы.
Эти статьи давали новое развитие взглядам Даниила Бернулли, члена Петербургской академии наук.
Бернулли первым указал на то, что теплота есть внешнее проявление колебательного движения отдельных молекул. Молекулы, следовательно, обладали скоростью. Все — одинаковой. Клаузиус первый высказал мысль о том, что эти скорости могут быть разными.
Но разные скорости — это гигантская трудность в формулировании газовых законов. Ведь немыслимо записывать эти законы для каждой отдельной молекулы! И Клаузиус приходит к понятию «средней» скорости молекул, точнее — средней кинетической энергии молекул.
Клаузиус, сказав «а», не говорил «б».
Можно ли переделать формулы кинетической теории таким образом, чтобы учесть различие между скоростями молекул, учесть каждую отдельную молекулу? Конечно, нельзя! Но всегда можно математически точно выразить, насколько вероятно существование в газе при определенной температуре молекул с именно такой скоростью и какую часть от общего числа будут составлять молекулы с такой скоростью или близкой к ней. Существовавшая уже к тому времени теория вероятностей позволяла, например, вычислить вероятность попадания пули в мишень или вероятность проживания, например, в Лондоне мужчин именно такого роста. Эта возможность — и попадания пули в мишень, и наличия в Лондоне людей такого-то роста, и наличие в газе молекул с такой-то скоростью — описывалась однотипной кривой, имеющей форму колокола. Вершина ее соответствовала и «яблочку» мишени, и самому что ни на есть часто встречающемуся мужскому росту в Лондоне того времени: 168 сантиметров, и наиболее вероятной в данном газе скорости молекулы.
Это было нововведением колоссальной, непреходящей, философской важности для физики. Впервые в физике были сказаны слова «вероятно», «это событие может произойти с большой степенью вероятности». Раньше события были строго детерминированы. Все физические законы несли на себе печать полной определенности.
Если известен путь и время равномерного прямолинейного движения, можно однозначно определить скорость, причем не с какой-либо степенью вероятности, а совершенно точно.
По Максвеллу, в результате взаимных столкновений между упругими шариками — молекулами газа — в конечном счете получается некоторое стационарное распределение скоростей, группирующихся при заданной температуре вокруг наиболее вероятной скорости. Могут быть люди очень высокого роста и очень низкого, но наиболее вероятным ростом мужчины в Лондоне в 1860 году будет именно 168 сантиметров, и эта цифра уже совсем не «вероятна», а абсолютно точна.
В физику впервые вошли вероятностные представления, законы статистики. В физике произошла революция, а многие слушатели докладов Максвелла на ежегодных встречах Британской ассоциации 1859 года в Абердине и затем в 1860 году в Оксфорде этого даже не заметили. Для большинства это было очередным физико-математическим упражнением, с помощью которого можно было прийти к тем же выводам, что и раньше, при принятии одной, средней скорости молекул в газе. Это, по мнению многих, было лишь математической гипотезой, не лучшей и не худшей, чем другие, поскольку результаты получались теми же, что и у Клаузиуса с его одной «среднеквадратичной» скоростью. А может быть, эта новая теория казалась кое-кому и вредной, поскольку молекулярный хаос, введенный Максвеллом, был внешне куда менее привлекателен и математически куда более сложен.
А один из выводов новой теории, не совпадавший со старыми, выведенными из предположения о равенстве скоростей молекул, был просто физически абсурден. И что самое смешное — сам докладчик тоже не верил в него, но так это получалось из теории. Молодой Максвелл предлагал кому угодно проверить его выкладки и найти в них ошибку, если она есть. И похоже, что он сам этого страстно желал — ошибки, поскольку ему самому вывод казался парадоксальным, физически неочевидным: получалось, что вязкость газа не зависела от его давления!
— Этот вывод из математической теории является крайне поразительным, — говорил молодой докладчик, — и единственный опыт, с которым я встретился в этой области, как будто его не подтверждает...
Неплохое заявление для автора новой теории! Эта теория не давала пока никаких особенно новых результатов, за исключением, как всем казалось, заведомо неверного, и отношение к ней было прохладным. А ряд ученых прямо заявили, что эта теория ненаучна, спекулятивна, поскольку истинная наука не должна иметь дела с «ненаблюдаемыми» величинами.
Максвелл и не заметил, как попал в самую горячую точку философских битв. Но здесь ему нечего было бояться — его крепкая философская позиция спасала его как от Сциллы идеализма, так и от Харибды механицизма.
Максвеллу удалось подчинить строгим законам хаотическое движение молекул газа. Именно полная беспорядочность движения молекул позволила ему извлечь из хаоса порядок. Статистический, вероятный подход позволял точно указать, например, число частиц, обладающих удвоенной или утроенной средней кинетической энергией. И эти цифры, как оказалось, подчинились универсальному закону, который не зависит от природы частиц и сил, с которыми они действуют друг на друга. В каком-то смысле закон распределения молекул по скоростям, данный Максвеллом, оказался новым фундаментальным свойством материи, находящейся в равновесии, свойством, не известным ранее никому. Максвелл подошел к самым границам механического понимания материи. И переступил их.
Да, Максвелл попал на линию огня, лучше сказать — на ничейную землю, обильно осыпаемую градом снарядов обеих враждующих сторон, двух групп философов. Вывод Максвелла о господстве в мире молекул законов теории вероятностей затрагивал самые фундаментальные основы мировоззрения, и противники, найдя наконец общего врага, объединились в атаках на него.
Одни полагали, что все в природе может быть объяснено на основе механических представлений. Некогда ценное, но возведенное в XIX веке в абсолют, такое мнение привело в конце концов к грубому механицизму, убеждению в том, что движущей силой мира являются законы механики, с помощью которых можно объяснить любые явления.
Очевидная несостоятельность такой теории, невозможность объяснить многие вновь открытые закономерности чисто механическим путем (не один физик сломал зубы, пытаясь механически представить второй закон термодинамики!) привели к появлению другой теории — феноменологической. Сторонники ее призывали изучать мир таким, как он есть, упорядочивать и описывать опытные данные, не вдаваясь в «спекуляции», умствования, не строя никаких моделей, не подтвержденных опытом. Эти стали абсолютизировать уже опыт и ощущения. С ними Максвелл, столько времени потративший на теорию цветов, и убедившийся в крайней субъективности ощущений — сравните ощущения дальтоника и нормального человека! — никак не мог бы согласиться. Их с Максвеллом разделяла глубочайшая убежденность его в конечной познаваемости мира, в возможности объяснения даже самых сложных явлений.
Его материалистическое миропонимание, окрепшее в общении с природой, в изучении ее, его опыт, говорящий об объективности и познаваемости законов природы, несгибаемы. И в то же время не так прост он, Максвелл, чтобы соглашаться с механицистами, — изучение фарадеевских трудов, его собственные, находящиеся в зародыше электрические теории подсказывают ему, что не все так просто, как толкуют механицисты, фетишизирующие законы механики. Чего стоит хотя бы некритичное восприятие закона тяготения, пусть блестяще доказавшего правильность своей математической интерпретации в открытии Адамса и Леверрье! Даже закон тяготения, понимаемый как действие ни через что, просто через расстояние, неизбежно приводил к тому, что у тел появились некие «присущие им изначально» свойства притяжения, совершенно таинственным способом сообщаемые без посредства среды партнеру по взаимодействию.
Нет, не прост был молодой Максвелл, слишком искушен он был уже в математической физике, чтобы попасть в объятия механицистов. Да, он использует законы соударения упругих шариков, которыми он представляет молекулы, но считает ли он молекулы только упругими шариками? С другой стороны, Максвелл выступает против фетишизации субъективных ощущений, но разве не он же считает опыт высшим критерием правильности любой физической теории?
Обвиняли Максвелла в механицизме — мол, слишком увлекается средствами классической механики, механическими моделями... Обвиняли на этот раз несправедливо — Максвелл всегда считал, что механическая модель лишь в самых общих и простых чертах отражает исследуемые процессы и явления природы. Любой механический образ, по Максвеллу, отражает природу отнюдь не тождественно, а с определенной степенью приближения, отражает лишь одну сторону ее свойств. Механические модели, механические представления играли у Максвелла роль рабочих гипотез, конструкций, помогающих изобразить сложные предметы и явления гораздо проще и наглядней. Механические модели были строительными лесами его теорий.
Нельзя было ограничиваться чисто феноменологическим описанием. С другой стороны — невозможно было абсолютизировать и гипотетическое описание. Избрав середину, Максвелл пришел к методу аналогий, при котором можно было привлекать физические отношения в уже изученных явлениях и впервые учитывать данные, характеризующие новые явления. И поскольку из старых отраслей науки именно механика была наиболее разработанной, то механические аналогии, как самые наглядные, самые ясные и понятные, были вполне уместны и закономерны. И тут — главное. Механические модели были для Максвелла правомерны лишь до тех пор, пока они подтверждали то, что наблюдалось в экспериментах. Он был готов отказаться от своего вывода о независимости коэффициента внутреннего трения газов от давления, вывода математически безупречного, ввиду казавшегося тогда очевидным несовпадения этого вывода с экспериментом.
Будучи по складу своего мышления физиком, твердо уверенным в объективном и независимом от субъекта существовании окружающего мира, будучи уверенным во всеобщей взаимосвязи и изменчивости явлений, в их многоликости и «многослойности», Максвелл буквально на каждом шагу демонстрировал диалектичность своего мышления, и введение им совершенно немыслимых с позиций механицизма вероятностных, статистических методов в молекулярную теорию доказало зрелость его философских концепций, мощь философских обобщений. Заявление о том, что в мире молекул «господствует случай», было по своей смелости одним из величайших подвигов в науке.
БОЛЬШИЕ ЗАМЫСЛЫ
Работа в Кингс-колледже требовала уже куда больше времени, чем в Абердине, — лекционный курс продолжался девять месяцев в году. Время для научной работы приходилось урывать по утрам, пока не встали еще Кетрин и ее брат, приехавший в Лондон на серьезную операцию. Брату и его сиделке был отведен весь первый этаж небольшого особняка Максвеллов, и хозяин поглощал по утрам свою традиционную овсянку, держа тарелку на коленях, — в крошечной каморке наверху не было места для стола.
В той крошечной каморке набросал Максвелл первые, еще туманные контуры своих грядущих книг. Уже пришла пора писать книги, уже накопились мысли, пора было давать вещам свое толкование. Особенно нужно, так ему думалось, написать систематические книги по электричеству и теплу. К книге по оптике он после своей первой кембриджской попытки охладел, да и мысли его по цветовому восприятию и теории цветов не лежали, в общем, выше уровня других исследователей, и прежде всего Гельмгольца. По-видимому, по сравнению с новыми идеями по теплу и электричеству недостойны были они особой книги.
Можно представить себе, как в крошечной каморке наверху набрасывает тридцатилетний Джеймс Клерк Максвелл план своей будущей книги по электричеству в одном из своих рабочих блокнотов (один из них всегда с собой — нельзя упускать мысли, позволять им улетучиваться! Даже самая хорошая память имеет лазейки!).
Один из таких блокнотов лондонского периода сохранился. И в нем — драгоценность — первый набросок плана рукописи по электромагнетизму — зародыш будущего «Трактата». Вот что вошло в этот набросок, вот то, что счел необходимым ввести Клерк Максвелл в свой будущий труд, вот кого считал он своими предшественниками:
«Гл. 1. Открытие Эрстедом действия тока на магнит. Эксперименты и математические теории Ампера. Эксперименты Фарадея по вращению магнитов и токов.
Гл. 2. Открытие Фарадеем индукции электрических токов. Фарадеевская теория силовых линий и электротонического состояния...»
Итак, Эрстед, Ампер, Фарадей...
Да, новая история электричества, история электромагнетизма, история открытия союза магнетизма и электричества, должна была начинаться именно с Ганса Христиана Эрстеда, профессора Копенгагенского университета.
Открытие произошло, можно сказать, случайно.
15 февраля 1820 года34 сорокатрехлетний профессор Эрстед читал своим студентам лекцию, по ходу которой он хотел продемонстрировать весьма курьезное по тем временам свойство электрического тока нагревать проволоку, по которой он проходит. Это была великолепная случайность — рядом с проволокой, на которую были устремлены глаза студентов, оказался компас, в общем-то не имевший прямого отношения к теме лекции. Один из зорких студентов обратил внимание на то, что в то время, как по проволоке проходит ток, стрелка компаса вздрагивает и немного поворачивается. Его роль в истории была указать профессору на непонятное явление, надеясь получить ответ (эта роль сходна в чем-то с ролью матроса, крикнувшего о новой земле с верхушки мачты Колумбу). Но и для профессора это явление было столь же неожиданным. Но очень и давно желанным — впервые ясно открылось человеку прямое действие электрического тока на магнит, увидеть которое он уже много лет стремился.
Придя домой после знаменательной лекции, Эрстед тут же принялся за описание и объяснение явления, наблюдавшегося в аудитории. Его «мемуар» на латинском языке, состоящий всего лишь из четырех страничек, содержал в нескольких строках описание наблюдаемого явления, а на остальном пространстве — объяснение его. И в объяснении незаметно проскользнула легкой, неуловимой тенью ценнейшая мысль о вихревом характере магнетизма. Мемуар вышел в свет 21 июня 1821 года (мы не случайно датируем здесь события так точно — события в дальнейшем будут развиваться в весьма непривычном для неторопливой тогда науки темпе) и уже через несколько дней появился в Женеве, где в то время был с визитом французский физик Араго. Первое же знакомство с опытом Эрстеда показало Араго, что найдена разгадка задачи, над которой бился и он, и наверняка многие другие. Впечатление от опытов Эрстеда было столь велико, что один из присутствовавших при демонстрации поднялся и с волнением произнес ставшую впоследствии знаменитой фразу:
— Господа, происходит переворот!
Араго возвращается в Париж потрясенный. На первом же заседании академии, на котором он присутствовал сразу по возвращении, 4 сентября 1820 года, он делает устное сообщение об опытах Эрстеда. Записи, сделанные в академическом журнале ленивой рукой протоколиста, свидетельствуют, что академики просили Араго уже на следующем заседании, 11 сентября, то есть через неделю, показать всем присутствующим опыты Эрстеда, так сказать, «в натуральную величину».
Сообщение Араго слушал с сердцебиением внезапно побледневший академик Ампер. Он, может быть, почувствовал в тот момент, что пришла его пора перед лицом всего мира принять из рук Эрстеда эстафету открытия. Он долго ждал этого часа — около двадцати лет, как Араго и как Эрстед. Все трое успели состариться в ожидании, превратиться из пылких юношей в солидных, стареющих профессоров. И вот час пробил — 4 сентября 1820 года Ампер понял, что он должен действовать. Но не знал как. И с замиранием сердца ждал следующего заседания, которое должно было состояться через неделю.
...И другое заседание кончается, протоколист Парижской академии выводит под датой 11 сентября: «... г.Араго повторил перед академией опыты г.Эрстеда». Академики чинно разошлись по домам, а уже немолодой — сорок пять, по тем временам — старик! — Ампер бежит сломя голову к слесарю, чтобы заказать копию инструментов, показанных только что Араго. Нужно скорей установить эти инструменты дома и все эксперименты проделать собственными неумелыми руками. Ведь Ампер — теоретик, он никогда не ставил сложных опытов, у него нет лаборатории, он не может израсходовать ни одного казенного франка на покупку приборов. Пока слесарь делает не слишком-то сложные приборы, Ампер собственными силами сооружает немудрящий лабораторный стол. Два его друга — добровольные помощники Френель и Депре помогают ему. Небольшой вольтов столб, замкнутый проводом, — основной объект изучения Ампера. Он подносит компас то к проводу, то к столбу и сразу же убеждается в том, что стрелка изменяет свое направление и рядом с проводом, и рядом с самим столбом. Стоит цепь разомкнуть — эффект полностью пропадает.
К следующему заседаниях академии, 18 сентября, часть приборов еще не была готова, но Ампер решил выступить и рассказать о том, что ему стало ясным, а также о тех приборах, которые он намеревался построить. В протоколе сохранились слова Ампера: «Я описал приборы, которые намереваюсь построить, и среди прочих — гальванические (то есть обтекаемые током) спирали и завитки. Я высказал ту мысль, что эти последние должны производить во всех случаях такой же эффект, как магниты... я свел все магнитные действия к чисто электрическим эффектам».
Эти пророческие слова Ампера, выношенные в течение всего лишь одной недели, стали основой его электродинамики — науки, сводящей все магнитные явления к явлениям электрическим. Поражает уверенный тон Ампера; он высказывает мнение, что спирали и завитки с током должны вести себя как магниты, не проверив это эскпериментально. Это говорит о твердой уверенности Ампера в ожидаемом им результате, о том, что основные контуры его учения, сводящего магнетизм именно к замкнутым круговым токам, были ему уже ясны.
На следующий день, 19 сентября, Ампер хотел было написать сыну о всех тех догадках, которые мелькали в его мозгу, но отложил перо — нужно было как можно скорее проверить, будут ли завитки и спирали обнаруживать те же свойства, что и магниты. Однако слабые вольтовы столбы, имевшиеся в распоряжении Ампера, Френеля и Депре, не давали желаемого эффекта — заявления, сделанные Ампером, грозили остаться неподтвержденными или даже неверными. Уже завтра нужно было бы Амперу выступать с докладом, подтверждающим его теории, а результатов, тех результатов, которые нужны были Амперу, все не было. Окончательный опыт — взаимодействие двух токов как магнитов, — убедительно говоривший бы о том, что притяжение и отталкивание объясняются только электрическими токами, а магнитные свойства являются лишь следствием их, не удавался.
Итак, это было воскресенье 24 сентября. А в четыре следующего дня Ампер должен был подняться на трибуну. Завтрашний день представлялся не совсем в розовом свете, однако надежда все же оставалась — Ампер вспомнил, что для университета только что был изготовлен новый большой вольтов столб. Столб оказался на месте, однако начальство, поднятое на ноги в воскресный день по такому поводу, давать столб не желало, видимо боясь, что вещь будет испорчена в процессе сомнительных экспериментов. Пришлось идти за мастерами, делавшими столб, и при отцах университета заказать еще один такой же, с тем чтобы мог быть возвращен университету по изготовлении. Только на этих началах Амперу удалось умыкнуть необходимый столб и как обожаемую невесту доставить его в свою небольшую квартиру на Фоссе-де-Сент-Виктор.
Новый столб был неподражаем. Ток, струившийся по ожившим спиралькам, завиткам, легко превращал их в магниты, они притягивались одними концами, отталкивались другими, словом, вели себя неотличимо от кусков магнитного железняка или намагниченного железа...
Коронный опыт — две спирали, взаимодействующие друг с другом как магниты. В этом опыте ничего не могло обладать тем, что тогда называли «магнитной жидкостью», и все же магнитное взаимодействие было налицо — оно ясно объяснялось протеканием по спиралькам тока.
Больше того — и два проводника, по которым шел электрический ток, притягивались и отталкивались, как магниты.
Когда в четыре часа дня в понедельник Ампер поднимался на кафедру академии, он уже мог доказать, что его взгляды, высказанные неделю назад, были правильны.
Вечером Ампер засел за прерванное письмо к сыну: «Наконец вчера получил у Дюлона большой столб... Опыты, проведенные мною, прошли с полным успехом, а сегодня в 4 часа дня я их повторил на заседании академии. Не было сделано никаких возражений; вот новая теория магнита, сводящая все к явлениям гальванизма. Это совершенно непохоже на то, что я представлял себе до сих пор...»
Работа Ампера над своей теорией на этом не кончалась. Он проводил все новые и новые эксперименты, каждую неделю докладывая их результаты академии. Он выступал и 2-го, и 9-го, и 16-го и 30 октября, затем несколько раз в ноябре и декабре. Потом он издал множество трудов, посвященных своим работам по электромагнетизму, в которых сформулировал немало ценных мыслей. И главной, может быть роковой, его ошибкой была слепая приверженность Ньютоновым и кулоновскому законам, его приверженность «дальнодействию». Не замечал Ампер, что формулы, полученные им, Био, Саваром, Лапласом, становились все сложнее и сложнее. Они давали правильные результаты, но каждый шаг давался все трудней и трудней. На основе дальнодействия уже не удавалось делать новых открытий. Можно было только уточнять старые формулы, применять их для более и более частных случаев. Сложность формул усугублялась, но они не приносили новых идей. Дальнодействие постепенно исчерпывало себя, становилось бесплодным. А Ампер не понимал этого. И упрямо продолжал разрабатывать обнаруженную им жилу, не замечая, что она уже истощилась. И упрямо строил свою теорию электричества лишь на одном факте — факте магнитного взаимодействия двух элементов тока.
Оригинальность и смелость его электромагнитных откровений падала с каждой неделей, с каждой новой статьей. Невозможно отделаться от мысли, да так это было и в действительности, что после двух недель (11-25 сентября) к его представлениям не было добавлено уже ничего существенного.
Период «реакции» кончился, и мозг Ампера постепенно возвращался к своему прежнему состоянию. Радостные недели творческого счастья прошли, и Ампер опять опустился в пучину своих телесных и душевных страданий. Уже через четыре года, мучимый стенокардией, Ампер писал: «Я никогда не был таким несчастным, как теперь, удрученный невзгодами, перегруженный и озабоченный работой. У меня нет ни в чем утешения, и, глядя без удовольствия на мой сад, где я проложил новые тропинки, я не представляю себе, что будет со мной!»
Эрстед начал рассылку своего мемуара в конце июля, а в начале августа невесомые странички лежали уже на столе профессора Королевского института в Лондоне Гемфри Дэви. Сразу же Дэви послал за своим незаменимым помощником, бывшим подмастерьем, продавцом и лабораторным сторожем, а теперь уже начинающим завоевывать славу молодым ученым Майклом Фарадеем. Необходимо было как можно скорее проверить результаты Эрстеда, результаты шокирующие, неправдоподобные.
Уже назавтра эксперимент повторен, и то, что вчера казалось невероятным, сегодня воплощено в мимолетном, не очень сильном отклонении магнитной стрелки, находящейся рядом с проводником, по которому протекает электрический ток.
Знаменитый Дэви и еще неопытный Фарадей внезапно ясно ощутили, как и все, видевшие этот опыт, что рушится стена между двумя дотоле никак, казалось, не связанными друг с другом силами природы — электричеством и магнетизмом. Стена пала, и обнаружились неведомые связи, повеяло свежим воздухом новых открытий.
Был август. Еще только в сентябре об опытах Эрстеда узнает Ампер, и ему, счастливцу, суждено будет первому понять и истолковать их. Ампер, «этот докучливый умник Ампер», опередил Дэви и Фарадея, развив за какие-нибудь две недели свою стройную теорию образования магнетизма за счет электричества.
ФАРАДЕЙ. ОТКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ
Одержимый идеями о неразрывной связи и взаимодействии сил природы, Фарадей пытался доказать, что точно так же, как с помощью электричества Ампер мог создавать магниты, так же и с помощью магнитов можно создавать электричество.
Логика его была проста: механическая работа легко переходит в тепло; наоборот, тепло можно преобразовать в механическую работу (скажем, в паровой машине). Вообще, среди сил природы чаще всего случается следующее соотношение: если А рождает Б, то и Б рождает А.
Если с помощью электричества Ампер получал магниты, то, по-видимому, возможно «получить электричество из обычного магнетизма». Такую же задачу поставили перед собой Араго и Ампер в Париже, Колладон — в Женеве.
Фарадей ставит множество опытов, ведет педантичные записи. Каждому небольшому исследованию он посвящает параграф в лабораторных записях (изданы в Лондоне полностью в 1931 году под названием «Дневник Фарадея»). О работоспособности Фарадея говорит хотя бы тот факт, что последний параграф «Дневника» помечен номером 16041. Блестящее мастерство Фарадея-экспериментатора, одержимость, четкая философская позиция не могли не быте вознаграждены, но ожидать результата пришлось долгих одиннадцать лет.
Кроме интуитивной убежденности во всеобщей связи явлений, его, собственно, в поисках «электричества из магнетизма» ничто не поддерживало. К тому же он, как его учитель Дэви, больше полагался на свои опыты, чем на мысленные построения. Дэви учил его:
— Хороший эксперимент имеет больше ценности, чем глубокомыслие такого гения, как Ньютон.
И тем не менее именно Фарадею суждены были великие открытия. Великий реалист, он стихийно рвал путы эмпирики, некогда навязанные ему Дэви, и в эти минуты его осеняло великое прозрение — он приобретал способность к глубочайшим обобщениям.
Первый проблеск удачи появился лишь 29 августа 1831 года. В этот день Фарадей испытывал в лаборатории несложное устройство: железное кольцо диаметром около шести дюймов, обмотанное двумя кусками изолированной проволоки. Когда Фарадей подключил к зажимам одной обмотки батарею, его ассистент, артиллерийский сержант Андерсен, увидел, как дернулась стрелка гальванометра, подсоединенного к другой обмотке.
Дернулась и успокоилась, хотя постоянный ток продолжал течь по первой обмотке. Фарадей тщательно просмотрел все детали этой простой установки — все было в порядке.
Но стрелка гальванометра упорно стояла на нуле. С досады Фарадей решил выключить ток, и тут случилось чудо — во время размыкания цепи стрелка гальванометра опять качнулась и опять застыла на нуле!
Фарадей был в недоумении: во-первых, почему стрелка ведет себя так странно? Во-вторых, имеют ли отношение замеченные им всплески к явлению, которое он искал?
Вот тут-то и открылись Фарадею во всей ясности великие идеи Ампера — связь между электрическим током и магнетизмом. Ведь первая обмотка, в которую он подавал ток, сразу становилась магнитом. Если рассматривать ее как магнит, то эксперимент 29 августа показал, что магнетизм как будто бы рождает электричество. Только две вещи оставались в этом случае странными: почему всплеск электричества при включении электромагнита стал быстро сходить на нет? И более того, почему всплеск появляется при выключении магнита?
На следующий день, 30 августа, — новая серия экспериментов. Эффект ясно выражен, но тем не менее абсолютно непонятен.
Фарадей чувствует, что открытие где-то рядом.
23 сентября он пишет своему другу Р.Филиппсу:
«Я теперь опять занимаюсь электромагнетизмом и думаю, что напал на удачную вещь, но не могу еще утверждать это. Очень может быть, что после всех моих трудов я в конце концов вытащу водоросли вместо рыбы».
К следующему утру, 24 сентября, Фарадей подготовил много различных устройств, в которых основными элементами были уже не обмотки с электрическим током, а постоянные магниты. И эффект тоже существовал! Стрелка отклонялась и сразу же устремлялась на место. Это легкое движение происходило при самых неожиданных манипуляциях с магнитом, иной раз, казалось, случайно.
Следующий эксперимент — 1 октября. Фарадей решает вернуться к самому началу — к двум обмоткам: одной с током, другой — подсоединенной к гальванометру. Различие с первым экспериментом — отсутствие стального кольца — сердечника. Всплеск почти незаметен. Результат тривиален. Ясно, что магнит без сердечника гораздо слабее магнита с сердечником. Поэтому и эффект выражен слабее.
Фарадей разочарован. Две недели он не подходит к приборам, размышляя о причинах неудачи.
Эксперимент триумфальный — 17 октября.
Фарадей заранее знает, как это будет. Опыт удается блестяще.
«Я взял цилиндрический магнитный брусок (3/4 дюйма в диаметре и 8 1/4 дюйма длиной) и ввел один его конец внутрь спирали из медной проволоки (220 футов длиной), соединенной с гальванометром. Потом я быстрым движением втолкнул магнит внутрь спирали на всю его длину, и стрелка гальванометра испытала толчок. Затем я так же быстро вытащил магнит из спирали, и стрелка опять качнулась, но в противоположную сторону. Эти качания стрелки повторялись всякий раз, как магнит вталкивался или выталкивался».
Секрет — в движении магнита! Импульс электричества определяется не положением магнита, а движением!
Это значит, что «электрическая волна возникает только при движении магнита, а не в силу свойств, присущих ему в покое».
Эта идея необыкновенно плодотворна. Если движение магнита относительно проводника создает электричество, то, видимо, и движение проводника относительно магнита должно рождать электричество! Причем эта «электрическая волна» не исчезнет до тех пор, пока будет продолжаться взаимное перемещение проводника и магнита. Значит, есть возможность создать генератор электрического тока, действующий сколь угодно долго, лишь бы продолжалось взаимное движение проволоки и магнита!
28 октября Фарадей установил между полюсами подковообразного магнита вращающийся медный диск, с которого при помощи скользящих контактов (один на оси, другой — на периферии диска) можно было снимать электрическое напряжение. Это был первый электрический генератор, созданный руками человека.
После «электромагнитной эпопеи» Фарадей был вынужден прекратить на несколько лет свою научную работу — настолько была истощена его нервная система...
Опыты, аналогичные фарадеевским, как уже говорилось, проводились во Франции и в Швейцарии. Профессор Женевской академии Колладон был искушенным экспериментатором (он, например, произвел на Женевском озере точные измерения скорости звука в воде). Может быть, опасаясь сотрясения приборов, он, как и Фарадей, по возможности удалил гальванометр от остальной установки. Многие утверждали, что Колладон наблюдал те же мимолетные движения стрелки, что и Фарадей, но, ожидая более стабильного, продолжительного эффекта, не придал этим «случайным» всплескам должного значения...
Действительно, мнение большинства ученых того времени сводилось к тому, что обратный эффект «создания электричества из магнетизма» должен, по-видимому, иметь столь же стационарный характер, как и «прямой» эффект — «образование магнетизма» за счет электрического тока. Неожиданная «мимолетность» этого эффекта сбила с толку многих, в том числе Колладона, и эти многие поплатились за свою предубежденность.
Фарадея тоже поначалу смущала мимолетность эффекта, но он больше доверял фактам, чем теориям, и в конце концов пришел к закону электромагнитной индукции. Этот закон казался тогда физикам ущербным, уродливым, странным, лишенным внутренней логики.
Почему ток возбуждается только во время движения магнита или изменения тока в обмотке?
Этого не понимал никто. Даже сам Фарадей. Понял это через семнадцать лет двадцатишестилетний армейский хирург захолустного гарнизона в Потсдаме Герман Гельмгольц. В классической статье «О сохранении силы» он, формулируя свой закон сохранения энергии, впервые доказал, что электромагнитная индукция должна существовать именно в этом «уродливом» виде.
Независимо к этому пришел и старший друг Максвелла, Вильям Томсон. Он тоже получил электромагнитную индукцию Фарадея из закона Ампера при учете закона сохранения энергии.
Так «мимолетная» электромагнитная индукция приобрела права гражданства и была признана физиками.
Но она никак не укладывалась в понятия и аналогии статьи Максвелла «О фарадеевских силовых линиях». И это было серьезным недостатком статьи. Практически ее значение сводилось к иллюстрации того, что теории близко— и дальнодействия представляют различное математическое описание одних и тех же экспериментальных данных, что силовые линии Фарадея не противоречат здравому смыслу. И это все. Все, хотя это было уже очень много.
МЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Статья «О фарадеевских силовых линиях» требовала продолжения. Электрогидравлические аналогии дали многое — с их помощью удалось записать полезные дифференциальные уравнения. Но не все отражали электрогидравлические аналогии. Никак не укладывался в их рамки важнейший закон электромагнитной индукции.
Как можно наглядно представить себе то, что при изменении магнитного поля возникает поле электрическое?
Нужно было придумать новый, облегчающий понимание процесса вспомогательный механизм, отражающий одновременно и поступательное движение токов, и вращательный, вихревой характер магнитного поля.
И то, что придумал для замены Максвелл, поражало.
Поражало грубой механичностью. Громоздкостью, неповоротливостью. Новая модель была вызывающе одиозной. Но работоспособной!
Она давала механическую модель явления электромагнитной индукции и «электротонического состояния»35 Фарадея, состояния, которое нельзя было обнаружить ни одним из известных способов, пока оно оставалось неизменным.
Новая модель Максвелла — это среда, охваченная вихревым движением. Вихри так малы, что умещаются внутри молекул. Вращающиеся «молекулярные вихри» производят магнитное поле. Направление осей вихрей совпадает с силовыми линиями, а сами они могут быть представлены как тоненькие вращающиеся цилиндрики. Скорость вращения вихрей определяет величину магнитной силы.
И тут возникала трудность. Трудность чисто механического порядка. Внешние, соприкасающиеся части вихрей должны двигаться в противоположных направлениях! То есть препятствовать взаимному движению.
Это напоминало такое положение, как если бы конструктор механизма поместил в непосредственной близости две шестеренки, вращающиеся в одну сторону. У них непременно должны были бы переломаться все зубья!
Чтобы избежать этого, Максвелл, подружившийся с шестеренками и часовыми колесиками еще в детстве, решил использовать «холостые колеса».
Как можно обеспечить вращение двух рядом расположенных шестеренок в одну сторону? Нужно поместить между ними небольшие передаточные шестеренки, «холостые колеса»!
Максвелл предположил, что между рядами молекулярных вихрей помещен слой мельчайших шарообразных частичек, способных к вращению. Теперь вихри могли вращаться в одном направлении — «смазка» давала себя знать. Вихри взаимодействовали между собой, но вращались в одном направлении.
Роль «паразитных шестеренок» оказалась впоследствии куда более важной, чем ожидалось вначале, и вообще едва ли не важнейшей во всей этой модели. Во-первых, Максвелл осознанно называет эти «холостые колеса», «смазочные шарики» между цилиндрами — «частичками электричества», а движение их — «поток частичек электричества» — признает электрическим током. (Уже само упоминание в те времена о «частичках электричества», представляющих собой электрический ток, было прозрением гения, предсказанием грядущих электронов. Но это была лишь частность теории. Не главное. Главное было в другом.)
«Холостые колеса», вращаясь и двигаясь поступательно, оказались способными к объяснению многих действий электричества и магнетизма.
Если к шарикам приложена некая внешняя сила — электрическое поле, она заставит их двигаться поступательно — возникает электрический ток. Тогда придут во вращение и цилиндрики — появится магнитное поле. Так подтвердилась на модели гипотеза Ампера — токовая природа магнитных явлений. Так утверждалась мысль Эрстеда об их вихреобразном характере.
Цилиндры всегда вращались в направлении, перпендикулярном направлению движения шариков36, и это свидетельствовало о том, что магнитное поле действует под прямым углом по отношению к направлению тока.
Сенсационная перпендикулярность направлений тока и создаваемого им магнитного поля, перпендикулярность, выражаемая введенным Максвеллом «правилом буравчика», впервые получила в этой модели механическое истолкование.
Дело в том, что опыт Эрстеда нес не только связь между электричеством и магнетизмом. Не напрасно Эрстед в своем мемуаре перечисляет свидетелей опыта: то, что открылось ему, не лезло в рамки ньютоновских законов и прямо нарушало третий из них: направления возмущающей силы — электричества (определяемого направлением провода) и силы реакции — магнетизма (определяемого направлением магнитной стрелки) были у Эрстеда перпендикулярны. Впервые физики, сгрудившиеся у лабораторного стола Эрстеда, видели «противодействие», по направлению не противоположное «действию».
Эрстед неправильно объяснил свой опыт, но он заронил глубокую мысль — мысль о вихревом характере электромагнитных явлений.
«Вихреобразность» процесса, вызывающего в памяти водоворот, вихрь, спираль, долго не находила сторонников, и даже Фарадей поначалу не оценил эту мысль. Он долго был убежден в том, что силы, действующие между проводниками с током и магнитной стрелкой, — это силы притяжения и отталкивания, подчиняющиеся законам Ньютона.
Модель Максвелла наглядно отражала подмеченный Эрстедом вихреобразный характер поля.
Вращательное движение в модели передается от частиц вихрям и от вихрей — частицам. Но это противоречит ранее принятому Максвеллом предположению, что между вихрями и частицами нет иного взаимодействия, кроме трения качения! Понимая условность, вспомогательный характер модели, Максвелл не останавливается на этой «мелочи» — модель раскрывает все новые и новые свои стороны, оборачивается открытием новых захватывающих свойств электромагнетизма, и вряд ли стоит на этом прекрасном фоне искать способ преодоления чисто механического противоречия!
Механическая громоздкая модель могла демонстрировать и такие электромагнитные явления, как электрическое отталкивание и притяжение.
Но эти эффекты уже не были во главе угла. Они были низведены с пьедестала, куда вознесли их Ампер и Вебер, построившие именно на взаимодействии токов всю свою электродинамику. Притяжение и отталкивание стали «рядовыми» электромагнитными явлениями.
Зато почетное место в новой модели заняла электромагнитная индукция.
Первоначальная цель, которую поставил Максвелл при построении своей механической модели, — проиллюстрировать электромагнитную индукцию Фарадея — была достигнута.
Но и с блеском перекрыта.
Джеймс Клерк Максвелл понял это, когда начал изучать поведение своей механической модели в случае проводников и изоляторов-диэлектриков.
«Тела, которые препятствуют протеканию сквозь них электрического тока, называются изоляторами. Но хотя сквозь них не течет электричество, сквозь них распространяются электрические эффекты, причем уровень этих эффектов зависит от природы тела...»
Электрические явления могут происходить и в среде, препятствующей прохождению тока, — в диэлектрике, в изоляторе.
Пусть «холостые колеса» не могли в этих средах под действием электрического поля двигаться поступательно. Но они при наложении и снятии электрического поля смещались со своих мест. Максвелл зорко углядел в этом свойстве модели аналогию с поляризацией молекул диэлектрика в результате смещения зарядов в самих молекулах.
Большая научная смелость потребовалась Максвеллу, чтобы отождествить это смещение связанных молекулярных зарядов с их движением, с электрическим током. Ведь этого тока — тока смещения — никто еще не наблюдал. Он совсем не напоминал известные физикам токи в проводниках. И необходимость его введения, казалось тогда многим, ничем решительно не вызывалась.
Но, отождествив смещение зарядов в диэлектриках с каким-то током, током смещения, Максвелл неизбежно должен был сделать следующий шаг — признать за этим током способность к созданию собственного магнитного поля, сделать этот ток, ток смещения зарядов, равноправным с обычным током, текущим по проводнику.
Так, наконец, впервые выявилась неизвестная Амперу и Веберу связь между электростатикой и электродинамикой, связь между покоящимся и движущимся электричеством.
«Холостые колеса» жили собственной жизнью и, объяснив одно явление, предсказывали существование еще одного, ранее никому не известного.
Механическая модель упрямо приводила, приводила движением «холостых колес» и магнитных цилиндриков, к странному выводу: изменение электрического поля приводит к появлению магнитного поля.
То есть к положению, полностью симметричному фарадеевскому: изменение магнитного поля приводит к появлению электрического поля.
На своей громоздкой модели Максвелл обнаружил эффект, обратный и равный по значению электромагнитной индукции!
Это было со времен Фарадея величайшее открытие в области электричества.
Знаменитый английский физик Дж.Дж.Томсон сказал на торжествах, посвященных столетию со дня рождения Максвелла: «Максвелл, используя свою модель, обнаружил, что модель свидетельствует о следующем — изменения в электрической силе будут вызывать магнитную силу. Введение и развитие этой идеи было величайшим вкладом Максвелла в физику. Важность шага, сделанного Максвеллом, обнаруживается тем фактом, что в электромагнитной теории, принятой до него, электрические волны не существовали, в то время как в его теории любые изменения электрической и магнитной силы посылали волны, распространяющиеся в пространстве...»
Какова роль этой модели? Действительно ли Максвелл считал, что мир состоит из бессчетного числа шестеренок и паразитных колес? Абсолютизировал ли он свою модель? Отличался ли от Томсона в толковании ценности моделей? Что было раньше — модель, физические соотношения, факты или уравнения? Ответ — в самой работе. Максвелл пишет, что модель использовалась им для того, чтобы «вывести математические соотношения между электротоническим состоянием, магнетизмом, электрическими токами и электродвижущей силой, используя механические иллюстрации для того, чтобы помочь воображению, но не в качестве объяснения явлений».
Это совсем непохоже на то, что частенько говаривал Вильям Томсон.
— Мне кажется, что настоящий смысл вопроса: понимаете ли вы такое-то физическое положение? — будет такой: можете ли вы сделать соответствующую механическую модель?.. Я никогда не чувствую себя удовлетворенным, если не могу себе представить механической модели данного явления; если я могу представить себе такую модель — значит, понимаю вопрос; если не могу — значит, я не понимаю его.
Максвелл не в пример своему старшему другу был противником абсолютизирования моделей.
Модели были его строительными лесами, которым со временем предстояло пасть и быть забытыми. Их нельзя было оставлять, ибо они препятствовали перестройке и расширению здания электромагнитной теории.
А об отношении самого Максвелла к своей модели прекрасно свидетельствуют строчки из его письма Питеру Тэту:
«Модель явления так относится к истинному явлению, как относится модель солнечной системы, работающая на принципе часового механизма, к самой солнечной системе».
К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕОРИИ СВЕТА
Статья «О физических силовых линиях» выходила по частям. И третья часть ее, как и обе предыдущие, содержала новые идеи чрезвычайной ценности.
Максвелл писал:
«Необходимо предположить, что вещество ячеек обладает эластичностью формы, подобной по своей сути, хотя и различной по величине, таким же свойствам твердых тел.
...Теория света вынуждает нас предполагать наличие такой же упругости и для светоносной среды для того, чтобы обеспечить возможность поперечных колебаний. У нас поэтому нет нужды удивляться тому, что и магнито-электрическая среда обладает тем же свойством».
Электрические явления потребовали для своего объяснения твердого как сталь эфира. Максвелл неожиданно оказался в роли Френеля, вынужденного «изобрести» для объяснения поляризационных явлений свой чудовищный «оптический» эфир, твердый как сталь и проницаемый, как воздух.
Максвелл видит свойства двух сред: «светоносной» и «электрической» — и отмечает их сходство.
Следующим шагом могло бы быть признание их идентичности, но это еще только надлежит показать.
Тридцатилетний Максвелл планомерно подбирается к своему великому открытию — открытию идентичности световых и электромагнитных волн.
Но этого мало: Максвелл приходит к еще одному выводу — крайне важному. Когда электрические частички — «паразитные колесики» вынуждены двигаться в каком-то направлении, форма вихревых ячеек искажается, а когда сила снимается, упругий материал возвращается в первоначальное положение. Максвелл рассматривает теперь отношение между таким «смещением» и силой, производящей его, и выводит отсюда соотношение между статической и динамической единицами электричества. А это величина известная — ее измерили Кольрауш и Вебер.
«Посредством сравнения электромагнитных экспериментов гг. Кольрауша и Вебера со скоростью света, как ее измерил г.Физо... видно, что упругость магнитной среды в воздухе такая же, как и у светоносной среды, если только эти две сосуществующие и взаимопроникающие в одном и том же пространстве равно упругие среды — не одна и та же среда».
Согласие между цифрами Кольрауша и Вебера и Физо было настолько хорошим37, что Максвелл записал:
«Мы едва ли можем избежать заключения о том, что свет состоит из тех же поперечных колебаний той же самой среды, которая является причиной электрических и магнитных явлений».
Это еще не было доказательством. Но это было первым шагом, заявочным столбом на пути к величайшему открытию — к электромагнитной теории света...
«Физические линии» были приняты едва ли не так же сдержанно, как и «фарадеевские линии» и в Англии, и на континенте. Сложными были дифференциальные уравнения, записанные Максвеллом. Совершенно нелепым физически казалось понятие «тока смещения» в диэлектрике, особенно в пустоте. Ведь там ничего нет! Смещение в диэлектрике еще можно осмыслить — это смещение зарядов... Но смещение в пустоте... Что там смещается?
Директор Римской обсерватории Анжело Секки, прочтя статью Максвелла при подготовке своего трактата «О единстве физических сил», не счел мысли автора слишком ценными. Они удостоились в капитальном труде синьора Секки лишь сноски следующего содержания:
«Кроме хорошо известных трудов Ламе, Коши и Верде по оптике, можно указать еще на исследования Максуэлля, рассматривающего магнетизм с точки зрения частичных вихрей. Нам кажется только, что этот автор бесполезно усложняет дело... Однако недавно в ряды защитников эфирной теории электрического тока стал также знаменитый Тиндаль...»
Даже Гельмгольц никак не мог понять — что же по новой теории представляет собой электрический заряд?
Да, странная была эта теория.
Странная и непонятная. Мало было у нее сторонников.
Мыслимо ли было на столь неочевидных основаниях воздвигать такие категоричные и принципиальные выводы?
И никто пока не мог ответить на этот вопрос.
Даже сам Максвелл.
В октябре 1861 года Максвелл написал Фарадею о том, что им обнаружен факт практического совпадения величин: отношения электромагнитной и электростатической единиц электричества и скорости света. Кроме того, стало очевидным влияние электрических и магнитных свойств среды, через которую проходит свет, на его скорость. Максвелл писал, что если свет есть в действительности форма волнового движения, то можно положить конец спекуляциям о природе света. Можно по-новому объяснить многие свойства света и оптические явления. Легко можно было бы объяснить теперь свойства полного внутреннего отражения, рефракции и отражения света. А это должно содействовать постройке новых точных оптических приборов — микроскопов и телескопов, а также и предметов обыденной жизни — очков и луп.
К сожалению, все прогрессирующая умственная слабость Фарадея помешала ему понять значение выводов Максвелла. Он не мог разделить уже великую радость своего молодого последователя, доказывающего то, о чем Фарадей когда-то размышлял сам...
ЛОНДОНСКИЕ ЗАБОТЫ
Столичная жизнь склоняла Максвелла к несвойственной для него суетливости. Он обычно сознательно уклонялся от всего того, что могло бы мешать его научным занятиям. Близость Сити (в ясную погоду он мог сверять время по часам Вестминстерского аббатства) нисколько не приблизила Максвелла к непосредственному участию в бурных событиях его времени. Буквально за несколько кварталов от него писал свои труды Карл Маркс, где-то рядом шумело шествие, устроенное жителями Лондона в честь народного героя Италии Джузеппе Гарибальди, совсем недалеко собирались у Герцена революционеры разных стран...
Но Максвелл старался избегать событий, прямо не относящихся к его науке. У него и так оставалось очень мало времени для научной работы — все поглощал Кингс-колледж.
Если политики еще как-то можно было избежать, то ряда обязанностей по научной работе — никак, да и сам Максвелл никогда не уклонялся от всего того, что было связано с наукой, тем более — с электричеством.
На этот раз речь шла об Оме. Точнее, о его законе, о величине эталонного электрического сопротивления. Хотя система единиц была уже предложена и введена в обиход, в области единиц электромагнитных царил в то время хаос.
Получившие в шестидесятые годы широкое распространение электромагнитные телеграфы стали первым широким практическим применением электричества в век пара. В больших количествах изготавливались проволока, аппараты, электрические батареи. Необходимо было серьезно подумать о введении стандартных электромагнитных величин для сопротивления проводников, электродвижущей силы источников, силы тока в цепях.
Эти величины долгое время выражались в произвольных единицах. Единицы напряженности магнитного поля были различными в Лондоне, Париже и Санкт-Петербурге, поскольку они отнесены были к различной в этих городах и в разное время силе земного магнетизма. Сопротивление одного и того же образца было также различным в разных странах и лабораториях, было разным у Ленца, Уитстона, Якоби, Сименса.
Это вызвало к жизни систему единиц великого Гаусса. В 1832 году он предложил систему абсолютных единиц CGS.
Система CGS не вводила, однако, твердой и общепринятой единицы электрического сопротивления. И поэтому на ежегодном конгрессе Британской ассоциации в 1861 году был назначен Комитет по эталонам.
В его состав вошли самые видные английские физики-электрики: Уитстон, Максвелл, Джоуль, Томсон, Бальфур Стюарт, Флеминг Дженкин. В задачу комитета входило, помимо всего прочего, точное определение единицы электрического сопротивления на основе системы CGS.
Томсон предложил метод измерения, и в 1862-1863 годах посетители физической лаборатории Кингс-колледжа частенько видели Максвелла, Бальфура Стюарта и Флеминга Дженкина, склонившихся над образцами, схемами и гальванометрами.
Результаты их исследований были опубликованы в 1863 году, и уже после смерти Максвелла, в 1881 году, легли в основу решения Международного конгресса электриков в Париже, рекомендовавшего основные электрические единицы: ом — для сопротивления, вольт — для электродвижущей силы, ампер — для силы тока.
Так Максвелл способствовал тому, что слова «ампер», «вольт», «ом» прочно вошли в наш повседневный обиход. Позднее в число электромагнитных единиц была введена еще одна единица — для магнитного потока. Ее назвали — «максвелл».
...Одним из ярких событий лондонской жизни, не изобиловавшей особыми развлечениями, был визит к Максвеллам одного из известнейших физиков того времени, одного из открывателей великого закона сохранения энергии, друга Вильяма Томсона — гейдельбергского профессора физиологии Германа Гельмгольца.
Гельмгольц очень любил Англию и никогда не упускал возможности посетить ее. Берлин и Вена казались ему по сравнению с Лондоном большими деревнями.
— Нельзя описать жизнь Лондона, нужно взглянуть на нее хотя бы одним глазком, — говаривал Гельмгольц.
И поэтому Гельмгольц пользовался любым предлогом, чтобы посетить Англию. Когда весной 1864 года он был приглашен прочесть цикл лекций по сохранению энергии и теории цветов в Королевском институте, он, разумеется, не отказался.
На лекции собралось довольно много народу, в том числе (это всегда поражало Гельмгольца) — большое число женщин. Он заподозрил, правда и не без оснований, что все они собираются сюда, чтобы «других посмотреть и себя показать», а заодно и развлечься соперничеством знаменитых ученых. Гельмгольц особенно уважал этих женщин за то, что они никогда не позволяли себе засыпать на лекциях, «хотя к тому было большое искушение».
И поэтому Гельмгольц нисколько не удивился, когда к нему после лекции подошла молодая симпатичная пара — просто одетый темноволосый человек и с ним болезненного вида женщина. Гельмгольц сразу узнал Максвелла, с которым познакомился несколько лет назад, кажется, на встрече Британской ассоциации в Абердине.
Максвеллы поздравили Гельмгольца с успехом его лекции, он их — с запозданием — с вступлением в брак, поговорили на какие-то околонаучные темы, а потом Максвеллы пригласили его на субботу в гости... Идя домой, они обменивались впечатлениями об этом сорокалетнем усаче-красавце, пышущем здоровьем и энергией.
— Какая внутренняя сила! — сказал Максвелл восхищенно...
...Суббота была сумрачной. С утра зарядил дождь. Максвеллы суетились вокруг стола, уставленного всевозможными яствами и шампанским. Вместе с ними хлопотал и профессор Поль, приятель Максвелла и его же «подопытный кролик» при экспериментах по цвету — Поль был ярко выраженным дальтоником.
Смотря на унылый пейзаж за окном, Максвеллы решили уже, что визит не состоится, но вот лихо подкатил кеб и вышел из него и постучал в дверь великий физик Герман Гельмгольц.
Было весело. Летела в потолок пробка от шампанского, пузырилось вино, разрумянилась Кетрин, профессор Поль послушно называл цвета, которые демонстрировали ему Максвелл и Гельмгольц в цветовом ящике. Гельмгольц любовался прекрасными приборами Максвелла. Крутился вокруг неутомимый и хорошо выдрессированный терьер Тоби. Разговор, естественно, коснулся физических материй.
Максвелл восхищался законом сохранения энергии.
— Вы знаете, — говорил он, — мне кажется, важность этого закона даже не столько в точном установлении факта, сколько в плодотворности методов, основанных на этом принципе.
Гельмгольц молчаливо соглашался с ним.
Разгоряченный Максвелл решился наконец задать Гельмгольцу главный, так давно занимавший его вопрос:
— Почему с того времени, как вы разъяснили с точки зрения сохранения энергии электромагнитную индукцию, вы ни разу не увлеклись электричеством?
Гельмгольц подумал — видимо, вопрос был не из простых. Наконец ответил:
— Мне кажется, — сказал он, — что вся электродинамика сейчас — это непроходимая пустыня... Разрозненные факты, основанные на неточных наблюдениях... Следствия каких-то сомнительных теорий... Сейчас в этом еще невозможно разобраться...
И Максвелл ужасно пожалел в тот день, что не мог показать Гельмгольцу свою следующую, уже написанную, но еще не вышедшую из печати статью «Динамическая теория электромагнитного поля».
Именно — поля, а не пустыни.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ
После серии статей «О физических линиях» у Максвелла был уже, по сути дела, весь материал для построения новой теории электромагнетизма. Теперь уже для теории электромагнитного поля.
Эта теория была сначала опробована Максвеллом в Королевском обществе. И те из членов общества, кто читал раньше четыре его статьи «О физических силовых линиях», поразились.
Максвеллову теорию нельзя был узнать. Рухнули громоздкие построения неуклюжих механических моделей. Исчезли строительные леса, с помощью которых создавалась теория электромагнетизма.
Взгляду присутствовавших на заседании общества наконец-то во всей своей обнаженности предстало сложнейшее, тончайшей работы здание Максвелловой теории электромагнитного поля. Начисто исчезли шестеренки, вихри, «паразитные колесики». Философия Максвелла одержала еще одну победу: он продемонстрировал миру, что его мышление никак не находится под гнетом визуальных представлений, моделей, инженерного воображения.
Его ум мог отрываться от земли.
Строительные леса сослужили свою службу, и Максвелл отбросил их без сожаления. Как-то он сказал:
— На благо людей с различным складом ума научная правда должна представляться в различных формах и должна считаться равно научной, будет ли она представлена в ясной форме и живых красках физической иллюстрации или в простоте и бледности символического выражения.
Уравнения поля были для Максвелла ничуть не менее реальны и ощутимы, чем результаты лабораторных опытов.
Теперь и электромагнитная индукция Фарадея, и ток смещения Максвелла выводились не с помощью механической модели, а с помощью математических операций. И тоже не вполне безупречных. Иной раз в них было больше гениальной физической интуиции, чем математической красоты и последовательности. Да и выводы новой теории не были зачастую еще подкреплены опытом.
В статье «Динамическая теория» Максвелл впервые использовал термин «электромагнитное поле».
«Теория, которую я предлагаю, может быть названа теорией электромагнитного поля, потому что она имеет дело с пространством, окружающим электрические или магнитные тела, и она может быть названа также динамической теорией, поскольку она допускает, что в этом пространстве имеется материя, находящаяся в движении, посредством которой и производятся наблюдаемые электромагнитные явления».
Максвелл прибавил к веществу — виду материи, известному тысячелетия, еще один ее вид, ранее неизвестный, — электромагнитное поле.
В этой статье было еще одно прозрение.
Что произойдет, например, при разряде лейденской банки? Проскочит с сухим треском искра.
Искра — электрический ток колебательного характера — на это указывали Томсон и Гельмгольц.
Ток создает вокруг себя магнитное поле — это открыли и доказали Эрстед и Ампер.
Поле угасает вместе с умирающей искрой.
Поле изменяется.
Изменение магнитного поля приводит к появлению электрического поля — это Фарадей. Электрическое поле будет меняться с угасанием искры.
Изменение электрического поля вызывает в окружающей среде возникновение тока смещения Максвелла, который также вызывает магнитное поле.
Всплеск магнитного поля вызывает всплеск электрического поля.
Всплеск электрической волны рождает всплеск волны магнитной.
Холодная пустота оживилась электромагнитной рябью.
Впервые из-под пера тридцатитрехлетнего пророка появились в 1864 году электромагнитные волны.
Эти волны были незнакомы миру.
Они были пока еще только на бумаге.
Они были предсказаны Максвеллом.
Но еще не в том виде, как мы их понимаем сейчас. Максвелл говорил в статье 1864 года только о магнитных волнах.
Да, велика власть авторитетов, их подспудное влияние, тяжесть заслуг, и даже самые великие умы склонны иной раз поддаться им.
Фарадей был для Максвелла и учителем, и советчиком, и образцом ученого. И власть его мыслей, утверждений, догадок, почти всегда гениальных, была непреходящей. И это однажды сыграло в какой-то степени отрицательную роль.
Фарадей, говоря в письме Максвеллу о возможности распространения магнитных воздействий, именно это и имел в виду — то есть распространение магнитных воздействий в виде поперечных волн.
Когда Максвелл вывел в «Динамической теории электромагнитного поля» свои уравнения, одно из них свидетельствовало, казалось, именно о том, о чем говорил Фарадей: магнитные воздействия действительно распространялись в виде поперечных волн.
И не заметил тогда еще, по-видимому, Максвелл, что из его уравнений следует больше: наряду с магнитным воздействием во все стороны распространяется электрическое возмущение.
«Волна состоит только из магнитного возмущения», — писал Максвелл, не замечая одного из выводов, даваемых его формулами.
Электромагнитная волна в полном смысле этого слова, включающая одновременно и электрическое и магнитное возмущения, появилась у Максвелла позже, уже в Гленлейре, в 1868 году, в статье «О методе прямого сравнения электростатической силы с электромагнитной с замечанием по поводу электромагнитной теории света».
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ТЕОРИЯ СВЕТА
В «Динамической теории электромагнитного поля» приобрела четкие очертания и доказательность намеченная еще раньше электромагнитная теория света.
Как передаются электрические и магнитные влияния на расстояние? Какова скорость распространения этого влияния?
Карл Фридрих Гаусс интересовался этим, стремился найти механизм передачи воздействий, но не нашел его. А вот его последователь Риман приблизился к решению, предположив, что эфир обладает свойством сопротивления изменениям его ориентации.
Максвелл не знал, что еще в 1858 году, в год, когда он, ненадолго отвлекшись от науки, устраивал свои семейные дела, тридцатидвухлетний Бернгард Риман, обреченный в Геттингене на нищету и болезни, направил в Геттингенское научное общество статью, явно содержащую волновое уравнение — путь к электромагнитным волнам.
Но в Геттингене царствовал Вильгельм Вебер, и статья Римана подверглась жестокой критике со стороны Клаузиуса, отметившего, что работа в корне противоречит теории Вебера. Риман взял статью обратно... Опубликована она была уже после смерти сорокалетнего Римана, в 1867 году.
Не нашел решения и Томсон, хотя у него было многое — и признание реальности силовых линий, и признание вихревого характера магнетизма, и интуитивное — из его электротепловых аналогий — предчувствие, что скорость распространения электрических воздействий конечна.
Не нашел доказательств и Фарадей...
Сразу после открытия им закона электромагнитной индукции в 1831 году, в год рождения сына у четы Клерков Максвеллов, Фарадей решил, что скорость распространения магнитных сил конечна.
Фарадей шел и дальше. Недаром в цитированном его письме к Максвеллу мелькает мысль о том, что надо было бы измерить время распространения электромагнитных воздействий, которое может быть «столь же мало, сколь время распространения света».
Недаром Фарадей отвез еще в 1832 году запечатанный конверт в Лондонское королевское общество... На конверте было написано:
«Новые воззрения, подлежащие в настоящее время хранению в архивах Королевского общества».
В 1938 году, через сто шесть лет, конверт этот был вскрыт в присутствии многих английских ученых. Слова, которые написаны были на пожелтевшем листке, потрясли всех: выяснилось, что Фарадей ясно представлял себе, что индуктивные явления распространяются в пространстве с некоторой скоростью, причем в виде волн.
«Я пришел к заключению, что на распространение магнитного воздействия требуется время, которое, очевидно, окажется весьма незначительным. Я полагаю также, что электрическая индукция распространяется точно таким же образом. Я полагаю, что распространение магнитных сил от магнитного полюса похоже на колебания взволнованной водной поверхности... По аналогии я считаю возможным применить теорию колебаний к распространению электрической индукции». Фарадей писал, что хотел «закрепить открытие за собой определенной датой и таким образом иметь право, в случае экспериментального подтверждения, объявить эту дату — датой моего открытия. В настоящее время, насколько мне известно, никто из ученых, кроме меня, не имеет подобных взглядов».
Он возвратился к этой мысли на гораздо более высоком и правильном уровне в 1846 году, в статье «Мысли о лучевых вибрациях».
Родство света и магнетизма показал еще Фарадей. У Фарадея, как и у молодого Максвелла, была подаренная Николем призма — «николь».
Но Фарадей использовал подарок лучше.
При определенном положении «николь» не пропускает поляризованный луч. Фарадей устанавливал «николь» на темноту, а затем включал близко расположенный электромагнит. На экране появлялся свет. Значит, магнетизм может воздействовать на свет. Значит, оптические и электромагнитные явления не безразличны друг другу? Нет ли в них глубокого родства?
Но все это были догадки. А нужны были доказательства.
Уже в «Физических линиях» было Максвеллом представлено важнейшее доказательство, но косвенное.
Доказательством было равенство скоростей света и электромагнитной волны. Доказательством были одинаковые свойства сред, в которых распространяются световые и электромагнитные волны. Нужно было бы теперь доказать полную идентичность световых и электромагнитных волн.
И здесь-то, в формулировании электромагнитной теории света, Максвелл еще раз проявляет свою величайшую скромность. Он отмечает, что «концепция проникновения поперечных магнитных возмущений... ясно поддерживалась профессором Фарадеем в его «Мыслях о лучевых вибрациях». Электромагнитная теория света, как она была им предложена, по сути своей такова же, что я начал развивать в своей статье».
Здесь речь уже шла не о колебаниях, подобных колебаниям водной поверхности, — продольных колебаниях, а о поперечных колебаниях, свойственных твердым телам.
Глубокие, правильные мысли, но недоказанные.
Фарадей, с его трезвым умом реалиста, почти наверное знал, что скорость волны конечна, и уже собирал дряхлеющими руками шестеренки и колесики установки, которая, по мысли его, должна была бы доказать это; но фатальное ослабление его умственных способностей в старости стало одним из препятствий великому начинанию.
Уравнения статьи Максвелла ясно показывали, что поперечные колебания, и только поперечные, будут распространяться вдоль поля и что число, выражающее скорость распространения, должно быть тем же самым, что и то, которое выражает число электростатических единиц электричества в одной электромагнитной единице.
Особенность теории электромагнетизма, вызванной к жизни моделью, — это принятие Максвеллом вслед за Фарадеем и Томсоном того факта, что магнитная энергия есть кинетическая энергия среды, заполняющей все пространство, в то время как электрическая энергия — это энергия натяжения той же самой среды38.
Теперь уже для Максвелла неизбежны следующие выводы:
1. Оптические свойства среды связаны с ее электромагнитными свойствами.
2. Свет представляет собой не что иное, как электромагнитные волны.
Максвеллу удалось наконец объединить две разрозненные ранее области физики — световые и электрические явления.
РЕШЕНИЕ ПЕРЕЕХАТЬ В ГЛЕНЛЕЙР
Мысль о том, чтобы поменять Лондон на Гленлейр, навсегда поселиться в родном имении, приходила исподволь. Лондон постепенно утрачивал для Максвеллов свою былую привлекательность.
Для него прежде всего потому, что надо было работать над собственными теориями, а это не удавалось. Как ни старался он уходить от политики, от светской суеты, от университетских обязанностей, они то и дело сваливались на него, выводили из строя, мешали научной работе. Рассеянная лондонская жизнь мешала сосредоточиться, написать главные книги жизни.
Надежды Максвелла на близкое общение с его кумиром — Фарадеем тоже не оправдались. Фарадей не мог уже даже ответить на письмо Максвелла, содержащее важнейший вывод о равенстве скоростей света, полученных оптическим и электрическим методами. Он уединенно жил в пожалованном королевой особняке в Хэмптон-Корте, и уже перестал, как делал это всю жизнь, посещать еженедельные заседания в Королевском институте, и вообще перестал участвовать в жизни научного мира. Он никого не допускал к себе, кроме верного ученика и последователя Джона Тиндаля, который сообщал ему все последние научные новости.
Время от времени истощенный ум Фарадея взбадривался, и он снова начинал работать, смешивая уже иной раз реальные факты с фантазией, переоценивая свои открытия. Такие вспышки стоили дорого — они лишь ускоряли его быстрое умственное угасание...
С годами он отказывался от всего, что могло бы помешать ему работать, от писем, от лекций, от встреч с друзьями.
Последняя лекция — на рождество 1860 года.
Сложил с себя обязанности профессора — октябрь 1861 года.
Последняя работа в лаборатории — 12 марта 1862 года.
Сложил с себя обязанности главы христианской общины в 1864 году.
Сложил с себя обязанности, связанные с электрическим освещением маяков, в 1865 году.
Последний раз интересовался электричеством — его восхитила громадная электрическая машина Хольтца — в 1865 году.
Силы его непрерывно слабели...
Он умер спокойно и без сожаления.
Его похоронили на Хайгетском кладбище в Лондоне уже тогда, когда Максвеллы уехали из этого города...
У Кетрин были свои причины оставить Лондон. Не удалась у них, столь вожделенная для Кетрин, светская жизнь. Практика «визитов», которую в первые лондонские годы попыталась претворить в жизнь Кетрин, с треском провалилась — не таковы были друзья Максвелла, да и не таков был он сам, чтобы терять время на светские условности, — наука требовала последних крох свободного времени...
Да к тому же и с начальством Кингс-колледжа у Максвелла стали складываться отнюдь не безоблачные отношения. Причина была все та же: неспособность Джеймса Клерка Максвелла сохранять порядок и тишину на своих лекциях. Ни начальство, ни студенты не оценили его стремления перевести обучение физике из класса в лабораторию, превратить обучение в творческий процесс.
Курс электричества и магнетизма, читавшийся Максвеллом в Кингс-колледже, был самого высокого уровня и поэтому был весьма сложен. Те, кто видел Клерка Максвелла у доски в те лондонские годы, утверждают, что создавалось впечатление, что на него одного слишком много студентов в одной аудитории... Опять вспомнились абердинские неудачи: они с неизбежностью повторялись, и опять стоял у доски одинокий и молчаливый Максвелл, стоял перед развеселившимися неизвестно по какой причине студентами...
Поговаривали даже, что начальство Кингс-колледжа попросту предложило Максвеллу сложить с себя профессорские обязанности ввиду его полной неспособности держать класс в тишине, повиновении и внимании...
Словом, для переезда в Гленлейр были все основания.
Начало гленлейрского периода омрачено еще одной болезнью. Как, казалось, хорошо начался гленлейрский осенний сезон! Джеймс и Кетрин Мери скакали по вечерним холмам, вдыхая сладкие запахи полевых цветов; врывались под темную и сырую крышу леса...
Но Джеймс скакал на незнакомой лошади, она плохо слушалась его: из-за этого понесла она там, где не ожидал Максвелл, и он головой ударился о нависшую ветвь.
Ранение это вызвало длительную и тяжелую болезнь — рожистое воспаление головы. Врач запретил умственную работу. Самое большое напряжение, которое Максвелл мог тогда выдержать, — это слушать, как Кетрин читает по вечерам английских классиков, и вопрос о Кингс-колледже отпал сам собой.
После выздоровления Максвелл начал создавать для себя и Кетрин новый стиль жизни, соответствующий их новому положению — лэйрда и жены лэйрда.
Он перестроил и расширил, как завещал отец, дом в Гленлейре. Попросил своего кузена Вильяма Кея, теперь уже инженера, спроектировать мост через Урр, задуманный отцом. Построил его. Отрастил окладистую черную бороду. Завел в саду павлинов.
В те времена сада в имении еще не было — его заменял лес на берегу ручья. Прямо на столбиках парадного входа сидели павлины, как живые статуи. Миссис Клерк Максвелл, когда могла встать с постели, с увлечением кормила их.
Поселившись, как им казалось, здесь навсегда, Максвеллы решили нанять садовника и разбить сад. Но между садовником и садом, с одной стороны, и павлинами — с другой, возник конфликт: павлины выклевывали все, что было посеяно. Тогда Максвелл решил создать для павлинов, как он выражался, «центры притяжения» недалеко от дома, где птиц кормили маисом и прочими вкусными вещами. Поэтому павлины двигались «по силовым линиям» от сараев, где они высиживали яйца, до «центров притяжения», оставляя сад в покое.
Любимым развлечением по-прежнему, как и в старые времена, были прогулки верхом.
Вечером супруги читали друг другу, чаще всего Джеймс своим глуховатым голосом. Любимы были Чосер, Мильтон, но больше всего Шекспир.
Многие биографы удивлялись: чем вызвано столь явное небрежение Максвелла по отношению к новой литературе? Ведь совсем недавно умерли Шелли, Китс, Ламб и Скотт, современниками были Диккенс, Теннисон, Теккерей, Маколей, Джордж Элиот, Мередит. Максвелл не очень любил их и читал редко, если вообще читал...
Чем старше он становился, тем решительнее переносил свои симпатии в области литературы и философии в сторону признанных классиков, туда, где улеглись страсти, где ясны были уже с высоты XIX века и достижения, и просчеты, и вершины, и впадины, и рифы. Может быть, он экономил мысли и эмоции для своих научных трудов, используя только бесспорное, не желая терять время на то, что потом будет затоплено холодными водами Леты?
Но предпочтение обычаям ушедших веков шло и дальше — его взгляды на проблему «хозяин и слуга» можно было признать вполне средневековыми. Свято соблюдал Максвелл и многими уже оставленный обычай ежедневной молитвы, проводимой всеми домашними под руководством хозяина.
Может быть, просто не хотел задумываться над этими проблемами, считая их неважными, не стоящими затрат умственной энергии? Брал их так, как они были раньше, оставляя энергию для науки, для главного?
Главным для него была сейчас работа над основными трудами жизни — «Теорией теплоты» и «Трактатом об электричестве и магнетизме». Им посвящалось все время. Переписка с другими учеными Англии в гленлейрский период так возросла, что почтовое ведомство поставило для него за мостом через Урр специальный почтовый ящик на подставке. Прогуливая собак, Максвелл ходил к этому ящику в любую погоду и всегда возвращался с громадными кипами писем, книг, рукописей.
Весной они с Кетрин обычно ездили в Лондон. Одиночество прерывалось и его частыми визитами в Кембридж, где он участвовал в трайпосах в 1866, 1867, 1869, 1870 годах — теперь уже в качестве экзаменатора.
Вопросы, предлагавшиеся им на трайпосе, были в корне отличны от тех, которые когда-то получал и он сам, и его сокурсники. Они относились уже не к абстрактной математике, а к совершенно новой области, еще не имевшей названия. Той, которую мы называем сейчас «математической физикой».
Его влияние в Кембридже было столь сильным, что многие стали поговаривать уже о полной реформе трайпоса, о введении в него «прикладных» вопросов... И действительно, в то время как в других университетах оканчивающие оттачивали свои способности на курсах теплоты и электричества, «спорщики» Кембриджа по-прежнему ломали головы над математическими головоломками, иной раз не имеющими ни научного, ни прикладного значения. Вопросы Максвелла на трайпосе 1866 года влили свежую кровь в эту уже умирающую систему университетского образования в Кембридже. Кембридж стал медленно поворачиваться навстречу требованиям века...
И еще один раз было нарушено гленлейрское одиночество. Не бывавший нигде за границей Максвелл решил провести весну 1867 года вместе с Кетрин в Италии — врач рекомендовал Кетрин временно сменить климат.
Путешествие началось неудачно. В Марселе был карантин, и супруги Клерки Максвеллы вынуждены были несколько дней провести в порту с такими же товарищами по несчастью. Максвелл вызвался быть общественным водоносом.
В Италии Максвеллу очень понравилось. Его восхищал собор святого Петра. Он смотрел на его величественный купол и думал о том, как смог Микеланджело сделать массивный купол Брунеллески невесомым и воздушным. Он думал о Микеланджело и Брунеллески и, может быть, и о себе и Фарадее.
Ему неожиданно понравился «папский оркестр», ему нравились итальянская музыка и итальянский язык, который он с легкостью выучил. И что забавней всего — выучил вместе с Льюисом Кемпбеллом и его женой, которых он встретил во Флоренции! Не встречаясь уже давно в Англии, они случайно встретились в Италии.
Максвелл изучал итальянский для того, чтобы побеседовать всласть с профессором Оттавиано Фабрицио Моссотти, у которого были, на взгляд Максвелла, ценные мысли по поляризации диэлектриков.
Но оказалось, что Моссотти уже четыре года как умер, и Максвелл перенес свое внимание на профессора Карло Маттеучи, когда-то показавшего интерференцию тепловых лучей, в каком-то смысле предшественника его любимого учителя Джеймса Форбса.
Максвелла порадовало то, что Маттеучи разделяет его уважение к Ому. Ведь многие не упускали случая вспомнить «болезненную фантазию Ома, единственной целью которой является стремление принизить достоинство природы». И это говорилось об электрогидравлических аналогиях! О тех самых аналогиях, с помощью которых Максвелл вышел на правильную дорогу электромагнитного поля!
Путь из Италии лежал через Германию, Францию, Голландию. Не сохранилось никаких сведений об этом путешествии. А как хотелось бы знать: встречался ли Максвелл с геттингенцами? Как ему понравились европейские физические лаборатории? Может быть, он с затаенной завистью двигался вдоль заставленных приборами лабораторных столов французов и немцев? А может быть, он и вовсе не посетил эти лаборатории или из скромности, или из убежденности в превосходстве английской науки?
Не знаем мы, как это было, — нет документов. Путешествие Максвелла в Европу не привлекло ничьего внимания. А Льюис отметил только, что во время путешествия Максвелл совершенствовался в языках. Теперь он хорошо знал уже, кроме английского, греческий, латинский, итальянский, французский и немецкий.
— Никак не совладаю с голландским, — жаловался Максвелл. Языки давались ему очень легко, но вот голландский...
Ну да бог с ним, с голландским. Сколько дел ожидает дома, в Гленлейре! А главное — недописанные книги: «Теория теплоты» и «Трактат об электричестве и магнетизме». Максвелл давно уже по ним соскучился.
...Продумывая книгу «Теория теплоты», Максвелл неизбежно должен был решить для себя: что происходит при столкновении молекул? Как именно они сталкиваются?
Когда-то Максвелл написал на память своему знакомому, специалисту-механику Эдуарду Вильсону шуточную песню.
Она должна была исполняться на мотив популярной английской песни «Gin a body met a body»39 и была ее шуточным парафразом:
Джин однажды встретил тело В полной пустоте. Джин легонько стукнул тело: Как оно? И где? Все свое имеет меру, Можно все решить, Можно скажем для примера, Путь определить. Джин однажды встретил тело В полной пустоте. Куда оба отлетели - Видели не все. Всем проблемам есть решенье Точное вполне. Жаль, что это приключенье Безразлично мне.А теперь оказалось, что «это приключение» — столкновение твердых шариков — было совсем ему не безразлично. Дело в том, что в виде шариков обычно представляли молекулы, и то, как они сталкиваются, приобретало важное значение, особенно в связи с введением статистических методов.
То, как Максвелл подошел к этой проблеме в статье «По поводу динамической теории газов» (1866 год), еще раз продемонстрировало физикам его гениальность.
Описание закона взаимодействия молекул при использовании статистических методов оказалось делом чрезвычайно сложным. Даже самый простой случай — случай двух упругих шарообразных сталкивающихся молекул — приводил к невообразимым математическим трудностям.
И все-таки Максвелл решил задачу. Его решение выглядело обескураживающе дерзким: Максвелл решил приспособить молекулы к решению, а не наоборот.
Он взял молекулы со свойствами, легче ложащимися в рамки математических выкладок. Это, оказывается, было вполне допустимо, поскольку свойства газа, его трение и вязкость должны быть в большой мере независимы от того частного закона, который управляет столкновением двух молекул, — лишь бы соблюдался закон сохранения энергии!
Можно даже заменить достаточно быстрое дискретное явление — удар двух молекул друг о друга неким непрерывным, хотя и достаточно коротким процессом, например отталкиванием их друг от друга за счет сил, сильно зависящих от расстояния. При такой замене молекулы, достаточно отдаленные друг от друга, двигаются независимо; подлетая друг к другу, они испытывают резкое усиление сил отталкивания, тем большее, чем ближе друг к другу они находятся.
Остается лишь подобрать достаточно высокую степень, в которую нужно возвести расстояние, чтобы взаимодействие как можно больше зависело бы от расстояния и вместе с тем не представляло бы излишних трудностей для решения. Выбор степени уже не играл большой роли, поскольку основное условие — сохранение энергии и импульса — было соблюдено. Оказалось, что пятая степень расстояния — самая удобная: при ней можно было очень удобно определять минимальное расстояние сближения молекул при ударе, а относительная скорость молекулы перед ударом вообще сокращалась. Громадное облегчение для решения!
Больцман был потрясен остроумием максвелловского подхода. Он сравнивал работу Максвелла с величественной музыкальной драмой:
«Математики узнают стиль Коши, Гаусса, Якоби или Гельмгольца, прочитав всего несколько страниц, точно так же как музыканты с первых тактов узнают Моцарта, Бетховена или Шуберта. Элегантное совершенство выражений принадлежит, конечно, французу; правда, оно часто сочетается с некоторой немощью в построении умозаключений; высшая драматическая мощь свойственна англичанам, и больше всех — Максвеллу. Кто не знает его динамическую теорию газов?
Сначала величественно выступают вариации скоростей, затем выступают, с одной стороны, уравнения состояния, а с другой — уравнения центрального движения, и все выше вздымается хаос формул, но вдруг звучит четыре слова: «Возьмем n = 5». Злой демон V (относительная скорость двух молекул) исчезает так же внезапно, как неожиданно обрывается в музыке дикая, до сих пор все подавлявшая партия басов. Как от взмаха руки кудесника упорядочивается то, что раньше казалось неукротимым. Не к чему объяснять, почему произведена та или другая подстановка: кто этого не чувствует, пусть не читает Максвелла. Он не автор программной музыки, который должен комментировать свои ноты. Стремительно раскрывают перед нами формулы результат за результатом, пока нас не ошеломит заключительный эффект — тепловое равновесие тяжелого газа, и занавес падает».
Эту красивую цитату, однако, нельзя понимать слишком буквально. В статье «По поводу динамической теории газов» Максвелл отнюдь не говорил: «Возьмем n = 5».
Максвелл был более осторожен. Его слова звучали скромнее: «Будет показано, что из экспериментов по вязкости газов у нас есть основания принять, что n = 5».
Гениальность Максвелла отнюдь не сводилась к остроумию. Ее основой была раскованность его ума, колоссальный багаж знаний и удивительная физическая интуиция. Людвиг Больцман понимал это, может быть, лучше, чем кто-нибудь другой, поскольку сам был великим физиком. Именно ему суждено было завершить и развить Максвелловы статистические идеи, распространив их на контингент более общих случаев, и ввести в повседневный обиход физиков «статистику Максвелла — Больцмана», описывающую распределение скоростей молекул в разных условиях.
В Гленлейре была наконец завершена «Теория теплоты». В общем это был обычный курс теплоты, хотя и оплодотворенный статистическими идеями Максвелла. Но было в нем и необычное, сенсационное, интригующее — неприятие второго начала термодинамики в том виде, как его трактовали Вильям Томсон и Клаузиус. По Томсону и Клаузиусу, во всех тепловых процессах температурные уровни должны выравниваться, вся энергия в конце концов должна «обесцениться» и перейти в низшую, неупорядоченную форму — тепловую. И это в конечном счете должно привести к «тепловой смерти вселенной». В противодействие такой точке зрения Максвеллом был высказан в «Теории теплоты» парадокс. Максвелл предложил представить себе воображаемое миниатюрное существо, «...способности которого настолько изощрены, что оно может следить за каждой молекулой на ее пути и в состоянии делать то, что в настоящее время для нас невозможно... Предположим, что имеется сосуд, разделенный на две части А и Б перегородкой с небольшим отверстием, и что существо, которое может видеть отдельные молекулы, открывает и закрывает это отверстие так, чтобы дать возможность только более быстрым молекулам перейти из А в Б и только более медленным перейти из Б в А. Это существо, таким образом, без затраты работы повысит температуру в Б и понизит в А, вопреки второму началу термодинамики.
И действительно, это существо, казалось бы, без затраты работы создавало порядок из беспорядка: равномерно нагретый газ разделяется на две части — холодную и горячую, и неупорядоченность, энтропия системы уменьшались, вместо того чтобы увеличиваться. В ближайший же приезд в Кембридж Максвелл сообщил о парадоксе Стоксу, написал письма Томсону и Тэту. Парадокс с воображаемым существом, которому Томсон дал меткое прозвище «демон Максвелла», живо обсуждался, приветствовался, высмеивался. Но никем не был опровергнут. Многие физики того времени никак не могли быть довольны возможным существованием в природе, во всяком случае в физической науке, «демона Максвелла», непонятным образом усложнявшего, казалось бы, такую ясную, понятную и законченную картину мира.
Классический парадокс Максвелла держался довольно долго и попал во многие учебники. Русский поэт Андрей Белый, вспоминая годы своего учения у видного русского физика Николая Алексеевича Умова (Умов вместе с англичанином Пойнтингом ввел в теорию Максвелла существенное добавление в виде вектора электромагнитной энергии Умова — Пойнтинга), писал в своей поэме «Первое свидание».
И строгой физикой мой ум Переполнял профессор Умов. Над мглой космической он пел, Развив власы и выгнув выю, Что парадоксами Максвелл Уничтожает энтропию... Мир рвался в опытах Кюри Атомной, лопнувшею бомбой На электронные струи Невоплощенной гекатомбой...Многие пытались разрешить парадокс Максвелла. Смолуховский в 1912 году показал, что случайное движение молекул должно разрушить и демона, и дверку. Но наиболее радикальное изгнание демона произошло уже после 1929 года, после появления работы венгра Сцилларда. Оказалось, за получение информации нужно платить. Чтобы измерить скорость молекул, демон как минимум должен ее увидеть, то есть осветить, затратить некоторую энергию, увеличить энтропию. За информацию приходится платить энтропией. Второе начало осталось незыблемым, но смысл его оказался более глубоким и оптимистическим.
ГАМИЛЬТОН, ТЭТ, МАКСВЕЛЛ И КВАТЕРНИОНЫ
В гленлейрской глуши завершал Максвелл и основной труд жизни — «Трактат». Содержанием этой книги, конечно, были прежде всего статьи по электромагнетизму, и та, которую он написал еще в Кембридже, и две лондонские, и одна — уже гленлейрская, в которой впервые отчетливо прозвучала мысль не просто о магнитной, но и об электромагнитной волне.
Но было здесь и нечто новое, не присутствовавшее в статьях. В «Трактате» Максвелл широко использовал кватернионы.
Изобретение кватернионов, несомненно, было одним из величайших достижений человеческого ума. Отнюдь не сразу оцененным.
Восемьсот страниц чудовищной математики, изданных президентом Ирландской Королевской академии, членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук сэром Вильямом Роуэном Гамильтоном, были абсолютно неудобоваримы.
Сложность математических построений. Пугающая новизна. Деревянный, путаный язык. Полное отсутствие логики и последовательности. Все печальные атрибуты гениального труда.
Гамильтон был замечен с детства. Он выступал на сцене как вундеркинд, соревнуясь с «мальчиком-арифмометром». Студентом Тринити-колледжа в Дублине он написал статью «Теория лучевых систем», в которой предсказал явление конической рефракции. Двадцатилетнего студента назначили профессором в колледже, который он еще не окончил...
Со времени изобретения кватернионов в 1843 году до избрания Тэта через десять лет профессором в Белфасте судьба кватернионов была скорее плачевной. Они не получили сколь-нибудь широкого распространения. Злые языки утверждали, что Гамильтон изобрел кватернионы, пробираясь в пьяном виде после веселой пирушки по одному из дублинских мостов. Фантазиями «пьяницы» Гамильтона мало кто интересовался. Но с приходом Тэта на кафедру в Белфасте положение резко переменилось. Тэт подпал под сильнейшее влияние царившего в Дублине Гамильтона. Затеял с ним энергичную переписку. Одно из писем насчитывало 88 страниц. Подхватив знамя, Тэт развил, упростил, популяризировал его теорию, пронес как главное свое научное увлечение через всю жизнь. В 1867 году Тэт выпустил свой «Элементарный трактат о кватернионах», где в кватернионной форме были выражены важнейшие теоремы, использовавшиеся Максвеллом при построении теории электромагнитного поля, — теоремы Остроградского — Гаусса, Стокса, Грина.
Максвелл, ранее кватернионами не увлекавшийся, со все возрастающим волнением и заинтересованностью прочел в Гленлейре трактат старого школьного приятеля.
Максвелл давно уже достиг той фазы умственной активности, когда «даже случайные мысли начинают бежать по научному руслу». Он сразу же понял важность нового математического метода для своей теории. Оператор Ñ, «жаждущий продифференцировать что угодно», использовавшийся Тэтом вслед за Гамильтоном, обладал удивительными свойствами.
Зная, например, потенциал, можно было легко получить соответствующую силу. И получалось это без всяких дифференцирований, интегрирований, решения уравнений. Сила равна была просто оператору, умноженному на потенциал.
Максвелл первым из физиков подметил особенности кватернионного исчисления. Понятия «источника», «резервуара», «вихря», требовавшие раньше длинных объяснений, допущений, введений, механических моделей, причинившие столько беспокойства в ранних статьях, теперь уже естественно и легко укладывались в символику кватернионов.
Хотя оператор Ñ был совсем не так прост, как его написание, упрощение формы записи математических операций было настолько радикальным, что Максвелл, не колеблясь, принял кватернионы на вооружение.
Максвелл увидел, что свойства двух операторов Гамильтона соответствуют соотношению токов и порождаемых ими магнитных полей.
Сложные математические построения Максвелла, описывающие все известные факты из электричества и магнетизма, вмешались теперь в несколько коротких уравнений.
Восхищенный методами Гамильтона, Максвелл не заметил, что некоторые операции над кватернионами разработал уже не Гамильтон, а Тэт. Ссылаясь на Гамильтона, Максвелл частенько забывал сослаться на своего старого приятеля. В последний раз это произошло в 1870 году в Ливерпуле.
На Ливерпульском конгрессе Британской ассоциации в том году Максвеллу была предложена высокая честь быть президентом секции «А» — математики и физики. Президенту полагалось произнести речь, посвященную современному состоянию представляемой им науки.
Максвелл избрал темой своей речи то, что его всегда волновало, — соотношение между математикой и физикой.
— Профессор Сильвестр, президент секции «А» на съезде в Экстере, выступил в защиту чистой математики, — говорил Максвелл. — Он повел меня на те безмятежные высоты,
Куда вовек не заплывает туча, Где буйный ветер и вздохнуть не смеет, И звездочкой снежинка не ложится, Куда не донестись раскатам дальним грома, Где стона человеческого горя Не услыхать. И где ничто не может Покой нарушить, вечный и священный...Но кто поведет меня в еще более скрытую туманную область, где Мысль сочетается с Фактом, где мы видим умственную работу математика и физическое действие молекул в их истинном соотношении? Разве дорога к ним не проходит через самое логовище метафизиков, усеянное останками предыдущих исследователей и внушающее ужас каждому человеку науки?
Так начал Максвелл свою президентскую речь, и все чувствовали, что тема эта для него наболела.
— Есть люди, — продолжал Максвелл, — которые могут полностью понять любое выраженное в символической форме сложное соотношение или закон как соотношение между абстрактными величинами. Такие люди иногда равнодушны к тому, что в природе действительно существуют величины, удовлетворяющие этим соотношениям. Мысленная картина конкретной реальности скорее мешает, чем помогает их рассуждениям.
Другие получают большее удовлетворение, следя за геометрическими формами, которые они чертят на бумаге или строят в пустом пространстве перед собой.
Иные же не удовлетворятся до тех пор, пока не перенесутся в созданную ими обстановку со всеми своими физическими силами. Они узнают, с какой скоростью проносится в пространстве планета, и испытывают от этого чувство восхитительного возбуждения. Они вычисляют силы, с которыми притягиваются небесные тела, и чувствуют, как напрягаются от усилия их собственные мышцы.
Для этих людей слова «момент», «энергия», «масса» не являются просто абстрактным выражением результатов научного исследования. Эти слова имеют для них глубокое значение и волнуют их душу, как воспоминания детства.
Так говорил Максвелл, и все присутствующие понимали, что он говорит о себе...
В президентской речи Максвелл высоко отозвался о Гамильтоне, о его кватернионах, столь удачно связывающих «Мысль с Фактом». Он сказал и о своих больших надеждах на кватернионы в связи с разработкой новых физических теорий.
И тут сделал ошибку. Максвелл, превознося Гамильтона, лишь мельком упомянул о Питере. Максвелл обычно бывал очень точен в своих исторических ссылках, и то, что тут он «промазал», вызвало у Тэта приступ веселья, прикрывавшего обиду.
Обнаружив ошибку уже в Гленлейре, Максвелл послал Тэту письмо, где под вычурным юмором тлеет виноватый огонек извинения:
«О, Т'40
Полное невежество в трудах Н и неясные воспоминания о трудах Т' в «Трудах Э.К.О.»41 были причиной того, что dp/dt предположил, что Н в своих исследованиях по оптике сделал заявление, снеся яйцо, которое высидел Т'. Сейчас я постиг, что Т'' высиживал им же снесенное, но, поскольку его кудахтанье над ним было приглушено шумом других наседок, я не был уверен в его происхождении, когда держал речь перед Б.А.42. Когда я суетливо изучил статью Н по лучам, выяснилось, что я ожидал найти там больше, чем было на самом деле...»
Действительно, Тэт многое сделал для развития кватернионного исчисления, но немало прибавил в теорию и сам Максвелл. В статье «О математической классификации физических величин», в своих письмах Тэту Максвелл предложил новые понятия и термины.
Прежде всего не было названия у самого оператора Ñ. Максвелл вопрошал у Тэта из гленлейрского одиночества:
— Как ты называешь Ñ ? Атледом?..
Питер не ответил, и Максвелл решил подождать до осени, до следующего конгресса Британской ассоциации, который должен был состояться в 1871 году в Эдинбурге. На ежегодные конгрессы собирались виднейшие ученые, и Максвелл не без основания ожидал увидеть там и Томсона и Тэта. Томсон, вероятно, тоже ожидал там его увидеть, ибо прислал письмо с заманчивым предложением. Он решил пригласить самых именитых ученых, которые будут присутствовать на конгрессе, на двухнедельную морскую прогулку вдоль английских берегов на своей яхте «Лалла Рух» «водоизмещением 126.106 грамм». Приглашения были посланы, кроме Максвелла, Тэту, Тиндалю, Гексли и Гельмгольцу. Путешествие было назначено и началось в середине августа, после окончания эдинбургского конгресса.
У Томсона недавно умерла долго болевшая жена Маргарет, он был безутешен и тщетно пытался отвлечься от горестных мыслей. Грядущая морская прогулка была одним из способов сделать это. Томсон с горечью рассказывал о печали и беспорядке, воцарившихся в его доме в Глазго...
Вильям Томсон стал рассеян и не выпускал из рук зеленых блокнотов, в которые записывал разлетающиеся мысли...
Томсон рассказывал о своем доме, скорее замке, в Нетерхолле, но дом, казалось, не радовал его... А вот о грядущем переезде в новое здание университета, где он создаст первоклассную физическую лабораторию, он говорил с нескрываемым увлечением и гордостью — ведь речь шла об одной из первых в Англии физических лабораторий.
Максвелл отметил, что Томсон так же прост, отзывчив, справедлив и добр, как и четверть века назад... Ни рыцарское звание, пожалованное ему в 1858 году в связи с прокладкой трансатлантического телеграфа, ни его неоспоримые достижения в термодинамике, электротехнике, математике, ни его морской компас, ни эхолот, ни то, что он являлся в те годы, несомненно, первым физиком и электротехником Англии, не изменили его...
С Питером дела обстояли посложнее — он был занят в Эдинбурге, казалось, исключительно гольфом... Физика не была, конечно, забыта, но, видимо, романтическая фраза юного Питера: «Шить стоит только ради науки!» — претерпела жестокую трансформацию.
— Я — дикарь. Я живу здесь только для мускулов, — говорил теперь Тэт.
Лишь в воскресное туманное утро, когда для гольфа было слишком сыро (и неудобно, поскольку воскресенье), а в церковь идти было лень, удалось заставить Питера говорить о серьезных вещах... Окна «студии», «берлоги» Питера выходили на эдинбургские «луга», где когда-то бродили, придумывая себе задачки, студенты Джеймс и Питер.
К сожалению, придумать себе в жизни более серьезные задачки, которым можно было бы служить и посвятить жизнь, в которых можно было бы полностью проявить и выразить себя, Питер оказался не в состоянии... Он был очень известен в кругах физиков прежде всего как автор совместного с Томсоном учебника «Трактат о натуральной философии»43.
Тэту удалось захватить еще последние оставшиеся необъяснимыми, но известные многим явления. Он объяснил миру мираж. Страстный игрок в гольф, он построил вокруг полета мяча свою интересную математическую теорию. Кстати, если уж говорить о гольфе, сын Тэта, Фредди, быстро превзошел своего отца и стал известнейшим кембриджским чемпионом. Вскоре он стал так знаменит в Кембридже, что Питер уже стал там известен не иначе как «отец Фредди Тэта». Пуля бура пробила сердце Фредди, когда ему было тридцать лет и он защищал интересы Британии где-то в Южной Африке. «Отец Фредди Тэта» был еще жив тогда, но удар был силен.
Питер умер в первом году нового, XX столетия, пережив сына на год.
Тэт был, может быть, одним из первых физиков, пострадавших от своей разносторонности. Конец XIX века требовал уже глубоких шахт, а не смотровых колодцев. Лишь немногие мощные умы могли уже сочетать глубину исследований с широтой их тематики.
Он был полезен своему веку. Может быть, и меньше, чем Томсон. Но оказалось, что грядущий век может без него обойтись. С появлением новой физики учебники авторов Т + Т' (Томсона и Тэта) постепенно сошли со сцены, уступив место новым. А исследования в области кватернионов, топологии, физики полета мяча для гольфа не признаны были потомками достойными даже исторической ссылки. Так и остался Питер Гутри Тэт в памяти Кембриджа и Эдинбурга как автор сошедшего со сцены учебника и «отец Фредди Тэта».
А сейчас сидели они, Джеймс и Питер, в полутемной студии друг против друга, в неверном свете приглушенной газовой лампы, постаревшие уже немного, погрузневшие...
Из трубки Тэта медленно вытекал дым — он курил медленно, не торопясь, со вкусом: Тэт любил свою трубку и не уставал повторять:
— Да, когда мы набиваем трубку, приходят к нам самые блестящие наши мысли!
Студия была сплошь заставлена книжными полками, были в ней еще несколько кресел да столик, заваленный журналами, корректурами и рукописями, книгами, ждущими рецензии, с посвящениями от самых видных ученых.
Студия Тэта стала настоящим центром, боевым штабом во время эдинбургской встречи. Здесь увидел Максвелл изящные опыты химика Эндрюса, легко «превращавшего» газы в жидкость и наоборот. Здесь встречался Максвелл со знаменитым зоологом Гексли, сподвижником Дарвина. Здесь он снова встретился с Гельмгольцем, Кейлеем44, старым эдинбургским приятелем Вильямом Робертсоном Смитом.
Тэт, Клерк Максвелл и Робертсон Смит составляли на заседаниях конгресса неразлучную веселую троицу, без устали забавлявшуюся кватернионами и оператором Ñ.
Никак не могли назвать этот оператор, перевернутую «дельту», пока Робертсон Смит не вспомнил, что он где-то читал о древнеассирийском музыкальном инструменте типа арфы, имевшем такую же форму.
— По-моему, он назывался «набла», — сказал Робертсон Смит, и участь оператора была решена — его назвали «набла». А все, кто занимался кватернионами, стали «наблудистами».
Тут же, пока кто-то из друзей читал свой доклад с кафедры, Максвелл написал шуточную «тиндаллическую оду», посвященную Тэту — «Шеф-музыканту по игре на набла» (здесь была, конечно, и некоторая гипербола — компенсация за ливерпульский промах).
Заслуженные члены ассоциации, или, как они себя называли, «Красные львы», после заседаний обычно предавались занятию не столь обременительному для ума, а именно — совместному ужину. За ужином Максвелл и прочел свою «тиндаллическую оду» в восьми частях. В ней он, конечно, воспевал оператор «набла», утверждая, что с его помощью многие мимолетные, преходящие и трудноуловимые действия могут быть выражены в математической форме и оставлены в вечном владении человека. По мысли Максвелла, «быстрая набла» поможет покорить даже гравитацию...
Успех превзошел ожидания. «Красные львы» взяли с Максвелла клятву, что он напечатает эти стихи в «Природе». Что и было впоследствии выполнено.
Название «набла» прижилось. Максвелл был очень этим доволен.
Идя по стопам Вевелла в области создания новой научной терминологии, он совсем не был так серьезен.
— Я полон названиями! Что ты скажешь о демон-страции? О де-терминации? А как тебе нравится тронно-галерейная кислота? — спрашивал он уже солидного, бородатого, но все так же по-школьному прыскающего Питера...
Тэт имел все основания восхищаться Максвеллом, первым практически применившим в своей теории кватернионы. Уж он-то, Тэт, мог это оценить! Вот уже сколько лет Тэт, побуждаемый Томсоном, стремился изящно ввести прекрасно ему знакомые кватернионы в прекрасно ему знакомый «Трактат о натуральной философии». Но ничего из этого не получалось. Введение кватернионов выглядело искусственным, и Тэт с сожалением каждый раз от них отказывался... Он чувствовал, что для игры на «набла» нужны более искусные музыканты...
Уезжая из шумного Эдинбурга, расставаясь с друзьями, «Красными львами», Максвелл, возможно, с радостью подумал, что возвращаться придется уже не в пустынный осенний Гленлейр, а в Кембридж...
Часть V. КЕМБРИДЖ. КАВЕНДИШСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. 1871-1879
Всякий великий человек является единственным в своем роде. В историческом шествии ученых у каждого из них своя задача и свое определенное место.
Д.Клерк МаксвеллПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАНЯТЬ КАФЕДРУ
Годы отшельничества, годы полной отрешенности от суеты, служения одной только науке, годы наиболее плодотворные, светлые, творческие, гленлейрские годы... Почему же снова и снова овладевает Максвеллом, как некогда, подспудное желание работать при университете, на кафедре, на людях, желание, может быть, неосознанное, гонимое из-за очевидных творческих преимуществ жизни анахорета, но неистребимое? Ведь неоднократно предлагались ему раньше почетные университетские посты. И в том числе пост ректора университета Сент-Эндрюс, пост, занимавшийся ранее любимым Джеймсом Форбсом. Форбс умер в 1868 году, страстно желая видеть Джеймса Клерка Максвелла своим преемником. Но даже тогда со стороны Джеймса последовал корректный, но непреклонный отказ, отказ убежденный и неоднократно продуманный.
Почему же сейчас, на рубеже седьмого и восьмого десятилетий века, одиночество начинает тяготить его? Может быть, потому, что уже написаны в гленлейрском одиночестве главные книги жизни — трактаты о теплоте и об электричестве и магнетизме? Может быть, потому, что сорокалетний Максвелл уже трезво осознает необходимость упрочения и продления ряда, некогда возникшего перед ним в кембриджской Тринити-чапел, ряда гордого и почетного, ряда, в начале которого высятся величественные фигуры Ньютона и Бэкона, в который он, Максвелл, хотел бы поставить и себя, и видеть кого-то после... Им с Кетрин не суждено было иметь детей. И не было у Максвелла еще ни одного ученика...
Хотел ли Максвелл иметь учеников? После кембриджских и абердинских неудач, после лондонского недопонимания, после обвинений в малых педагогических способностях, неумении читать лекции и неспособности поддерживать в классе порядок и вбивать в студенческие головы гвозди физической премудрости? После благих намерений, оставшихся неосуществленными, после неблагодарного труда, оставшегося неоцененным?
Трудно утверждать с очевидностью, каков был ход мыслей Джеймса Клерка Максвелла, когда он принимал предложение, сделанное ему Кембриджским университетом, но предложение было принято. Максвелл должен был снова окунуться в ностальгически окрашенные кембриджские университетские дали, где мужал его ум, где были шумные сходки «Апостолов», где был Стокс, где он впервые уловил затаенный смысл ночного соловьиного пения...
Но перед тем как Максвелл примет это предложение, оно должно быть еще сделано, и поэтому мы должны будем вернуться немного назад и проследить корни этого приглашения, которое, как и все в этом древнем каменном Кембридже, имеет свою долгую историю, восходящую к иной, еще более долгой и древней. И вот эта-то история относится к возникновению, процветанию и возвышению старинного английского рода Кавендишей.
В роду Кавендишей были и мореплаватели, и крупные вельможи, приближенные к королям и королевам, а позднее — в беспокойном XX веке — даже премьер-министр Гарольд Макмиллан. Были в этом роду и крупные книгоиздатели, и, что для нас особенно важно, крупные ученые, и среди них — знаменитый отшельник и женоненавистник Генри Кавендиш, чей внучатый племянник, герцог Девонширский, был в годы Максвелла канцлером Кембриджского университета.
Герцог Девонширский был мало похож на многих своих предшественников — титулованных вельмож, для которых канцлерство в Кембриджском университете было честью такого же порядка, как получение одного из весьма немногочисленных английских орденов. Честью, не требующей внимания и труда. Обязанностью необременительной — в нарядной парадной мантии председательствовать при важных оказиях.
Герцог Девонширский сам много времени отдавал научным исследованиям. Он был, несомненно, математически одарен — достаточно сказать, что он сам окончил Кембриджский университет и на грозном математическом трайпосе был отмечен как «второй спорщик» и лауреат премии Смита, то есть удостоен точно такой же чести, как великие физики Вильям Томсон и Джеймс Клерк Максвелл.
Как человек, близкий к научным кругам, герцог Девонширский явственно понимал ограниченность кембриджской системы преподавания, в частности в отношении натуральной философии — физики, которая представляла тогда всего лишь лекционный курс с элементарными демонстрациями. Ученый герцог понимал, что для того, чтобы делать открытия в конце XIX века, совершенно недостаточно хорошо знать математику и выводить новые законы дедуктивным путем. Герцог понимал необходимость учреждения в университете кафедры экспериментальной физики, хорошо оснащенной современными измерительными приборами и оборудованием, кафедры, которая могла бы отвечать научным запросам века.
Весьма богатый герцог мог себе позволить обойтись в учреждении такой кафедры без чьей-либо помощи: ведь в конечном счете все упиралось в фунты стерлингов.
В октябре 1870 года герцог представил в сенат университета меморандум о своем желании построить и оснастить при Кембриджском университете физическую лабораторию. Сенат соблаговолил указанный дар принять и учредить при вновь создаваемой лаборатории должность профессора.
И вот на эту-то должность долго не могли сыскать требуемого кандидата. Избранник должен был быть талантливым экспериментатором. При высочайшем теоретическом уровне своих математических построений он должен был уметь не только ставить задачи, но и решать их на самолично созданном и рассчитанном оборудовании. И кроме того, репутация Кембриджа не вынесла бы того, чтобы на этот пост был назначен какой-то неизвестный физик. А подходящих для этого поста было известно три: Максвелл, Томсон и Гельмгольц.
Наиболее логично было бы видеть на этом посту Максвелла — ведь именно его присутствие в последние годы в Кембридже, пусть спорадическое, в те времена, когда он выезжал из своего добровольного заточения экзаменовать в математическом трайпосе, привело в конечном итоге к мысли о необходимости перестроить преподавание физики. Вопросы, которые он задавал на трайпосе, задачи, которые он составлял для соискателей, мысли, которыми обменивался с другими виднейшими профессорами, экзаменовавшими трайпос, постепенно приводили всех кембриджских университетских деятелей к одному твердому убеждению: невозможно было оставлять так дело с преподаванием физических наук.
Да, Ньютону достаточно было его комнат в Тринити-колледже, да, Стоксу было достаточно его комнат в Пемброк-колледже, но ему уже было труднее, чем Ньютону, потому что ему нужно было уже в жилых комнатах проводить сложные физические эксперименты, точные измерения. Нужны были электрические источники, цепи, системы затемнения, гальванометры, установленные на неколеблющихся фундаментах.
Да, Максвелл и сам обходился когда-то своим сараем в Гленлейре, где старая дверь служила ему столом, а на ней установлено было множество склянок с разными жидкостями, в которых плавали отравившиеся насекомые. Как-то обходился Максвелл и в Кенсингтоне, когда его жена, работая в качестве «истопника», обеспечивала в комнате нужную температуру и влажность, необходимые мужу для измерения вязкости. Но вот эти уже измерения, будучи проверены через много лет, оказались неточными, да и не могло быть иначе. Для сложных экспериментов необходимы специальные лаборатории, в которых не нужно убирать физические приборы для семейного обеда, где не нужно, ложась спать, смахивать с постели лабораторные журналы.
Развитие науки настоятельно приводило к мысли о необходимости создания новой лаборатории. И глашатаем этой мысли стал Максвелл, который на своем опыте, может быть, острее, чем кто-либо другой, поскольку он никогда не был в душе чистым теоретиком, почувствовал ее необходимость.
А люди, любившие его, люди, кому дороги были и он, и его идеи, поддержали его, и в конце концов в математический трайпос были официально введены вопросы прикладного характера.
Этим самым в течение многих лет пестовавшаяся в Кембридже «чистота» математического трайпоса была раз навсегда «осквернена» физическими материями, и математика стала не самоцелью, но прикладной наукой, родился гибрид математики и физики — математическая физика.
Именно это событие, главную роль в котором играл Максвелл, привело в конечном итоге в 1869 году к тому, что университет высказался за создание в Кембридже кафедры, на которой изучалась бы теплота, электричество и магнетизм. С собственным профессором и демонстратором. Тут же было выражено и робкое желание иметь лабораторию — робкое потому, что ориентировочные подсчеты показывали чудовищную ее стоимость — 6300 фунтов. И так бы и остались все эти благие пожелания на бумаге, если бы канцлер университета седьмой герцог Девонширский не предложил построить лабораторию на свои деньги.
Натуральная философия превращалась в две физики — математическую и экспериментальную, и Максвелл сыграл в этом разделении свою роль. Но первым, кому предложена была профессура в новой лаборатории, названной сначала Девонширской, а потом Кавендишской — в честь одновременно и Генри Кавендиша и нынешнего канцлера университета, — был не Максвелл, а сэр Вильям Томсон.
И это довольно естественно. Слава Томсона была несравнима со славой Максвелла — его талант принадлежал своему веку точно так же, как гений Максвелла принадлежал вечности. И уже приставка «сэр» свидетельствовала о высоком признании действительно громадных заслуг будущего лорда Кельвина, друга и советчика Максвелла. Об успехах Томсона на научной, инженерной и деловой ниве свидетельствовала и красавица яхта «Лалла Рух», всегда ожидающая хозяина в месте впадения Кельвина в Клайд, и роскошная, стилизованная под древние шотландские замки усадьба в Нетерхолле. Но, может быть, больше всего удерживали Томсона в Глазго, в университете, где он с двадцати двух лет был профессором, и новая лаборатория, и старые винный и угольный подвалы, которые он когда-то очистил и превратил в демонстрационные аудитории для проведения занятий по электричеству, где иной раз не было элементарных вещей, даже катушек сопротивления... но где многое было сделано.
Короче говоря, Томсон отказался уезжать из Глазго.
Следующему профессура была предложена Гельмгольцу — и это свидетельство того, что, по мнению университетских ученых, именно Гельмгольц, а не кто-либо другой, был в то время вторым физиком мира, как Томсон — первым. Однако Гельмгольц, имевший кафедру в Берлине, не был удовлетворен низким окладом кавендишского профессора и тоже отказался.
Следующему профессура неминуемо должна была быть предложена Максвеллу, и это было так же заранее определено, как то, что в случае отказа Максвелла она была бы предложена Джону Стрэтту, будущему барону Рэлею, «старшему спорщику» и лауреату премии Смита 1865 года, восходящей звезде британской теоретической физики, ученику соперника Максвелла, Рауса. Стрэтт был той же крови, что и Максвелл. По складу своего ума он был «объяснителем». Одна его работа, казалось, буквально взята из трудов Максвелла — эссе о голубом цвете неба. Стрэтт часто работал с Максвеллом в одном забое, разрабатывая смежные проблемы, например теорию цветов. Их симпатии были полностью взаимными.
Стрэтт, узнав о колебаниях Максвелла, поспешил написать ему письмо, призванное воспрепятствовать несогласию. Стрэтт был тонок. Он прекрасно понимал, почему Максвелл мог бы не согласиться.
«В основном требуется не лектор по математике, а человек с большим опытом в экспериментировании, который смог бы направить энергию молодого поколения и бакалавров в нужное русло».
Пришло и официальное приглашение — на строгом бланке Тринити-колледжа:
«13 февраля, 1871
Тринити-колледж
Кембридж
Мой дорогой Максвелл!
В нашем университете сейчас основана кафедра экспериментальной физики, и, хотя оклад не так уж высок (500 фунтов в год), у нас всех в университете есть общее желание, чтобы эта отрасль науки велась таким образом, чтобы это делало честь университету. Многие здешние влиятельные лица решили, что именно Вы должны занять этот пост, надеясь, что в Ваших руках эта лаборатория университета займет ведущую роль в своей области. Мне кажется, что уже точно установлено, что сэр Вильям Томсон не принял бы этой кафедры. Я упоминаю об этом на случай, если бы Вы желали избежать соперничества с ним в этой области.
Поверьте, искренне Ваш
Э.В.Блор».
Максвелл немедленно ответил:
«Гленлейр, Далбетти, 15 февраля 1871
Мой дорогой Блор! Несмотря на то, что меня весьма интересует предложение занять кафедру экспериментальной физики, до получения Вашего письма у меня не было намерения подавать заявление на эту должность, и я не намереваюсь это делать до тех пор, пока я сам не поеду туда и не приду к заключению, что моя работа на этом посту позволит мне сделать что-то доброе...»
Максвелл долго колебался. В числе причин, видимо, была и природная застенчивость, неумение и нежелание находиться на виду. И прошлые неудачи с преподаванием. И необходимость пожертвовать своими научными изысканиями.
И все же кафедра и лаборатория экспериментальной физики были величайшей честью. И величайшей возможностью для производства собственных крупномасштабных экспериментов в специальном помещении. Создавая новую лабораторию с самого начала, в ней можно было бы многое предусмотреть.
Там магнитные измерения можно было бы производить в комнате без единого железного предмета. Гальванометры и другие точные измерительные приборы можно было бы, наконец, установить не на каких-то трясучих столах, а на специальных фундаментах. В общем, можно было осуществить многое из того, о чем мечталось.
Максвелл выехал в Кембридж, чтобы ознакомиться с обстановкой на месте. Оказалось, что дела обстоят не так уж плохо. Сенат своим постановлением от 9 февраля определил задачи кавендишского профессора следующим образом:
«Основная задача профессора преподавать и иллюстрировать законы Тепла, Электричества и Магнетизма; самому содействовать продвижению вперед этих наук; поощрять изучение этих наук в университете».
Как раз то, что нужно!
Он согласился. С единственным условием — возможностью через год, если он почувствует себя не на месте, ретироваться обратно в Гленлейр.
Кандидатура Максвелла была оглашена 24 февраля. Стокс приветствовал решение Максвелла, своего ученика и друга:
— Я рад, что вы решили двинуться вперед.
Оппозиции не было. 8 марта 1871 года Максвелл был назначен первым кавендишским профессором экспериментальной физики в Кембридже.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАБОРАТОРИИ
Главной задачей кавендишского профессора сейчас, до начала чтения лекций, и потом, до открытия лаборатории, было ее строительство и оснащение.
Уже назначен был архитектор, талантливый Фокетт из колледжа Иисуса, магистр искусств.
Уже был выделен участок земли за Корпус Кристи-колледжем — ниже и через улицу от Тринити-колледжа.
Уже поторапливал предполагаемый подрядчик, производитель работ мистер Лавдей.
Только несколько растерянный Максвелл не знал еще толком, что ему заказать, как распорядиться средствами, землей, трудом архитектора и строителя. Он не представлял еще в деталях своей будущей лаборатории.
Он едет в Глазго, к Томсону, смотрит, как выглядит его лаборатория, как там развернуты экспериментальные работы по электричеству, как студенты обучаются, экспериментируя, создавая устройства, нужные практике.
Он беседует со Стрэттом, который создает сам себе личную физическую лабораторию в бывшей отцовской конюшне.
И главное — он вспоминает отца, его строительство в Гленлейре, он вспоминает, как удивлялись поставщики и производители, когда им заказывались отцом обычные вещи, но настолько легкие, удобные и небольшие по размерам, что невольно наводили на мысли об оборудовании корабля, отправляющегося в кругосветное путешествие.
Здание лаборатории и ее оборудование, по мысли Максвелла, тоже должны были быть абсолютно продуманными.
Не было соперничества между архитектурой и целесообразностью — высокая целесообразность всего, что было запроектировано в здании, вызвала к жизни и архитектурную привлекательность.
Строительство лаборатории, проект которой был одобрен сенатом, началось.
Теперь встала задача как следует оснастить ее первоклассным оборудованием — лучшим, какое можно было купить или заказать. Денег оказалось недостаточно, и Максвеллу сначала пришлось отдать в лабораторию все свои личные приборы, а затем прикупать приборы за свой счет, соревнуясь в этом смысле с самим герцогом Девонширским.
Заказанные приборы поступали и расставлялись в светлые и просторные помещения. На почетные места вставали личные приборы Максвелла. Прибыли приборы, отданные лаборатории Британской ассоциацией, — специальное решение состоялось на Эдинбургском конгрессе. Это были довольно дорогие аппараты, на которых некогда сам Максвелл вместе с Бальфуром Стюартом и Флемингом Дженкином проводил работы по стандартизации электрических единиц, в частности — единицы сопротивления. Эти работы намечалось продолжить.
Спешно устанавливалась система для подачи горячей воды — один из последних даров герцога. Лаборатория готовилась к своему официальному открытию.
ЛЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ В КЕМБРИДЖЕ
Нельзя сказать, что лекционная нагрузка кавендишского профессора была чрезмерной. Он должен был находиться при кафедре всего восемнадцать недель в году. Но она существовала, эта нагрузка, и Максвеллу предстояло ее нести. Максвелл не страшился лекционной работы, но всеми силами хотел бы избежать первой, инагурационной лекции, на которой, по положению, должны были присутствовать отцы университета.
Об инагурационной лекции полагалось дать объявление — и Максвелл вывесил его, однако так, что его лишь с малой вероятностью могли прочесть отцы университета, но могли прочесть студенты. Студенты, пробегая мимо объявления о лекции Максвелла, удивленно переглядывались: какой это Клерк Максвелл? Имя-то вроде и известное, произносится всеми с уважением. Может быть, он печатает статьи в научных журналах? Тогда другое дело — нормальным кембриджским студентам не до них, им не хватает времени для подготовки к экзаменам, в том числе к страшному математическому трайпосу, на котором, а это уже точно известно, этот Клерк Максвелл дает весьма коварные задачки.
Но предмет — экспериментальная физика — обещает быть интересным, и несколько студентов, дрожа в своих фланелевых курточках, пробегают под октябрьским дождиком, нет, не в роскошное помещение Сенат-хауса, как это надлежит быть, а в затрапезную аудиторию, где новый профессор будет читать самую важную, первую свою лекцию, в которой разъяснит свои взгляды на этот новый предмет, расскажет о том, что будет делаться в Кавендишской лаборатории после завершения строительства.
Собралось около десятка студентов. Никого из отцов университета не было. Максвелл поднялся на кафедру и после не слишком бурных приветствий приступил к своей лекции.
— Мы обсудим сегодня, — негромко сказал он, и все студенты сразу почувствовали и хрипоту его голоса, и его неистребимый шотландский акцент, — вопрос о значении эксперимента в физической теории. Кембриджский университет, — продолжал Максвелл, — в соответствии с законом своего развития, согласно которому он с большей или меньшей быстротой приспособляется к требованиям времени, недавно ввел курс экспериментальной физики.
Студенты заулыбались: им понравилась шпилька в адрес консервативных университетских властей.
— Курс этот, — продолжал Максвелл, — поддерживая способности к анализу, столь много времени культивировавшиеся в университете, требует также упражнения наших чувств в наблюдении и наших рук в общении с приборами. Привычных принадлежностей — пера, чернил и бумаги — будет теперь недостаточно, и нам потребуется большее пространство, чем пространство кафедры, и большая площадь, чем поверхность доски.
Когда мы сможем использовать при обучении науке не только сосредоточенное внимание студента и его знакомство с символическими обозначениями, но и зоркость его глаз, остроту слуха, тонкость осязания и ловкость его пальцев, мы сразу же распространим наше влияние на целую группу людей, не любящих холодных абстракций. Более того, раскрывая сразу все ворота познания, мы обеспечим ассоциирование научных доктрин с теми элементарными ощущениями, которые образуют смутный фон всех наших мыслей и придают блеск и рельефность идеям, которые, будучи представлены в чисто абстрактной форме, могут совершенно исчезнуть из памяти...
...Стали записывать...
— Характер современных экспериментов, — продолжал Максвелл, — то, что они заключаются главным об разом в измерениях, настолько бросается в глаза, что распространилось мнение о том, что через несколько лет все основные физические постоянные будут с достаточной точностью определены и единственным оставшимся для ученых занятием будет достижение при дальнейших измерениях следующих десятичных знаков.
Если таково действительное положение вещей, то наша лаборатория станет, быть может, знаменита своей добросовестной работой и совершенством экспериментального мастерства; но она в этом случае будет не на месте в университете и должна быть скорее отнесена к ряду знаменитых мастерских нашей страны, где подобное умение направлено на более полезные цели...
Возможно, что в некоторых областях великие естествоиспытатели прошлого действительно завладели почти всем ценным и оставленные ими крохи подбираются скорее из-за своей таинственной непонятности, нежели ради истинной, присущей им ценности. Но история науки показывает, что даже в течение этой фазы развития наука подготавливает материалы для подчинения областей, которые остались бы неизвестными, если бы наука довольствовалась грубыми методами своих ранних пионеров. Я мог бы привести примеры из любой отрасли науки, показывающие, как работа над тщательными измерениями была вознаграждена открытиями новых областей исследования и развитием новых научных идей...
Я признаю, что наша умственная энергия количественно ограничена, и знаю, что много усердных студентов пытаются сделать больше, нежели это для них полезно.
Однако при обучении большая часть утомления часто возникает не от умственных усилий, с помощью которых мы овладеваем предметом, но от тех, которые мы тратим, собирая наши блуждающие мысли, и эти усилия были бы гораздо менее утомительны, если бы можно было устранить рассеянность, нарушающую умственную сосредоточенность.
Поэтому-то человек, вкладывающий в работу всю свою душу, всегда успевает больше, нежели человек, интересы которого не связаны непосредственно с его занятием. В последнем случае побуждения, которыми он пользуется для стимулирования падающих сил, сами становятся средством отвлечения его от работы.
Может быть, и существуют математики, занимающиеся своими исследованиями исключительно для собственного удовольствия. Однако большинство людей предполагает, что главная польза математики заключается в применении ее для объяснения природы.
Я знал людей, которые, обучаясь в школе, никак не могли понять пользы математики, но, поняв ее, в дальнейшем не только становились выдающимися учеными-инженерами, но и достигали больших успехов в занятиях абстрактной математикой. Если наш экспериментальный курс поможет кому-либо из вас увидеть пользу математики, это освободит нас от большого беспокойства, так как не только обеспечит успех вашего дальнейшего учения, но и сделает менее вероятным его вред для вашего здоровья.
Студенты улыбались. Им был глубоко симпатичен этот темноволосый бородач с нескладной фигурой и живыми, видимо, чуть близорукими глазами. Он говорил о том, что волновало их, и давал решения, решения мудрые и продуманные, пряча их серьезность за слегка юмористическим фасадом.
— Можно поставить вопрос, — продолжал Максвелл, — должен ли университет быть местом получения общего образования или должен посвятить себя подготовке юношей к определенным профессиям? Поэтому, хотя многие из вас сделают научные исследования главной целью своей жизни, все мы должны постоянно стремиться поддерживать живую связь между нашей работой и гуманитарными курсами Кембриджа — литературными, филологическими, историческими или философскими.
Среди ученых появляется иногда узкий профессиональный дух, такой же, какой появляется среди людей, занимающихся какой-либо другой специальностью. Но университет как раз и является тем местом, где можно преодолеть тенденцию людей разбиваться на замкнутые кружки, в которых именно благодаря их замкнутости господствуют мелкие цеховые интересы. Мы же теряем преимущество быть объединением различных специальностей, если не пытаемся до некоторой степени впитать дух науки даже со стороны тех, чья специальная отрасль знания отлична от нашей.
Не так давно еще на каждого человека, посвятившего себя геометрии или какой-либо другой науке, требующей постоянной усидчивости, смотрели как на мизантропа, отказавшегося от всяких человеческих интересов и столь преданного оторванной от мира абстракции, что он стал одинаково нечувствителен как к удовольствиям, так и к требованиям долга.
Сейчас на людей науки не смотрят уже с почтительным страхом или подозрительностью. Предполагается, что они связаны с практическим духом века и образуют передовой отряд человечества.
Лекция закончилась бурными аплодисментами немногочисленных слушателей. Максвелл был доволен вдвойне — и едва не больше всего тем, что ему удалось прочесть лекцию без лишней помпы.
Но радоваться было рано. Отцы университета увидели объявление о второй лекции! Думая, что это и есть первая, инагурационная, они все в полном составе, в мантиях и париках, явились на нее, оттеснив студентов с первых рядов. Впереди уселись великие кембриджские астрономы, философы и математики — и среди них Адамс, Кейлей, Стокс... И где-то сзади — студенты, присутствовавшие на первой лекции.
«Не повторять же снова всю инагурационную лекцию!» — решил Максвелл и приступил к следующей лекции, которая должна была открывать курс теплоты.
С озорным блеском в глазах, увлеченно и самозабвенно начал разъяснять он отцам университета и сидящим сзади студентам разницу между шкалой Фаренгейта и стоградусной шкалой.
Отцы университета покорно внимали...
Его любили и поэтому простили ему эту мальчишескую выходку.
Следующие лекции по теплоте, электричеству проходили как обычно, если не считать двух обстоятельств.
Первое: лекции читать было негде.
— Мне негде поставить свое кафедральное кресло, и я кочую, как кукушка, откладывая плоды своей мысли в химической аудитории в первом семестре, в ботанической — в Лент-семестре, в музее сравнительной анатомии — в пасхальном, — жаловался он. Для нетерпеливого Максвелла лаборатория строилась слишком медленно.
И второе: он опять стал увлекаться на своих лекциях. Студентам очень импонировали его мягкий юмор, его внезапные поэтические сравнения, его экскурсы в историю науки. Но сложная суть его лекций была ясна немногим. Лишь очень талантливые, способные люди могли смело следовать за ним в его сложнейших построениях, не обращая внимания на многочисленные вольности и ошибки, которые он позволял себе в ходе доказательств. Многих не увлекало физическое величие полученных результатов. Они с разочарованием видели у доски питающегося лектора, безнадежно тонущего в деталях мелких вычислений, которого от ошибочных выводов спасало лишь тончайшее физическое чутье.
Когда в 1873 году появился «Трактат об электричестве и магнетизме», студенты сначала образовали давку в книжной лавке, а потом — увы! — их ожидало разочарование. Книга Максвелла оказалась еще более сложной, чем его лекции. В ней было более тысячи страниц, из которых лишь десяток (!) непосредственно относился к его системе уравнений. Однако сами уравнения разбросаны по всей книге, и их довольно много — двенадцать!
Последующее изучение Герцем и Хевисайдом уравнений Максвелла показало, что некоторые из них могут быть выведены друг из друга, некоторые — вообще лишние и не отражают фундаментальных законов природы.
Кроме того, изложение и обозначения Максвелла оставляли большой простор для пожеланий их улучшения. Как пишут исследователи, «сумбурность изложения... приходится признать типичной чертой его литературного творчества». И еще: «Трактат Максвелла загроможден следами его блестящих линий нападения, его укрепленных лагерей, его битв».
Класс Максвелла таял. Десять... три... два.
Но Максвелл не унывал. Он обладал талантом читать лекции с равной увлеченностью и страстью и полной аудитории, и аудитории, состоящей всего из двух студентов.
Тех, кто оказался в состоянии осиливать и его лекции, и его «Трактат»...
«ТРАКТАТ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ»
«Трактат» содержал все, что знал и передумал Джеймс Клерк Максвелл об электричестве и магнетизме, причем собственные его взгляды и разработки не заняли в книге подобающего им места — стремление рассказать все об электричестве, дать систематический учебный курс привело к тому, что работы самого Максвелла несколько отошли в этом труде на задний план.
Максвелл хотел дать практическое пособие для ученых, инженеров и студентов и не заботился о том, какое место в общей картине знаний по электричеству займут его имя, его труды.
Уже в предисловии Максвелл пишет о том, что имеющиеся в библиотеках учебники и пособия по теории электромагнетизма не отвечают потребностям людей, работающих в настоящей научной лаборатории, совсем уже не учебной, людей, которым приходится делать хитроумные и точные измерения. Не без яда Максвелл упоминает о многопудовых учебниках по электричеству, лежащих без применения, пылящихся на полках библиотек, — эти учебники были далеки от практических задач и зачастую попросту непонятны.
Исправляя эту ошибку, Максвелл значительную часть «Трактата» посвятил изложению методов измерения и описанию измерительной аппаратуры.
Максвелл дал полный обзор всех до тех пор созданных теорий электричества и магнетизма. Максвелл справедлив и великодушен. Он признает их значение для развития физики и прямо говорит, что теория Ампера непревзойденна по точности, а формула Ампера, определяющая силу взаимодействия токов, навсегда останется в золотом фонде любой теории электромагнетизма.
В «Трактате» сформулированы «уравнения Максвелла».
В «Трактате» есть, по сути дела, все те же уравнения, что и в «Динамической теории». Но выведены они иным путем, более закономерным и обоснованным.
Максвелл подбирается к уравнениям издалека. Неторопливо идет вначале повествование о размерностях физических величин. Затем столь же медленно и систематически даются основы векторного исчисления.
Затем — четыре части: электростатика, электрокинематика, магнетизм, электромагнетизм. Казалось бы, и здесь нет существенных различий с общепринятой методикой изложения. Каждая часть начинается со спокойного изложения исходных экспериментов и основных понятий.
Но вот метод исследования Максвелла резко отличается от методов других исследователей. Не только каждая математическая величина, но и каждая математическая операция наделяются глубоким физическим смыслом. В то же время каждой физической величине дается четкая математическая характеристика.
Одна из глав «Трактата» (девятая глава четвертой части) называется «Основные уравнения электромагнитного поля». Здесь, казалось бы, и должны быть сосредоточены основные уравнения электромагнитного поля. И действительно, нумерация уравнений здесь меняется: они начинают обозначаться не цифрами, а буквами, что, видимо, должно обратить внимание на их важность. Но читатель с удивлением может заметить, что нумерация уравнений, отмеченных буквами, начинается в этой главе сразу с D, а уравнения под номерами А, В, С были приведены уже в предыдущей главе. Таким образом, в главе «Основные уравнения» даны не все уравнения.
Но это еще не все. Уравнения, отмеченные буквами, кончаются буквой L. Их двенадцать! Их слишком много! Максвелл, чувствуя это, оправдывается перед читателем:
«Наша цель в настоящий момент состоит не в получении компактности математических формул, а в выражении каждого известного нам соотношения, и исключение величины, выражающей полезную идею, было бы скорее потерей, чем выигрышем на данной стадии исследования».
С помощью векторного исчисления Максвелл более просто сделал теперь то, что раньше сделал с помощью механических моделей, — вывел свои уравнения электромагнитного поля.
Впоследствии уравнения Максвелла были «расчищены» Герцем и Хевисайдом. Они сократили число уравнений Максвелла до четырех, самых важных. Эта система уравнений употребляется до сих пор.
Трудно поверить, что в области электричества и магнетизма не существует ни одного факта, противоречащего или не ложащегося в рамки этой системы четырех уравнений.
Уравнения Максвелла при простой форме записи очень сложны. Их не всякий сможет решить или применить к нужному случаю. Но смысл уравнений прозрачен, и в их содержании сравнительно просто разобраться.
Первое уравнение означает, что электрическое поле образуется зарядами и силовые линии этого поля начинаются и кончаются на зарядах.
Второе уравнение постулирует замкнутость магнитных силовых линий, отсутствие свободных магнитных зарядов. Магнитные силовые линии нигде не начинаются, нигде не кончаются — они замкнуты.
Третье уравнение говорит о том, что магнитное поле создается током, включающим в себя открытый Максвеллом ток смещения. Это обобщение и дополнение всей электродинамики Ампера.
Четвертое уравнение отражает закон электромагнитной индукции Фарадея — возникновение электрического поля за счет изменения индукции магнитного поля. Любое изменение магнитного поля приводит в соответствии с этим уравнением к возникновению в пространстве особого, вихревого электрического поля.
Два последних уравнения привели Максвелла к предсказанию существования электромагнитных волн. Вокруг магнитных силовых линий возникают тут же электрические силовые линии, вокруг которых, в свою очередь, создаются магнитные — и за счет этого в пространстве, от точки к точке, передается электромагнитное возбуждение.
Если попытаться вычислить из уравнений скорость распространения электромагнитной волны, то получится, что она равна отношению электромагнитной и электростатической единицы измерения. Совпадение этой величины со скоростью света было известно давно, со времен Кольрауша и Вебера, но никто до Максвелла не смог усилием мысли придать этому, казалось, случайному совпадению глубокий физический смысл. Исследовательский метод Максвелла проявил в доказательстве электромагнитной природы света свое высшее достижение.
Важнейшим следствием электромагнитной теории света было предсказанное Максвеллом давление света. Ему удалось подсчитать, что в случае, когда «в ясную погоду солнечный свет, поглощаемый одним квадратным метром, дает 123,1 килограммометра энергии в секунду, он давит на эту поверхность в направлении своего падения с силой 0,41 миллиграмма».
Таким образом, теория Максвелла укреплялась или рушилась в зависимости от результатов еще не осуществленных экспериментов.
Существуют ли в природе электромагнитные волны, подобные по свойствам свету?
Существует ли световое давление?
Уже после смерти Максвелла на первый вопрос ответил Герц, на второй — Лебедев.
Пока никаких доказательств новой теории не было...
Но могло существовать и еще одно доказательство справедливости электромагнитной теории света и всей теории электромагнитного поля в целом. Доказательство, правда, частное, но многозначительное.
Рассматривая условие распространения электромагнитного возмущения в однородной среде, Максвелл приходит к важному выводу о зависимости электромагнитных свойств среды от ее оптических характеристик. Например, квадрат показателя преломления должен быть равен диэлектрической постоянной среды, умноженной на ее магнитную проницаемость. Для немагнитного диэлектрика показатель преломления среды должен быть равен квадратному корню из диэлектрической постоянной.
Среди тех, кто пытался подтвердить это опытом, — обожающий Максвелла и преклоняющийся перед ним Людвиг Больцман. Он работал в те времена, в 1872 году, в Берлине, в лаборатории Гельмгольца.
Он пытался проверить зависимость, данную Максвеллом в ранних статьях, для газов. Но Больцмана подвела память. Он искал почему-то прямую пропорциональность показателя преломления и диэлектрической постоянной. Это неправильное положение засело у него в памяти, и его он доказывал. А оно не получалось. И не должно было получаться. Больцман, расстроенный тем, что ему не удалось, как ему казалось, подтвердить теорию Максвелла, бросил заниматься этими экспериментами.
Лишь позже, когда он покинул уже Берлин, он случайно заглянул в свой лабораторный журнал и заметил хорошее совпадение для случая, если бы показатель преломления был пропорционален квадратному корню из диэлектрической постоянной.
Решив проверить себя, он заглянул в статью Максвелла и обнаружил, что и там говорится как раз о квадратном корне!
К несчастью, это открытие произошло уже после выхода «Трактата» в свет и не послужило своевременным доказательством правильности новой теории.
Недостаточность доказательств Максвелл компенсировал своей гениальной физической интуицией.
На наиболее высоких ступенях научного познания вступают в силу высшие качества исследователя — способность его ума воспарить над известными данными, выйти за пределы результатов опытов, «довообразить» их. Это можно назвать интуицией, гениальностью, высшей степенью умственной деятельности ученого.
Необходимость выходить за границы доказанных положений, вырваться из рамок опыта. И способность сделать это. Но не вопреки опыту. Не вопреки зарекомендовавшим себя научным принципам. А может быть, и вопреки, если они оказываются неверными. Лишь гений, тонко чувствующий границы дозволенного, может без боязни приближаться к ним.
Как достиг он такой степени свободы? В силу врожденной гениальности? Или в силу иных причин?
— Если прямая цель всякой научной работы, — говорил Максвелл, — раскрывать тайны природы, то она оказывает и другое, не менее ценное действие на ум исследователя. Она делает его обладателем методов, и к выработке их ничто, кроме научной работы, не могло бы его привести; это ставит его в положение, с которого многие области природы, помимо тех, которые он изучал, являются перед ним в новом свете.
Его гениальность; несомненно, была врожденной. Но и тщательно лелеемой и укрепляемой в процессе каждодневных исследований.
«Трактат об электричестве и магнетизме» заканчивается обзором теорий Гаусса, Римана, Клаузиуса.
Знаменательное название имеет последний параграф трактата. Он назван:
«Идея среды неодолима».
И смысл его в том, что все непротиворечивые теории электричества «приводят к представлению об электромагнитном поле — о среде, в которой происходит распространение электрических и магнитных воздействий; если мы примем это в качестве гипотезы, она, мне кажется, должна будет занять важное место в наших исследованиях, и нам следовало бы изучить все детали ее проявления — что и было моей постоянной целью в этом «Трактате».
ПЕРВАЯ РЕАКЦИЯ НА «ТРАКТАТ»
У книги перед статьей есть большое преимущество — ее труднее не заметить. И хотя «Трактат» в значительно меньшей степени отражал личные взгляды автора, чем его «электрические статьи», большинство физиков того времени и следующего поколения ознакомились с его взглядами именно через «Трактат».
Больше всего, конечно, волновала бы Максвелла реакция на главный труд его жизни со стороны старых друзей — виднейших английских физиков того времени — Томсона, Стокса и Тэта. И он с нетерпением и волнением ждал их приговора.
Но Томсон и Стокс не спешили высказываться, хотя оба они, особенно Томсон, с которым Максвелл вел активную переписку, были хорошо знакомы с содержанием «Трактата», а взгляды Томсона и теорема Стокса, доказанная Максвеллом еще при сдаче трайпоса, были в нем представлены весьма обстоятельно. Томсон и Стокс отмалчивались, и их молчание было многозначительным.
Уж слишком радикальными, слишком явно устремленными в грядущие века оказывались мысли Максвелла. Предсказание электромагнитных волн, распространяющихся в пространстве, должно было быть особенно не по нраву сэру Вильяму Томсону, двадцать лет назад доказавшему возможность колебательного процесса в цепи, содержащей емкость и индуктивность. Томсон был в плену величия его трансатлантической эпопеи и не мог представить себе, что колебательный разряд может существовать не только в проводах, в телеграфных кабелях. Ему была глубоко чужда идея электромагнитных возмущений, распространяющихся безо всяких проводов, в пустоте.
Не мог понять он и максвелловского светового давления; в конечном счете все упиралось в неприятие Томсоном токов смещения.
— Занятная и изобретательная, но не вполне неуязвимая гипотеза! — так он позже высказался о токах смещения. Старый друг и советчик не принял теории Максвелла...
Не принял ее и другой друг и учитель Максвелла, молчаливый, доброжелательный Стокс, отчаянно храбрый человек — его звали в детстве «Веллингтоном», шедший навстречу опасностям, ощущавший счастье как раз в те моменты, когда его шея была максимально близка к тому, чтобы стать сломанной. Но это его качество совершенно не относилось к науке — там он был излишне осмотрителен, спокоен и мудр. Он был личным другом Максвелла, особенно в последние кембриджские годы, когда сгладилась разница в возрасте, но темы их изысканий всегда были далеки. Исследования Стокса носили преимущественно уточняющий и формальный характер. Достигнув жизненного перевала, он занимался организацией науки, был президентом Королевского общества и Британской ассоциации.
Они дополняли в науке друг друга — пылкий Максвелл и сдержанный Стокс. Они продолжали дружить, несмотря на сдержанное отношение Стокса к «Трактату». Их дружба, немногословная, серьезная, иногда прорывающаяся в юмористических пассажах, столь ценимых обоими, стала особенно крепкой в последние месяцы жизни Максвелла и окончилась лишь с его смертью. Стокс стал душеприказчиком Максвелла.
Другой друг со старых времен, Тэт, поддержал Максвелла, выступив с подробной рецензией на «Трактат».
«Бывают авторы, исполненные внутренней мощи, — писал Тэт, — они движутся прямо к цели с непреодолимой силой, но не суетятся, не спешат — больше напоминая гигантских, но бесшумных крокодилов или штамповочный пресс, чем слабое человеческое существо...
Трактат, который мы взялись прорецензировать, с первых же страниц обнаруживает, что он написан именно таким автором. Ничто не принимается без оснований для этого... — это не парад безмерных ценностей даже тогда, когда автор делает действительно великие шаги. Нет попыток говорить языком сенсаций при описании встречающихся трудностей. Когда необходимо — есть спокойное признание в незнании без слишком часто встречающегося аккомпанемента болезненной фальшивой скромности...
Основной целью работы, кроме того, чтобы дать сведения об экспериментальных данных, касающихся электричества и магнетизма... было полностью развенчать теорию дальнодействия. Каждый знает или, по крайней мере, должен знать, что Ньютон считал, что ни один человек, способный разумно рассуждать на физические темы, не может признать такого абсурда. То же отрицание сквозит и во всех блестящих электрических исследованиях Фарадея, которым на протяжении всего труда Максвелл выражает свою большую признательность».
Это, конечно, было важно — окончательно разделаться с дальнодействием, но не только в этом было значение Максвелловой работы. Было важно поддержать и Фарадея, но различие между Фарадеем и Максвеллом — это различие замысла и исполнения... Электромагнитное поле, его уравнения, возможность существования электромагнитных волн, электромагнитная теория света, давление света — все эти перлы человеческой мысли были неназойливо вкраплены в «Трактат», а Питер не придал им должного значения...
Итак, не приняли в Англии основных идей «Трактата». Не оценили должным образом. Даже друзья не поняли его. А ведь они-то и были самыми великими, самыми славными физиками Англии. Видимо, трудно им уже было меняться. Приспосабливаться на старости лет к новым научным веяниям.
Идеи Максвелла подхватили молодые. Уже на следующий год после выхода «Трактата» на его основе был прочтен первый лекционный курс. Это сделал молодой преподаватель Оуэн-колледжа в Манчестере, сотрудник профессора Осборна Рейнольдса, Артур Шустер. На его лекции записалось три студента. Одним из них был будущий преемник Максвелла на посту директора Кавендишской лаборатории Дж.Дж.Томсон.
Заинтересовался теорией Максвелла молодой Оливер Лодж. Его увлекли предсказанные Максвеллом электромагнитные волны. Лодж задумал обнаружить их. Его поддержал молодой Фитцджеральд. В 1878 году они встретились. Нужно было обсудить: как создать и обнаружить электромагнитные волны, предсказанные Максвеллом?
Поиски Лоджа увенчались открытием когерера — простейшего прибора для обнаружения электромагнитных волн. Когерер исправно служил потом в радиоприемнике Попова.
Поиски Фитцджеральда пошли в ином направлении — в направлении создания непротиворечивой теории эфира, в совершенствовании Максвелловой теории. Странен был его вывод: эталон метра, двигаясь с большой скоростью, должен укорачиваться! Сначала не поняли, не оценили этого вывода, сочли неверным. А потом лег он одним из краеугольных камней теории относительности!
Напрасно молодые пытались убеждать стариков. Тверды они были, как кремень. Стояли на своем. Суровыми атлантами держали на своих немолодых уже плечах храм классической физики.
Фитцджеральд писал Хевисайду уже через много лет после смерти Максвелла о своей попытке убедить Вильяма Томсона, тогда уже лорда Кельвина, в правильности максвелловской теории:
«...мне кажется, он даже до сих пор не понял идеи Максвелла о том, что токи смещения сопровождаются магнитной силой. Я пытался показать ему, что его собственные исследования проникновения переменных токов в проводники были... аналогией проникновения света, но он пугался этого сравнения, как лошадь пугается груды камней, которую она уже перепрыгивала, если эта груда на этот раз сложена в кучу другой формы».
Оливер Лодж тоже жаловался Хевисайду:
«Кельвин не верит даже в Максвеллово давление света. Он сказал, что вся эта часть неверна».
Понадобились тончайшие эксперименты П.Н.Лебедева по световому давлению, чтобы Вильям Томсон поверил в теорию своего друга. Вильям Томсон, тогда уже величественный старец лорд Кельвин, был изумлен простой доказательностью опытов Лебедева. Он сказал К.А.Тимирязеву следующую знаменательную фразу:
— Вы, может быть, знаете, что я всю жизнь воевал с Максвеллом, не признавая его светового давления, и вот ваш Лебедев заставил меня сдаться перед его опытами...
Лебедев примирил Максвелла с его другом и критиком Вильямом Томсоном, человеком, удостоившимся в английской науке самых высших почестей, более высоких, чем Ньютон, чем Фарадей и Максвелл.
Томсон верно служил своему веку и был полезен ему, может быть, так, как никто. Он умер, считая, что прекрасный храм классической физики уже построен. Что ясно небо над ним, если не считать двух маленьких облачков: необъяснимого эксперимента Майкельсона по измерению скорости света относительно «эфира» и непонятного характера излучения абсолютно черного тела. К образованию этих «облачков» приложил руку и Максвелл, и впоследствии они пролились благодатным дождем теории относительности и квантовой физики.
Королевский астроном Эйри, так восхищавшийся работой Максвелла о Сатурне, новую теорию принял в штыки. Теория Максвелла не властвовала даже в Кавендишской лаборатории, где он был директором...
На континенте тоже не особенно жаловали заумную теорию островитянина. Особенно раздражал метод Максвелла французских ученых, воспитанных на изящных, тонкой кружевной выделки, трудах Лапласа и Ампера.
Дюгем писал о «Трактате»:
«Мы полагали, что вступаем в мирное и упорядоченное жилище дедуктивного разума, а вместо этого оказались на каком-то заводе».
«Отсутствие логики», «массивная реалистичность», «сложная и надуманная теория».
Пуанкаре, в общем доброжелатель, писал в своем труде «Электричество и оптика»:
«Все сочинение проникнуто одним и тем же духом. Подробно рассматривается только существенное, то есть общее всем возможным теориям, и почти везде обходится молчанием все, что согласуется лишь с одной частной теорией. Поэтому читатель видит перед собой форму, почти лишенную содержания, и он склонен с первого взгляда принять ее за беглую и неуловимую тень. Это вызывает у читателя усилия и новые размышления, и в конце концов читатель убеждается в искусственности теоретических построений, которые вызывали у него раньше такое восхищение».
В другой работе Пуанкаре писал:
«Система Максвелла была странна и малопривлекательна, так как он предполагал весьма сложное строение эфира: можно было подумать, что читаешь описание завода с целой системой зубчатых колес, рычагами, передающими движение и сгибающимися от усилия, центробежными регуляторами и передаточными ремнями».
В Германии к новой теории отнеслись как к интересному курьезу. Здесь теории Максвелла завоевать позиции было особенно трудно. Именно здесь великий Гаусс довел до совершенства теорию потенциала, здесь работали Вебер и Нейман, столпы дальнодействия.
Лишь немногие немецкие физики со всей серьезностью отнеслись к теории Максвелла. И прежде всего — друг и соперник Людвиг Больцман. Больцман очень переживал то, что не смог из-за нелепой случайности вовремя, к выходу «Трактата», представить одно из доказательств правильности Максвелловой теории. Плененный когда-то силой механических моделей Максвелла, он и сейчас стал пытаться свести к ним его уравнения. О моделях в «Трактате» говорилось приглушенно, и Больцман решил, что Максвелл имеет их, но прячет.
Недооценивал Максвелла столь почитавший его Больцман. Уже после смерти Максвелла он поспешил в Кембридж, в Кавендишскую лабораторию. Все спрашивал:
— Где тут у вас максвелловские механические модели, которыми он обосновал свои уравнения?
Больцман восхищался Максвеллом. Излагая на лекциях максвелловскую теорию, он предварял изложение эпиграфом из «Фауста»:
Я должен пот тяжелый лить, чтобы научить тому, что не понимаю сам.Он, конечно, кокетничал. Понимал он эту теорию, как немногие. Много лет спустя со всего мира съезжались к нему люди, жаждавшие, чтобы он объяснил им смысл Максвелловых уравнений.
Восхищение Больцмана этой «книгой за семью печатями», этими уравнениями не имело предела. Он постоянно цитировал строки из «Фауста»:
Не бог ли эти знаки начертал? Таинственен их скрытый дар! Они природы силы раскрывают И сердце нам блаженством наполняют.Не понял Больцман, как можно было создать такую теорию без механической модели. Он все чаще и чаще приходил к конфликтам и непониманию. Новая физика, у колыбели которой стоял Максвелл, становилась глубоко чуждой Больцману. Он с каждым годом все яснее понимал, что конфликт этот неразрешим — нужно было родиться заново, чтобы воспринимать «эти вещи». Не в силах совладать со своими чувствами, он покончил с со бой, выбросившись из окна...
Герману Гельмгольцу теория Максвелла тоже очень нравилась. Своей формальной простотой. Но не мог он целиком встать на философские позиции Максвелла. Гельмгольц попытался найти компромисс между теориями великих немцев Гаусса, Вебера и Неймана и теорией электромагнитного поля Максвелла. Напрасна была эта попытка — примирить непримиримое, сочетать несочетаемое. И чем дальше заходил в этих попытках Гельмгольц, побуждая своего ученика Генриха Герца многократно экспериментально проверять Максвелловы уравнения, тем ясней и ясней становилась их полная справедливость. И ограниченность теорий, основанных на дальнодействии, в том числе и непоследовательной теории самого Гельмгольца...
Герц писал впоследствии об уравнениях Максвелла: «Трудно избавиться от чувства, что эти математические формулы живут независимой жизнью и обладают своим собственным интеллектом, что они мудрее, чем мы сами, мудрее даже, чем их первооткрыватели, и что мы извлекаем из них больше, чем было заложено в них первоначально».
Большое впечатление теория Максвелла произвела на русских ученых. Многие из них учились в Германии и испытали на себе влияние Больцмана и Гельмгольца. Всем известна роль Умова, Столетова, Лебедева в развитии и укреплении Максвелловой теории. Русские ученые поддерживали и развивали ее еще до открытий Герца, до великого перелома, произведенного его волнами.
Одним из тех, на кого работы Максвелла произвели наиболее сильное впечатление, был молодой голландский физик Гендрик Антуан Лоренц. Он писал впоследствии:
«...»Трактат об электричестве и магнетизме» произвел на меня, пожалуй, одно из самых сильных впечатлений в жизни: толкование света как электромагнитного явления по своей смелости превзошло все, что я до сих пор знал. Но книга Максвелла была не из легких! Написанная в годы, когда идеи ученого еще не получили окончательной формулировки, она не представляла законченного целого и не давала ответа на многие вопросы. Один французский ученый, имени которого я, к сожалению, не помню, заявил по прочтении книги, что она его восхитила, но так и не ответила на вопрос, что представляет собой электрически заряженный шар...
Как бы то ни было, но в данный момент теория электромагнитного поля Максвелла представляется нам настолько красивой и простой, что мы чуть ли не с сожалением думаем о том, что в нее могут быть внесены какие-либо изменения».
Но и восхищенному Лоренцу тяжело было сразу докопаться до физического смысла уравнений. «Автор электронной теории, — пишет А.Ф.Иоффе, — рассказывал мне, что, познакомившись впервые с уравнениями Максвелла, он не смог понять их физического смысла и обратился к переводчику сочинений Максвелла. Но и этот подтвердил, что никакого физического смысла эти уравнения не имеют, понять их нельзя; их следует рассматривать как чисто математическую абстракцию».
Лоренц был первым ученым, практически применившим теорию Максвелла в своей научной работе. Свою блестящую докторскую диссертацию 1875 года по проблеме отражения и преломления света диэлектриками и металлами он построил полностью на теории Максвелла.
Лоренц впоследствии попытался применить электромагнитную теорию Максвелла к движущимся телам — и в этом труде впервые появились «преобразования Лоренца» — важнейшая предпосылка создания теории относительности.
«Трактат» постепенно становился библией новой физики — физики эпохи электричества, теории относительности, радиотехники, атомной энергии...
ОТКРЫТИЕ КАВЕНДИШСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
И вот настал этот день, день великий и торжественный, которого ждали столь долго, к которому готовились, 16 июня 1874 года — день торжественного открытия Кавендишской лаборатории. Это был праздник для всего Кембриджа, и Максвелл оказался в центре его, смущенный и радостный. Звонили колокола, в сторону Тринити по Кингс-парад и Сент-Джон-стрит спешили кебы, поспешали, путаясь в средневековых мантиях, великие кембриджцы, недели с трудом тащили свои булавы, а Максвелл в спешке — буквально в последние минуты налаживались калориферы — разрываясь, пожимая на ходу руки, бежит в актовый зал Тринити, затем в Тринити-чапел, где развертываются основные события дня.
На торжество прибыло много именитых гостей — и среди них сэр Чарлз Лайелл, седовласый старец, великий геолог, и тоже уже старый, шестидесятитрехлетний Урбен Жан Жозеф Леверрье, соперник Адамса в открытии Нептуна, — им в этот день, в день открытия лаборатории, будут вручены канцлером дипломы почетных докторов права Кембриджского университета. Здесь и величественный герцог — ректор, и Кейлей, и Стокс, и Адамс, много друзей Максвелла. Среди заграничных гостей — тридцатипятилетний русский профессор Александр Григорьевич Столетов: он искренне завидует Максвеллу. Все его, Столетова, усилия по созданию настоящей физической лаборатории в России пока еще были впустую. Ему и его ученикам — Умову и Жуковскому долго еще придется собираться для обсуждения сложных физических материй у него на квартире. Приходилось ездить к Кирхгофу в Геттинген и Гейдельберг, чтобы поставить несложные экспериментальные работы. А сколько идей, требующих хорошей лаборатории, было у Столетова! Максвелл особенно восхищался методом, предложенным Столетовым для измерения отношения электромагнитной единицы количества электричества к электростатической, которое по теории Максвелла должно быть равно скорости света. Столетов с искренней завистью, с радостью за Максвелла, за английскую и мировую физику ожидал вместе со всеми гостями момента, когда распахнутся двери Кавендишской лаборатории.
И когда пестрая толпа во главе с герцогом и Максвеллом после того, как герцог свершил официально акт дарения университету новой лаборатории, отправилась осматривать ее, Столетов поспешил вослед и с радостным ожиданием вошел в трехэтажное каменное здание со стрельчатыми дверьми и окнами, украшенное срезанной по уши оленьей головой, торчащей из стены, — дань девонширскому гербу.
Во всю ширину первого этажа простиралась лаборатория для магнитных измерений. Чтобы сделать их более точными, из помещения изгнаны все железные и стальные предметы, а трубы отопления изготовлены из меди. Столы, на которых стояли приборы, были скорее не столами, а монолитными каменными плитами, покоящимися на кирпичных колоннах, каждая из которых проходит сквозь пол через специальное отверстие, не касаясь его, — и никакая беготня по полу не могла бы теперь вызвать дрожание приборов!
На одном из каменных столов возвышался большой электродинамометр Британской ассоциации, на котором Максвелл вместе с Флемингом Дженкином и Бальфуром Стюартом занимался измерением образцового ома. На другом столе — точнейший магнитометр.
Следующий зал — царство часов, часов необычных и неожиданных, зал измерения времени. На каменном основании покоились здесь Главные часы, и там же — каменная рама для подвески экспериментального маятника.
Рядом с залом часов — комната весов и комната для тепловых измерений, в которой Максвелл разместил свои аппараты, использовавшиеся еще в Кенсингтоне для определения вязкости воздуха.
Следующая — комната для батарей, и в ней была громадная батарея Даниэля, всем на зависть и подражание.
Помещения первого этажа завершала небольшая мастерская со станками и приспособлениями — и это тоже весьма предусмотрительно, если учесть, что ближе Лондона — а это пятьдесят миль — механика не было, и во всем — в изготовлении образцов и деталей, в стеклодувных работах — необходимо полагаться только на себя. Продумано все. Даже подоконники. Каменные, широкие, как снаружи помещения, так и внутри, причем внутренняя и наружная поверхности на одном уровне, так что в случае необходимости устанавливать приборы можно даже на окнах, даже вне помещения!
Второй этаж был личной лабораторией Максвелла. На одном из шкафов в углу стоял электрометр, в аппаратной и стеклянных шкафах хранились приборы. На этом этаже была личная комната Максвелла и лекционный театр на 180 студентов.
Третий этаж занят лабораториями акустики, оптики, теплового излучения, темной комнатой с черными стенами, окрашенными, как говорили, сажей, разведенной в пиве. Здесь же выделено место для исследований электричества высокого напряжения: предусмотрена даже специальная установка для подсушивания воздуха. Под самым потолком этой комнаты — окошко в лекционный театр, и это позволяло демонстрировать опыты по высоковольтному электричеству даже в том случае, если воздух в лекционном театре был слишком влажен и не позволял непосредственно на месте использовать электростатические машины со стеклянными дисками.
На лестничной клетке было оставлено место для бунзеновского водяного насоса и манометра, имевших в высоту чуть ли не 15 метров.
Лаборатория насквозь проникнута духом усовершенствования, уточнения — Максвелл убежден, что в уточнении измерений скрываются возможности новых великих открытий.
Для того чтобы сверхточным термометрам не мешало присутствие наблюдателя, излучающего тепло, наблюдение за шкалами приборов должно было вестись из соседней комнаты через специальное окошко посредством подзорной трубы. Вообще, все стены, полы и потолки лаборатории имели подъемные дверцы, с помощью которых можно сообщаться, протягивать через них коммуникации и провода.
Максвелл ходил по лаборатории, окруженный шумной восхищенной толпой, разъяснял непонятное.
— А как же столы второго этажа, выходит, они подвержены сотрясениям пола? — спрашивали непосвященные.
— Это тоже предусмотрено, — отвечал Максвелл, — столы верхних этажей покоятся не на полу, а на особых балках, независимых от пола и укрепленных в капитальных стенах здания. Вибрация приборам не угрожает.
Максвелл ходил между этими людьми, пожимал руки, здоровался, прощался, кому-то что-то объяснял, а мысли его были уже дома, на Скруп-террас, куда ему было доставлено еще одно пожертвование герцога, приманка, троянский конь, пожиратель времени и истощитель мысли — двадцать пакетов манускриптов достопочтенного Генри Кавендиша, чьим именем была названа лаборатория и чьим внучатым племянником был теперешний канцлер университета.
«МАТЕРИЯ И ДВИЖЕНИЕ». РЕЦЕНЗИЯ ТЭТА
На фоне «Трактата» совершенно потерялась вышедшая в том же 1873 году «небольшая книжка на большую тему», первый серьезный опыт Максвелла в области популяризации науки. Хотел ли он расширить узкий круг признания?
По-видимому, нет, ибо «Материя и движение» хотя и содержала множество глубоких его собственных мыслей, не выражала только его личных взглядов, а если и выражала, то в еще меньшей степени, чем «Трактат».
Для нас, потомков, эта книга интересна потому, что раскрывает точку зрения Максвелла на некоторые принципиальные вопросы строения материи.
Как устроен атом?
Как его представлял Максвелл до открытия электронов, до расщепления атома? Смог ли он и в этой области продемонстрировать глубину своей физической интуиции, «неспособность думать о физике неправильно»? Ясна ли была ему сложность строения «элементарного» атома?
В те годы издавалась знаменитая «Британская энциклопедия», в авторы которой были приглашены виднейшие специалисты в своей области. Был приглашен и Максвелл. Он написал для нового издания несколько статей. Среди них — «Атом», «Притяжение», «Эфир».
В статье «Атом» — категоричное заявление: «Атом есть тело, которое нельзя рассечь пополам!»
Точно то же заявление, что и в его речи под названием «Молекулы», произнесенной в Бредфорде, на встрече Британской ассоциации, в 1873 году. Та тоже начиналась с утверждения:
«Атом есть тело, которое нельзя рассечь пополам». Чувствуя излишнюю категоричность такого заявления, Максвелл не удовлетворяется им. В популярной книжке «Материя и движение» он делится своими сомнениями:
«Даже атом, если мы рассматриваем его как нечто способное к вращению, должен быть представляем состоящим из многих материальных частичек».
Нет, не мог Максвелл думать о физике неправильно. Он понимал ограниченность общепринятой тогда в науке версии «неделимого атома», но, не будучи в состоянии экспериментально или теоретически доказать это, не будучи в состоянии предложить альтернативное решение, не может молчать и делится сомнениями в книге, к которой трудно «придраться», — в популярной «Материи».
Здесь же — раздумья Максвелла о соотношении прерывного и непрерывного в природе. Изгнав из «Трактата» дискретные заряды, но будучи вынужденным вводить пресловутые «молекулы электричества» в главу об электролизе, Максвелл все-таки где-то в глубине души, видимо, жалел физически довольно ясные заряды. В «Материи и движении» Максвелл рассматривает понятия дискретности и непрерывности, не отдавая предпочтения ни тому, ни другому, допуская возможность и одного, и другого.
«Всякое наше знание как о времени, так и о месте, в сущности, относительно», — писал Максвелл. Свобода от оков предубежденности позволяла ему выходить за рамки известных фактов, делать глубочайшие догадки, прогнозы, предположения. «Великой задачей ученых нашего века является распространение наших знаний о движении вещества от тех случаев, в которых мы можем видеть и измерять движение, к тем, в которых наши чувства не могут его обнаружить».
Старый дружище Питер Тэт написал на «Материю и движение» рецензию в «Природе».
Тэт противопоставляет эту непритязательную популярную книжку некоторым вышедшим за последнее время толстым трактатам.
«...Работа Клерка Максвелла — это просто сама природа, такая, как мы понимаем ее. Вершины, пропасти, глубокие трещины ледников — все они здесь в их естественной красоте и величии. Те, кто хочет увидеть их вблизи, может попробовать приблизиться к ним с той стороны, что ему больше нравится. Когда он приближается к тому, что, как он боится, может оказаться опасным или непроходимым местом, он найдет здесь ступени, прорубленные в скале, или предусмотрительно привязанную вспомогательную веревку... которые оставлены здесь искусной рукой того, кто проложил свои собственные дороги во всех направлениях...»
Питер Тэт восхищался Максвеллом, любил его, смог побороть, когда стал старше и мудрее, свою ревность к старому другу Джеймсу, учившемуся на равных с ним в школе и не достигшему при окончании университета тех успехов, которых достиг он сам. Питер был «первым спорщиком» в своем году, а Максвелл — «вторым» в своем. Они были, конечно, вместе с Томсоном и Стоксом виднейшими физиками викторианской Англии, но оригинальность и смелость неожиданных идей Максвелла была недостижима для остальных...
КЕМБРИДЖСКАЯ СУЕТА
Но заниматься собственной научной работой в Кембридже было для Максвелла совсем не так просто. Ведь Максвелл теперь был уже в центре университетской жизни, его захлестывали суета Кембриджа, его многочисленные новые обязанности, которых он так долго избегал. И оказалось, что эта суета тоже может приносить радость. Он был избран членом совета сената университета и содействовал проведению в жизнь университетской реформы, которая в конечном итоге сделала Кембридж местом, где ковались кадры настоящей английской науки.
Он стал членом и другой комиссии — с большой радостью! — комиссии по реорганизации математического трайпоса. Эта комиссия заседала каждую неделю.
Он был одним из экзаменаторов нового, естественнонаучного трайпоса, а в 1873 году стал дополнительным экзаменатором математического трайпоса, уже проводившегося по новым правилам.
Он избирался президентом Кембриджского философского общества на сессии 1876-1877 годов, президентом секции математики и физики на ежегодной встрече Британской ассоциации в Ливерпуле.
Начинают приходить приятные хлопоты, связанные с его все растущим признанием. В 1870 году он избран почетным доктором литературы Эдинбургского университета. В 1874 году избран иностранным почетным членом Американской академии искусств и наук в Бостоне, в 1875 году — членом Американского философского общества в Филадельфии и членом-корреспондентом Королевского общества наук Геттингена, в 1876 году получил диплом почетного доктора гражданского права в Оксфорде и избран почетным членом Нью-Йоркской академии наук.
1877 год отмечен избранием в члены королевской Академии наук в Амстердаме и иностранные члены-корреспонденты класса математики и естественных наук имперской академии в Вене. В 1878 году он получил медаль Вольта и степень доктора физических наук гонорис кауза в университете Падуи. Все это было приятно, хотя требовало внимания и переписки.
Отнимали время лекции. Лент-терм — термодинамика, Майкельмас и пасхальный — электричество и электромагнетизм.
В лабораторию он ходил каждый день, обходил всех, но оставался с ними недолго. Вообще он старался сделать так, чтобы в его советах ученики не усматривали ничего обязательного для себя. Только совет. Так он представлял себе роль научного наставника. С давних пор. Еще со времен Эдинбурга.
С той же целью — сделать свои посещения лаборатории менее официальными — он почти всегда появлялся в лаборатории с собакой, а то и с двумя — Тоби и Куни, Тоби — еще из Гленлейра, Тоби номер пять или шесть.
— Удивительно глупо чувствуешь себя, когда гуляешь без собаки, — говаривал Максвелл.
Тоби прекрасно ориентировался в лаборатории. Он рычал и проявлял недовольство всякий раз, когда вблизи производились электрические разряды. Однако он мгновенно успокаивался, когда его гладил хозяин. Хозяину позволялось все: даже размещать на его шее электроды. При этой операции Тоби тихонько рычал, но никак не выказывал признаков настоящего беспокойства.
Тоби вместе с Максвеллом уверенно следовал по стопам старины Кавендиша — тот когда-то обнаружил, что собачий мех создает при натирании еще более сильное электричество, чем кошачий, и сейчас Тоби предстояло защищать в лаборатории честь всего собачьего рода. Его усаживали на изолирующую подставку, натирали кошачьей шкурой. Все выдерживал Тоби ради хозяина, втайне, видимо, надеясь, что когда-нибудь это кончится. Так и получилось.
— Лучше живая собака, чем мертвый лев! — сказал однажды Максвелл, прекращая опыты над любимцем. Но это случилось не раньше того, как было доказано, что Кавендиш прав.
Тоби один имел привилегию находиться в помещении, когда хозяин занимался собственными экспериментами. Максвелл работал увлеченно, забывая обо всем. Во время работы он обычно насвистывал. А когда задумывался, бессознательно протягивал руку вниз, где сидел любимец, и гладил его, приговаривая:
— Тоби... Тоби... Тоби...
Детей у Максвелла так и не появилось. Кетрин часто болела и несколько лет почти не вставала с постели. Максвелл был лучшей сиделкой, какую можно было себе представить.
Однажды, когда ей было особенно плохо, он три недели не ложился в постель и спал только урывками, в кресле у ее кровати. Все это время он регулярно читал лекции и посещал лабораторию.
А однажды, когда он наклонился к спящей Кетрин, собачонка Куни, дремавшая на постели, спросонья цапнула его за нос. Даже не вскрикнув, Максвелл вышел, придерживая на руках все еще висевшую на его лице собачонку. Он всегда был предельно выдержан и спокоен.
Были ли его отношения с женой безоблачными?
Авторы единственной биографии Максвелла, Кемпбелл и Гарнетт, не поместившие портрета Кетрин, упирают на духовную близость супругов. Из некоторых других источников можно сделать вывод о том, что духовная близость была лишь одной из сторон многогранных семейных отношений Максвеллов.
Упоминают, например, о том, что Кетрин недолюбливала его встречи с друзьями. Даже когда они вместе ходили в гости, когда Джеймсу было особенно весело и приятно, его всегда охлаждал голос Кетрин:
— Джеймс, пора домой. Ты начинаешь получать удовольствие.
Наверное, было это. Не зря, видимо, друзья Максвелла называли между собой Кетрин не иначе, как «эта женщина»... Но важнее то, что Кетрин разделила его работу, его идеалы. Уже после смерти Максвелла Кетрин, умирая, завещала почти все деньги — 6000 фунтов стерлингов — Кавендишской лаборатории. На эти деньги была основана стипендия Максвелла для лучших аспирантов. Ее в разное время получали самые способные молодые исследователи, работавшие в лаборатории, например П.Л.Капица.
Было бы неверно утверждать, что кембриджская суета заставила его забыть о друзьях, своих старых друзьях, совсем не физиках, о тех беседах, которые они вели когда-то студентами. Максвелл решил возобновить те беседы, воссоздать через двадцать лет то, что было когда-то клубом «Апостолы». «Апостолов» оказалось уже не двенадцать, а четыре, редко — пять.
Новый дискуссионный клуб, более умеренного и серьезного направления, называли «Эранус».
Входили в «Эранус» Максвелл, доктор Лайтфут, профессора Хорт и Весткотт. Здесь уже, конечно, не было юношеской горячности, но было новое, не менее ценное — здесь царила спокойная мудрость.
Все они со студенческих времен несколько ушли в себя, особенно Максвелл. Ему уже сложно было приобретать новых друзей, у него в присутствии новых людей с трудом поворачивался язык. Новые знакомые никогда не могли понять, шутит он или говорит серьезно. Куда легче и приятней собраться в старом студенческом кругу и сообщить им, друзьям, что продумано и понято за двадцать лет.
С ними было легко, они понимали тайный смысл его слов, его странный, порой несмешной юмор. Все они не имели отношения к физике, Лайтфута уже прочили в епископы, все они были влиятельными людьми во цвете лет, и мысли их установились.
5 февраля 1878 года он прочел друзьям свое новое эссе «Психофизика». Максвелл поделился в тот день с друзьями своими сокровеннейшими мыслями, своими ответами на три извечных вопроса:
— Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?
Жизненный опыт, научная работа приводили Максвелла к важным философским выводам.
— Кто я? — спрашивал Максвелл, всматриваясь в лица постаревших друзей. — Наставники моей юности ожидали бы ответа: «Я — это Субъект, по отношению к которому все другие существа материального, человеческого и божественного происхождения — это только Объекты...» Разумеется, я и тогда часто ловил себя на мысли о том, что думал о своем теле или мозге, предполагая, что думаю о себе самом...
Я знаю, что я существую сейчас и что я действую, и то, что я делаю, может быть правильно и неправильно; и правильные или неправильные — это мои действия, от которых я не могу отрекаться...
В поиске информации о самом себе я сделал для себя один вывод: когда... мы полагаем, что думаем о Субъекте, мы на самом деле имеем дело с Объектом под фальшивым именем...
ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ГЕНРИ КАВЕНДИШ
Не мог, возможно, объяснить себе Джеймс Клерк Максвелл, как не могут и до сих пор объяснить это обстоятельство дотошные историки науки, — почему он в расцвете здоровья и сил тратит пять драгоценнейших лет жизни на редактирование и подготовку к изданию двадцати пакетов манускриптов достопочтенного Генри Кавендиша — тех двадцати пакетов, которые были торжественно переданы ему в день открытия Кавендишской лаборатории герцогом Девонширским.
Конечно, никто не смог бы оценить рукописи Кавендиша и перевести их на современный язык лучше, чем Максвелл; но, быть может, науке бы больше повезло, если бы кто-нибудь другой занялся этими манускриптами.
Может быть, Максвелл думал, что впереди еще много времени?
Может быть, он выполнял свой долг перед Кавендишской лабораторией?
Может быть, его увлекла таинственная связь дат его рождения и начала деятельности в качестве кавендишского профессора и дат рождения Кавендиша и начала его физических исследований? 1731-й и 1831-й, 1771-й и 1871-й?
Может быть, его увлек образ человека, как он, проданного только науке, но доведшего эту свою страсть до идеала или, может быть, абсурда?
Все эти предположения имеют право на жизнь — одни в большей, другие в меньшей степени, но никогда мы не узнаем правды, ибо нет на этот счет свидетельств, а единственный человек, который мог бы объяснить все, жив лишь в нашей памяти. И поэтому никакое предположение не может быть сразу отвергнуто, и никакое — принято. И поэтому можно выдвинуть еще одно: Максвелл стал работать над рукописями Кавендиша, над их редактированием и изданием потому, что эта работа его увлекла. Она ему нравилась.
Его увлекли неочевидные порывы этой легендарной личности, как через много лет образ и порывы самого Максвелла станут притягательны, необычайно интересны и поучительны для новых исследований.
Генри Кавендиш родился в Ницце, где его мать безуспешно старалась согнать с себя признаки плохого здоровья. Она умерла, когда Кавендишу было всего два года.
Видел ли Джеймс Клерк Максвелл сходство судеб? Кавендиш не стал герцогом, потому что его отец был третьим сыном в семье герцога Девонширского, а Максвелл не стал баронетом, потому что его отец был младше дядюшки Джорджа. Ранняя смерть матерей, совпадение с разницей на сто лет года рождения, первые научные занятия под руководством любителей-отцов. Оба очень поздно пошли в университет, оба в Кембридж, оба в Питерхаус, и оба покинули его — Максвелл перешел в Тринити, а Кавендиш ушел совсем, даже не пытаясь сдавать экзаменов, — он сам был для себя высшим экзаменатором. Он обожал математику, но не желал подвергнуться гонениям и унижениям математического трайпоса. Он был замкнут и загадочен. Первая научная работа: «Эксперименты с мышьяком». Наука есть наука, и мышьяк как элемент ничем не хуже какого-нибудь другого, скажем натрия, но у этого человека, казалось, даже первая работа имела скрытый зловещий смысл.
Начиная с 1764 года он провел серию исследований по теплоте, но не счел нужным публиковать их в течение двадцати лет; а это было слишком большим перерывом. Кавендиш был одним из первых, кто отверг флогистон, а честь этого открытия досталась Блеку и русскому академику Рихману, которые доказали, что термометры вовсе не измеряют количества содержащегося в теле теплорода, которые провели измерения теплоты плавления и парообразования. Кавендиш не только подошел к этому, но даже составил таблицу теплоемкостей многих тел. Он, видимо, просто не читал статьи Блека по этому же вопросу.
Первая посланная в Королевское общество статья: «Искусственные атмосферы». Затем в «Философских трудах» появляется труд: «Анализ работы одного из лондонских насосов (на Ратбонплейс)».
Это был счастливый век. Физики могли заниматься столь разными вещами и в каждой находить новое.
Странная нелюдимость, паническая боязнь женщин, угрюмый характер, молчаливость. Визгливый голос, с каким-то великим трудом и препятствиями исторгающийся из горла. Друзья злоупотребляли его доверием в пользовании его библиотекой. Незнакомцы не могли и думать о приглашении в дом. Все, что он делал, он, казалось, делал с великим трудом: писал, ходил. Странной казалась его походка, быстрая, но вместе с тем какая-то болезненная и искусственная, нелегкая. Ходил он, чтобы ни с кем не здороваться, посередине мостовой, между экипажами. Ко всему, что не касалось науки, Кавендиш был холодно-безразличен, никогда не слышали, чтобы он о чем-то отозвался более или менее положительно.
Он умер после единственной в его жизни болезни на восьмидесятом году. Почувствовав, что умирает, он приказал слугам до вечера не заходить в его комнату. К вечеру слуги нашли его уже при смерти и вызвали врача. Тот прибыл. Умирающий Кавендиш заявил, что продолжение его жизни означало бы продолжение страданий. Врач сэр Эверард Хьюм остался в бездействии. Кавендиш умер, оставив миллионное наследство своему кузену, деду Вильяма Кавендиша, седьмого герцога Девонширского, канцлера Кембриджского университета во времена Максвелла.
У Максвелла было двадцать два источника, по которым он мог работать над наследием Кавендиша, — две его статьи по электричеству, изданные в период 1771-1781 годов, и двадцать пакетов рукописей45. Едва начав разбирать манускрипты, Максвелл поразился, как много открытий было сделано Кавендишем, открытий самого высшего ранга, о которых он не счел необходимым информировать ни общество, ни ученый мир.
«Джеймс Клеркс Максвелл — В.Гарнетту46, эскв.
Гленлейр, 8 июля 1874
...В своих рукописях он [Кавендиш] обнаруживает знакомство с законами параллельного и последовательного соединения проводников, однако для того, чтобы пролить свет на смысл его слов, нужно обратиться к его опубликованной статье (о торпедо). Он провел весьма обширные исследования в области проводимости солевых растворов в трубках, которые можно уподобить проволокам из разных металлов. Создается впечатление, что он достоин еще больших почестей, так как он превзошел Ома задолго до того, как были открыты постоянные токи. Его измерения емкости заставят нас попотеть в Кавендишской лаб., прежде чем мы достигнем точки, где он остановился. Его единственным несчастьем было то, что у него не было электрометра Томсона. Он нашел диэлектрические постоянные для стекла, смолы, воска и т.п.».
Все свои открытия Кавендиш сделал до того, как Вольта изобрел первый источник постоянного электричества — вольтов столб, первую электрическую батарею. Все свои исследования Кавендиш должен был проделывать с электричеством слабым, быстротечным, неуловимым, электричеством, накапливаемым в облаках и прорывающимся молнией — гигантской электрической искрой, электричеством, образующимся при трении, электричеством электростатических машин — статическим электричеством.
И все эти тончайшие быстротечные измерения были проделаны Кавендишем без приборов — они тоже еще не были к тому времени изобретены! У Кавендиша был только «физиологический гальванометр», «шокметр» — он мог оценивать электрический потенциал лишь по силе получаемого им электрического удара. Впрочем, богатейший вельможа Кавендиш вполне мог легко избежать неприятных ощущений, связанных с электрическим ударом. Так он и сделал. Роль «живого гальванометра» выполнял у Кавендиша его слуга Ричард.
Максвелл решил исследовать «живые гальванометры», и долгое время каждому новому посетителю Кавендишской лаборатории предлагали взяться руками за два оголенных конца, к которым подводилось напряжение, с тем чтобы определить, «хорошие» или «плохие» они гальванометры. Исключение было сделано для чемпионов университета по гребле. Их загрубевшие от тренировок руки практически не пропускали тока.
И второе, что интересно в письме, — это признание того, что исследования Кавендиша необходимо повторить, «дойти до точки, где он остановился». Недаром и измерения емкости, и уточнение закона Ома, и определение Хевисайдом плотности Земли, и проверка закона Кулона, раньше подмеченного Эпинусом и Кавендишем, занимали в работах лаборатории достойное место. Максвелл ценил классиков — и в литературе и в науке — и справедливо считал, что никогда не следует пренебрегать их мыслями.
Поражает тщательность, с которой работал Максвелл над рукописями Кавендиша.
«Джеймс Клерк Максвелл -
библиотекарю Королевского общества
Еленлейр, Далбетти, 23 июня 1879
Дорогой сэр, Ваша информация о членах Королевского общества была настолько полезна мне, что я хотел бы еще спросить о д-ре Г.Найте, члене Королевского общества, библиотекаре Британского музея.
1. Как его точно звали: Гован, Говен, Говин или Годвин — встречаются все эти написания?
2. Кто является автором статьи в «Фил. Тр.» за 1776 год (примерно в конце тома), описывающей большие наборы магнитов?
3. Являются ли эти наборы (см. рисунок), собранные в виде больших пушек, все еще собственностью Королевского общества?
4. Имеется ли портрет Говина Найта работы Бенджамена Вильсона в коллекции картин Королевского общества?..»
И т.д., и т.д.
Максвелл изучает все детали кавендишевских опытов, изучает новые для себя названия, стремится точно воспроизвести опыты Кавендиша — для практики стажеров, для проверки, а может быть, и для поиска новых явлений.
«Джеймс Клерк Максвелл — Вильяму Гарнетту
Гленлейр, 23 августа 1877
Последнее время я копировал Кавендиша по сопротивлению электролитов. Если найдется кто-нибудь, кто попробует хотя бы грубо померить сопротивление нескольких электролитов в U-образных трубках, было бы интересно сопоставить эти измерения с результатами Кавендиша.
Если профессор Лайвинг в Кембридже, не могли бы Вы попросить его подобрать для меня книгу по химии образца 1777 года, с тем чтобы можно было найти эквиваленты и названия солей, использованных Кавендишем?..
Кавендиш был первым, кто открыл закон Ома, поскольку он последовательной серией экспериментов нашел, что сопротивление в следующих степенях зависит от скорости: 1,08, 1,03, 0,980, и заключил, что это первая степень. И все это — с помощью физиологического гальванометра...»
И еще одна сенсация поджидала Максвелла при изучении пролежавших сто лет без движения кавендишевских рукописей. Содержалась она в работах Кавендиша по развитию идей русского академика Эпинуса.
Франц Ульрих Теодор Эпинус, «немец», после смерти Рихмана от удара молнии занявший пост заведующего физическим кабинетом Российской академии наук, много натерпелся от заведующего химическим кабинетом Михаила Васильевича Ломоносова. И вполне справедливо: Эпинус был воспитателем Павла, много времени посвящал придворным обязанностям и запустил руководство кабинетом.
Справедливо укорял Ломоносов Эпинуса, не смог тот содержать в должном порядке физический кабинет. Был Эпинус по складу ума своего теоретиком и, быть может, первым применил к исследованию электрических и магнитных явлений высшую математику. В 1759 году он выступил с трактатом «Опыт теории электричества и магнетизма», в котором глубоко и последовательно развивал теорию Франклина, теорию «одного» электричества, теорию электричества одного знака, распространив ее на магнитные явления. Эпинус прозорливо видел внутреннюю связь электрических и магнитных явлений.
Для этого нужна была смелость. Но только смелости было бы недостаточно. Нужны были еще открытия Гальвани и Вольты, нужно было, чтобы под скальпелем затрепыхалась лапка лягушки, чтобы Вольта создал свой вольтов столб, чтобы Эрстед увидел колебания стрелки компаса. Смелость потребовалась тогда, когда она была подкреплена ранними открытиями, и проявить ее пришлось уже представителям иного века — Амперу, Фарадею и Максвеллу.
Математика, впервые примененная Эпинусом к изучению электрических и магнитных явлений, привела его ко многим важнейшим выводам. Он заметил, что частицы как электрической, так и магнитной «жидкостей» взаимодействуют между собой «даже на значительном расстоянии», правда, ограниченном «атмосферой магнита». Эпинус постулирует, что сила взаимодействия пропорциональна электрическим зарядам и, исходя из всеобщей гармонии природы, уменьшается, как и ньютоновское взаимодействие гравитационных масс, пропорционально квадрату расстояния, — то есть предвосхищает закон Кулона!
Однако Эпинус неправильно полагал, что электричество сосредоточено во всем объеме тела, а не на его поверхности, и это помешало ему высказаться более категорично и заявить свои права на открытие. Эпинус строит первый воздушный конденсатор, выясняет роль в конденсаторе стекла не как накопителя электричества, а как сохранителя его, раньше Вольты (Вольта признавал это) изобретает простейший прибор для накопления электричества — электрофор, открывает миру пироэлектричество, образующееся не при трении, а при нагревании у турмалина.
Имя Эпинуса было в большой чести в Кембридже и стояло никак не ниже имени, например, Франклина. Мастер Тринити Вильям Вевелл в своей «Истории индуктивных наук» высоко вознес это имя в Кембридже. А во времена Кавендиша Эпинус вообще был одним из величайших авторитетов в теории электричества. Вевелл возносил Эпинуса даже в противовес Франклину, утверждая, что «та великая слава, какой он (Франклин) пользовался при жизни, зависела от ясности и искусства, с какими он излагал свои открытия, от того, что он занимался электричеством в величественной форме грома и молнии, и отчасти, может быть, оттого, что он был американец и политический человек...»
Кавендиш поначалу не соглашался с ненастойчиво выраженным мнением Эпинуса о том, что сила взаимодействия электрически заряженных тел обратно пропорциональна второй степени расстояния. Он полагал сначала, что показатель степени при расстоянии не вполне равен двум; он предполагал, что этот показатель находится где-то в области между 1 и 3. И лишь впоследствии, в 1772 году, изучая работу сферического конденсатора, он сам доказал, что, будь показатель степени при расстоянии не точно двойкой, электричество при установлении проводящего контакта между обкладками такого конденсатора неизбежно перетекало бы с внешней обкладки на незаряженную внутреннюю. А этого, как показал Кавендиш, не происходило.
Это было доказательством того, что позже будет названо законом Кулона. Почему Кулона? Потому что Кавендиш в свое время не счел необходимым публиковать свои результаты.
Говорят, слишком долго пролежавшее вино превращается в уксус. Печальный, но поучительный факт! Ни одно из открытий Кавендиша не осталось неоткрытым в течение ста лет. История науки сама поставила эксперимент, заставив гениального ученого по неясным соображениям прятать свои открытия от мира. И ни одно из них в течение ста лет не ускользнуло от внимательного любопытства других, шаг науки оказался необычайно размеренным и закономерным, несмотря на все случайные повороты пути. Многому учит нас этот эксперимент. По-видимому, бесполезно искать сейчас, через несколько десятилетий, пропавшие рукописи гениального последователя Максвелла — Хевисайда: можно определенно утверждать, что все гениальное, что в них было, уже стало нашим достоянием благодаря трудам других авторов. Печально, но не суждено в рукописях давно умерших ученых найти то, что оплодотворило бы современную науку. И Максвелл тоже убедился в этом. Своим идеям нельзя было давать отлеживаться слишком долго; скорость научного движения возрастала, и того, кто не двигался вместе с наукой, неизбежно ждала бы участь отстающего. Нельзя было терять темп. Необходимо было наверстывать упущенное время.
МАКСВЕЛЛ НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ ТЕРМОДИНАМИКУ
Неизвестно, кто предложил в 1876 году организовать в Лондоне выставку исторических научных приборов, но идея эта всем понравилась. Уже стало очевидно тогда влияние наук на прогресс или отставание стран, и на этот раз научные приборы, как некогда плоды земли, должны были лишний раз продемонстрировать миру, как велика маленькая Англия и как приумножает она и хранит научную славу.
Квадрант Тихо Браге, телескоп и «оккьялино» Галилея, арифмометр Паскаля, костяшки-счеты Непера, электрический телеграф Земмеринга, старинные швейцарские часы из дуврского замка, магдебургские полушария Отто фон Герике. И как завершающий, торжественный аккорд — английская часть выставки: астролябия сэра Френсиса Дрейка, телескоп Ньютона, безопасная шахтерская лампа Дэви, магнитоэлектрические аппараты Фарадея, аппараты Форбса и Брюстера, барометр Дальтона. Да, неплохо выглядела Англия, особенно Англия XIX века, на этой выставке. Тем более что экскурсоводами этой выставки были виднейшие английские ученые, и в том числе — в отделе молекулярной физики — Максвелл.
В мае 1876 года Максвелл писал своему дяде и другу, брату покойной матери, Роберту Кею:
«Меня послали в Лондон для того, чтобы объяснить королеве, почему Отто фон Герике посвятил себя открытию «ничего», и показать ей два полушария, в которых он содержал это «ничего», и картины, изображающие 16 лошадей, которые не могли оторвать полушария друг от друга, и как через 200 лет В.Крукс подошел гораздо ближе к «ничего» и запечатал его в стеклянный шар для публичного обозрения. Ее Величество, однако, отпустила нас довольно легко и не доставила нам с «ничего» много хлопот — видимо, у нее была еще бездна тяжелой работы на конец дня...»
Можно вообразить, как на фоне уникальных приборов — научных реликвий, свидетелей прозрений гениев — стоит Джеймс Клерк Максвелл перед «маленькой дамой в сером» — королевой Викторией, живым символом процветающей викторианской Англии, перед ее сестрой, германской императрицей, перед собравшимися тут же вельможами и затерявшимися между ними виднейшими учеными Европы, как размышляет о том, что сказать ему сейчас, с этой внезапно представившейся трибуны, какие свои идеи обнародовать, подчеркнуть, во что заставить поверить эту пеструю толпу?
Сейчас они могут выслушать все, в эти отмеренные несколько минут, они будут делать понимающие глаза и кивать головами. Сейчас можно говорить все.
И Максвелл начинает говорить... о Гиббсе. О никому не известном Джозайя Уилларде Гиббсе из Йельского колледжа в Соединенных Штатах Америки, о котором и самому-то Максвеллу несколько лет назад было ничего не известно и могло бы остаться неизвестным и далее, если бы не одна его, Гиббса, своеобразная особенность.
Дело в том, что после выхода каждого очередного своего труда Гиббс, стройный тридцатисемилетний холостяк с короткой бородкой на скуластом лице, принимался за трудную работу. Справедливо полагая, что ни один серьезный европейский ученый не возьмет в руки, скажем, «Труды Коннектикутской Академии наук», где он печатался, Гиббс, положив перед собой список в 507 имен, начинал собственноручно отсылать всем известным ему ученым из двадцати стран оттиски своих трудов.
И не без умысла. Чтобы кто-нибудь начал читать его статьи и, более того, дочитал бы их до конца, потребовалось бы известное усилие, которое Гиббс и стимулировал столь искусно своим эпистолярным вниманием!
Гиббс в своих статьях не делал никаких предварительных замечаний и текущих комментариев. Все манипуляции над формулами и понятиями проделывались им в собственном мозгу, и на долю читателя оставалось взирать на неизвестно откуда и каким путем полученные формулы, несущие глубокий физический смысл.
Настолько глубокий, что труды Гиббса поразили самого Максвелла. Более того, он безо всякого кокетства зимой 1873 года в письме к Тэту вдруг объявил, что наконец стал понимать термодинамику. В новых изданиях своей книги «Теория теплоты» он делает исправления и признает, что ранее излагал второе начало термодинамики неверно. Целую зиму мастерит Максвелл в Гленлейре модель гиббсовской термодинамической поверхности воды и потом демонстрирует ее королеве на выставке исторических научных инструментов.
Склад мышления Гиббса, его привязанности к диаграммам, графикам необычайно близки Максвеллу. У Гиббса он наконец понял то, чего не мог понять у Клаузиуса, — физический смысл энтропии, которая в толковании Гиббса была вполне измеримой величиной. Оказалось, что в течение чуть не двадцати лет вслед за Тэтом и Томсоном Максвелл, не понимая работ Клаузиуса, неверно толковал томсоновское второе начало через клаузиусовскую энтропию. И внутренне, вероятно, покраснел. Ну, Тэт, это понятно. Он ни в грош не ставит Клаузиуса из шовинистических соображений, никогда всерьез не читал его, но как мог он, Максвелл, не пробиться через всю эту немецкую словесную премудрость и не постичь правильного смысла энтропии? Может быть, потому, что энтропия — понятие трудно представимое, не поддающееся прямому моделированию, не то что легко измеримые работа, давление, объем, температура. Гиббс прибавил к этим физически ясным понятиям слово «энтропия».
Зримым следом увлечения Максвелла термодинамикой остались лишь его неопубликованные заметки по равновесию гетерогенных веществ и модели гиббсовских термодинамических поверхностей, которые были вылеплены Максвеллом и подарены Вильяму Томсону и Тэту и, конечно, Гиббсу.
Гиббс, как и сам Максвелл, был сдержан и немногословен, чужд тщеславия.
Когда его ученики, прекрасно знавшие о происхождении модели, которую он демонстрировал на своих лекциях, с ясной целью спрашивали его:
— А кто сделал эту модель?
Он отвечал обычно:
— Один мой друг.
— Какой друг? — следовал углубляющий вопрос.
— Друг из Англии.
Гиббс и Максвелл никогда не встречались...
...Вряд ли на королеву Викторию и ее пышное окружение горячая речь Максвелла произвела сколько-нибудь заметное впечатление. Отшелестели платья, отзвенели шпоры, и вот уже видно в окно, как трогаются шестерки лошадей, запряженных в придворные золоченые кареты. А в первой, в которую запряжены были лимонно-желтые, как бы тоже позолоченные лошади, укатила в Букингемский дворец та, чьим именем будут названы шестьдесят лет ее правления, — королева Виктория.
Да, судьба распорядилась так, что вся жизнь Максвелла уложилась в рамки «викторианской» Англии. Он был викторианским ученым, но его идеи перерастали викторианский век. Они предвосхищали уже век новый — двадцатый.
УЧЕНИКИ
Уже через много лет после смерти Максвелла, да и через много лет после смерти его преемников на посту директора Кавендишской лаборатории лорда Релея, бывшего Джона Стрэтта, Дж.Дж.Томсона и лорда Резерфорда возникла необходимость передвинуть один из рабочих столов, стоящий в лаборатории со дня ее основания и использовавшийся по традиции всеми директорами лаборатории. Когда его отодвинули от стены, в нем стало возможным открыть еще один ряд ящиков — и в одном из них оказались забытые бумаги и приборы человека, расщепившего атом, — Резерфорда. А в глубине ящика завалялась скатанная в шарик, пожелтевшая от времени бумажка.
Ее развернули...
На ней было написано:
«Джентльмены, посещавшие практические занятия
Лент-семестр 1877
М-р Христал Корпус47
« Шустер Эмануэль
« Шоу Даунинг
« Ом48 Даунинг
« Шаррат Сент-Джон
« Харгривс Тринити
« ...йзбрук Кингс»
Не сразу признали присутствовавшие руку великого Максвелла. А когда узнали — замолкли в волнении. Как будто появились перед ними в этой комнате, перед этим старинным письменным столом Максвелл и его ученики.
Вот стоят они, только что сдавшие с отличием математический трайпос бывшие студенты. Стоят вокруг стола, окружая его, Максвелла...
...Еще тогда, когда Максвелл был только назначен первым кавендишским профессором и строительство лаборатории, по сути дела, не начиналось, он старался четко определить задачи, которые встанут перед будущей лабораторией и перед ним лично.
«Джеймс Клерк Максвелл — Миссис Максвелл
20 марта 1871
Существует два мнения относительно профессорства. Одни хотят популярных лекций, а другие больше заботятся об экспериментальной работе. Мне кажется, здесь должна быть градация — популярные лекции для масс; настоящие эксперименты для настоящих студентов и, наконец, трудоемкие эксперименты для первоклассных людей, таких, как Троттер, Стюарт и Стрэтт».
Градация градацией, а профессору Максвеллу лично было интересней всего заниматься именно «трудоемкими» экспериментами с «первоклассными» людьми, и поэтому он при первой возможности сплавил прочие задачи демонстратору Вильяму Гарнетту из колледжа Сент-Джон, мечтая наконец-то здесь, в Кавендишской лаборатории, осуществить свою мечту — завести учеников, которые бы учились, исследуя, работая под его руководством, которых предостерегал бы он от ошибок и которым передал бы все, чем владел сам.
Поначалу учеников было немного. Сперва — один Хикс, затем целая группа — Гордон, Джордж Христал, Саундерс, Дональд Макалистер, Амбруаз Флеминг, Глэйзбрук, Шустер, Нивен, Пойнтинг, Шоу.
В Кембридже только-только была введена система защиты диссертаций, и для получения степеней необходимо было найти тему, разработать ее и защитить свои мысли. Многие искали темы в физике, в эксперименте. Они-то и оказались первыми Максвелловыми учениками, фактически — первыми аспирантами.
...Вот стоят они, столпившись вокруг стола в большом помещении физической лаборатории, самый запах которой им еще неведом, и профессор Максвелл объясняет им методику измерений сопротивления с помощью мостика Уитстона, и один из них, Глэйзбрук, вдруг сожалеет, что это объяснение не состоялось всего несколько недель назад — на трайпосе, изменившем свое лицо, повернувшемся наконец к физике. Вильям Стрэтт спросил его как раз про измерение сопротивления посредством мостика Уитстона.
Через несколько дней эти зеленые новички научились довольно лихо измерять электрические сопротивления и — вершина мастерства! — прилаживать неумелыми еще пальцами зеркальце к гальванометру Томсона. Затем еще несколько полезных уроков по обращению с лабораторными приборами — и все.
Аспиранты, еще не умеющие плавать, были брошены Максвеллом в океан большой науки.
Сам выбор темы для исследований был оставлен на их усмотрение — Максвелл только советовал. Причем не отговаривал и от никчемных, на его взгляд, экспериментов.
— Я никогда не отговариваю студента от намерения, — часто говорил Максвелл, — провести какой-нибудь эксперимент. Даже если он не найдет, что искал, он найдет что-то другое.
Своеобразный взгляд был у Максвелла и на измерительные приборы.
— Воспитательная ценность экспериментов, — говорил он, — зачастую обратно пропорциональна сложности приборов. Студент, пользующийся самодельной, неточно работающей установкой, часто научается большему, нежели тот, который работает с приборами, которым можно доверять, но которые страшно разобрать на отдельные части.
Максвелл был всегда погружен в собственные мысли, и иной раз казалось, что он не слышит обращающихся к нему с вопросом учеников. Он сам говаривал, что его мозг крепко защищен броней собственных проблем, и для ученика всегда было приятным сюрпризом, когда на следующий день рядом с ним появлялся профессор и говорил:
— Кстати, вы вчера задали мне вопрос, я подумал о нем и скажу вам вот что...
Нечего и говорить о том, что ответ был исчерпывающим.
Глэйзбрук, Христал и Саундерс решили проверить, справедлив ли закон Ома. Максвелл поддержал их.
Христал и Саундерс пропускали ток от батарей Даниэля через проводник — сначала ток был очень велик, а потом — бесконечно мал.
«Проф. Джеймс Клерк Максвелл — Проф. Льюису Кемпбеллу
Скруп-Террас II
Кембридж, 4 марта 1876
...Христал... непрерывно работал с октября, проверяя закон Ома, и Ом вышел из испытания с триумфом, хотя в некоторых экспериментах проволока накалялась проходящим током докрасна...»
Закон Ома соблюдался в опытах Христала с точностью до 0,000000001 процента.
Отпали сомнения в правильности закона Ома, выдвинутые некогда Вебером и Шустером Максвелл гордился результатами своих учеников не меньше, чем своими, особенно выделяя Христала и Нивена.
Максвелл переживал, когда они уходили, его ученики Шоу уехал в Берлин к Гельмгольцу, Пойнтинг вернулся к своим измерениям плотности Земли.
Глэйзбрук нашел свою тему — она перекликалась скорее с исследованиями Стокса — решил проверить френелевскую теорию поперечных колебаний в твердом эфире на двухосном кристалле арагонита. Эта тема должна была способствовать укреплению Максвелловой теории, поскольку электромагнитная теория света также приводила к поперечным колебаниям в эфире.
Глэйзбруку была выделена мрачная комната на верхнем этаже, служащая обычно для проведения оптических исследований и проявления фотопластинок. Там были черные стены, окрашенные сажей с пивом, и постоянное натриевое пламя, необходимое для спектроскопических экспериментов. Это делало атмосферу в комнатушке весьма тяжелой. Да и работа поначалу не ладилась, и Глэйзбруку пришлось спрашивать совета у Максвелла.
— Вы знаете, — ответил Максвелл, — другие вопросы образовали вокруг моей головы такую плотную корку, что вашему придется немного подождать, пока он просочится.
А через день или два подошел и сказал: если вы сделаете так и так, то, я думаю, все будет в порядке.
Так и оказалось. В надлежащий срок диссертация была написана и посвящена Максвеллу. Измеренная скорость волн была весьма близка к величинам, предсказываемым, исходя из френелевской и Максвелловой теорий.
Глэйзбрук по представлению Максвелла был избран «феллоу» — членом совета колледжа. Дальше работа была продолжена совместно Максвеллом и Глэйзбруком на другом кристалле. Под названием «Плоские волны в двухосном кристалле» она была доложена Максвеллом Королевскому обществу в июне 1878 года. Различие между следующими из теорий Максвелла и Френеля и экспериментальными данными было менее 0,00007. Такой же результат был получен на другом кристалле — исландского шпага. Этот результат был представлен Королевскому обществу летом 1879 года. Видимо, это была последняя научная работа по экспериментальной физике, в которой Максвелл принимал участие...
Ученики Максвелла со временем заняли видные места в мире английской науки.
Замкнутый Шустер, активный велосипедист и скалолаз, меценат и страстный путешественник, стал вице-президентом Королевского общества, предложил изящный метод определения отношения заряда к массе электрона по отклонению в магнитном поле и несколько других весьма ценных идей.
Интеллигентный Глэйзбрук, разделявший с Шустером страсть к альпинизму и с сыном Питера Тэта Фредди — к гольфу, стал первым директором Национальной физической лаборатории, где в аэродинамических трубах исследовались модели первых английских самолетов.
Талантливый земляк Христал — «второй спорщик» и первый лауреат премии Смита 1875 года — по рекомендации Максвелла занял кафедру математики в Эдинбургском университете и занимался в физической лаборатории Питера Тэта. После смерти Питера в 1901 году Христал стал генеральным секретарем Эдинбургского королевского общества. Христал многое сделал для усовершенствования телефона и фотоаппарата, для объяснения формы волн в шотландских озерах — лохах. Он написал учебник алгебры и пособие по геометрии для английских школ.
Самый молодой — Шоу, стал виднейшим английским метеорологом, директором Метеорологического управления. Он ввел в практику метеорологии исследования с помощью судов, воздушных шаров, он ввел в практику новую единицу — миллибар. Его долгая жизнь, увенчанная множеством наград и почестей, окончилась всего за несколько месяцев до конца второй мировой войны.
Среди двух студентов, присутствовавших на последней лекции Максвелла, был Амбруаз Флеминг. Он посвятил жизнь вопросам практического использования электромагнитных волн, открытых его учителем и обнаруженных Герцем. Вместе с Оливером Лоджем, испытавшим сильное влияние Максвелла, Флеминг стал «мозговым центром» у молодого и процветающего Маркони. Затем Флеминг работал с Эдисоном и сделал крупнейшее, можно сказать, революционное изобретение в радиотехнике: в 1904 году он изобрел первую радиолампу — диод.
Джон Генри Пойнтинг, проводивший под руководством Максвелла в Кавендишской лаборатории эксперименты по определению средней плотности Земли (а-ля Кавендиш), занял кафедру физики в Берлинском университете. Он получил от Королевского общества Королевскую медаль «за исследования по физике, особенно в связи с гравитационной постоянной и теориями электродинамики и радиации». Таким образом, он оказался одним из самых верных по отношению к Максвелловой тематике. Он ввел в теорию электромагнитного поля Максвелла важнейшее понятие вектора потока электромагнитной энергии — «вектора Умова — Пойнтинга» (русский ученый Н.А.Умов за десять лет до Пойнтинга ввел аналогичный вектор для звука).
И еще один, не бывший формально учеником Максвелла, но находившийся под сильнейшим его влиянием гений, оригинал и отшельник — Оливер Хевисайд. Хевисайд уже после смерти учителя произвел генеральную «чистку» уравнений Максвелла, устранил повторения, придал им современный вид. Кроме того, Хевисайд ввел в электро— и радиотехнику такие важнейшие понятия, как «линия без искажений» и «слой Хевисайда». Он разработал операторный и символический методы решения дифференциальных уравнений, дал «формулу разложения Хевисайда», и по сей день весьма почитаемую электриками-теоретиками. Он предвосхитил и многие важные выводы теории относительности.
...Почти все ученики Максвелла заняли видные места в английской науке, но ни один не смог бы похвастаться тем, что превзошел учителя. Множество можно придумать причин. Не смог сам Максвелл стать таким педагогом и учителем, который жил бы делами и славой своих учеников, — не такой был он, и не такими были они; и, может быть, главное, небосвод научной истории еще не повернулся настолько, чтобы засияли на нем имена Максвелловых учеников, и лишь через много лет, после беккерелевской засвеченной фотографической пластинки, откроются новые горизонты и призовет физика новые сонмы молодых гениев. А те, кто родился раньше времени, должны будут довольствоваться скромными профессорскими должностями. И возможно, высшей славой, которой они коснулись, останется для этих людей то, что были они выпестованы и любимы великим Максвеллом.
КРУКС, ДУХИ И РАДИОМЕТР
Экспериментальная работа, проделанная совместно с Глэйзбруком, хотя и подтверждала косвенно Максвеллову теорию, не была все же решающим доказательством ее правильности.
Таким прямым доказательством могло быть, например, обнаружение электромагнитных волн или давления света. Удивительно, но в Кавендишской лаборатории, казалось, никто не интересовался «проблемой доказательства».
Впрочем, было одно исключение...
Оно началось с открытия Вильяма Крукса.
В 1873 году английский химик Вильям Крукс решил определить атомный вес вновь открытого им элемента таллия и взвесить его на очень точных весах. Чтобы случайные воздушные потоки не исказили картины взвешивания, Крукс решил подвесить коромысла в вакууме. Сделал — и поразился. Его тончайшие весы были чувствительны к теплу. Если источник тепла находился под предметом, он уменьшал его вес, если над — увеличивал.
Усовершенствуя этот свой нечаянный опыт, Крукс придумал забавную игрушку, которую называли то радиометром, то световой мельничкой. И уже в названии сквозило, казалось, объяснение принципа работы этого нехитрого устройства, состоящего из невесомых лопастей, или крылышек, сделанных из фольги и подвешенных на тонкой нити в вакууме, или, точнее сказать, в очень разреженном газе. Одна сторона лопастей была отполирована, другая — зачернена. Если теперь к устройству поднести какой-нибудь теплый предмет или осветить его солнечным светом, мельничка, составленная из лопастей, начинала крутиться вокруг оси. Отсюда и название — радиометр, так сказать, измеритель излучения, или еще конкретней — «световая мельничка», мельничка, движущаяся под действием света.
Прямое подтверждение теории светового давления Максвелла? Триумф?
Странно, но Максвелл до сих пор, казалось, совершенно не интересовался радикальными экспериментальными подтверждениями своей электромагнитной теории. Может быть, он был слишком занят сначала написанием своего «Трактата», затем постройкой лаборатории затем изданием рукописей Кавендиша. Отдавал этому все свое время. Не хватало его даже на попытку осуществить самый простой эксперимент. Во всяком случае с 1864 года, со времени появления его статьи «Динамическая теория электромагнитного поля», где впервые было предсказано существование электромагнитных волн он не сделал ни малейшей попытки доказать их существование.
Радиометр вызвал в научных кругах сенсацию, и прежде всего потому, что, казалось, непосредственно и убедительно доказывал существование предсказанного Максвеллом давления света. И когда в 1873 году радиометр впервые был продемонстрирован на заседании Королевского общества, вряд ли кто-нибудь был иного мнения. Движущей силой радиометра, несомненно, являлась механическая сила света.
Но были и скептики, которые забавлялись над доверчивостью членов Королевского общества, еще раз поверившими «этому Круксу», только что оскандалившемуся со своими спиритуалистическими занятиями. Как писал Энгельс впоследствии:
«Господин Крукс начал исследовать спиритические явления приблизительно с 1871 г. и применял при этом целый ряд физических и механических аппаратов: пружинные весы, электрические батареи и т.д. Мы увидим сейчас, взял ли он с собою главный аппарат, скептически-критическую голову, или сохранил ли его до конца в пригодном для работы состоянии...
Духи доказывают существование четвертого измерения, как и четвертое измерение свидетельствует о существовании духов. А раз это установлено, то перед наукой открывается совершенно новое, необозримое поле деятельности. Вся математика и естествознание прошлого оказываются только преддверием и к математике четвертого и дальнейших измерений и к механике, физике, химии, физиологии духов, пребывающих в этих высших измерениях. Ведь установил же научным образом господин Крукс, как велика потеря веса столов и другой мебели при переходе ее, — мы можем теперь сказать так, — в четвертое измерение».
И Крукс, и многие другие английские ученые, в том числе электротехник Варлей, а вместе с ним и континентальное подкрепление — в лице статского советника Аксакова и химика Бутлерова, — оказались в свете развенчания их спиритуалистических увлечений в весьма неудобном для их престижа положении. И тем более — Крукс, определявший «научным образом», как велика потеря веса столов и другой мебели при переходе в «четвертое измерение».
Аналогия между падением веса предметов при переходе их в «четвертое измерение» и падением веса предметов в вакууме под воздействием излучения была настолько прозрачна, что Круксу и другим членам Королевского общества, по крайней мере в то время, следовало ее иметь в виду.
Максвелл, присутствовавший на демонстрации радиометра в Королевском обществе, был очень взволнован. Он описывает это событие в письме Вильяму Томсону следующим образом:
«...трехдюймовая свеча действует на внутренний диск так же быстро, как магнит действует на стрелку компаса. Нет времени для воздушных потоков, а сила гораздо больше веса всего воздуха, оставшегося в сосуде. Очень живое, сильное притяжение куском льда. Все это — в лучшем доступном вакууме...»
Как все это прекрасно согласуется со строками только что вышедшего его «Трактата»! Там было прямо сказано, что сконцентрированный свет электрической лампы, «падающий на тонкий металлический диск, деликатно подвешенный в вакууме, возможно, сможет произвести ощутимый механический эффект, доступный для наблюдения». Он высчитал даже, что давление солнечных лучей на перпендикулярно расположенную пластину будет в десять раз слабее горизонтальной составляющей магнитной силы в Англии. Разумеется, Максвелл был весьма подготовлен к положительному восприятию «радиационного» объяснения работы радиометра.
И поэтому, когда редакция «Философских трудов» прислала ему на рецензирование статью Крукса с таким объяснением действия радиометра, он написал на нее 24 февраля 1874 года положительную рецензию. Он, конечно, вполне согласен с тем, что «отталкивание от теплоизлучающего тела» ... «обязано своим происхождением излучению».
Но что-то все-таки мучит Максвелла, омрачает его радость, не дает полностью почувствовать вкус победы. И это — то, что эффект слишком уж велик, слишком уж показателен, он непохож на то слабенькое давление, которого ожидал Максвелл. Поэтому он пишет в рецензии на статью Крукса, что, хотя он и предсказал в своем «Трактате» «возможное отталкивающее действие излучения», «эффект, обнаруженный м-ром Круксом, как будто бы обнаруживает силы значительно большей величины». Максвелл рекомендовал статью к опубликованию.
В то лето над Европой видна была большая комета, и ее явное присутствие на небе, ее характерный вид с отогнутым от Солнца хвостом вызвал в английских научных салонах новый прилив разговоров о возможной причине отклонения хвоста кометы от Солнца: не вызвано ли это отклонение предсказанным Максвеллом давлением солнечных лучей?
Большие споры происходили и на. Скруп-Террас, II. И гости, и хозяин часто и подчас горячо поминали хвост кометы. Как-то один из гостей заметил, что любимый терьер Максвелла Тоби вертушкой вертится на одном месте, пытаясь ухватить себя за одноименный орган. Под всеобщий смех выяснилось, что Максвелл, не подозревая еще о грядущем появлении небесного тела, натаскал терьера по команде «хвост» гоняться за собственным хвостом. Во время бурных споров об отклонении кометного хвоста бедняге Тоби приходилось вертеться как белке в колесе. Да, бурные были споры, и Максвеллу скорее пришлось в них выступать против гипотезы об отклонении кометного хвоста за счет солнечного света, уже почти общепризнанной. Ему постепенно становилось ясно, что радиометр Крукса никак не подтверждал этой гипотезы. Эффект был слишком велик!
Вместе с Максвеллом, но совсем по другой причине, еще один человек противодействовал теории отклонения кометных хвостов за счет солнечных лучей. Это был резкий, тридцатидвухлетний манчестерский профессор со странными манерами и пренеприятной привычкой видеть за всеми действиями других исключительно корыстные мотивы. Это был Осборн Рейнольдс. Он был силен в прикладных, инженерных науках, но его познания в высокой физике были столь же невинны, как изощрены были познания Максвелла. Иногда знать меньше полезно, так как именно Рейнольдс предложил правильный ключ к решению проблемы радиометра.
Причина, по которой Максвелл противодействовал собственной теории, происходила от безбрежной широты и отдаленности горизонтов, где витала его мысль, от того, что не было для него в науке и природе «святых земель», которые не подлежали исследованию. Не было для него «плохих» фактов. Факты были хороши уже потому, что они таковыми являлись.
Рейнольдс, стоящий на более практической, приземленной точке зрения, работавший над проблемой осаждения пара из паровоздушных смесей на холодных поверхностях паровых машин, не верил в существование еще неизвестных сил и фактов. Он предположил, что действие радиометра вызывается все тем же: испарением с лопаток вертушки под действием тепла сконденсировавшейся на них смеси газов.
Как раз в это время вернулся из Сиама, где он наблюдал солнечное затмение, молодой сотрудник Рейнольдса Артур Шустер. Он свежим взглядом окинул проблему радиометра. Предложил поставить простой, но решающий эксперимент. Вызывается ли вращение вертушки радиометра внешними или внутренними причинами?
Установить это просто. Нужно проверить, не вращается ли одновременно с вращением вертушки и сам сосуд? Если да, и причем в другую сторону, то причина вращения — внутри, если нет — снаружи. Прозрачное стекло сосуда не должно было испытывать никакого механического действия излучения. Если причина в излучении, сосуд должен оставаться в покое. Поскольку Рейнольдс не захотел ставить такой эксперимент, Шустер провел его сам, подвесив сосуд на тонкой нити.
Как только к баллону подносили теплый предмет, вертушка начинала вращаться. Но и сосуд тоже начинал вращаться — только в другую сторону. Это можно было легко наблюдать по движению зайчика от зеркальца, прикрепленного к сосуду.
ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ МАКСВЕЛЛА
Эксперимент Шустера был, конечно, сокрушительным: причина, как и предполагал Осборн Рейнольдс, находилась «внутри», а не «вне».
К тому времени выяснилось и еще одно обстоятельство. Тоже немалой значимости. Никто раньше не заметил этого. Все вертушки вертелись совсем не так, как они должны были бы вертеться под действием излучения — известного или таинственного! Любое излучение должно было бы больше давить на отполированную, светлую сторону крылышек вертушки, чем на зачерненную. А все вертушки крутились в обратном направлении!
Стало ясно, что тепло и свет вносили в сосуд радиометра не столько механический момент, сколько тепловую энергию. Ключ к разгадке, очевидно, заключался во взаимодействии разреженного газа с поверхностью крылышек, во взаимодействии, проистекающем из разности температур зачерненной и светлой сторон лопаточек.
Максвелл мало интересовался в то время проблемой радиометра. Но в 1877 году в Кавендишскую лабораторию перешел из Манчестера бывший коллега Рейнольдса Шустер. Он привез с собой четыре радиометра и описание своего сокрушительного эксперимента.
Интерес к радиометру повсеместно уже почти угас, когда к нему вернулся интерес Максвелла. Величайший авторитет в молекулярной теории, Максвелл стал решать в ее рамках и проблему радиометра: его интересовала величина силы, которая могла бы давить на крылышки радиометра за счет разницы температур на двух их поверхностях. Статья по этому вопросу была в первый раз отправлена в редакцию в 1877 году.
Статья, как это было положено, пошла на отзыв анонимному рецензенту.
Рецензия затем была передана секретарем Королевского общества Джорджем Габриэлем Стоксом Максвеллу перепечатанной на машинке, без подписи.
Но трудно было бы Максвеллу не узнать льва по столь хорошо ему знакомым когтям. Томсон был мгновенно узнан по литературному стилю и по сделанному автору статьи замечательно дельному предложению: рассматривать поверхность крылышек не абсолютно ровной, а содержащей выпуклости, впадины и иные несовершенства. Столкновение молекул газа с этими выступами давало необходимую для работы радиометра тангенциальную силу.
Работая в направлении, указанном рецензентом, Максвелл полностью переделал статью и уже «добил» теорию радиометра, когда к нему от Стокса попала на рецензию статья Осборна Рейнольдса, посвященная тому же вопросу. В ней содержалось все то же здоровое предложение рассматривать взаимодействие газа с поверхностью и воздвигнутая вокруг этого громоздкая теория, не позволяющая достаточно точно вычислить усилия, воздействующие на крылышки.
Но разумное в статье Рейнольдса присутствовало явно. Это разумное нужно было учесть. Сославшись, конечно, на Рейнольдса в своей статье.
«До того, как я познакомился со статьей профессора Рейнольдса, я не рассматривал физических условий на поверхностях, расположенных в газе, так что все, что я сделал здесь, — это распространил на поверхностные явления метод, который, мне кажется, лучше всего подходит для изучения внутренних условий в газе. Мне кажется, что этот метод в некоторых отношениях удачней метода, принятого профессором Рейнольдсом. Мы должны признать, что его метод вполне удовлетворителен для определения существования самого эффекта, но непригоден для его численной оценки».
Меж тем Рейнольдс получил свою статью с рецензией Максвелла.
В своем отзыве Максвелл указал, что, несмотря на правильную общую идею Рейнольдса и его блестящие эксперименты, метод его громоздок и может быть переработан в таком-то и таком-то направлении.
Осборн Рейнольдс этого делать не стал. Стал поджидать появления статьи самого Максвелла. И когда она появилась, затеял активную переписку со Стоксом и вторым рецензентом, которым вновь оказался Томсон. Природная доброжелательность Томсона сыграла в этой истории плохую службу, ибо Рейнольдс, не соглашаясь с критикой Максвелла, апеллировал к «доброму» Томсону. Он предоставлял все новые и новые варианты статьи и упрекал Максвелла за то, что он высказал замечания по его теории в своей статье и отзыве.
Максвелл очень плохо чувствовал себя тогда, а Рейнольдс шел в наступление. В августе 1879 года он вновь переработал статью и послал в редакцию. Но переработал ее, не приняв во внимание замечаний Максвелла. Доброжелательный Томсон рекомендовал напечатать статью в том виде, как она есть, в конце концов за нее отвечает сам Рейнольдс.
Сомнительно, стоит ли крупица, добавленная Рейнольдсом в кладовую знаний человечества, тех страданий, которые он доставил умирающему уже Максвеллу.
«Джеймс Клерк Максвелл — Дж. Габриэлю Стоксу
Гленлейр, 2 сентября 1879
...Разумеется, я не могу претендовать на то, чтобы с неослабным вниманием следить за работой акробата (Рейнольдса), который держит в одной руке одновременно 24 предмета, но, поскольку он уже неоднократно бросал вожжи и пробовал новую упряжь, вполне возможно, что в конце концов результаты получатся достаточно податливыми, чтобы приспособиться к фактам, какими бы эти факты ни были... О.Р. говорит, что он все переработал, и я надеюсь на это...
Для орлиного взора Томсона даже одна счастливая фраза в окружении полностью ошибочных может озарить весь конгломерат грубых ошибок значением, которое самого автора никогда не удастся заставить понять.
Что касается экспериментов Грэхама, — О.Р. прав, а Томсон — не прав».
Это письмо много десятков лет оставалось неизвестным: родственники Максвелла и его ученики боялись, что он будет выглядеть здесь в неверном свете, а Осборн Рейнольдс может «обидеться». Возможно, публикация письма задержалась напрасно. Возможно, многие молодые, да и не очень молодые ученые, не страдающие избытком скромности, сэкономили бы себе и своим доброжелательным, но бескомпромиссным рецензентам много нервов и здоровья, если бы они научились хоть немного прислушиваться к деловой критике, вникать в состояние других людей.
За две недели до смерти Максвелла Рейнольдс, прекрасно осведомленный о его бедственном состоянии — об этом знал весь Кембридж и все Королевское общество, — направил Стоксу как секретарю Королевского общества послание, в котором требовал, чтобы Максвелл изъял из своей статьи критику теории Рейнольдса, причем требовал, чтобы это его послание было немедленно зачитано на заседании общества.
Стокс, разумеется, отказался это сделать.
Рейнольдс настаивал.
5 ноября 1879 года, сразу после смерти Максвелла, Стокс направил Рейнольдсу телеграмму с просьбой взять свое заявление обратно или позволить Стоксу снабдить это заявление собственными комментариями. Рейнольдс избрал вторую альтернативу и вместе с ней — свою судьбу, которая была теперь неизбежна... Тэт, Томсон, Стокс стали для Рейнольдса вежливо непроницаемыми, впрочем, как и все Королевское общество. Поскольку в науке почти никогда не бывает мыслей, в той или иной форме не высказанных ранее, Томсон порылся в библиотеке и вскоре нашел, что искал.
Единственная здравая мысль Рейнольдса, так понравившаяся Томсону, была им найдена в несколько иной и завуалированной форме в трудах немца Федеррсена. Испуганный Рейнольдс, спасаясь от немецкого вторжения, схватился за французскую соломинку и указал, что результаты Федеррсена оспорены французом Виолле. Соломинка оказалась непрочной, ибо Рейнольдс, не обладавший достаточно серьезной научной эрудицией, истолковал Виолле неправильно... Однако статья Рейнольдса появилась все-таки в печати.
После ее выхода Фитцджеральд в «Философском журнале» дал на нее небольшую рецензию, напомнил критические замечания Максвелла и указал на то, что «статья профессора Рейнольдса очень сложна и даже труднопреодолима, причем не только за счет природы явления, но также в некоторой степени из-за неэлегантного метода, которого придерживался проф. Рейнольдс».
Рейнольдс вынужден был вернуться на кафедру инженерного дела и заняться другими вещами. Это было правильным решением — в конце концов он высказал ценные мысли по ламинарному и турбулентному течению, введя в обиход физиков «число Рейнольдса».
Лишь потом выяснилось, что странное поведение Рейнольдса отчасти вызывалось болезнью, которая с годами все чаще давала о себе знать. Болезнь заключалась в том, что слово и строка Рейнольдса не следовали за его мыслью.
Однажды Шустер застал его дома играющим с сыном.
— Иди сюда! — сказал Рейнольдс сыну, а тот, едва заслышав эти слова, бросился прочь, чем очень обрадовал отца.
Рейнольдс с трудом подбирал нужные слова, не мог контролировать своих высказываний, иногда произносил слова, по смыслу совершенно обратные тому, что он хотел бы в них вложить. В конце концов он вовсе утратил способность пользоваться словами и фразами как средством выражения мысли, заболев афазией.
Вернемся к другим действующим лицам этой истории — Круксу и его радиометру. Если почитать научные журналы 1873-1879 годов, может создаться впечатление, что в лаборатории Крукса, где исследовались радиометры, шла подготовка к экспедиции по меньшей мере на иные планеты — настолько подробно преподносились малейшие новости из лаборатории.
Как потом оказалось, не напрасно — уже в год смерти Максвелла Крукс применил свой радиометр к исследованию катодных лучей, показав, что под их действием крылышки радиометра вращаются. В лаборатории Крукса действительно готовилось оборудование для покорения иных, неизвестных тогда миров — оборудование грядущей атомной физики. Радиометр — последнее научное увлечение Максвелла, предмет его последней научной статьи, сослужил все-таки мировой науке важную службу.
БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ
В сентябре 1879 года демонстратор Кавендишской лаборатории Вильям Гарнетт и его жена преодолели несколько сот миль и приближались к шотландскому поместью директора Максвелла. Вот показался среди невысоких галлоуэйских холмов небольшой ладный дом в низине, вот расступились перелески, потом разросшиеся за полвека, посаженные отцом деревья, вот на парадном крыльце, улыбаясь, приветствует его хозяин Джеймс Клерк Максвелл и его жена Кетрин Мери.
И больно сжалось сердце Гарнетта: за три месяца, пока они не виделись, во внешности Максвелла произошли страшные изменения. Он был сед, щеки его впали, поражали его неестественная худоба, бледность и ставшие больше и выразительнее печальные глаза. Неестественно выглядела на этом носящем печать неизлечимой болезни лице приветственная улыбка. И украдкой утирала слезы Кетрин.
А Максвелл был искренне рад преданному Гарнетту, привезенному им с собой духу Кембриджа, последним новостям о работе студентов, о кембриджских мелочах.
Он, казалось, отвлекся от своей болезни, но пришел обед, и все снова вспомнили о ней — Максвеллу можно было питаться только молоком.
— Я снова чувствую себя ребенком, — пошутил по этому поводу Максвелл, — мне нельзя есть ничего, кроме молока.
Засмеялись принужденно.
Печалью были пронизаны последующие дни. Максвелл, тяжело ступая и задыхаясь, водил Гарнетта и его жену по имению, спускался к воде Урра, показывал места, где он когда-то, сорок лет назад, плавал на бадье, где когда-то омывались Водой Урра камни, по которым переходили на тот берег, где купались.
Вечером Максвелл показывал гостям собранные в доме семейные реликвии: тщательно сохраненную отцом рукопись первой статьи об овалах, семейный альбом, заполненный полувековой давности акварелями Джемимы, книгу автографов и даже шотландскую волынку, которая в соответствии с семейным преданием некогда спасла жизнь сэру Джеймсу Клерку, отважному капитану Ост-Индской компании, деду Максвелла. Максвелл рассказывал проявлявшим живой интерес гостям занимательную историю о том, как капитан Клерк, покидая свой тонущий корабль, последним сошел с него, бросившись в волны с единственной дорогой для него вещью — шотландской волынкой. И волынка не подвела его — мешок из овечьей кожи, надутый воздухом, прекрасно держался на волнах до тех пор, пока отважного капитана не прибило к берегу какого-то острова. Там волынка ему вновь пригодилась — теперь по назначению — едва высадившись, капитан стал издавать с ее помощью в тиши южной ночи странные звуки.
— А это зачем? — спрашивали удивленные супруги.
— Неужели непонятно — чтобы распугивать тигров! — объяснил Максвелл, и вся компания очень громко смеялась...
Утром Гарнетты уезжали. Максвелл хотел было проводить их немного в экипаже, но Кетрин напомнила, что он не может переносить тряски.
Гарнетты уехали с тяжелым чувством, и Вильям молил господа о том, чтобы миновала Максвелла эта болезнь.
...Первые признаки болезни Максвелл почувствовал в начале 1877 года. Заключались они в том, что каждый раз после того, как он ел мясо, у него затруднялось дыхание, появлялась боль. Однажды, придя в лабораторию после ленча, он растворил в лабораторном небольшом сосуде немного питьевой соды и выпил раствор. Некоторое время спустя он объявил, что открыл способ изгнания боли. Никто не придал этому мелкому инциденту значения.
Но болезнь не исчезла, она упрямо давала о себе знать, и в апреле 1879 года трудности проглатывания пищи стали столь явно ощутимыми, что Максвелл впервые написал об этом их семейному доктору Пагету, лечившему еще Помероя, одному из лучших английских врачей того времени. Написал между прочим, в конце письма, посвященного здоровью его Кетрин, которое в последние годы становилось все хуже.
Пагет хорошо знал этот симптом — один из весьма недвусмысленных признаков рака брюшной полости — болезни, от которой, не дожив до пятидесяти лет, умерла мать Максвелла. Но Пагет все же сомневался.
А болезнь наступала. Уже в мае кембриджские друзья заметили, что его походка потеряла упругость, его энергия исчезла вместе с таким для него типичным блеском глаз. В пасхальном семестре 1879 года он ежедневно приходил в лабораторию, но каждый раз ненадолго — он быстро уставал. В конце семестра он уже с трудом читал лекции.
Но Максвелл все-таки заставил себя завершить лекционный курс по электричеству и в мае 1879 года прочел своим студентам последнюю лекцию. Студентов было двое — американец Миддлтон и англичанин Амбруаз Флеминг. Как и положено после окончания лекционного курса, аудитория устроила лектору овацию. Максвелл был слаб: он с трудом сошел с кафедры и, поблагодарив Миддлтона и Флеминга, удалился. Это была его последняя работа в университете. Его последняя лекция.
В июне, как обычно, он возвратился в Гленлейр. Он взял с собой присланные на рецензирование лекции и эссе профессора Клиффорда. Как обычно, вел большую переписку. Его письма полны юмора и мельчайшей информации обо всем. Кроме собственного здоровья. Он был уверен в том, что в деревне он наберется сил, поправится...
В деревне Максвелл много думал о быстротечности жизни... Может быть, теперь его стали привлекать идеи его друзей, прекрасных людей, но слабых философов — Питера Тэта и Бальфура Стюарта? Они недавно выпустили книгу «Невидимая вселенная», где пытались, как они выразились, «опрокинуть материализм чисто научными методами».
Автором книги значился некий Вест, но Максвелл мгновенно разгадал нехитрый псевдоним: West-we, Stewart, Tait49, и оказался прав.
Максвелл весьма насмешливо отнесся к основным идеям книги — о наличии четвертого измерения, в котором люди якобы имеют возможность «эфирной» фазы существования, длительность которой бесконечна, измерения, связанного неким «двойным узлом» с действительным миром...
Он написал авторам «Парадоксальную оду» в стиле Шелли, где юмористически разъяснял непосвященным идеи «Невидимой вселенной»:
Мой дух пленен в двойном узле Умом, в Невидимом живущим, И твой, как каторжник в тюрьме, Повязан им узлом прочнющим... От пут тех есть освобожденье. Оно — в четвертом измеренье...Может быть, теперь, в плену тяжелой болезни, Максвелл стал серьезней относиться к философским построениям своих приятелей?
Нет! И за два месяца до смерти Максвелл не потерял своего шуточного настроя по отношению к идеям своих друзей. Он пишет Тэту письмо с пародией на его книгу в виде монолога ее автора:
«Монолог Т'
Размышляя, что я по обыкновению делаю в воскресный день, об увеселениях и занятиях, которые могли бы помочь мне скоротать одну-две предстоящих мне вечных эфирных фазы существования, я вдруг мучительно озаботился, в сущности, конечным числом человеческих ощущений, определяемым конечным числом нервов... Когда все возможные ощущения прозвенят в трехголосом мажорном перезвоне опыта, не будет ли невыносимым многократное повторение того же перезвона в течение чудовищных (по продолжительности) вечностей парадоксального существования? Ужас подобного рода, как я хорошо знаю, привел покойного Дж.С.Милля к самым вершинам безысходности, пока он не открыл лекарство от своих скорбей в перечитывании поэм Водсворта... Но не к Водсворту обратился мой ум, а к благородному виконту по имени...
АЛБАН50
Не заронит ли он какую-нибудь плодотворную идею, какое-то эпохальное предположение, посредством которого я мог бы сломать раковину обстоятельств и сам высидеть нечто, чему мы не имеем даже имени, что могло бы практически опровергнуть арифметику этого мира?
Торопливо перевернув страницу, на которой я записал эти раздумья, я заметил прямо против имени виконта другое имя, которого я не писал. Вот оно:
НАБЛА.
Вот что было знамением, данным самим виконтом, вот что, по его мысли, было выходом из моих трудностей. Но что мог означать этот символ? Я слышал, что арфа, из которой Хеман или Ефан извлекали самые различные модуляции, от печальных до триумфальных, те модуляции, которые современная музыка с ее оковами тональности может не признавать, но с которой никогда не сравняется, — я слышал, что эта арфа называлась именем, подобным этому. Но не найти во всем Уэльсе такой арфы и волшебной музыки, которая смогла бы пробиться сквозь толщу бесконечных веков...»
В конце этого письма — единственная фраза, относящаяся уже к самому автору воображаемого монолога Тэта — Максвеллу:
«Я был такой дохлый, что не мог читать ничего мало-мальски глубокого, чтобы сразу не заснуть над книгой».
Тэт, получив письмо, испугался — не поврежден ли болезнью мозг Максвелла? (Он не чувствовал еще, насколько близка развязка.)
Особенно Питер обеспокоился, когда узнал о том, что на соседнюю кафедру — кафедру математики Эдинбургского университета (сам он заведовал кафедрой натуральной философии, на которой когда-то работал Форбс и на которую когда-то пришел, победив Максвелла на конкурсе) — Максвелл дал рекомендации сразу двум кандидатам — своим ученикам: Христалу и Гарнетту. А дело, видимо, было так: сначала была дана рекомендация Христалу, а после визита Гарнеттов в Гленлейр, тронутый заботой Гарнетта, Максвелл уступил его просьбе дать рекомендацию или предложил сам написать ее. Он любил их обоих...
Как только Гарнетты уехали, к Максвеллу был вызван врач из Эдинбурга, коллега по обучению в Эдинбургском университете и старый приятель профессор Сэндерс, — у Максвелла начались приступы дикой боли, появилась водянка, силы быстро таяли.
В соседней комнате был созван консилиум — доктор Сэндерс и два местных врача — Лоррейны.
«Миссис Максвелл — миссис Стокс
Гленлейр, 2 октября 1879
Моя дорогая миссис Стокс!
У нас были вчера три доктора, и все они сошлись в одном — в том, что м-р Максвелл должен сразу же ехать к д-ру Пагету, который прославился как специалист в той болезни, от которой, как они считают, м-р Максвелл страдает. Мне очень понравился доктор Сэндерс. Мы надеемся отправиться сегодня, как только сможем устроиться в вагон для инвалидов, с тем чтобы добраться прямо до Кембриджа, нигде не останавливаясь».
В конце письма приписано рукой Максвелла:
«...Я чувствую себя сегодня немного бодрее...»
В этот же день, вскоре после того, как он сделал к письму эту приписку, в комнату, где он лежал, вошел старый приятель Сэндерс. Максвелл попытался улыбнуться.
Но Сэндерс не ответил на улыбку. Не смотря в глаза Максвеллу, он сел рядом, взял его бледную, невесомую уже руку.
— Мужайся, Джемси, — сказал он. — У тебя рак... Осталось тебе жить не больше месяца...
Максвелл мужественно перенес удар. С этого момента он, казалось, беспокоился только об одном: о здоровье Кетрин. Он старался завершить, привести в порядок все свои дела, окончить начатую популярную книгу «Электричество в элементарном изложении». Ничто не прорывалось наружу, и лишь в одной фразе письма, отправленного назавтра, 3 октября, доктору Пагету с последней надеждой, чувствуется обреченность: «Я сейчас совсем беспомощен», и даже эта фраза относилась не к его личному состоянию, а к тому факту, что он не может уже, как прежде, помогать больной Кетрин.
Вечером 2 октября было окончательно решено возвратиться в Кембридж. Среди аргументов была и перемена места, и более внимательный уход доктора Пагета — ведь ближайший врач Ричард Лоррейн жил в семи милях от Гленлейра. И видимо, просто хотелось быть в эти дни в Кембридже, неотделимой частью которого он стал.
Необходимо было только организовать так, чтобы кто-то их проводил до Кембриджа и встретил там. Быть провожатым вызвался Ричард Лоррейн.
В октябре 1879 года Максвеллы вернулись в Кембридж.
Он был уже настолько слаб, что не мог сам пройти от вагона до экипажа.
В Кембридже царило уныние. Многие люди, никогда не видевшие его в лицо, с печалью говорили друг другу: «Максвелл уходит».
Люди передавали друг другу эту печальную новость, и Вильям Стрэтт, лорд Рэлей, услышал об этом в поезде, подъезжая к Кембриджу, от какого-то совсем незнакомого человека — фермера, жителя здешних мест...
Доктор Пагет, как мог, облегчил страдания Максвелла и успокоил боль. Каждый день стал приходить священник, преподобный Гилемар. Мысли Максвелла все реже и реже возвращались к научным материям.
Он уже не вставал. Кетрин не отходила от его постели. Она сидела рядом с ним в его любимом кресле, удобном, повторяющем форму корпуса и расслабленных рук, и Максвелл поймал себя на мысли о том, что он никогда уже не сядет в это кресло.
Кресло было обито какой-то цветной материей. Максвелл никогда раньше не всматривался в узор, а теперь изучил его до тонкостей. На обивке, цепляясь друг за друга, густо произрастали какие-то мясистые, полные жизни стебли, иногда взрывающиеся яркими цветами... Узор был построен так, что стебли росли друг из друга, не имея конца...
Его прекрасная память стала еще острее, она возродила в сознании множество воспоминаний, стихов, казалось, давно забытых. Голова была необыкновенно ясной, он, казалось, мог сейчас вспомнить все, что угодно.
Кто-то спросил его:
— Ты помнишь свою первую мысль?
И он внезапно с полной ясностью вспомнил тот день в Гленлейре, когда он лежал в траве рядом с отцовским домом и впервые отождествил себя с этим миром...
Он вспомнил множество стихов, прочтенных в детстве и юности, он с удивлением ловил себя на том, что может по желанию вызывать из памяти целые куски шекспировских пьес.
— Кетрин, ты помнишь монолог «Как сладко дремлет лунный свет...» из «Венецианского купца»? Никогда не предполагал, что я помню его...
Как сладко дремлет лунный свет на горке!
Дай сядем здесь — пусть музыки звучанье
Нам слух ласкает, тишине и ночи
Подходит звук гармонии сладчайшей.
Сядь, Джессика. Взгляни, как небосвод
Весь выложен кружками золотыми,
И самый малый, если посмотреть,
Поет в своем движеньи, точно ангел.
И вторит юнооким херувимам.
Гармония подобная живет
В бессмертных душах: но пока она
Земною, грязной оболочкой праха
Прикрыта грубо, мы ее не слышим...51
Какие прекрасные стихи, слышишь, Кетрин? Особенно эти слова о гармонии! Но почему Шекспир вложил эти слова в уста такого легкомысленного человека, как Лоренцо?
Звуки незнакомой музыки, струящиеся неизвестно откуда, умиротворяли его, теснили любимый свет, цвета, краски — приводили все в гармонию. Он сам чувствовал сейчас необыкновенную гармонию свою с природой, с миром, вечные законы которого манили его к себе с детства, почти физически ощущал эллинскую гармонию своего миропонимания и своей жизни...
Упорядоченность, гармония сил, властвующих в человеке, природе, космосе...
Вплоть до самого конца его сознание было абсолютно ясным. Он ни на что не жаловался и беспокоился лишь о судьбе Кетрин.
Он спросил доктора Пагета однажды: сколько ему осталось жить? И оказалось, что это важно лишь для того, чтобы успеть попрощаться со спешащим к нему кузеном, братом Джемимы, Колином Маккензи.
5 ноября он был так слаб, что не мог говорить. Только по движению губ можно было определить смысл его слов. Ему становилось дышать все труднее и труднее, но все же он смог прошептать:
— Боже, помоги мне! Боже, помоги моей жене!
Потом он прошептал:
— Колин, ты сильный, подними меня... Нет, положи меня пониже, я очень ослаб, мне удобно лежать низко...
После он дышал глубоко и медленно.
Он умер в спокойствии и мире, и Кетрин поймала его последний благодарный взгляд...
Эпилог
Время устраняет предрассудки и утверждает законы природы.
ЦицеронПосле торжественной траурной службы в Тринити-чапел, на которой присутствовали все любившие его кембриджцы, гроб с телом Максвелла был перевезен в Гленлейр. Максвелла похоронили рядом с его родителями во дворе построенной на его пожертвования маленькой церквушки в деревне Партон.
Поскольку эта деревушка оказалась в стороне от шумных дорог и суетливые равнодушные путешественники никогда не заезжали в эти края, могила его не приобрела еще тех признаков, которые венчают все знаменитые могилы, рядом с которыми невозможно мудрое одиночество.
В октябре 1931 года в Вестминстерском аббатстве были открыты мемориальные плиты Майклу Фарадею и Джеймсу Клерку Максвеллу. Случилось так, что два юбилея почти совпали — открытие Фарадеем закона электромагнитной индукции и рождение Максвелла.
Мемориальные плиты Максвелла и Фарадея были заложены в нефе аббатства, за могилами сэра Исаака Ньютона и Вильяма Томсона, лорда Кельвина.
Мастер Тринити сэр Дж.Дж.Томсон после торжественного открытия мемориальных плит сказал, что работы Фарадея и Максвелла выстояли наиболее суровое испытание — испытание временем. Каждый год, который проходил со времени их смерти, заставлял нас все более и более ясно понимать важность их вклада в физику; с каждым годом все важнее и важнее становились следствия их трудов, поступившие на службу человечеству.
На юбилее Максвелла в 1931 году выступили и дали статьи в юбилейный сборник виднейшие представители новой физики — Дж.Дж.Томсон, Резерфорд, Джинс, Эйнштейн, Планк, Бор...
Нильс Бор, человек, предложивший миру самую жизнеспособную модель «нового» атома, сказал на том юбилее:
«Когда приходится слышать, как физики в наши дни толкуют об электронных волнах и о фотонах, может показаться, пожалуй, что мы полностью оставили почву, на которой строили Ньютон и Максвелл. Но мы все, я думаю, согласимся, что такие понятия, как бы плодотворны они ни были, не могут никогда представлять что-либо большее, чем удобное средство выражения следствий квантовой теории, которые не могут быть представлены обычным способом. Не следует забывать, что только классические идеи материальных частиц и электромагнитных волн имеют недвусмысленное поле применения, между тем как понятия фотона и электронных волн его не имеют».
И далее:
«...язык Ньютона и Максвелла останется языком физиков на все времена».
На все времена...
Бессмертие...
Москва,
1965-1972.
Основные даты жизни и деятельности Джеймса Клерка Максвелла
1831, 13 июня — В Эдинбурге (Шотландия) на улице Индии, в доме № 14, родился Джеймс Клерк Максвелл.
Лето — Семья Максвеллов переселяется в Гленлейр (имение в Южной Шотландии).
1841-1847 — Годы учебы в Эдинбургской академии (учебное заведение типа классической гимназии).
1846, 16 апреля — Профессор Эдинбургского университета Дж.Д.Форбс представляет Эдинбургскому королевскому обществу первую научную работу Максвелла «О свойствах овалов и о кривых с многими фокусами».
1847, осень — Максвелл поступает в Эдинбургский университет.
1850, весна — Представляет Королевскому обществу свой доклад «О равновесии упругих тел».
Осень — Поступает в Кембриджский университет, сначала в Питерхаус, затем — в Тринити-колледж.
1850-1854 — Учеба в Кембриджском университете.
1854, январь — Оканчивает университет со степенью бакалавра с отличием. Оставлен в Тринити-колледже для подготовки к профессорскому званию. Первые шаги в самостоятельном изучении электричества.
1854-1856 — Читает лекции по гидравлике и оптике, завершает эксперименты по теории цветов. Изучает труды по электричеству Фарадея.
1856 — Максвелл — член Эдинбургского королевского общества.
1856, апрель — Кончина отца.
Ноябрь — Избран по конкурсу в Абердинский университет на кафедру физики Маришаль-колледжа (Шотландия).
1857, март — Появление первой из основных работ Максвелла по электромагнетизму «О фарадеевских силовых линиях». Посылает Фарадею свою статью «О фарадеевских силовых линиях».
1856-1859 — Пишет работу об устойчивости колец Сатурна, за которую удостоен премии Адамса (Кембриджский университет). Начало работ в области кинетической теории газов.
1858, июнь — Женитьба на Кетрин Мери Дьюар.
1859 — Представил Британской ассоциации свою первую статью по кинетической теории газов.
1860, осень — Профессор кафедры физики в Лондонском университете, в Кингс-колледже.
1860 — За исследования по восприятию цветов и по оптике Максвеллу присуждается Румфордовская медаль (Лондонское королевское общество).
1861, май — На лекции в Королевском институте демонстрирует первую в мире цветную фотографию.
6 июня — Максвелл — член Лондонского королевского общества.
1861-1864 — Публикует вторую и третью из основных работ по электромагнетизму: «О физических линиях сил» и «Динамическая теория электромагнитного поля». Активно сотрудничает в комиссии по определению единицы электрического сопротивления.
1865, осень — Максвелл оставляет кафедру и переезжает в Гленлейр.
1867, лето — Путешествие по Италии.
1866-1870 — Завершает основные теоретические исследования по теории электромагнитного поля и теории теплоты.
1871, 8 марта — Назначен профессором кафедры экспериментальной физики в Кембридже. Опубликован труд «Теория теплоты».
1873 — Выходит в свет основной труд Максвелла по теории электромагнитного поля «Трактат по электричеству и магнетизму». Выходит в свет «Материя и движение».
1874, 16 июня — Открытие Кавендишской лаборатории.
1874-1879 — Работа над рукописями Кавендиша.
1878 — Последняя публичная лекция «О телефоне».
1878-1879 — Последние статьи «Гармонический анализ» и «О напряжениях, возникающих в разреженных газах за счет неравенства температур».
1879, октябрь — Выходят в свет труды Г.Кавендиша, подготовленные к печати Максвеллом.
5 ноября — В Кембридже, в доме на Скруп-Террас, II, умирает Джеймс Клерк Максвелл.
Краткая библиография
Максвелл Д.К., Избранные сочинения по теории электромагнитного поля. (Пер. 3.А.Цейтлина.) М., ГТТИ, 1954.
Максвелл Д.К., Теория теплоты, т. I. Владимир, 1883.
Максвелл Д.К., Движение и материя. (Пер. с англ. М.А.Антоновича.) Спб., 1885; последующ. изд. — 1889.
Максвелл Д.К., Электричество в элементарной обработке. Киев, 1886; последующ, изд. — 1888.
Максвелл Д.К., Речи и статьи. М., 1901.
Максвелл Д.К., Статьи и речи. М., 1968.
Максвелл Д.К., О фарадеевских силовых линиях. (Примеч. Л.Больцмана.) М., 1907.
Максвелл Д.К., О регуляторах. В кн.: Н.А.Вышнеградский, А.Стодола, Теория автоматического регулирования. Серия «Классики науки». М., Изд-во АН СССР, 1949.
Бублейников Ф.Д., Максвелл (1831-1879). М., «Знание», 1960.
Кузнецов Б.Г., Электродинамика Максвелла, ее истоки, развитие и историческое значение. «Труды института истории естествознания и техники», 1955, 5.
Кравец Т.Т., Пути развития максвелловской электромагнитной теории. «Природа», 1931, № 11.
Лебединский А.Б., Франкфурт У.И., Френк А.М., Гельмгольц. М., «Наука», 1966.
Лебединский В., Вильям Томсон, лорд Кельвин, Л., 1924.
Макдональд Д., Фарадей, Максвелл и Кельвин. (Пер. с англ.) М., Атомиздат, 1967.
Пуанкаре А., Теория Максвелла и герцевские колебания. Спб., 1900.
Сельвестренко В.В., О философских воззрениях К.Максвелла и Л.Больцмана. «Ученые записки Московского обл. пед. института», т. 246, вып. 14. М., 1969.
Умов Н.А., Памяти Клерка Максвелла. Одесса, 1888. (Последующ. изд. в кн.: Н.А.Умов, Собр. соч., т. III. M., 1916.)
Франкфурт У.И., Электродинамика Гельмгольца. «Вопросы истории естествознания и техники». М., 1963, вып. 14.
Шапиро И.С., К истории открытия уравнений Максвелла. «Успехи физических наук», т. 108, вып. 2, 1972.
Maxwell J.С., On the Stability of the Motion of Saturn's Rings, Cambridge, 1859.
Maxwell J.C., Theory of Heat, 1870.
Maxwell J.C., Introductory Lecture on Experimental Physics, L., 1871.
Maxwell J.С., A Treatise on Electricity and Magnetism, 2 vol., 1873
Maxwell J.C., Matter and Motion, 1873.
Maxwell J.C., An Elementary Treatise on Electricity, 1881. Second Edition, 1888.
James Clerk Maxwell, The Scientific Papers of J.С.Maxwell. Cambridge, 2 vol., 1890.
Maxwell J.C., Uber Faraday's Kraftlinien... (Herausgegeben von L.Boltzmann), 1895.
Campbell L, Carnett W., The Life of J.С.Maxwell. L., 1882, L., 1884.
Boltzmann L., Vorlesungen uber Maxwell's Theorie der Elektricitat und des Lichtes, 1891.
Glazebrook R.Т., J.С. Maxwell and Modern Physics, 1896.
Poincare J.H., Maxwell's Theory and Wireless Telegraphy, 1904. — Electricite et Optique, 1890. — Theorie de Maxwell et les oscillations hertziennes, 1899.
Lorentz H.A., Clerk Maxwell's Electromagnetic Theory, 1923.
Maxwell J.C, A Commemoration Volume. Cambridge, 1931.
Crowther J.G., British Scientists of the Nineteenth Century (J.C.Maxwell, v. 1, 1935; v. 2 (J.С.Maxwell, W.H.Perkin), 1940.
Smith-Rоse R.L., James Clerk Maxwell. L., 1948.
«The Collected Clerk Maxwell Memorial Lectures». L., 1960.
May Ch.P., J.С. Maxwell and Electromagnetism. N. G., 1962.
«Clerk Maxwell and Modern Science». L., 1963.
Larmоr J., Origins of Clerk Maxwell Electrical Ideas as Described in Familiar Letters to Will. Thomson. Cambridge, 1937. Maxwele's Collected Works; Предисловие W.D.Niven. Paris, 1927.
Tricker, Ranson R.A., The Contributions of Faraday and Maxwell to Electrical Science. Oxford, 1966.
Brush S.G. and Everitt С.W.F., Maxwell, Osborne Reynolds, and the Radiometer. В кн.: «Historical Studies in the Physical Sciences. Edgar F. Smith Memorial Collection, University of Pennsylvania. Phyladelphia, 1969.
Garber E., James Clerk Maxwell and Thermodynamics. American journal of physics, 1969, v. 37, № 2.
Sussman M.H., Maxwell's Ovals and the Refraction of Light. American journal of physics. 1969, v. 37, № 2.
Bork A., Maxwell and the Electromagnetic wave equation. American journal of physics, 1967, v. 35, № 9.
Frances M., Brookfield. The Cambridge «Apostles». New York, 1907.
Кnott С.G., Life and Scientific Work of Peter Guthrie Tait. Cambridge, 1911.
Larmоr J., Memoir and Scientfic Correspondence of the Late Sir G.G.Stokes. Cambridge, 1907.
От автора
Автор книги считает своим непременным и приятным долгом поблагодарить тех, чье внимание, мысли, заботы и труд немало содействовали работе над книгой.
Большую помощь при подготовке рукописи оказал доктор физико-математических наук профессор С.П.Капица. Многое для понимания жизни и мировоззрения Максвелла дали автору беседы с академиком П.Л.Капицей и ныне покойным настоятелем Кентерберийского собора Хьюлеттом Джонсоном. Особую благодарность выражает автор рецензентам книги профессорам И.М.Горскому и Г.П.Черепанову, давшим по рукописи замечания и советы, способствовавшие улучшению качества книги.
Автор хотел бы также выразить свою благодарность ряду организаций и лиц, оказавших помощь в подготовке материалов и иллюстраций для книги, — директору Кавендишской лаборатории Кембриджского университета профессору А.Пиппарду, директору Кларендонской лаборатории Оксфордского университета профессору К.Мендельсону, хранителю Национальной портретной галереи Шотландии Р.Хатчисону, руководителю отдела рисунков Британского музея Л.Певеретту, директору издательства «Александр Рейд и сын» в Абердине Гордону Рейду, библиотекарю Королевского общества в Лондоне И.Кею, хранителю рукописей Абердинского университета К.Макларену, библиотекарю того же университета Г.Драммонду, абердинскому историку Фентону Винессу, архивариусу деревни Партон Сэмюэлю Колландеру, преподавателям Московского и Киевского государственных университетов М.Г.Тоидзе и Е.И.Ветровой. Большую помощь в подготовке рукописи оказали ленинградский историк Л.В.Тюкова и Р.А.Семенюк.
Примечания
1
В английских домах того времени для вызова слуг в разные комнаты использовались колокольчики, приводившиеся в действие проволоками, натянутыми в трубках сквозь стены.
(обратно)2
Рил (риль) — шотландский народный танец.
(обратно)3
Примерно 100 кг.
(обратно)4
Перевод Д.Орловской.
(обратно)5
Видно, бадью отобрали.
(обратно)6
Вещество, которое часто находят на морском берегу. Это, по существу, останки некоторых моллюсков: если их размельчить и нанести на кожу, кожа сильно раздражается.
(обратно)7
Абсолютно загадочная личность.
(обратно)8
Дача супругов Маккензи: тети Изабеллы и ее мужа.
(обратно)9
Малыши — кузены Джеймса.
(обратно)10
Миссис Маккензи.
(обратно)11
Подражание звуку трубы.
(обратно)12
Брат матери Джеймса, шериф в Линлитгоу, затем — служащий в Гонконге, женат на сестре известного шотландского художника Вильяма Дайса, выполнившего несколько портретов семьи Кеев — семьи матери Максвелла.
(обратно)13
Если это сделать, то «проявятся» следующие две фразы: Морским файком можно хорошо полировать. Я копирую старую печать из Саллюстия. В тексте красные и синие буквы заменены соответственно жирными и курсивными.
(обратно)14
Произносится по-английски почти так же, как «Морская вилла» — дача супругов Маккензи.
(обратно)15
«Куни» — Колин Маккензи, сын супругов Маккензи, тогда мальчик трех лет.
(обратно)16
Прозвище ректора.
(обратно)17
Преподаватель греческого языка.
(обратно)18
Видимо, имеются в виду «лейденские банки» — простейшие электрические конденсаторы.
(обратно)19
Так это и оказалось.
(обратно)20
Prop (англ. школьн.) — задачка.
(обратно)21
Автор учебника механики.
(обратно)22
Игра слов. По-английски слово «черепки» созвучно фамилии автора учебника механики.
(обратно)23
Холм близ Эдинбурга. Один из его уступов имеет форму гигантского трона. По преданию, на этом «троне» некогда сидел король Артур.
(обратно)24
Бен Невис — самая высокая гора в Шотландии.
(обратно)25
Форт Вильям — городок у подножия Бен Невис.
(обратно)26
При переводе этого стихотворения автор использовал строки С.Я.Маршака, осуществившего перевод стихотворения Р.Бернса «Джон Андерсон, мой друг, Джон», пародируемого Максвеллом.
(обратно)27
Первый визит Максвелла к Стоксу, на котором настоял отец и о котором договорились через знакомых — Алисонов, был просто молчаливым отсиживанием друг против друга «приличных» полчаса.
(обратно)28
И все-таки Кембриджу приходилось в чем-то наверстывать, догонять XIX век. «Провинциальные» английские университеты, не так отягощенные традициями, имели в области физики и математики иной раз более крупных ученых, чем Кембридж, — чего стоят имена «провинциалов» Грина, Гамильтона, Томсона, Брюстера, Николя!
(обратно)29
Восточно-Индийская компания. С 1854 года должности в ней замещались по конкурсу. Будущие правители Индии должны были иметь идеальное зрение, сильный характер, обладать хладнокровием, незаурядным умом, памятью, наблюдательностью, способностью к языкам. Служба в компании приносила власть, деньги, почет, большую пенсию.
(обратно)30
Студентов, готовящихся к экзаменам.
(обратно)31
Королевского общества.
(обратно)32
Питт — премьер-министр Англии в те годы.
(обратно)33
Одним из ведущих деятелей этого общества был дядя Льюиса Томас Кемпбелл, шотландский поэт и сторонник либерализации вероисповедания. Стихами его зачитывались юные Джеймс и Льюис, а его песни пела вся Англия.
(обратно)34
Некоторые исследователи датируют это открытие декабрем 1819 года.
(обратно)35
По современной терминологии понятие «электротоническое состояние» близко понятию «магнитное поле».
(обратно)37
Велика все-таки роль случайности в научных открытиях! Позднее выяснилось, что и скорость света, измеренная Физо, и отношение единиц, измеренное Кольраушем и Вебером, обе эти величины были измерены весьма грубо, если не сказать — неверно. Но эти ошибочные величины совершенно случайно были почти равны.
(обратно)38
Максвелл, как сын века пара, признавал в качестве единственной механическую энергию и старался все прочие свести к ней. На этот раз ему не хватило смелости...
(обратно)39
В переводе С.Маршака это стихотворение Р.Бернса называется «Пробираясь у калитки».
(обратно)40
Видные ученые Англии того времени имели шутливые прозвища. Томсон был Т, Тэт — Т' (первая производная от Т), Тиндаль — Т'' (вторая производная от Т), Максвелл — dp/dt.
Прозвище Максвелла объясняется сравнительно просто. В «Трактате о натурфилософии» Томсон и Тэт записали второй закон термодинамики в следующем виде JCM = dp/dt.
Максвелл сразу же усмотрел, что правая часть равенства является начальными буквами его имени и фамилии: James Clerk Maxwell. С тех пор он подписывал письма к друзьям и стихи собственного сочинения, опубликованные в «Природе», псевдонимом, левой частью равенства. Н — здесь Гамильтон (Hamilton).
(обратно)41
Эдинбургского королевского общества.
(обратно)42
Британской ассоциацией.
(обратно)43
Максвелл называл этот учебник не иначе, как «архиепископский трактат». Поводом для такого названия послужило то, что фамилии авторов трактата совпадали с фамилиями двух английских архиепископов.
(обратно)44
Знаменитый английский математик необыкновенной продуктивности. В течение жизни им было опубликовано 955 (!) статей.
(обратно)45
Одна статья была посвящена электрическому скату — «торпедо». Кавендишу удалось создать «электрическую модель» ската, которая давала такие же удары. Вторая статья — изящное доказательство того, что позже было названо «законом Кулона».
(обратно)46
Демонстратор в Кавендишской лаборатории. Совместно с Льюисом Кемпбеллом написал первую биографию Максвелла.
(обратно)47
В этой графе — названия колледжей Кембриджа.
(обратно)48
Автору книги не удалось напасть на след этого Ома, выяснить, кто это такой. И закралась дерзкая мысль: не был ли этот Ом невинной уловкой, шуткой Максвелла? Ведь чуть не вся лаборатория занята была проверкой закона Ома, и Ом все время незримо находился в Кавендишской лаборатории. Такая шутка была бы вполне в манере Максвелла.
(обратно)49
То есть «Мы, Стюарт, Тэт» (англ.).
(обратно)50
Viscount St. Alban — титул, пожалованный королем великому английскому философу Френсису Бэкону.
(обратно)51
Перевод Т.Щепкиной-Куперник.
(обратно)

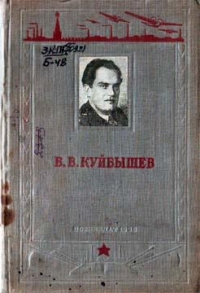

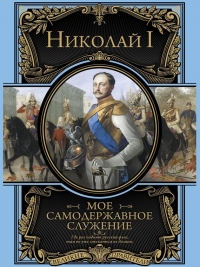
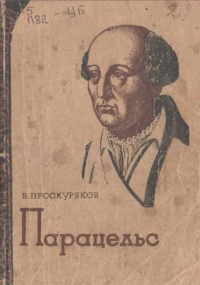


Комментарии к книге «Максвелл», Владимир Петрович Карцев
Всего 0 комментариев