ОМАР ХАЙЯМ
Введение
Омар Хайям… Да, именно так называют во всех частях света великого поэта, человека и ученого, того, чье полное имя Гияс ад-Дин Абу-аль-Фатх Омар ибн Ибрахим Хайям Нишапури, чей облик овеян легендами, история жизни которого до сих пор остается во многом таинственной и загадочной.
Кем же был он прежде всего? Поэтом? Астрономом? Математиком? Философом? А может быть, и тем, и другим, и третьим? Ведь история знает немало гениев, наделенных способностями буквально во всех сферах человеческой деятельности. Такие люди суть украшение всего рода человеческого, его величайшее достояние, золотой фонд. Можно ли отнести к ним Хайяма? Безусловно. Но встает другой вопрос: какая грань его разностороннего таланта наиболее яркая? Что стало решающим для того, чтобы его имя обрело бессмертие? Энциклопедист Ибн Сина — это прежде всего философ и врач, многогранный Леонардо да Винчи — это сгусток таланта, наиболее ярко проявившийся в изобразительном искусстве… Примеры эти не единичны. Но какой дар Хайяма можно поставить на первое место?
Чтобы ответить на этот вопрос, авторы предлагают читателю провести маленький эксперимент. Выйдите на улицу и спросите, ну, хотя бы у первых десяти-пятнадцати прохожих, кто такой Омар Хайям. Можете не сомневаться, ответ будет один: поэт. Это главное. Однако, возможно, в ответах не будет единства по вопросу о характере поэзии Хайяма. Одни — их будет большинство — скажут, что Хайям — это певец вина и земных радостей, гедонист и эпикуреец. «Поэт-философ», — добавят другие. И кое-кто, возможно, скажет, что и вино, и земные радости в строках Хайяма — это не столько напрямую воспевание быстротечных удовольствий, сколько тщательно упрятанный протест против узкого догматичного восприятия мусульманской ортодоксии: ведь, как известно, употребление вина «правоверным» мусульманам запрещает Коран. Вполне вероятно, что не в каждом десятке опрошенных найдется человек, знающий — пусть понаслышке — о серьезных философских трактатах великого поэта, а равно ж о том, что был он к тому же выдающимся математиком и астрономом.
Но, действительно, кем же был на самом деле Хайям? Вопрос непростой, если учесть, что современная наука по-прежнему располагает довольно скудными данными о его жизни, многие научные работы Хайяма не дошли до наших дней, остается сомнительным авторство ряда четверостиший.
Личность Омара Хайяма также стала предметом ожесточенных споров, причем одни исследователи видели в нем только гедониста, другие — только скептика, третьи — только мистика. В 1897 году известный русский востоковед, профессор Валентин Алексеевич Жуковский в своей работе о Хайяме привел такой список различных, взаимно исключающих характеристик Хайяма, накопленный к этому времени в литературе: «Он вольнодумец, разрушитель веры; он безбожник и материалист; он насмешник над мистицизмом и пантеист; он правоверующий мусульманин, точный философ, острый наблюдатель, ученый; он гуляка, развратник, ханжа и лицемер. Он не просто богохульник, а воплощенное отрицание положительной религии и всякой нравственной веры; он мягкая натура, преданная более созерцанию божественных вещей, чем жизненным наслаждениям; он скептик-эпикуреец, он персидский Абу-л-Ала, Вольтер, Гейне… Можно ли, в самом деле, представить, — продолжает Жуковский, — человека, если только он не нравственный урод, в котором могли бы совмещаться и уживаться такая смесь и пестрота убеждений, противоположных склонностей и направлений, высоких доблестей и низменных страстей, мучительных сомнений и колебаний».
Хайям известен как автор глубоких философских трактатов, он занимался физикой и историей, политикой и музыкой, современники восхищались его математическим дарованием, изобретенный им более восьмисот лет назад астрономический календарь был точнее того, которым мы пользуемся сейчас. Но — удивительно! — большинство ныне живущих людей даже не ведают о его других ипостасях, кроме поэтической.
В сознании людей Хайям — это прежде всего гениальный поэт. Его сборники стихов изданы на многих языках народов мира, благодаря «Рубайяту»[1] Хайяма его имя знают во всех странах и континентах. Его поэтическое наследие вызвало к жизни целое направление, особую школу в литературе.
В чем же загадка четверостиший Хайяма? Казалось бы, могут ли современного человека волновать стихи с налетом восьмисотлетней старины? Но в том-то и дело, что понятие «старина» к четверостишиям Хайяма неприложимо. Они существуют как бы вне сиюминутной суетности, они словно вплетены в некие основные линии и структуры спокойствия и вечности времени. Но в то же время, читая Хайяма, часто не знаешь, следить ли за мыслью в его стихах или просто наслаждаться прелестью четверостишия, его образностью и отделкой, музыкальной ритмичностью.
Чем же рубаи Хайяма привлекают современного читателя? Краткостью? Простотой? А может быть, сжатым, концентрированным выражением философской мысли? Пусть читатель сам ответит себе на эти вопросы. Ведь поистине неблагодарное занятие пересказывать в прозаической речи музыку стихов. Все же глубокая мудрость в этой затертой расхожей истине: у каждого из нас свое, непохожее на других восприятие стихов. Не потому ли в каждом возрасте мы открываем в Хайяме новые грани и пласты?
Омар Хайям стал известен европейскому читателю сравнительно недавно. Одна из первых работ Хайяма с небольшим предисловием об авторе была опубликована в Париже в 1851 году немецким математиком Францем Вёпке и называлась «Алгебра Омара Альхайями». Книга содержала арабский текст и французский перевод алгебраического трактата. Однако для широкой публики она прошла почти незамеченной.
Второе рождение Хайяма и начало его победного шествования сначала по Европе, а затем по всему миру следует отнести к 1859 году: именно тогда в Англии выходит в свет книга стихов «Рубайят Омара Хайяма» в вольном переводе Эдварда Фицджеральда. Сборник стал настолько популярным и завоевал такое признание, что уже через считанные месяцы стал библиографической редкостью.
В своих страстных письмах к возлюбленным молодые люди приводили рубаи Хайяма. Вошел в моду обычай говорить о жизненных разочарованиях хайямовскими четверостишиями. Устраивались публичные чтения стихов Хайяма. Одним словом, перевод пришелся по вкусу читающей публике. В каждом из приблизительно ста четверостиший содержалась законченная мысль, выраженная в чеканной художественной форме. Это было неожиданно для чопорного и важного в своем многословии викторианского времени и в своей неожиданности вдруг оказалось привлекательным. Ведь художественные методы и принципы стихосложения были в то время совершенно иными. Через 26 лет английский поэт А. Теннисон назовет перевод Фицджеральда «планетой, равной Солнцу, бросившему ее в пространство».
Фицджеральд расположил стихи в сборнике в соответствии с собственным вольным представлением о личности Хайяма и его жизненном пути. В самом деле, рассуждал английский поэт и переводчик, почему бы не предположить, что в юности Хайям — гуляка, жизнелюб, поклонник женщин, воспевающий наслаждения, вино и радость бытия. Позже — мудрец, разочарованный в жизни. И наконец на закате жизни — проповедник мистической любви к богу. Именно в таком порядке расположены рубаи в сборнике. И эта логика оказалась вполне подходящей для господствующих настроений поклонников четверостиший Омара Хайяма. До конца XIX столетия перевод Фицджеральда выдержал 25 изданий. Феноменальный случай в издательской практике прошлого века! Несомненно, большую роль в успехе книги сыграл талант английского стихотворца. Забегая вперед, скажем, что Хайяма потом будут переводить многие литераторы, в том числе известные поэты. Хотелось бы, однако, заметить, что до Фицджеральда Хайяма пытался переводить на немецкий язык Хаммер-Пургшталь, опубликовавший 25 четверостиший, на французский — Гарсен де Тасси и другие. Но прошли они незамеченными. И можно повторить: именно Фицджеральд — первооткрыватель Хайяма-поэта, показавший всему миру замечательную личность. Однако надо сказать, что имя Хайяма в ряду других деятелей средневековья Ирана и Средней Азии упоминалось еще раньше. В Европе Хайяма знали уже в XVII столетии. О нем, как о поэте, упомянул Томас Хайд в своей «Истории религии древних персов», вышедшей в свет в 1700 году. Хайям-математик стал известен в 1742 году, когда Ж. Меерман в предисловии к своей книге по исчислению флюксий (математическому анализу) упомянул алгебраический трактат Хайяма.
Интересно, что в России Хайям-поэт и Хайям-математик долгое время считались двумя разными людьми. Возможно, путаница произошла по следующей веской причине. Во времена Хайяма свои труды ученые писали на арабском языке. Не был исключением в этом отношении и Хайям, который почти все свои работы написал именно на этом языке. Рубаи же не предназначались для широкой публики, писались для себя, в минуты раздумий, и, конечно, выливались на бумагу на родном языке. Далее они получали распространение среди близких друзей поэта, также говорящих на персидском. Вот так и случилось, что в книгах, написанных на арабском языке (языке ученых), о нем говорят исключительно как о математике. Персидские же источники упоминают о нем и как о поэте.
…Итак, благодаря Фицджеральду Хайям был открыт для европейского читателя. И занял свое место в созвездии таких имен, как Фирдоуси, Саади, Хафиз… Затем популярность его в Европе и Северной Америке стала даже значительно выше. Одновременно появился и закономерный исследовательский интерес к проблеме жизни и творчества Хайяма. Сразу же возникло немало вопросов. Многие не решены учеными и исследователями и по сей день. Кем же все-таки по своим взглядам, спрашивали востоковеды, был Хайям? Так ли прозрачны и ясны его рубаи, как кажутся с первого взгляда? Как следует трактовать отдельные его четверостишия? Все ли рубаи, приписываемые Хайяму, в действительности принадлежат ему? Нет ли в его наследии других жанров литературно-художественного творчества, кроме знаменитых четверостиший?
Появилось целое направление в персидском литературоведении — хайямоведение. Со временем возникли и конкурирующие группы, которые различным, иногда противоположным образом, трактовали и образ самого Хайяма, и его рубаи.
В суфийском духе, например, склонен был толковать рубаи Хайяма упоминавшийся В. А. Жуковский. Он считал Хайяма поэтом, стремящимся к царству вечного, светлого и прекрасного, глашатаем созерцательной жизни и теплой любви к богу. В таком же ключе задолго до Жуковского трактовал Хайяма французский его издатель Николя.
Некоторые ученые XX века — Свами Говинда Тиртха, К. Смирнов — были согласны с выводом Жуковского. В трактовке же иранского исследователя Мухаммада-Али Фуруги Хайям был прежде всего правоверным мусульманином, а затем уже суфием, притом суфием, этические и философские взгляды которого не выходили за рамки ортодоксального ислама.
Были и другие крайности. Ученые нынешнего столетия — А. Арберри, А. Кристенсен, Ф. Розен — декларировали совершенно иной подход к творчеству Хайяма. Они отказались от прежних оценок, доказывая при помощи собственных аргументов, что произведения поэта, за небольшим исключением, чужды мистике. Но у них Хайям превратился в безудержного гедониста, талантливого певца вина. Кстати, по поводу вина высказывается также немало противоречивых мнений. Есть много поводов полагать, что содержание этого слова у Хайяма исполнено чисто символического смысла. Сторонники второй точки зрения находили такие четверостишия, где, по их мнению, ни о каком суфийском подтексте не может быть и речи. Делался вывод: значит, и в остальных случаях вино у Хайяма выступает как материальная субстанция.
Советские ученые А.А. Болотников, С.Б. Морочник, М.И. Занд и другие указывали на ограниченность односторонней трактовки образа Хайяма. Однако некоторые из них, критикуя предвзятое отношение к творчеству поэта, порой сами допускали досадные упрощения и натяжки. Например, у С.Б. Морочника Хайям — сознательный атеист, материалист и богоборец. Такой подход, разумеется, тоже неверен. Искусственное притягивание фактов — не самый убедительный аргумент в споре. Отрицать мотивы фатализма, скепсиса в рубайяте Омара Хайяма — значит искажать его. Прав в определенной степени М.Н. Османов, утверждающий, что в четверостишиях Омара Хайяма немало противоречий. Однако прежде всего эти противоречия объясняются «различным толкованием исследователями его четверостиший».
В процессе изучения такой выдающейся личности, как Хайям, биографы и исследователи столкнулись с очень важной проблемой: как подтвердить действительное авторство приписываемых ему стихотворений? Проблема серьезная, и вот почему. Подсчитано, что Хайяму приписывалось около пяти тысяч рубаи, хотя ни одна из древних рукописей не содержала более 300—400 четверостиший. Где же тот ясный и четкий критерий, который помог бы безошибочно определить истинно хайямовские четверостишия? Не существует ли прижизненного автографа хайямовских рубаи? Эти вопросы не давали исследователям покоя. И если споры вокруг первого то затухали, то разгорались вновь, обстановка вокруг второй характеризовалась порой полнейшим штилем. Каждая новая работа, выдвигавшая ту или иную версию, вызывала новую волну споров и дискуссий.
Как только не изощрялись ученые в остроумных догадках, прибегая к различным научным приемам, чтобы определить авторство «странствующих четверостиший» (термин, впервые употребленный Жуковским), приписываемых традицией то Хайяму, а то другим известным поэтам или анонимных. Поиск растянулся на многие десятки лет.
Одновременно с художественным переводом четверостиший Хайяма началось научное издание текстов рубайята. Одним из лучших стало парижское издание Ф. Николя 1867 года. Однако в вышедшей через тридцать лет работе В. Жуковского «Омар Хайям и странствующие четверостишия» он показывает, что из 464 рубаи парижского издания Николя 82 приписываются тридцати девяти другим поэтам, жившим позднее Хайяма. Вот эти-то рубаи он и назвал «странствующими». Затем были опубликованы труды англичанина Денисона Росса и датского ираниста Артура Кристенсена, в которых они сообщали о 108 найденных ими «странствующих» четверостишиях. Жуковский предложил считать подлинными только те рубаи, которые относят к Хайяму древнейшие исторические сочинения. Таких рубаи он насчитал всего шесть, которые нашел в сочинениях авторов XIII—XIV веков.
В 1904 году Кристенсен публично объявил о своем новом взгляде на поэтическое наследие Хайяма. В традиции персидской поэзии, заявил он, в тексте той или иной поэтической жанровой формы входило обыкновение указывать имя автора. Поэтому надо искать четверостишия, содержащие имя Хайяма. Таких четверостиший он сам обнаружил только двенадцать. Многочисленных поклонников поэзии Хайяма подобный принцип отбора не убедил. Да и логика возражала против столь суженного подхода. В конце концов традиции традициями, но ведь и они не канонизированы жесткими правилами, тем более в отношении рубаи, не всегда и не все персидские поэты придерживались их. Поэтому-то очень быстро концепция Кристенсена потеряла многих своих приверженцев.
Новый шаг в хайямоведении был сделан спустя два десятилетия. В 1925 году немецкий востоковед Ф. Розен в Берлине опубликовал рукопись, содержавшую 329 четверостиший. Он критически подошел к методу определения подлинности текста, разработанного Жуковским. Последний предлагал не считать принадлежащими Хайяму все без исключения «странствующие» четверостишия. Розен же справедливо заметил, что приписывание произведений одного автора другому может быть двухстороннее. Если Омару Хайяму приписывались чужие четверостишия, то и его собственные не избежали, возможно, той же участи. Он показал, например, что Жуковский ошибался, приписывая Талибу Амули, умершему в 1626 году, два рубаи. Эти четверостишия имеются в рукописи Хайяма, хранящейся в Бодлеянской библиотеке Оксфордского университета и датированной 1460 годом, то есть были написаны по крайней мере за полтора века до смерти Амули.
Вклад Ф. Розена важен тем, что он показал: не следует отнимать авторство Хайяма у всех «странствующих» четверостиший; к проблеме атрибутики следует подходить с учетом текста древнейших рукописей. Он предложил считать подлинными шесть рубаи с упоминанием имени Хайяма (определенные Кристенсеном) и шесть других, которые приписываются Хайяму в древнейших исторических сочинениях. После тщательного отбора к этим четверостишиям он прибавил еще тринадцать из рукописи 1341 года «Мунис аль-ахрар». Но поскольку два из них повторялись, то прибавилось всего одиннадцать. Вот эти 23 рубаи и должны были стать, по мнению Ф. Розена, пробным камнем, тем оселком, с которого следует приступать к изучению творческого наследия великого персидского поэта. Однако, несмотря на несомненные достоинства этого метода, его можно принять все же лишь условно, так как при определении стиля, идей и образов не существует твердого объективного критерия, приемлемого для всех исследователей.
Поиски не прекращались. Выдвигались новые и новые идеи. Через двадцать три года после своей первой публикации вновь возвращается к проблеме установления подлинного поэтического наследия Омара Хайяма А. Кристенсен. На этот раз датский ученый положил в основу исследования сличение шестнадцати самых древних из известных рукописей: Оксфордского университета (Бодлеянской библиотеки), Британского музея, Национальной библиотеки (Париж), Берлинской библиотеки, а также двух изданий: калькуттского и Ф. Розена. Выводы на этот раз были более оптимистичные. Подлинными исследователь назвал те рубаи, которые приводились несколькими древнейшими, наиболее авторитетными рукописями. В результате ученый получил 121 рубаи. Как признавали ориенталисты, научная база Кристенсена на этот раз выглядела более солидно.
Венгерский ученый-ориенталист Б. Силлик в тридцатых годах нашего столетия опубликовал несколько работ, посвященных описанию рукописей Национальной библиотеки в Париже. Ему удалось обнаружить сборник литературно-художественных произведений ряда средневековых авторов. Антология датирована 1448 годом. Здесь он нашел 56 рубаи Хайяма. Однако Силлик не предложил конкретного метода критики текста.
В 1936—1937 годах немецкий востоковед Христиан Ремпис публикует новые исследования, посвященные проблеме поэтического наследия Омара Хайяма. Все четверостишия, приписываемые Хайяму, он сгруппировал по времени их упоминания в источниках или рукописях. В первой группе оказались рубаи, датированные от 1122 до 1220 года, во второй — от 1221 до 1315-го, в третьей — от 1316 до 1410-го, в четвертой — от 1411 до 1505-го, в пятой — от 1506 до 1600-го. Для каждой из групп он вводит систему баллов. Чем дальше отстоит то или иное рубаи, упоминаемое в рукописях от времени, в котором жил и творил Хайям, тем меньшее количество очков оно получает. Таким образом Ремпис отобрал 255 рубаи, но затем счел целесообразным добавить к ним еще 47 близких по духу.
Индийский филолог и ориенталист Свами Говинда Тиртха, решив на деле испробовать прочность теории Ремписа, подверг такому тестированию все приписываемые Хайяму рубаи, и оказалось, что к тем 302 четверостишиям, которые отобрал Ремпис, следует еще как минимум прибавить 402. Сам Тиртха в 1941 году опубликовал работу — одну из лучших в истории хайямоведения, — в которой как бы подытожил исследования ученых о Хайяме. Он приводит более тысячи рубаи с подробным указанием источников, в которых они встречаются.
Через год на родине Хайяму выходит работа известного иранского ученого Мухаммада-Али Фуруги с текстом четверостиший Хайяма. Его концепция путей определения истинных рубаи Хайяма развивает отдельные положения В. Жуковского и Ф. Розена. Фуруги берег только те источники, которые датируются ранее конца XIV века, то есть до Хафиза Ширази, умершего, как принято считать, в 1389 году. Проанализировав путем проверок, сопоставлений сотни четверостиший, он отобрал 66. Мог ли Хайям, проживший 83 года, оставить после себя всего шесть с небольшим десятков рубаи? К 66 отобранным четверостишиям Фуруги прибавил еще 112, близких по духу и стилю, и составил сборник из 178 четверостиший. Но если с первыми 66 рубаи можно согласиться и принять их за подлинно хайямовские, то, что касается второй части отобранных ученым четверостиший, они вызывают сомнения. Дело в том, что при отборе Фуруги руководствовался собственным литературным вкусом и интуицией. Это неизбежно должно было привести к субъективизму в оценках. Но тем не менее специалисты считают, что от этого метода исследования не следует отмахиваться. Дело в том, что традиционное воспитание литераторов и литературоведов в Иране, как и во многих других странах Востока, включает в себя заучивание наизусть с детства огромного количества стихов. Образованный поэт или филолог порой знает на память не менее 25 тысяч бейтов (двустиший). Такой запас информации дает возможность выносить интуитивное, но порой действительно верное суждение об авторской принадлежности того или иного текста. Однако понятно, что безусловно гарантировать достоверность полученных результатов этот метод не может.
В последнее время появились мнения о том, что существует серьезное препятствие, мешающее установить подлинность хайямовских текстов. Несколько пессимистическое утверждение основывается на следующих фактах. Одна из вспомогательных дисциплин современного литературоведения — текстология — широко использует для атрибуции текстов сравнительные и статистические методы. С этой целью составляются специальные словники сравнительных текстов, частотные словари, устанавливается процентное содержание в текстах ключевых слов, словосочетаний, образных выражений. Но все это при достаточно большом объеме как подлинного текста, так и текста, вызывающего сомнения. Для установления авторства приписываемых Хайяму рубаи этот метод применить нельзя, так как объем четверостишия слишком мал, чтобы проводить статистические подсчеты и сопоставления.
А может быть, Хайям и в самом деле не писал рубаи? Ведь так и не обнаружен свод четверостиший, который был бы написан его рукой. Вопрос не оригинален. Однако уже то, что «на страже интересов» Хайяма стоят многочисленные древние источники, отвергает все сомнения на этот счет. Другое дело, что, может быть, поэт не записывал рубаи и не систематизировал их. В этой связи хотелось бы привести суждение известного советского востоковеда, члена-корреспондента АН СССР Е.Э. Бертельса: «Внимательный читатель (Хайяма. — Авт.) не может не заметить, что среди рубаи значительное число трактует одну и ту же тему. Мы находим как бы «пучки» четверостиший, очень близких по содержанию и различающихся лишь мелкими деталями. Нам кажется, что одна гипотеза могла бы легко объяснить эту особенность четверостиший Хайяма. Известно, в какой трудной обстановке протекала вся его деятельность. Если даже «спокойные» историки писали о его стихах, что это «ядовитые змеи, жалящие шариат», то понятно, какой опасности он подвергался со стороны фанатичных богословов. Хайям, конечно, не мог и помышлять о собирании и распространении своих стихов… Возможно, что он писал их на клочках, обрывках бумаги, и, когда у него собиралась небольшая группа ученых, его единомышленников, Хайям в беседе за кубком вина читал им свои последние творения. Представим себе, что пять друзей Хайяма, придя домой, записали услышанные ими стихи, каждый с небольшими отклонениями, с заменой того или иного слова. Так возникло бы минимум шесть вариантов четверостишия, которые позднее, при собирании их, принимали за отдельные стихотворения. Число вариантов увеличивалось и при переписке рукописей».
Тогда, может быть, вообще нет смысла в поисках? Не грозит ли ученым переход к откровенной схоластике? Поднять завесу таинственности помогут лишь новые находки, бесспорные методы исследования.
Пока одни ученые спорят об атрибуции того или иного четверостишия, другие задумались над таким удивительным парадоксом: четверостишия Хайяма, известные и любимые людьми во всем мире, не были в свое время столь популярны у себя на родине. Хайяму не отдавалось предпочтения перед другими авторами, он даже не стоял в одном ряду с такими гигантами поэзии Ирана и Средней Азии, как Фирдоуси, Саади, Хафиз. Чем это объяснить?
На наш взгляд, вполне естественным могло бы быть такое объяснение. Особенность Хайяма в том, что он писал стихи не для услады слуха своих высокопоставленных покровителей, не для денег. Они выливались, может быть, в минуты тяжелых раздумий, в состоянии творческой неудовлетворенности или, наоборот, когда мир казался радостным и светлым. Здесь хотелось бы подчеркнуть слово «выливались». В результате появлялись лаконичные, понятные, порой удивительно мелодичные строки. Они как бы оголены и предстают перед читателем в форме прямо выраженной мысли.
Персидская каноническая поэзия жила в то время другим. Больше почитались и ценились те поэты, кто умел создавать новые образы, по-персидски «маани». Однако смысл понятий «образ» в европейской поэтике и «маани» в персидской не тождественны. Вот что говорит по этому поводу М.Н. Османов: «В европейской поэтике образом называют применение различных средств поэтической выразительности. Можно, например, уподобить красавицу — розе, стан красавицы — кипарису, и тогда роза станет образом красавицы, кипарис — образом стройного стана. Созданный одним поэтом, этот образ при повторении теряет оригинальность, может превратиться в литературный штамп. В персидской поэзии все по-иному: в стихотворениях каждого поэта десятки раз встречаются „розы“ и „кипарисы“, но там они служат лишь своего рода основой образа, которая превращается в подлинный образ (маани) только с помощью привлечения новых стилистических и поэтических средств, установления новых семантических связей. Эти многочисленные вариации на одну и ту же тему-первооснову составляют одну из характерных черт персидской поэзии». У Хайяма же высокая художественность достигается в общем-то за счет приема контрастности, неожиданных сюжетных поворотов в тексте. Вот почему официальная персидская литературная традиция долгое время не решалась включать Хайяма в ряд выдающихся мастеров художественного слова.
Это основная причина. Другая, не менее важная, заключается в том, что у Хайяма форма рубаи является основной формой творчества. Рубаи, как главная жанровая форма, не встречается ни у кого из персидских поэтов, кроме Хайяма. Это понятно. Для создания новых художественных образов — маани — четырех строк слишком мало. В рубаи, разумеется, не может быть эпического начала, в этой форме невозможны детальные описания, психологическая детализация. Персидская лирика X—XI веков, из недр которой выросло творчество Хайяма, в основном развивалась в двух жанровых формах: касыда (панегирик) и газель (любовно-лирическое стихотворение).
В форме рубаи писали преимущественно лирические или философские стихи, хотя, впрочем, изредка встречаются рубаи даже панегирического характера. Однако все же эта жанровая форма больше тяготеет к стихам философского плана, потому что даже интимно-лирические рубаи проникнуты у поэтов определенным философским настроением. Жесткие рамки рубаи требуют от поэта высокого мастерства и таланта. Избрав этот жанр, Хайям остался в нем непревзойденным. Значение Омара Хайяма в мировой поэзии и в истории человеческой культуры заключается прежде всего в том, что он создал литературный и в более широком смысле интеллектуальный образец глубокого содержания, вложенного в предельно жесткие рамки поэтической формы. И может быть, даже более того: Омар Хайям в лучших своих рубаи создал или сформулировал образец, модель специфического стиля мышления в образах — модель, которая пережила века и оказалась вдруг столь нужной и знакомой для человека XX века.
В предлагаемой читателям книге авторы попытались в максимальной степени обобщить то, что известно об Омаре Хайяме — ученом, поэте, человеке. Выбор приводимых в ней четверостиший поэта определялся несколькими критериями. Прежде всего отбирались рубаи, которые могли быть хронологически связаны с теми или иными событиями в жизни Омара Хайяма или его временем. Во-вторых, особое внимание уделялось четверостишиям, связанным по духу с его философскими, математическими трактатами и другими прозаическими работами. Наконец, окончательный выбор рубаи обуславливался в соответствии с лингвистическим принципом, то есть когда литературоведы в целом не высказывались против принадлежности данного четверостишия перу Омара Хайяма.
Мы исходили из того, что Хайям — как личность и поэт — может быть понят только в контексте своего времени — бурного и жестокого, коварного и несентиментального. Омара Хайяма нельзя упрощать, нельзя подгонять под те или иные стандарты XX века, как бы это ни хотелось тем иди иным исследователям. Он родился и жил в контексте своего времени, но это не значит, конечно, что он стал рабом своего века. Хайям вырвался из него, и в то же время он так и остался сыном XI и XII веков.
Омар Хайям… Это имя будет волновать еще не одно грядущее поколение. Мир Хайяма, отраженный в его рубайяте, так же как и в его трудах по математике и астрономии, в его философских трактатах, — это мир мучительных вопросов и загадок, с которыми сталкивается каждый мыслящий человек и на которые каждый по-своему пытается найти ответ в течение своей жизни. И четыре строчки оказываются настолько емкими, что миллионы читателей на нашей планете находят свои повороты, свои нюансы мысли и чувства, думая и сопереживая вместе с Омаром Хайямом.
Глава I СТРАННАЯ ЖАЖДА ИСТИНЫ 1048—1068
Утром лица тюльпанов покрыты росой, И фиалки, намокнув, не блещут красой. Мне по сердцу еще не расцветшая роза, Чуть заметно подол приподнявшая свой. Был ли в самом начале у мира исток? Вот загадка, которую задал нам бог, Мудрецы толковали о ней, как хотели, — Ни один разгадать ее толком не смог. Сияли людям зори — и до нас! Текли дугою звезды — и до нас! В комочке праха сером, под ногою, Ты раздавил сиявший юный глаз.У творческих личностей рано пробуждается внимание к собственной внутренней жизни. Родители поощряют или, во всяком случае, не противодействуют проявлению необычных способностей и умений. В детстве этим людям предоставлялась большая независимость, чем сверстникам. У них не было ни слишком тесных, ни чересчур отчужденных отношений с родителями.
Четвертые сутки мучается в предродовых схватках Фатима — жена палаточника Ибрагима, и все это время мастер, не смыкая глаз, ходит возле дома. Иссохшие губы машинально повторяют: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — пророк его». Заостренные черты лица, впавшие глазницы — все говорит и о том еще, что мастер долгое время не прикасается к пище. До нее ли сейчас!
В третий раз рожает его Фатима. И думы Ибрагима все время возвращаются к ней. Бедная женщина, неужели ее чрево проклято Аллахом. Нет, не хочется верить. Все есть у Ибрагима: ремесло, столь же доходное, сколь и редкое, уважение людей в благословенном Нишапуре, глинобитный дом, правда, старый, который Ибрагим поклялся перестроить после рождения первого ребенка; мастерская и даже завистники и враги есть, как у всякого нормального преуспевающего человека. Одним обделил Всевышний: не познал еще уважаемый в Нишапуре мастер радости отцовства. А ведь ему уже пятый десяток лет. Мертворожденными появились на свет два предыдущих ребенка.
Ничего не говорил Ибрагим жене, только все глубже становилась морщина на переносице. Исхудала и прежде времени старела Фатима (по возрасту значительно моложе), чувствуя возрастающую с годами тоску мужа. И когда третий раз в ее чреве зашевелился ребенок, часто со слезами просыпалась она ночами, со страхом прислушиваясь: бьется ли его сердце…
И вот идут четвертые сутки родов…
У Ибрагима, кроме дома и мастерской, есть большой двор с садом, через который протекает прохладный арык. Такой двор у ремесленника, даже у богатого, встречается не часто. В Нишапуре, стоящем у подножия каменных холмов, плодородной земли немного. И достается она в основном людям состоятельным и родовитым, которые строят на ней дорогие дома, разбивают прохладные сады с ланями и павлинами. А бедному люду приходится осваивать предгорья.
Тому, на чьем столе надтреснутый кувшин Со свежею водой и только хлеб один, Увы, приходится пред тем, кто ниже, гнуться Иль называть того, кто равен, «господин».Ибрагим знает старика, который с четырьмя своими сыновьями целый год на склоне горы расчищал площадку от камней, долбил скалу, завозил туда землю. И таких искусственных пашен в окрестностях Нишапура немало. Благо воды, текущей с гор, пока хватает всем. Поэтому и селений рядом больше, и растительность гуще, чем в других частях Хорасана.
Не такой уж богатый Ибрагим, чтобы тягаться с купцами. Но живет все-таки в долине, на самой настоящей земле. И «повинны» в этом скорее всего его предки. Они оставили ему в наследство завидную профессию. Палатки нужны всем. Особенно торговцам, которые и в зимнюю стужу, и в палящий зной большую часть своей жизни проводят на базаре. В Нишапуре он находится в раба-де и с давних пор называется Большой четырехугольной площадью.
Вот тут-то и находится самая большая гордость Ибрагима. Дело в том, что вся площадь обтянута куполом — чарсу, — который он изготовил по заказу городского управителя-раиса Абу Али аль Хасана ибн Мухаммада ибн аль Аббаса Микали, потратившего на благоустройство базаров ни много ни мало собственных сто тысяч динаров. После выполнения столь выгодного заказа и удалось Ибрагиму приобрести двор.
В другое время в эту пору он с удовольствием бы выкроил час-два после напряженного дня, чтобы с удовольствием растянуться на супе и послушать голоса птиц в наступающих сумерках, насладиться пряно-острым запахом набухающих почек фиговых и ореховых деревьев, финиковой пальмы. Все-таки жил в душе Ибрагима его далекий предок, который наверняка был земледельцем. И если тот сеял ячмень — хлеб бедняков, лен или пшеницу, то слабость мастера — финики, грецкий орех, виноград…
Предки… Это слово вызвало воспоминания об отце, обоих дедах, живших при Саманидах. Хорошо запомнил Ибрагим деда по матери, его рассказы о своей жизни. Тот застал время, когда царство рода Саманидов было цветущим и богатым. Кого только нельзя было встретить на базарах Нишапура. Рассказы деда были столь красочными, что навсегда запечатлелись в детской голове.
Вот прибыли со своим товаром толстые византийцы в парчовых одеждах. К ним подходит богатый покупатель и просит открыть шкатулки. В мгновенье они распахиваются, и богач с нескрываемым изумлением делает невольный шаг назад. Он жмурит глаза. Им больно от вспыхнувшего огня красок. Неописуемой красоты ювелирные изделия тончайшей работы рассыпаются перед ним. Здесь золотые браслеты с изумрудными вкраплениями, ожерелья из жемчуга, эмаль — выемчатая и перегородчатая… А вот бледнолицые русы из далекой северной страны. Они привезли янтарный мед в бочках, пушистые меха.
Торговля идет бойко. Пожилой киприот и стоящий рядом его молодой напарник продают крупному землевладельцу-дихкану шкатулку из слоновой кости. Ему нравится вещь, и денег при себе столько, что мог бы купить всю палатку вместе с ее хозяевами. Но базар тем и привлекает, что здесь другие законы. И весь интерес в том, что можно торговаться. Презрительно усмехнувшись, он ставит вещицу назад. Начинается торг. Все трое машут руками, кричат по-персидски, по-гречески. Вскоре сделка заключается взаимным согласием.
Но семье деда Ибрагима, простого ремесленника, жилось далеко не сладко. Жадность государя и его приближенных не имела границ. В казну текли новые и новые поступления, которые собирались с народа в виде самых разных налогов. Где же правда? Почему одни бедные, другие богатые?
Ждите пришествия седьмого пророка — махди, который восстановит справедливость на этой земле, учили основатели карматского движения, а пока земли — общинам, всем — равенство во всем. Девиз карматов привлек под знамена этой секты многих, в том числе и деда Ибрагима. Эмир Нух жестоко расправился с ними, но деду удалось избежать казни.
Но время Саманидов было на исходе. Некогда мощное государство, превратившееся к своему закату в колосса на глиняных ногах, падает под ударами тюрков. Ах, знали бы высокомерные Саманиды, какую роль сыграет в будущем их воин-раб, гулям, как презрительно они его называли, Алп-Тегин! Привыкшие жить под знаком покровителя торговли Меркурия, купаясь в роскоши и неге своих дворцов и тенистых садов, последние Саманиды военное дело отдали на попечение наемных людей. Оружием те быстро наживали себе богатства и уже, в свою очередь, начинали снисходительно поглядывать на властителей одряхлевшей династии.
Лишь после того, как презрение и ненависть стали выражаться все более открыто, Саманиды, хоть и поздно, спохватились. Полководец тюркской гвардии Алп-Тегин, почувствовав сгущающиеся тучи, бежал с преданными друзьями и соратниками через Гиндукуш в Газну. Здесь он и сменивший его затем Себук-Тегин выжидали, внимательно следя за дряхлеющим государством Саманидов, исподволь готовя себя к войне с ними и расширяя свои владения пока за счет других территорий.
И час их грянул. Воспользовавшись нападением караханидов, сменивший к тому времени Себук-Тегина его сын Махмуд в числе других земель некогда мощного Саманидского царства захватывает и Хорасан.
Мой совет: будь хмельным и влюбленным всегда. Быть сановным и важным — не стоит труда. Не нужны всемогущему господу богу Ни усы твои, друг, ни моя борода!Ибрагиму отчетливо представился смеющийся отец. Так смеялся он всегда, рассказывая невероятные истории из своей жизни. Но самым нелепым посчитал он желание сына участвовать в одном из семнадцати походов на Индию и Хорезм Махмуда Газнийского. Смеялся не он один — вся округа. Надо же! Сын потомственных мастеров решил сменить иглу на меч! Хотя кто знает еще… Может, кое-кто из смеявшихся и был в душе согласен с Ибрагимом.
Время неспокойное. Налоги стали вдвое тяжелее. И, помимо обычных, стали взиматься «чрезвычайные» налоги, например, на сбрую для коней, которые «будут участвовать в священной войне против идолопоклонников». Это означало, что Махмуд в очередной раз собирается грабить Индию и ему нужны деньги. Среди людей ходили разговоры, что в прошлый раз, возвратясь с победой, султан привез большую добычу: 20 миллионов дирхемов денег и драгоценностей, 57 тысяч рабов, 350 слонов. Чтобы содержать армию, нужны были большие средства.
А на дорогах орудовали разбойники. И торговля была в упадке. Как не поддаться соблазну и не встать под зеленое знамя ислама? Тем более что это сулит немалые выгоды. Кому? На этот вопрос Ибрагим ответит через шесть месяцев
Продав кое-что из пожитков, палаточник купил резвую лошадку. Однако Ибрагим был расчетлив и решил не сворачивать окончательно своих дел. Дом и мастерскую оставил на присмотр отцу. Жену поручил матери. И с именем Аллаха тронулся в путь.
Путь от Нишапура до Газны не близок. Но вот наконец на рассвете показались ворота столицы газневидского государства. Вопросов задавали мало. Правоверный ли мусульманин? Готов ли служить Махмуду и участвовать в священной войне против язычников и идолопоклонников? Умеет ли владеть оружием?
Кого только потом не встретил в армии Махмуда Ибрагим. Было много хорасанцев, которых палаточнику иногда приходилось видеть на базарах, были молчаливые пуштуны и разговорчивые арабы, узкоглазые кочевники и даже черные как ночь эфиопы. Верховодили всеми тюрки. Во главе каждого отряда стоял воин из родного племени Махмуда. Они требовали беспрекословного послушания, и поэтому дисциплина была отменная. Однажды Ибрагим видел, как два тюрка избивают хорасанца, осмелившегося пожаловаться, что его лошади дали вечером недостаточно корма. Правда, такие случаи были редки. Каждый воин прекрасно знал отмеренную ему линию жизненного пространства и что следует говорить, а о чем надо промолчать. Даже особо прыткие новички вроде того злополучного хорасанца уже через неделю твердо держали язык за зубами.
О Махмуде говорили, что он очень набожный. Подтверждением тому были возведенные им в Газне великолепные медресе и мечети. Постройки действительно были замечательные. В медресе обучались молодые богословы, изучавшие не только священную книгу и многочисленные комментарии к ней, но и работы древних философов.
«Нет, этот человек не богобоязнен и его отношение к Аллаху не искренне», — подумал Ибрагим, впервые увидев Махмуда. Знал бы палаточник, как он прав! Бессонными ночами вымаливал прощение у Аллаха Махмуд Газнийский, султан огромного подлунного мусульманского мира. Что только не совершал он с именем бога! Убивал, насиловал, грабил до последней нитки и облагал непосильными поборами покоренные народы.
Да, жил в Махмуде страх перед богом, но не тот, который должен быть у каждого мусульманина. В нем существовал самый низменный, плотский страх. Он не сомневался, что после смерти в загробной жизни будет вечно гореть в адском огне. Уже не сомневался: Аллах, давший ему мощь, власть и силу, испытывает его. А он с его именем творит зло. От этой глубокой внутренней пропасти он становился еще более груб, жесток и решителен. В уголках его крупного рта навсегда осталась презрительная складка. Весь его облик противоречив. На крупной царственной голове были посажены маленькие бегающие глаза. Небольшой приплюснутый нос, начинавшие расти прямо со лба черные жесткие волосы говорили о том, что этот человек готов на все ради достижения цели.
Сказал ему как-то шейх стих Корана: «Знают явное они в жизни ближайшей, а к будущей беспечны», на что Махмуд спокойно ответил: «Я знаю, ты не хочешь сказать, что это относится ко мне. Посмотри, ведь вся моя жизнь — это служение делу величайшего из величайших пророков. Не будешь ты и отрицать, что в мое царствование наша истинная вера окрепла и стала могущественнее. Идолопоклонники и язычники, пребывавшие во тьме, ощутили в своих сердцах свет истины. Я мусульманин-суннит из числа благовернейших людей Сунны, но в моей армии найдешь мусульман всех толков: каких угодно шиитов, суннитов, шафиитов и ханбалитов. И заметь: они не враждуют, объединенные под одним знаменем. Богатства, которые я привожу из походов, не обогащают меня (я не стремлюсь к „жизни ближайшей“), идут на содержание армии и строительство мечетей. Если наследник будет достойным продолжателем дела, я умру со спокойной совестью».
Явно кривил душой Махмуд, говоря о ненужных ему богатствах. Увы, какие бы предлоги ни приводились, грабеж продолжался. Столицу газневидского государства стали даже называть «складом Индии». Собравшийся в поход палаточник внимательно присматривался к окружавшим его людям и обстановке. К чести Махмуда, воины были вооружены хорошо. Почти у каждого был конь. Палаточнику выдали три десятка стрел, меч острый как бритва.
…Поход в Индию и на этот раз был удачным. Возвращались с большими богатствами. Навьюченные слоны везли золото, драгоценности, ткани. Вели пленных воинов-индийцев. Некоторые из них, ослабленные переходом, болезнями и еще больше тоской по родине и неизвестностью, которая их ждала, бросались в пропасть. Но живые трофеи тоже были ценностью, и Махмуд приказал их связать. На это были причины. Проводимая им линия укрепления государственной земельной собственности требовала рабочих рук. Труд рабов был самым дешевым. Именно за эту политику ненавидели его местные крупные землевладельцы, у которых изымались части наделов. Но умный Махмуд не собирался иметь лишних врагов. И временами одаривал их подарками в виде тех же рабов.
Ибрагим, когда ему дали его долю добытых в походе богатств, удивился: такая малость! Впрочем, ничуть не больше получили и остальные рядовые воины. Те, впрочем, обрадовались: их не приученным к достатку семьям хватит надолго. Воинам-тюркам досталось вдвое больше. Рассуждать же о том, какова доля в добыче военачальников, было строжайше запрещено. Нет, сказал себе тогда палаточник, ремесло надежней удачи!
…Дома его ждали высохшая от горя мать и испуганная жена. Денег хватило только на то, чтобы выполнить все положенные по мусульманским обычаям обряды по случаю смерти отца. Совершив молитву, Ибрагим приступил к восстановлению хозяйства.
Ты знаешь, почему в передрассветный час Петух свой скорбный клич бросает столько раз? Он в зеркале зари увидеть понуждает, Что ночь — еще одна — прошла тайком от нас.Шло время. Стирались в памяти старые горести. Река жизни укрывала своими волнами радости и неудачи. В страшных конвульсиях от привезенной из Индии болезни умирает Махмуд. Заменивший его на престоле старший сын Масуд не пользуется уважением даже у своих военачальников. Многие важные государственные решения он принимает не по здравому смыслу, а но настроению. Его любимым занятием было услаждать себя танцами рабынь, созерцать свое изнеженное белое тело, говорить о мнимых болезнях, жаловаться на неблагодарных подчиненных. Он был полон самых разных пороков. Люди говорили, что временами этот государь переодевается и бродит по улицам и базарам в поисках красивых мальчиков.
Да, Масуд не был похож на отца. И теперь, не чувствуя крепкой руки, все чаще случаются раздоры среди военачальников. Дисциплина в армии падает. Землевладельцы-дихкане требуют возврата своих угодий. Растет недовольство среди простого люда. Как ни был далек от всего этого Масуд, он все же чувствует грозящую ему опасность.
…Ранним утром к дворцу в Газне подъехал отряд всадников. Необычные высокие лохматые шапки на головах, пыльные лица говорили о том, что они проделали большой путь. Вожди попросили встречи с султаном.
— Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Я Чагры-бек Дауд, внук Сельджука, происхожу из племени кынык, — сказал один. — Мы, кочевники, обладаем несметными табунами коней, огромными стадами овец и коз. Никто из нас не знает их точное число. Но есть одно особое стадо. Оно небольшое. И там выращиваются кони чистейших кровей, лучшие в мире. Специально для тебя отобрали лучших скакунов. Прими их.
Твой отец знал нас, и мы ладили с ним. Сейчас на севере твоего государства кочует немало племен, подобных нашему, и я знаю, какие неприятности они тебе приносят. Их набеги бывают хуже саранчи. Когда я слышу их дикие вопли, раздающиеся после очередного похода на твои земли, вспоминаю твоего отца и дружбу с ним: он бы такого не допустил. Я разговаривал об этом с моим братом Тогрул-беком Мухаммедом.
Кочевник откашлялся. По поводу дружбы с Махмудом он сильно преувеличил. Но Масуд тоже об этом знал. Впрочем, в дипломатии принято преувеличивать.
— Наше племя разрослось. Нужны новые кочевья. Если ты предоставишь земли в районе Мерва, Серахса, Абиверда и Нисы, мы готовы за это нести тебе службу и охранять твое государство от нападения врагов.
Соблазн для Масуда был большой. Теперь он мог бы снять свои войска с северных границ, недешево обходившиеся в эти трудные времена, С другой стороны, надежен ли союзник? Не прячет ли он за улыбкой меч? Можно ли ему доверять? Но вправду говорится: когда олень свою самку ищет, он и на рожок идет. Складывающиеся обстоятельства внутри государства не оставляли возможностей для выбора. И потом… Кое-кого всегда можно припугнуть своими новыми друзьями. Масуду уже казалось, что он хитрый и дальновидный политик.
Не прошло и трех лет после этого разговора, и время показало, как жестоко просчитался султан. В 1037 году Мерв перешел в руки Чагры-бека, а в 1038 году Тогрул взял Нишапур. И хотя в следующих затем сражениях сельджуки не раз терпели поражение, тем не менее поход к Мерву в 1040 году под личным предводительством Масуда закончился сокрушительным поражением газнийского султана.
Но Масуд не отказался окончательно от надежды снова вернуть себе богатый Хорасан. Сына своего Маудуда он оставил в Балхе, а сам отправился в Индию, чтобы набрать новое большое войско против кочевников-сельджуков.
Но частые поражения султанских войск посеяли еще большее недовольство и недоверие среди его тюркских эмиров. Едва перешагнув границы Индии, часть войск восстала, освободила от оков его брата Мухаммеда, которого Масуд всюду возил за собой. Между мятежниками и оставшимися верными султану войсками произошло сражение, где первые победили и взяли в плен Масуда. Его засадили в крепости, а через год бросили в колодец и забросали камнями.
Вчера на кровлю шахского дворца Сел ворон. Череп шаха-гордеца Держал в когтях и спрашивал: «…Где трубы? Трубите шаху славу без конца!»«Да, неспокойное время сейчас, — думает Ибрагим. — Говорят, селения Исфаханского оазиса, это плодороднейшее место обитаемой четверти, сельджуки сровняли с землей, а люди разбежались куда глаза глядят. Никто не знает, что завтра сделает Тогрул-бек. Сегодня он ласков и приветлив с землевладельцами, купцами, имамами и шейхами. А что будет завтра? Но, с другой стороны, — продолжает размышлять палаточник, — я хоть и незнаком с науками, но вижу, что имам и купцы нужны Тогрул-беку для поддержки; да и сам бы он не прочь поторговать. А чего бояться нам, мастеровым? Ведь, в сущности, торговля, к которой так рвется наш новый государь, не может и дня прожить без ремесленников. С другой стороны, будет торговля — будет и ремесло. Нет… Новая власть — она получше той, что была. И самое главное, не так сильно мучают налоги. Хоть и не припеваючи, но жить можно».
В майский вечер хотелось думать только о хорошем.
…Крики и шум вернули его к жизни. Ибрагим открыл глаза. Оказалось, что незаметно для себя он крепко заснул. Коротка майская ночь: на востоке уже заалело восходящее солнце. Но что это за шум?
— Радуйся, мастер, у тебя появился сын!
Счастливым для Ибрагима выдался этот день — 18 мая 1048 года.
…Ни в одной исторической хронике того времени нет непосредственных сведений о точном годе рождения Омара Хайяма. Ни один из историков не упоминает день, когда он появился на свет. Аль-Бейхаки в «Дополнении к „Охранителям мудрости“ сообщает только, что Хайям „был из Нишапура и по рождению, и по родителям, и по предкам“. Историк Ахмад Татави в своей „Истории тысячи“ пишет, что „Омар родился в Нишапуре и что предки его также были нишапурцы“.
Аль-Бейхаки приводит также расположение небесных светил в момент рождения Хайяма. Учитывая, что он был знаком с родственниками Омара Хайяма, к его сообщению надо отнестись достаточно серьезно: «Его (Хайяма) гороскопом были Близнецы: Солнце и Меркурий были в 3-м градусе Близнецов, Меркурий был в соединении (с Солнцем), а Юпитер был по отношению к ним в тригональном аспекте».
Индийский исследователь Свами Говинда Тиртха, проанализировав геоцентрические долготы Меркурия и Юпитера по средневековым индийским таблицам эфемерид, пришел к выводу, что Хайям родился 18 мая 1048 года. Советский ученый Ш.Г. Шараф, проверив выводы Тиртхи, доказала, что между 1015—1054 годами Меркурий находился 17—18—19 мая в соединении с Солнцем только три раза — в 1022, 1035 и 1048 годах. Однако Юпитер удовлетворял условию тригонального аспекта только в 1048 году.
Из трех дат — 17, 18 и 19 мая наименее вероятной является дата 17 мая, когда разность геоцентрических долгот Солнца и Меркурия равна б градусам вместо 4 и 2 градусам 18 и 19 мая. Из двух последних дат точно соответствует указанной в гороскопе долготе Солнца 63 градуса дата 18 мая.
Кто в чаше Жизни капелькой блеснет — Ты или я? Блеснет и пропадет… А виночерпий Жизни — миллионы Лучистых брызг и пролил и прольет…Появление ребенка всегда радость в доме. А рождение сына и там, где его с таким нетерпением ждут, — это радость втройне. Ведь недаром каждый благочестивый мусульманин должен повторять: «Слава Аллаху, всевышнему и всемогущему, за то, что создал он меня мужчиной». Сын — это помощник отцу, надежная опора в старости, продолжатель его дела, услада матери. А если Аллах наградит мальчика ясной головой да посчастливится выучить его (деньги для этого Ибрагим стал копить заранее), кто знает, может статься, будет сын большим человеком. Как говорится, если старание велико, то и на камне трава вырастет. Поистине, Аллах велик. Говорят, жил лет двести назад правитель Хорасана, которого звали Абдаллах ибн Тахир. При нем доступ к науке был открыт каждому желающему. И очень хорошо жилось народу, особенно земледельцам, которых он называл кормильцами остального населения.
Так думал палаточник Ибрагим, шагая по пыльной улице Нишапура в сторону базара. Оставив новорожденного и его мать на попечение многочисленных повитух и услужливых соседок, он пошел туда, куда направился бы на его месте каждый уважающий себя нишапурец. Приятно сообщить знакомому купцу и ремесленнику о счастье, которое принесло ему сегодняшнее утро, пригласить в гости. Но самое главное, по заведенному издревле обычаю надо купить жене подарок. И не столько о традиции думал сейчас этот нишапурец. Он стал счастливым человеком, и сделала его таким любимая Фатима.
Базары находились в южном предместье Нишапура. Выйдя из ворот шахристана, Ибрагим увидел нищего дервиша. Он сидел на земле, раскачиваясь и что-то бормоча.
— Возьми это, подвижник Аллаха. У меня родился сын.
Ибрагим протянул ему дирхем. Веки суфия приоткрылись, и на палаточника несколько секунд незряче смотрели отрешенные глаза.
— Я узнал тебя. Ты палаточник Ибрагим. Тот самый, который ублажает свое тело жирной пищей на деньги, оскверненные грабежами и убийствами. Ты тянешь жилы из своих подручных. Ты обречен на съедение червей. И ты предлагаешь мне свою презренную монету? Прочь отсюда!
Ибрагим поспешно отступил. И долго еще слышал малопонятные ему проклятия дервиша, уже ступив на мощеную дорогу, вдоль которой начинались мелкие лавчонки и которая вела к главной базарной площади.
Так прекрасно начавшийся день грозил испортиться. Ибрагим был суеверен. Не есть ли это какое-нибудь нехорошее предзнаменование? Не станет ли сын смутьяном или неугодным богу человеком? Отойдя в сторону, Ибрагим совершил намаз.
И все-таки озаренное радостью утро сделало свое дело. Никогда не будет плохо человеку, если сам он не пожелает этого. А тем временем город оживал. Вот спешит к источнику разносчик воды. Влага доставляется в город по каналам, но они спрятаны глубоко под землей (число ступенек, по которым можно к ним добраться, доходит порой до сотни), и не каждый приезжий знает к этим каналам доступ. И даже если бы знал, то вряд ли бы попользовался, потому что к ним приставлены для охраны специальные люди. Впрочем, наверняка никому не взбредет в голову заниматься этим, когда каждая минута базарного времени в пятницу на вес золота. Уж лучше выложить звонкую монету за кружку прохладной воды.
Времени еще немного. Но спешат, как опоздавшие школяры на урок, погоняя своих ослов и верблюдов, купцы. Животные загружены тяжелыми тюками. Надо как можно быстрее занять самое бойкое и оживленное место и разложить товары так (мастерства для этого купцам не занимать), чтобы ни один покупатель не прошел равнодушно. Топот подкованных ослов перебивает блеяние и мычание домашнего скота. Скотоводы ведут на свой базар быков, баранов, козлов и всякую другую живность.
Начинают колдовать возле своих тандыров хлебопеки, разжигают огонь хозяева придорожных харчевен и караван-сараев. К полудню весь базар (Ибрагим как-то слышал от имама соборной мечети, что в Нишапуре 200 тысяч местных жителей, а сколько приезжих — один Аллах знает) захочет есть, поэтому еду надо готовить заранее и побольше. За недорогую плату можно будет приобрести горячую ячменную или тем, кто побогаче, пшеничную лепешку, миску рисовой или бобовой похлебки, жареное мясо — кебаб.
Ибрагиму не хотелось сегодня торопиться. Он шел к большой четырехугольной площади, центру базара, по пути прицениваясь к финикам, появившимся недавно новым сортам риса, с видом знатока пробуя его на вкус, грецким орехам…
Нишапур — город не из маленьких. Его окружность — один фарсанг. И большую часть занимает рабад — предместье. Чтобы обойти его и поздороваться с каждым купцом и ремесленником, не хватит и семи дней. Спохватившись, Ибрагим заторопился. Ему надо было туда, где разворачивалась основная торговля.
Базар… Попадая сюда, Ибрагим окунался в знакомую и дорогую стихию. Он знал, что любой купец выложит перед ним свои лучшие товары. И если в природе только семь цветов, то на нишапурском базаре их обнаружишь тысячи. Торговцы из Шираза, Казвина, Рея, Исфахана привезли ткани — шелковые, парчовые, шерстяные, из хлопка.
В ковровом ряду больше всех торговцев из Шираза и Рея. Говорят, что мастера из этих городов бросают готовые ковры на пыльную улицу и по ним каждый день проходят тысячи людей. Так добиваются они прочности и мягкости своих изделий, украшающих дома и дворцы. Но зато после, уже обработанные, ковры достигают такого совершенства, что правители соседних стран считают не зазорным дарить их друг другу. И правда, если долго смотреть на узоры, может закружиться голова.
Дороги от центра базарной площади расходятся по четырем направлениям: на восток, где находится соборная мечеть, на север, в шахристан, откуда пришел Ибрагим, на юг — к могилам потомков Хусейна. И везде по сторонам пути стоят караван-сараи и лавки. Самая оживленная дорога — западная, ведущая к малой четырехугольной площади. А недалеко от нее, на площади потомков Хусейна, высится великолепный дворец, возведенный еще Амром ион «Пейсом. Бок о бок со дворцом (о, злая шутка судьбы!) — построенная позже тюрьма.
Походив по базару, потолкавшись возле фокусников, которые забавляли народ ходьбой на длинных ходулях и извергаемым изо рта пламенем, Ибрагим двинулся к малой четырехугольной площади. Здесь ряды лавок напоминали о сказках «Тысячи и одной ночи»: купцы из Рея, Кашана и Исфахана с разнообразной поливной керамикой. Своим товаром они вытеснили местных соперников. И только у них брали нишапурцы посуду и плитки для облицовки куполов и фасадов, чаще всего голубоватого или бирюзового цвета.
Дальше шли ряды медников, золотошвеев, кожевников… Здесь можно было купить соху или плуг, мотыгу — что кому по достатку. Торговцы позвякивали медными блюдами и кувшинами. Блестела на солнце ярко начищенная бронза. Металлические зеркала отбрасывали в глубь лавок солнечные зайчики. Лежали и висели на крючках красочно расшитые тюбетейки и халаты, а неподалеку виднелись мягкие кожаные и сафьяновые сапоги. Но в этих рядах — будь только деньги! — легко было не только одеться с головы до ног, но и украситься: серьги, кольца, перстни, браслеты, пряжки и цепочки из золота и серебра могли привести в восхищение не только модников и модниц, но и людей вполне степенных. Чуть поодаль сидели купцы, продававшие изящные вещицы из слоновой кости и черного, как уголь, эбенового дерева.
Шум, крики, толчея, споры царили всюду, кроме рядов, где продавали пряности: перец имбирь, барбарис, гвоздику и десятки других названий растений, которые не знал даже Ибрагим. Седобородые старцы с удлиненными смуглыми лицами не гнались за покупателем, не заглядывали ему в глаза. Казалось, они знают какую-то тайну и не все — избранные — могут приобщиться к ней. Здесь палаточник купил цветочные эссенции и розовое масло. Возвратившись к ювелирам, он поторговался с молодым горбоносым иудеем в ермолке и, удачно сбавив на четверть запрошенную цену, купил понравившийся ему золотой перстень с гранатовым глазком.
Время приближалось к полудню. Все правоверные мусульмане устремились в восточную часть рабада, туда, где находилась соборная мечеть. Толпы идущих людей подняли столб пыля, который плотной стеной повис над базаром и всем предместьем. Среди направлявшихся на молебен людей Ибрагим видел знакомых купцов, ремесленников, дихкан. Многие уже знали о счастливом для Ибрагима событии. Сыпались поздравления, пожелания здравствования ребенку и матери.
— Через сорок дней всех приглашаю в дом на праздник, — отвечал радостный и счастливый отец.
Новорожденного могли видеть только самые близкие родственники и только лишь через сорок дней — все остальные. Существовало поверье, что это охраняет от дурного глаза и болезней. Суеверие, но больше страх за то, чтобы не загас этот едва блеснувший фитилек жизни, заставляли палаточника строго следовать традициям. Уже задолго до рождения ребенка он придумал ему имя — Омар, что означает «жизнь». О том, чтобы Аллах даровал малышу долгую счастливую жизнь, он просит целый день, а сейчас хотел молить о том же в священных стенах мечети.
Некоторые последователи религии пророка Мухаммада говорят, что необязательно ходить в мечеть: Аллах вездесущ, у истинно верующего он всегда в сердце. Для общения с ним не нужны храмы и пятикратные прилюдные моления — это рвение для толпы, обман, когда сердце на самом деле пусто. Один суфий сказал: «Я удивляюсь тем, кто странствует через пустыни и глухие места, чтобы найти дом Аллаха и святыню только из-за того, что там есть следы его пророка. Почему они не пройдутся по своим собственным стремлениям и страстям, чтобы обрести свои сердца, где есть следы Аллаха?» Такие слова Ибрагим услышал однажды от шейха, но старался не размышлять над ними. Другое удивительно: шейх говорил много иных, не менее умных слов, но они не запомнились, эти же, как он их ни отгонял, все время всплывали в памяти.
Главное здание, в котором находилась кафедра имама, было выстроено очень давно: миновало тому, наверное, около трехсот лет. Оно сооружено известным Абу Муслимом, тем самым Абу Муслимом, который способствовал падению нечестивой династии Омейядов и возвратил власть семье пророка, правда, не по прямой линии, а по ветви его дяди Аббаса. Позже мечеть достраивалась Амром ибн Лейсом.
Часть святого храма опиралась уже на круглые кирпичные колонны. По сторонам мечети выстроено три портика, в середине — прекрасный позолоченный купол с одиннадцатью воротами и с колоннами из разноцветного мрамора. Здесь же был высокий минарет, который возвел другой хорасанский правитель, Абдаллах ибн Тахир. Сравнивая эту мечеть с газнийской, которая была, конечно же, богаче и ярче, Ибрагим все же отдавал предпочтение своей. Между правителями мусульманской империи, предшественниками и потомками шло негласное соперничество по части архитектуры. Позже знаменитый сын нишапурца напишет: «Они горячо стремились к возведению зданий… и если царь возводил высокий дворец, город, селение, караван-сарай, крепость или проводил канал, и если строительство не заканчивалось в его время, его сын или преемник на троне державы после взятия дела мира в свои руки не обращал внимания ни на что, кроме окончания постройки здания, не достроенного прежним царем… Сын царя в этом отношении был еще более жаден, чем его отец».
Сей караван-сарай, где то и дело день Спешит, как гостя гость, сменить ночную тень, — Развалина хором, где шли пиры Джемшидов, Гробница, что дает Бахрамам спящим сень.Кого сейчас на молебне больше — суннитов или шиитов? Кто может сказать точно? Издревле Нишапур был центром шиитских сект и суфизма. Но пришел Махмуд, который перед каждым своим походом получал у халифа разрешение на ведение войны и благословение на «утверждение и установление чистого ислама среди неверных». Под «чистым исламом» подразумевалась суннитская форма. При нем запрещалось упоминать о существовавших в южной части нишапурского рабада могилах потомков Хусейна. Сельджуки же терпимо относились и к тем, и к другим.
До сих пор здесь вспоминали суфийского шейха Хамдуна аль-Кассаба, умершего более 160 лет назад, который первым встал на «путь порицания». Он предпочитал, чтобы на его репутацию была брошена тень, нежели из-за почестей быть отвращенным от Аллаха.
Говорят также, что когда-то на стенах нишапурской мечети были начертаны такие странные для приверженцев «чистого ислама», но полные глубокого значения для суфиев слова: «О Аллах, если я служу тебе из страха перед адом, то покарай меня адом; если я служу тебе из стремления попасть в рай, то лиши меня этой возможности, но если я служу тебе из чистой любви, тогда делай мне, что тебе угодно».
Суфии вызывали у Ибрагима двойственное чувство. Называли себя таковыми разные люди. Одни проводили жизнь в уединении, отшельничестве, умерщвлении плоти ради высшей своей цели — познания Аллаха и не могли не вызывать уважения. Это были истинные подвижники дела всевышнего. Другие использовали учение суфиев для своекорыстия. Они говорили: кто достиг наивысшей ступени святости, для того отпадают все заповеди веры, как молитва, пост, милостыня, а все запрещенное, как блуд, питье вина, разрешено. И по этой причине даже позволяют себе посягать на чужих жен. Они утверждают: мы видим Аллаха и говорим с ним, и все, что он вкладывает в души наши, — истина. Этим людям Ибрагим отказывался верить.
Среди тех, кто пришел сейчас на молебен, были и шииты. Приверженцы шиитских сект говорят, что только потомки пророка имеют исключительную власть над правоверными. Да, Мухаммад — посланник Аллаха на земле и обладает святой благодатью. Целью его прихода на землю было не только принести истинную веру, но и передать по наследству свою благодать, дабы вечно в подлунном мире царили Истина и Справедливость. А суть этих понятий знают те, кому перешла печать божия. Они же знают правильную дорогу, по которой должны вести верующих.
Кому должна была перейти святая благодать после смерти Мухаммада? Конечно, Али — его двоюродному брату и зятю, мужу его единственной дочери, истинно преданному Аллаху. Могло случиться и такое: архангел Джебраил просто перепутал Мухаммада и Али, потому что они были очень похожи, и пророком стал другой. Истинные имамы, наставники и кормчие верующих — потомки Али. Это прежде всего его сыновья Хасан и Хусейн, их дети и внуки, вплоть до двенадцатого имама Мухаммада, который таинственно исчез в возрасте подростка. Этот скрытый имам рано или поздно вновь явится людям в виде мессии Махди и принесет с собой царство Истины и Справедливости. Так утверждали имамиты.
Близка к ним другая многочисленная секта шиитов — приверженцев имамата аль-Хусейна, младшего сына Али. Аль-Хусейн обрел ореол мученика за веру, стал самым почитаемым имамом в этой шиитской секте. Ежегодно в определенные дни месяца мухаррам приверженцы секты следуют за колесницей с изображением мученика и предают себя истязаниям, радостно восклицая: «Ах, Хусейн, вах, Хусейн». Этим они, по их мнению, приобщаются к святости пострадавшего за веру имама. После таких шествий на дорогах порой остаются бездыханные тела.
Были и другие секты шиитов, основную массу которых, как подметил палаточник, составляет простой люд: разносчики воды, пастухи, обедневшие земледельцы, небогатые ремесленники.
А среди мусульман-суннитов, наоборот, много богатых людей: важные купцы, крупные землевладельцы и скотоводы. Суннитами называют всех тех, кто признает святость Сунны — священного предания, состоящего из хадисов о жизни пророка и его изречений. Суннитами были Омейяды, от их рук пал аль-Хусейн, и это было началом непримиримой вражды двух течений.
В доме Аллаха они держались подальше друг от друга. Так было заведено издавна. И тому есть свое объяснение. Раньше мечеть в Нишапуре служила местом ночлега бездомных и странников, в большинстве шиитов. Не будь необходимости, богач и вовсе не приходил бы сюда. И вообще раньше мечеть в благословенном городе Нишапуре никогда не пустовала.
Целыми днями кади вершил здесь правосудие. Споры были самыми разными. Приходили торговцы, не сумевшие поделить выгодное место на базаре, ремесленник с жалобой на своего бывшего безалаберного ученика, который теперь ходил и поносил своего хозяина, отбивал покупателей. Шли и с более серьезными жалобами и просьбой рассудить спорящих: как, например, поделить отцовский дом между четырьмя братьями или как заставить должника вернуть долг, если тот неплатежеспособен. Решения принимались различные — в зависимости от того, какого правового толка придерживался кади. Но чаще всего у должника изымалось его имущество, его же самого сажали в тюрьму. Там его держали ночью, а днем он — в цепях и колодках — должен был собирать подаяние в пользу заимодавца.
Недостатка в зеваках не было. Ну а зимой по вечерам там всегда можно было найти общество для беседы. Здесь собирались мужчины, обсуждавшие городские происшествия, декламировавшие стихи. После утраты близкого человека сидели по три дня подряд в мечети, чтобы принимать соболезнования.
Здесь случались и забавные происшествия. Рассказывают, что однажды в пятницу к дому Аллаха подошел нарядный индиец и на почтительном от него расстоянии постелил роскошный молельный коврик. На вопросы людей от отвечал: «Скоро прибудет мой господин совершить намаз». В четвертом часу верхом на муле, в раззолоченном седле, в сопровождении трех пышно одетых рабов к мечети подъехал всадник и приветливо поклонился присутствующим. Вглядевшись, люди увидели, что это… обезьяна. Индиец почтительно подбежал и помог обезьяне спрыгнуть с седла. Потом мартышка подошла к коврику и стала молиться. Всем, кто спрашивал о ней, индиец отвечал так: «Это околдованный сын могущественного царя Индии. Клянусь Аллахом, не было в свое время никого более прекрасного и более богобоязненного, чем эта обезьяна. Однако верующий ведь всегда во власти Аллаха. Его заколдовала жена, а отец, стыдясь сына, прогнал его прочь. За сто тысяч динаров эта женщина обещала снять с него заклятие, а пока у него лишь десять тысяч. Так пожалейте же этого юношу, у которого нет ни племени, ни родины, которого принудили сменить свой облик на этот». При последних словах обезьяна вынула из-за пояса платок и стала им вытирать глаза. Тут сердца всех, кто при этом присутствовал, растаяли, и на поднос рабу посыпались монеты. Человеку двадцатого века эта история едва ли покажется невероятной: дрессировка совершает в наши дни не менее удивительные чудеса.
Да, разные истории происходили порой вокруг нишапурской мечети. Но времена меняются. Сейчас мечеть — место служения Аллаху, и для всего остального путь закрыт.
Отбросив все посторонние мысли, Ибрагим стал молиться. Делал он это истово, долго. Все, что было у него на сердце, пытался вложить он в непонятные, а оттого, как ему казалось, обладавшие магической силой арабские слова. Иссохшие от бессонных ночей губы повторяли слова молитвы и после того, как она закончилась, сборщик подаяний на строительство мечети получил от него большой куш.
Протискиваясь сквозь толпу людей, собравшихся возле бронзовых сосудов с питьевой водой, Ибрагим вышел на улицу. Поход на базар и так занял у него слишком много времени. А растущая тревога (как-то там мать и малыш?) заторопила его домой.
Не успел Ибрагим покинуть базар, как навстречу попались ребятишки.
— Ах, чертенок, — успел он потрепать затылок одному, который с разбега ткнулся ему прямо в живот. Но тот вырвался и, не оборачиваясь, побежал догонять друзей, спешащих за город, туда, где подземные каналы выходят из-под земли на поверхность и вода используется для орошения полей. В такую жаркую погоду Ибрагим и сам бы с удовольствием искупался.
Около Нишапура протекает речка, которую по горько-соленому вкусу воды называют Шуреруд. Люди, побывавшие во многих частях Земли, удивлялись такой ее особенности. Старики рассказывали легенды о том, что когда-то за непослушание злые духи отравили эту воду. Но Ибрагим, как человек практический, любил докапываться до сути вещей и путем умозаключений сделал вывод, что вода, стекающая с гор, промывает какие-то минералы, которые и дают ей такой привкус. Сейчас в эту речку, непригодную для питья, жители Нишапура сбрасывали помои и домашний мусор.
Так, заложив руки за спину и размышляя о неисповедимых путях Аллаха, Ибрагим дошел до дома, где его ждала приятная весть: малыш и его мать чувствуют себя хорошо. Потом он долго сидел у ложа жены и смотрел на малыша, сосущего материнскую грудь. Мальчик причмокивал губами и чему-то улыбался во сне. «Пусть в твоем сердце всегда живет любовь к богу, Омар. Ты пришел в этот мир, где выживают только сильные. Так будь им. Но не продавай свою честь. Аллах, сотворивший тебя, имел непостижимую для нас, смертных, цель. Твори в своей жизни лишь богоугодные дела. Никогда не стремись достичь высоких званий и почестей ложью и обманом. Будь тем, кто ты есть, даже если тебе предначертан путь лишений и страданий. И всегда стремись к Знанию, путь к которому лежит через постижение Книги книг. Не забывай свою мать, давшую тебе жизнь, а если в твоем сердце останется еще немного местечка — что ж, я согласен его занять». Так бессвязно и путано шептал Ибрагим, сидя у постели, пока не стало сказываться напряжение последних дней и не начали смеживаться веки.
Однако Ибрагим тщательно спрятал лист бумаги, где было написано то, что за небольшую плату сообщил ему на базаре бродячий астролог: «Счастье сына моего Омара — Близнецы; Солнце и Меркурий в день его рождения находились в степени восхождения в третьем градусе Близнецов, Меркурий в перигелии, и Юпитер, смотря на них обоих, находится в утроении».
Ах, где надежный друг? Ему я расскажу О человеке то, что про себя твержу: Из праха мук рожден, на глине бед замешен, Придя на свет, спешит к другому рубежу.Поистине Нишапур — центр ученых всего Востока. Со всех концов Хорасана и других частей Персии и арабского мира приезжали сюда молодые и немолодые люди, стремившиеся к знаниям. И недаром здесь бытовала пословица: «Алмазу нужна шлифовка, человеку — образование». Знатные и не только знатные люди стремились иметь и приумножать свои библиотеки.
Книги, книги… Их приобретали многие, у кого водилась монета, хотя, написанные от руки, они стоили недешево. Поэтому и отношение к ним было бережным и трепетным. Но, несмотря ни на какие цены, была одна впечатляющая особенность: доступ во многие библиотеки, то есть к знаниям, был открыт каждому желающему. Например, кади Ибн Хиббан завещал Нишапуру дом с библиотекой и жилыми помещениями для приезжих ученых, а вдобавок к этому большую сумму на стипендии им. В середине IX века придворный Али ибн Йахья аль-Мунаджжим выстроил у себя в имении прекрасное книгохранилище, которое назвал «Хизанат аль-хикма» — «Сокровищница мудрости». Со всех сторон стекались туда люди для занятий наукой и содержались за счет хозяина. Некий исфаханский богослов и землевладелец израсходовал на свои книги 300 тысяч дирхемов. Ас-Сахиб отклонил предложение саманидского правителя стать у него визирем и среди прочих причин сослался на трудность переезда, так как одних книг по богословию, не считая других, было у него 400 верблюжьих вьюков.
После смерти кади Абу-аль-Мутрифа целый год продавали его книги, выручив за них 40 тысяч динаров. Визирь Ибн Киллис держал свою частную академию, где ежемесячно на содержание ученых, переписчиков и переплетчиков расходовал 1000 динаров. Визирь Ардашир ибн Сабур, умерший в 1024 году, основал «Дом пауки». В великолепной библиотеке хранилось 100 экземпляров одного только Корана, переписанных лучшими каллиграфами, и 10 400 других книг, главным образом автографов или экземпляров, принадлежавших ранее знаменитым людям. Говорят, коллекция книг халифа аль-Азиза насчитывала от 120 до 200 тысяч книг.
Какие же книги находились в этих прекрасных храмах и Домах науки, кроме, разумеется, Корана? Перу каких авторов они принадлежали? В первые годы после смерти пророка руководители мусульманской общины не признавали никаких наук, кроме наук исламских (таф-сир и хадис). Считалось, что ответы на все вопросы содержатся в Коране. Настороженность к светской науке проявляли Омейяды. Но потребность в книгах была очевидной, особенно в такой чисто практической науке, как медицина. И вот, как пишет известный востоковед Е.Э. Бертельс, «под давлением необходимости уже в VIII веке появляются такие хадисы, как „приобретайте мудрость, хотя бы даже и из уст многобожников“ или „стремитесь к науке (или ищите знаний) от колыбели до могилы“.
Начинается большая и плодотворная деятельность переводчиков, которая приняла особенно широкий размах при халифе Мамуне (813—833), когда праздновали свой час мутазилиты, рационалисты ислама. В это время переводятся работы древнегреческих ученых по философии и логике на арабский язык. Мамун создает специальную палату переводчиков. Благодаря им мусульманский мир широко знакомился с работами крупнейших умов Древней Греции от Галена и Аристотеля до Птолемея и Евклида.
В Нишапуре Омар Хайям учился у известного ученого и богослова Насир ад-Дина Шейх Мухаммада Мансура. На занятиях учитель любил повторять слова Пифагора: «Как хорошо, когда благоденствие человека основано на законах разума». Его ученики, чтобы доставить ему удовольствие, добавляли изречение Сократа: «Главнейшее условие истинного знания — точное логическое определение понятий». Во главу угла в обучении он ставил разум и логику. На этом была построена его система обучения.
Примерно за сто лет до рождения Омара группа ученых из Басры (Абу Сулайман Мухаммад ибн Машар аль-Бусти аль-Мукаддаси, Абу-ль-Хасан Али ибн Харун аз-Занджани, Абу Ахмад аль-Михрджани аль-Ауфи и Зайд ибн Руфаа) решила подвести своеобразный итог переводческой деятельности и добытым знаниям, систематизировать обучение. Кружок «Ихваи-ас-сафа» («Братья чистоты») поставил перед собой цель «очистить проникшие в ислам нелепости при помощи философской мысли». На свет появилась своеобразная энциклопедия знаний, которая состояла из пятидесяти одного трактата и распадалась на четыре раздела. На протяжении многих лет она станет одним из главных пособий для студентов мусульманского мира. В соответствии с программой этой энциклопедии скорее всего занимался и Омар.
Долгое время шли споры: в каком возрасте следует приступать к учению. Одни говорили, что с двадцати или даже с тридцати лет. Это были приверженцы старой школы хадисов, еще не утратившей своего значения. Считалось, что именно к этому возрасту человек созревает для восприятия слова божьего. Другие рекомендовали обращаться к учебе уже с пятилетнего возраста. «Братья чистоты», любившие логическую ясность и стройность во всем, не обошли стороной и этот вопрос. Они говорили, что к обучению надо приступать с 10—12-летнего возраста.
— У саранчи пять способностей, но ни одного таланта, — говорил Насир ад-Дин своим питомцам. — Она бежит, но небыстро; летает, но невысоко; ползает, но только по земле; плавает, но недолго; копает, но неглубоко. В каждом из вас тоже заложены способности. Сколько их? Пока я не знаю. И моя задача — хотя бы одну из них довести до совершенства. Подобно слепым щенкам тыкались бы мы во все углы в поисках ответа на вопрос: что собой представляем и на что годны, не будь у нас в руках емкой книги «Братьев чистоты», которые определили пути поиска Аллаха. Так возьмем в руки весла разума и доверимся лодке мудрости.
51 трактат энциклопедии «Братьев чистоты» распадается на четыре раздела: I) пропедевтика и логика (трактаты с 1-го по 13-й), II) естественные науки и учение о человеке (14—30), III) учение о мировой душе (31—40), IV) богословские науки (41—51). По принятой в этой энциклопедии греческой системе учащегося сначала подготавливали к логическому мышлению путем освоения пропедевтических, в данном случае математических, наук и знакомили его сначала с арифметикой (изучались простейшие свойства чисел, натуральных и дробных, и действия над ними), потом переходили к геометрии по Евклиду. Возможно, на этом этапе Омар впервые встретился с пятым постулатом Евклида, который заинтересовал его настолько, что впоследствии ему будет посвящен целый научный трактат Хайяма-математика.
Дальше в программе обучения шли астрономия и география, которые в основном опирались на «Алмагесту» Птолемея и его же «Географию». В «Алмагесте» указано положение и яркость 1028 звезд, детально разработана геоцентрическая модель мира. Затем учащиеся знакомились с теорией музыки и учением о математических отношениях.
Следующий этап обучения заключал в себе философию. «Наука наук», как говорили о ней, излагалась таким образом. Сначала ученик должен был твердо усвоить теорию и классификацию наук, понять, как применяются они на практике, различать их типологию. За этим следовала логика в изложении Аристотеля. Она полностью вытекала из свода логических сочинений древнегреческого мыслителя, которому поздние его последователи дали название «Органон». И прежде чем приступить к изучению этой науки, ученики под руководством учителя тщательно штудировали «Введение в „Категории“ Аристотеля» или «О пяти общих понятиях» философа-неоплатоника Порфирия, где он дает определение роду, виду, отличительному признаку, существенному признаку и случайному признаку. Эта работа Порфирия была в средние века главным источником знакомства с логикой Аристотеля. Однако изучение логики было не самоцелью. Логику сам Аристотель называл аналитикой и считал, что она необходима как инструмент научного исследования. На это нацеливали учеников и «Братья чистоты».
Вслед за «Введением» Порфирия ученик приступал к изучению первой части «Органона» — «Категории». «Категории», в свою очередь, также делились на три части, в каждой из которых давались семантические различения и терминологические определения сущностей вещей, классификация предикатов и соответствующих им формальных родов бытия. Вторая часть и третья «Категории» — «Герменевтика» и «Первая аналитика». «Герменевтика» переводится примерно как «наука о языковом выражении мысли». Здесь освещается теория предложения и суждения. В «Первой аналитике» — теория силлогизмов. Во «Второй аналитике» приводится теория доказательства, определения и познания принципов. На этом первая часть программы «Братьев чистоты» заканчивалась.
Обладая необходимым инструментом познания, учащийся теперь мог перейти и к изучению природы. В следующих восьми трактатах — с 14-го по 21-й — ученики знакомились с аристотелевской физикой, учением о материи, форме, месте, времени, движении; учением о небе и земле; о четырех элементах; о явлениях в эфире (метеорология); о минералогии. Затем следовали ботаника и зоология.
От изучения животных учащиеся переходили к человеку. Поэтому в энциклопедии «Братьев чистоты» в качестве приложения к 21-му трактату введена изящная притча о споре человека с животным, из которой вытекает, что человек, когда он отдается во власть пороков, опускается ниже самого презренного животного. Следующие за этим восемь трактатов о человеке также построены по Аристотелю. Они изложены в таком порядке: строение человеческого тела; органы восприятия и их объекты; эмбриология, связываемая с астрологией; учение о человеке как микрокосме; учение об индивидуальной душе; о границах познания; о жизни и смерти; о наслаждении и мучении; о различии языков. Весь этот раздел можно было бы охарактеризовать словами самого Аристотеля: «В системе мира нам дан короткий срок пребывания — жизнь, дар этот прекрасен и высок. Бодрствование, чувствование, мышление — высшие блага, исполненные наслаждения… мышление — верх блаженства и радость в жизни, доблестнейшее занятие человека».
С завершением второго раздела энциклопедии «Братьев чистоты» завершалось знакомство учеников с философией Аристотеля. Далее составители переходили к метафизическим проблемам, становясь уже на почву неоплатонизма, крупнейшим представителем которого являлся глубокий и оригинальный позднеантичный мыслитель Плотин.
Плотин родился в 204 году нашей эры в Ликополе в Египте. Изучал курс философии у своего учителя Аммония Саккаса. Чтобы пополнить свои знания, принял участие в персидском походе императора Гордиана III. Около 244 года он вернулся, занимался преподаванием в Риме и умер в 269 году в своем поместье в Кампанье.
Что же представляет собой его учение? На этот вопрос дают ответ «Эннеады» («Девятки»), названные так потому, что труд должен был состоять из девяти книг, каждый из которых делился на девять глав. Свою главную работу жизни Плотин так и не завершил. Но законченные части дают ответ на все поставленные вопросы. Слова «бог» у Плотина нет, божество непознаваемо. Божество — это то единство, которое лежит за всеми противоположностями, оно — чистое благо, первая сила. Мир — порождение божества, но оно не творит его по своей воле, а порождает необходимо, вечно и вне времени. Вместо слова «бог» употребляются «первые», «неизреченные». Единое, начало всего сущего, именуется у Плотина благом и сравнивается с солнцем. Мир эманирует из Единого, как своего рода истечение от переполнения, но по мере истечения Единое ничего не теряет, а остается неизменным, как свет. Эманации по мере удаления от первоисточника, плотнеют подобно тому, как свет меркнет, удаляясь от источника. Существует, говорит Плотин, пять ступеней эманации: единое — разум — душа — материя — явления физического мира. Всякая низшая ступень рождается от высшей, причем высшая, порождая, не терпит ущерба.
Мировой разум — отображение Единого, и в нем уже заложено понятие двойственности. Здесь содержится все многообразие будущего мира, но не реально, а в форме постигаемости. В душе заложено и высшее и низшее начала. Душа человека существует еще до земной жизни и в зависимости от заслуг человека может переселяться в различные тела. Материя — это полная полярность Единому. Это первобытная тьма, «несуществующее», «всяческая нищета», «первозло». Единое вечно сияет в своей сверхпрекрасной благости, вечно душа устремляется к ней. Задача человека — освобождение души от зла физического тела и приобщение ее к божественной жизни. Путем разума этого достигнуть нельзя. Единственный путь — это экстаз, при котором человек перестает сознавать себя как индивидуальность. Это состояние ведет к конечной цели, называемой «соприкосновение», или «единение».
Вот на этой философии Плотина было построено обучение по третьему разделу «Братьев чистоты». Начиналось оно с изложения теории чисел, то есть учения об эманации всех чисел из единицы и возвращении их к ней же. Следующий трактат — об эманации мира из первичных духа и души. Далее следует учение о макрокосме, о духе и духовном восприятии, о круговом движении созвездий, о сущности любви, об искушении и воскресении, о различных движениях, о причине и результате, о правильном определении.
И наконец, четвертый раздел был посвящен богословским наукам в узком смысле слова. Десять последних трактатов посвящены следующим темам: о различных учениях в религии, о правильном пути к богу, об образе жизни «Братьев чистоты», об исламе, о божественных велениях и пророчестве, о божественном призыве к чистоте и любви, о воздействии на человека духовных существ, о различных видах управления государством, о мире как вращающемся колесе, о магии и колдовстве.
Видимо, именно такой сложный цикл обучения прошел в юности Омар Хайям, как, впрочем, и множество других ученых средневекового мусульманского Востока.
В детстве ходим за истиной к учителям, После — ходят за истиной к нашим дверям. Где же истина? Мы появились из капли, Станем — ветром. Вот смысл этой сказки, Хайям! —напишет он спустя много лет. Здесь капли и ветер — намек на два из четырех первоэлементов Аристотеля.
Но не только по книгам обучался сын Ибрагима. Жизнь в Нишапуре — радостная и горькая, неожиданная, трудная, а порой и невыносимая — для кого ведь как? — оказывала воздействие на впечатлительного мальчика. В молодости бывают недолгие периоды, когда мы, чаще даже не замечая этого, словно впитываем всеми нашими клетками окружающий нас мир во всех его мельчайших нюансах и деталях. А потом, позднее, эти воспоминания, неожиданно и по неизвестной причине вынырнувшие из глубин бессознательного, удивительным образом влияют на наши привычные мысли, впечатления, ощущения, поступки. Не случайно же говорят: скажи мне, о чем ты не хочешь вспоминать и думать, и я скажу тебе, что с тобой будет.
Однажды, когда Омару было лет восемь-девять, он вместе с отцом пошел на близлежащие холмы. Ибрагиму нужно было собрать какую-то траву, которую он использовал для приготовления красок. Жаркая весна быстро переходила в знойное лето. Часа через три отец наполнил свой мешочек. Возле небольшого ручейка с холодной и прозрачной водой присели отдохнуть. Ибрагиму было почему-то тоскливо: он чувствовал, как печаль жадно облизывала его сердце. То ли какие-то недобрые предчувствия стучались в его естество и не могли проникнуть через толстые и жесткие оболочки, накрученные прошедшими годами; а, может быть, именно здесь, в этом таком райском уголке, приближающаяся старость сумела вдруг прямо взглянуть в его глаза. Он вздохнул и неожиданно для себя заговорил:
— Сынок, я тебе хочу рассказать сказку. Ее мне поведал года за три до твоего рождения некий дервиш. А сам он услышал ее от огузов.
Жил-был однажды купец. Много поездил он по миру и накопил большие богатства. Однажды, приближаясь со своим караваном к большому торговому городу, он увидел такую картину: земледелец пахал землю, а в упряжке у него шли вол и изможденный раб. У купца была добрая душа, и он пожалел раба. Подозвав его и его хозяина, он заявил, что готов выкупить раба и отпустить его на волю. Но тут произошло удивительное дело: раб поблагодарил купца, но сказал, что не имеет смысла его покупать. Он посмотрел спокойно на купца, караван и сказал: «Все проходит, о благородный господин. И это тоже пройдет». Неприятно стало купцу. Ничего он не сказал. Караван направился дальше.
Прошло несколько лет, и купец вновь оказался в том же городе. Он уже забыл о случае, что произошел с ним и с рабом. Купец выгодно распродал свои товары, и по заведенному обычаю вместе с другими приезжими торговцами он был приглашен во дворец падишаха. Купцы поднесли ему богатые подарки, а он в их честь устроил большой пир. Сидя за обильными угощениями, купец вдруг увидел человека, которого он хотел когда-то освободить от неволи. Тот был одет в богатые одежды и сидел справа от падишаха. Еще больше удивился купец, когда узнал, что бывший раб стал первым визирем государя.
Визирь тоже вспомнил старого знакомого и после пира пригласил его к себе. Купец получил роскошные дары и услышал историю бывшего раба. Тот ему рассказал, что город был окружен многочисленными врагами и падишах был в отчаянии. «Я случайно встретился с государем и дал ему совет, как рассорить врагов друг с другом. Он сделал так, как я сказал, и победа осталась на нашей стороне». Купец долго восхищался необычайными приключениями визиря и наконец сказал, что нынешнее его положение — это дар судьбы за те горечи, которые он испытал, будучи рабом. Визирь усмехнулся и сказал: «Все проходит. И это тоже пройдет». Недоумевая, покинул его купец.
Прошло еще несколько лет. И снова купец прибыл по торговым делам в этот город. Когда он захотел увидеться со своим приятелем, ему сказали, что тот после смерти бывшего падишаха стал правителем города. Вечером купец пришел к нему на прием. Новый падишах хорошо его встретил, осыпал его драгоценными камнями и золотыми монетами. Целую ночь они говорили об удивительных случаях, которые происходят в жизни людей. Уже на рассвете купец сказал падишаху, что всевышний — истинно всезнающий и жизнь падишаха тому свидетельство. Тот ничего не ответил. Но, провожая приятеля, правитель на прощание сказал тихим голосом свою обычную фразу: «Все проходит, и это тоже пройдет».
Через несколько лет купец вновь оказался в этом же городе. И здесь он услышал поразившую его весть: бывший падишах недавно умер. Искренне горюя, купец направился на кладбище, где был похоронен его приятель. Найдя его могилу, он прочитал те молитвы, которые приличествовали мусульманину в таких случаях. Когда же он смахнул слезы, на большом черном камне увидел знакомые слова: «И это тоже пройдет». Еще сильнее зарыдал купец, повторяя про себя: «Но сейчас ты, мой друг, ошибся. Увы, это уже не проходит».
Через семь лет сильно постаревший купец приехал в знакомый ему город. Завершив свои торговые дела, он решил проведать могилу своего странного приятеля, но, сколько ни искал, так и не нашел кладбища. Когда же он попросил местных жителей помочь ему, те ему рассказали, что произошло. Года три назад необычайно быстро наступила весна. Река за ночь вышла из берегов, и город оказался во власти бурного наводнения, принесшего большие беды и несчастья жителям. Но и не только им: злой поток ночной воды унес и все кладбище. На его месте остался ровный и спокойный пустырь.
Ничего не сказал купец. И в тот же день покинул город.
Ибрагим замолчал. Недалеко раздавался мерный гул огромной стрекозы. Отец посмотрел на сына. Омар ничего не говорил и не спрашивал: он внимательно рассматривал небольшой ярко-голубой цветок. Ибрагим вдруг облегченно вздохнул: слава Аллаху, сын ничего не понял. Да и зачем ему-то надо было вспоминать это сказание неопрятного дервиша? Какая польза в этом? Он усмехнулся: странная штука — память человека. Но, доживи он до этого, Ибрагим, наверное, услышал бы отзвуки сказки в стихах сына:
Я пришел — не прибавилась неба краса, Я уйду — будут так же цвести небеса. Где мы были, куда мы уйдем — неизвестно: Глупы домыслы всякие и словеса.Как велось преподавание наук? Медресе. Нишапур, бывший средоточием учености Востока, является родиной учебных заведений этого типа. Задолго до рождения Омара диктование (имла) считалось высшей ступенью преподавания. Говорят, что мутазилит аль-Джуббаи продиктовал 150 тысяч листов, никогда не заглянув в книги и записи. А Абу Али аль-Кали надиктовал пять томов.
Но уже в десятом веке появляется новый вид преподавания. Суть его заключалась в том, что один из слушателей читал текст и учитель временами перебивал его и объяснял или толковал (тадрис[2]) трудные места. Это неизбежно приводило к диспутам. Обучение богословским наукам обычно проводилось в мечети. И если в пору юности Ибрагима и даже позже в доме Аллаха можно было встретить спорящих мужчин и подростков, то потом это стало осуждаться. Мечети для диспутов были неподходящим местом. Видоизмененный метод преподавания благодаря преобладанию тадриса создал условия для возникновения медресе.
Уже через несколько лет Омар бегло читал по-арабски и мог повторить, не заглядывая в Коран, подряд несколько сур. Это особенно умиляло Ибрагима, с интересом слушавшего непонятную гортанную речь своего сына. Но не только священной книге отдавал все свое время Омар. Случалось, вопросы сына ставили в тупик отца, человека хотя и не очень грамотного, но опытного, немало лет прожившего на этом свете.
И в минуты отдыха, размышляя о сыне (не родительским умом, а глядя на него как бы со стороны), снова и снова убеждался он, что Омар в своем развитии перерос сверстников. Хорошо это или плохо, Ибрагим ее знал. У Омара не было друзей, лучшие его товарищи были книги. Но страшнее для Ибрагима было другое: растущее между ним и сыном взаимное непонимание.
Практический ум нишапурского палаточника никак не мог понять, почему Омар не относится с должным рвением к арифметике, географии. Конечно, хороши и астрономия, и геометрия, и музыка, и философия. Но эти науки больше для детей людей благородных: визирей, кади, раисов. А для ремесленников и купцов больше подходят науки практические. Ведь, как бы то ни было, в любую лихую годину торговля и ремесло не дадут умереть с голоду, в то время как кади и раисы меняются с каждой новой властью. Конечно, лестно иметь сына большим человеком (Ибрагим иногда вспоминал свои честолюбивые мечты при рождении Омара), но еще лучше видеть сына со скромным достатком, зато целого и невредимого. Между тем каждый знает — жизненный путь людей знатных нередко до срока прерывает рука палача!
…Было это в начале лета. Возвратившись из медресе, Омар умылся и с раскрытой книгой долго сидел у арыка, о чем-то думая. В последнее время такая картина была привычной для окружающих. Углубившись в работу, Ибрагим не заметил, что прошло довольно много времени, и, подняв голову, он увидел Омара, сидящего в той же позе.
— Не заболел ли, сын? — спросил встревоженный палаточник.
— Заболел? — Омар встряхнул голову, будто просыпаясь от глубокого сна. — Нет, нет. Видишь ли, может, это прозвучит для тебя неожиданно… Не бойся, я в здравом рассудке. Но в голове моей хаос. А все от размышлений над нашим мирозданием. Аристотель утверждает, что Земля — это шар, и она центр Вселенной. Архимед же говорит, что шарообразная Земля — это всего лишь небольшая планета, которая крутится вокруг огненного облака — Солнца. Идем дальше. Вот в руках у меня «Алмагеста» Птолемея, которую мы изучаем в медресе. Что же утверждает этот мудрец? У него Земля тоже шар, но неподвижный. Вокруг Земли вращаются прозрачные оболочки — сферы, к которым прикреплены различные светила. Самая близкая к Земле — сфера с Луной. Потом идет сфера с Меркурием, потом с Венерой, потом с Солнцем, потом с Марсом, потом с Юпитером, седьмая сфера с Сатурном. На восьмую прикреплены все неподвижные звезды. А на девятой сфере — тот самый Перводвигатель, который заставляет двигаться планеты и весь окружающий мир. Но и это еще не все. Вот в этой стопке книг есть две работы великого Бируни. В книге потолще я нашел интересные мысли. «Разъяснение принадлежащих индийцам учений, приемлемых рассудком или отвергаемых» — так она называется. Так… Вот! «Последователи Ариабхаты полагают, что Земля движется, небеса же находятся в покое. Люди пытались это опровергнуть, говоря, что если бы это имело место, то камни и деревья падали бы с Земли… Учение, согласно которому Земля находится в покое, есть одна из главных основ, догма индусских астрономов, но она представляет многие и большие затруднения». А теперь я возьму в руки этот труд, который Бируни назвал: «О различных способах изготовления всевозможных видов астролябий». Читаем: «Я видел у Абусаида астролябию другого вида, чем все остальные… Я нашел, что она является прекрасным изобретением, принцип которого основан на твердом убеждении в движении Земли, а не видимом движении небосвода». Над всем этим я долго размышлял. Смотрел на небо. Думал. Но, может быть, нам никогда не постигнуть тайны мироздания (позже эти сомнения Хайям-поэт отчеканит в четыре строчки своего рубаи)?
Где теперь эти люди мудрейшие нашей земли? Тайной нити в основе творенья они не нашли. Как они суесловили много о сущности бога, — Весь свой век бородами трясли — и бесследно ушли.Ибрагим внимательно и настороженно слушал Омара.
— Я увлекся Птолемеем, — продолжал юноша. — Мне казалось, его учение наиболее приемлемо разумом. Зачем блуждать в бесплодной пустыне сомнений? Что может быть стройнее его системы!
Но состояние удовлетворенности скоро вновь меня покинуло. Неужели мы и наша Земля есть центр мироздания? Посмотри на звезды в ясную ночь. Их тысячи и тысячи. Поднимись на самый высокий минарет, на верхушку горы. Они не стали ни ближе, ни дальше. Впрочем, мне кажется, они настолько далеки, что наш ограниченный разум не может представить это расстояние. Но это не суть важно. Важно другое. Не кажется ли и наша Земля для этих звезд ничтожной песчинкой, сверкающей в безбрежном небесном океане? Если принять эту точку зрения, то получается, что и на звездах возможны существа, подобные нам. Подумай, отец: почему именно Земля, а не Венера, Меркурий, Сатурн или другие планеты являются осью в той колеснице, которую запустил творец. Я думаю, Архимед и Бируни находятся ближе к истине, нежели Птолемей. И вот я вплотную подошел к своему собственному открытию. Как-то я обратил внимание на свою руку и увидел на ней много коричневых пятен. Их, наверное, больше десятка, а то и двух. Мать говорит, что они называются родимыми пятнами. И они ведь есть у многих людей. Сначала-то я был твердо убежден, что каждое пятнышко — это звезда. (Роднички на теле очень похожи на небесные серебряные россыпи — есть помельче, есть покрупнее.) И запечатленные на теле человека, они фиксировали положение небесных светил в день его появления на свет. Теперь я смотрю на это несколько иначе. Впрочем, спрошу сначала тебя: ты не задумывался: зачем у человека родимые пятна, если они ни для чего не нужны? Носом мы дышим, языком говорим, зубами разжевываем пищу, кожа предохраняет наши внутренние органы, а для чего родимые пятна?
— Не знаю… На все воля Аллаха.
— Воля Аллаха? Воля Аллаха… Да, да, как хорошо ты это сказал. Воля Аллаха столь мудра, а забота о верующих столь беспредельна, что он оставил на наших телах систему расположения звезд, по которой мы можем найти своих ближайших соседей, братьев по разуму и даже, наверное, по крови. Мы — такая же звезда на небесном своде, как все остальные…
— Этого не может быть! — невольно вскрикнул палаточник.
В словах Омара малограмотный палаточник почувствовал крамолу. Выходит, миров, подобных нашему, может быть сколько угодно. А ведь в Коране записано, и именно об этом говорил вчера в своей пятничной проповеди имам, что есть только два мира: мир тлена и потусторонний, вечный мир. А если следовать рассуждениям Омара, их может быть неисчислимое количество.
Любознательный Омар Хайям стремился проникнуть в суть вещей, одинаково прилежно изучал логику, естественные науки, очень увлекался астрономией, геометрией и алгеброй, а также богословскими науками. («Если столько людей, озабоченных спасением своей души, ищут пути к богу через познание его, значит, Истина — в Книге книг, божественном откровении».) За особое прилежание учитель назначил его своим помощником (мустамли). Задача Омара заключалась в том, чтобы, сидя на небольшом возвышении, следить за тишиной в аудитории и передавать слова учителя сидящим далеко.
Учитель мог начинать с чтения Корана и «разночтений», затем переходил к изречениям пророка и лишь после этого непосредственно к той части энциклопедии «Братьев чистоты», которая изучалась в данное время. И если встречались затруднения, малоупотребительные выражения, учитель объяснял их, растолковывал и спрашивал своих слушателей об их значении. Ученики имели право во время занятий вставать и задавать вопросы. Завершалось преподавание опять-таки молитвой, предваряемой словом «куму» — «встаньте».
Недолго пребывал Омар в роли мустамли. Надоедает. Унизительно. Чувствуешь в себе какую-то ущербность, изо дня в день повторяя одни и те же никому не нужные формулы приветствия. И потом на такую роль все-таки больше подходит человек иного склада, чем не по годам гордый и честолюбивый Омар.
Обучаясь в медресе, основанном в 1027 году аль-Ис-фараини, Хайям не мог не слышать о почете, окружавшем его основателя. Несмотря на то, что ашариты, к числу которых принадлежал знаменитый ученый, жестоко преследовались при Тогрул-беке, имя Исфараини было популярно. Он первым среди ученых Нишапура получил титул «рукн ад-дин» — «столп религии». Тогда входило в обыкновение придумывание все более пышных новых титулов представителям науки и богословам. Возник сначала как почетное прозвище, но ставший потом столь важным титул «шейх аль-ислам». Его присваивали ведущим богословам. Несомненно, что и молодой Хайям отдавал немало времени Корану. Молодость тщеславна, и кто знает — возможно, что в мыслях он как бы примеривал на себя почетные звания знатоков «слова Аллаха». Кроме того, в его увлечении богословием должны были сказать решающее слово воспитание, соответствующее окружение и историческая обстановка, личные качества молодого нишапурца: ум, прекрасная память (уже в почтительном возрасте Хайям мог по памяти цитировать любое место из Корана, привести «разночтения» и при этом отдать предпочтение одному из вариантов, использовав для этого веские аргументы). Почетное прозвище «Гияс ад-дин» — «Помощь веры», полученное позднее, свидетельствует о том, что на поприще богословия ему удалось достичь немалых успехов.
Но это будет потом. А сейчас он еще учится. Наблюдает. Сомневается. Мыслит. О том, какой престиж имела в то время наука, говорит такой факт. Лексикологу аль-Джаухари его работа вскружила голову. Продиктовав свой словарь до буквы «дад», он отправился в старую мечеть Нишапура, взобрался на крышу мечети и закричал: «Эй вы, люди! Я сделал в сей жизни нечто такое, чего не удавалось еще ни одному человеку, а теперь я намереваюсь сделать и для потусторонней жизни нечто такое, чего еще никто не сделал». Он снял с петель обе створки двери, привязал их веревкой к рукам, а затем, поднявшись на самый высокий выступ мечети, вознамерился совершить полет. Собравшаяся внизу толпа спорила. Одни утверждали, что несчастный сейчас грохнется на землю. Другие говорили, что от его праведных трудов на него снизошла божья благодать и сейчас он взлетит подобно птице, Аль-Джаухари ступил вперед и… полетев вниз, упал и разбился насмерть.
Произошло это в 1000 году, и трудно заподозрить, что Хайям не знал эту историю. Примечательно то, что здесь причудливо переплелись два начала: глубокое убеждение в том, что люди науки — это богоугодные люди, вера в то, что Аллах справедлив, всемогущ и воздает рабам своим по их заслугам.
Может возникнуть вопрос: замечательный труд кружка «Ихван ас-сафа» основан на титанической мысли и философии великих греков древности, но неужели благодатная земля Востока не вырастила собственных оригинальных мыслителей или углубленных разработчиков философских, математических, астрономических, медицинских наук? Чтобы ответить на этот вопрос, заглянем в так и не погруженные на верблюдов тюки с книгами ас-Сахиба. Здесь, конечно же, Аристотель, Платон, Плотин, а вот другие имена. История сохранила многие труды ученых Востока, предшественников Омара Хайяма.
Обернув в холщовую тряпку, нес Омар домой купленные у букиниста на базаре или взятые в библиотеке книги своих великих земляков. Там наверняка был Абу-Али Ибн-Хайсан, известный на Западе как Альхазен. Его труды по оптике изучал весь цивилизованный мир средних веков. А в своих комментариях к «Началам» Евклида он рассматривает и теорию параллельных линий, которая потом привлечет и Хайяма.
Разес и Абубатер. Под этими именами знали в Европе «Отца ятрохимии», то есть химии лекарств, основоположника восточной медицины, уроженца Хорасана Абу-бакра Мухаммада ибн Закария Рази (855—923), автора «Объемлющей книги» и «Книги Мансура» по медицине и химии.
Судя по оставленным трудам, Хайям несомненно был знаком с работами еще более далекого предшественника — Мухаммада ибн Мусы Хорезми (780—850), потомка зороастрийских жрецов-магов (поэтому его еще называли «маджуси» — маг). Около двадцати лет он жил и творил при дворе багдадского халифа Мамуна. Покровительство, которое тот ему оказывал, позволяло не думать о хлебе насущном, полностью отдаться науке. Как видно из его имени, он уроженец Хорезма (кстати, от аль-Хорезми позже произошло «алгоризмус» и «алгоритмус», что потом привело к возникновению слова «алгоритм»). Ему удалось впервые познакомить арабский мир с достижениями среднеазиатской и тесно связанной с ней индийской математики. Десятичную систему счисления, принятую сейчас во всем мире, благодаря его трактату «Китаб аль-джам ва-л-тафрин би хисаб аль-Хинд» — «Книга сложения и вычитания по исчислению индийцев» — до сих пор благодаря ему называют арабской, хотя, как это даже видно из названия, она заимствована у индийских ученых. Другая работа, «Аль-китаб аль-мухтасар фи хисаб аль-джабр ва-л-мукабала» — «Краткая книга об исчислении алджабры и алмукабалы», посвящена алгебре. Эти работы были переведены на латинский язык и легли в основу развития алгебры и арифметики в Западной Европе. Хорезми оставил также сочинения по астрономии и географии.
Благодаря Сабиту ибн Корра Харрани (826—901), который перевел на арабский язык «Начала» Евклида, Омар Хайям познакомился с трудом греческого математика. Мухаммад Баттани (850—929), известный на Западе как Аль-батегний, прославился своими трудами по астрономии, в которых он уточнял достижения Птолемея, а также работами по тригонометрии. Синус и другие тригонометрические функции, заимствованные у индусов, впервые прозвучали на арабском языке в его трудах.
Основателем аристотельянской школы в восточной философии был тюрк из Средней Азии, выдающийся ученый Абу Наср Фараби (870—950), имевший почетное прозвище «Второй учитель». Он являлся также комментатором учения Платона. В своих работах соединял аристотелизм с неоплатоническим учением об эманациях, тесно примыкающим к суфизму. В социально-этических трактатах Фараби развивает учение о «добродетельном городе», руководимом правителем-философом, который одновременно выступает как имам, предводитель религиозной общины и передает народу получаемые им от бога истины. Читал, видимо, Омар Хайям и «Большой трактат о музыке», важнейший источник сведений о музыке Востока и древнегреческой музыкальной системе, который помог потом сыну палаточника сформулировать собственное суждение об этом предмете.
В старину говорили: «Что толку в светильнике, коль сверху он прикрыт горшком». Это значило, что если имя твое — ученый, не таи в себе знания, отдай людям. Великий Абу Райхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни оставил после себя около 150 трудов. Умер он в тот год, когда Омар появился на свет, и в этом видна своя символика. Устроившись где-нибудь в тени у прохладного арыка, будущий поэт и ученый подолгу и с упоением зачитывался его историческим трактатом «Аль-асар аль-бакия ак-ку-рун аль-халия» — «Следы, оставшиеся от прошедших поколений», где ярко и живо рассказывалось о прошлом различных народов, об их праздниках, об астрономических разработках прошлых поколений. Шивой интерес у молодого нишапурца, по всей видимости, вызывал и трактат Бирупи «Тахрир ма ми-ль-Хинд мин макала макбула фи-ль-акл ау марзула» — «Разъяснение принадлежащих индийцам учений, приемлемых рассудком или отвергаемых», или попросту «Индия». «Последователи Ариабха-ты, — читал он, — полагают, что Земля движется, небеса же находятся в покое. Люди пытались это опровергнуть, говоря, что если бы это имело место, то камни и деревья падали бы с Земли… Однако Брамагупта не согласен с ними, говоря, что это вовсе не следует из их теории, по-видимому, потому, что он думал, что все предметы притягиваются к центру Земли…» Гипотетический спор индийских астрономов VII века Брамагупты и VI века Ариаб-хаты Омар продолжал в уме, делился возникавшими идеями с сестренкой, которая родилась вскоре после него.
Бируни впервые построил глобус Земли, определил ее величину по наблюдению горизонта, составил тригонометрические таблицы, ввел в научный обиход метод определения минералов по их удельным весам. Кроме этого, он оставил работы по фармакологии, физике, географии, философии, литературоведению, истории.
Если для потомков сохранилась только пятая часть того, что написал Бируни, то творческое наследие другого восточного мыслителя, Абу Али Хусейна ибн Абдалла-ха Ибн Сины (лат. Авиценна), создавшего более четырехсот работ на арабском и двадцать — на языке фарси, дошло в более полном объеме. Изучал ли их Хайям? В этом не может быть сомнений. Ведь к капитальному труду Ибн Сины «Книге исцеления» он обращался всю жизнь. Рассказывают, что последней книгой, которую он держал в руках перед смертью, была «Книга исцеления», раскрытая на главе о единственном и множественном.
Ибн Сина (980—1037) родился и провел молодые годы в селении Афшана под Бухарой. Уже к десяти годам Абу Али знал наизусть Коран и освоил словесные дисциплины. «Отец стал посылать меня к человеку, торговавшему овощами и сведущему в индийском счете, дабы я изучил эту науку у него. Потом прибыл в Бухару Абу Абдаллах ан-Натили, претендовавший на знание философии. Я усвоил методы полемики и приемы возражения собеседнику так, как это было принято у людей фикха» — так потом напишет в своей автобиографии Ибн Сина. «Я обратился к медицинской науке и занялся изучением книг по медицине. Занялся я также практикой врачевания, и врата исцеления и опыта распахнулись передо мной так, что и описать нельзя… А было мне в это время 16 лет».
Начинается период бурного научного творчества. Когда умирает его отец, Абу Али вынужден переехать в столицу Хорезма город Гургандж. Там он живет больше десяти лет. А потом начинаются годы странствий. Гурган, Дахистан. Снова Гурган. Рей. В Хамадане он поднимается до высот визиря, а потом, после дворцовых бурь, перетрясок, интриг завистников на четыре месяца попадает в тюрьму. Но через некоторое время в Исфахане при дворе эмира Ала-ад-Даулы он находит новый приют. И здесь он полностью отдается творчеству. Изобретает невиданные ранее астрономические инструменты, приступает к строительству обсерватории. Пишет о проблемах логики, математики, физики, поэтики, музыки.
Впрочем, было бы неправильно говорить, что именно Исфахан стал землей обетованной для Ибн Сины. Многие работы начаты и закончены в годы странствий. Но именно на исфаханский период (1023—1037) приходится расцвет его могучего гения. Здесь он завершает «Книгу исцеления», величественный «Канон врачебной науки».
Исходным принципом философии Ибн Сины является учение о необходимосущем и возможносущем. «Необходимосущее — суть необходимое, непреложное бытие… Необходимосущее по своей сущности — это сущее, существующее через самого себя. Оно бесподобно, у него нет соучастника и противника: оно едино во всех отношениях, ни актуально, ни предположительно, ни в разуме неделимо на части, так как его существо составлено из духовных сущностей…» Это чистое добро, чистая истина и чистый разум. Здесь необходимосущее Ибн Сины связано, с одной стороны, с Единым (Добром) Платона и Плотина, с другой — с перводвигателем Аристотеля. Оно совпадает и с понятием мусульманского Аллаха. Однако роль Аллаха в системе мироздания трактуется у него по-другому.
Ибн Сина исходит из предпосылки, что между необходимосущим и возможносущим существует постоянная причинно-следственная связь, а не связь «творец — творение». Необходимосущее — причина, возможносущее — ее следствие. Однако причинно-следственные связи не могут продолжаться бесконечно. Должна быть верховная первопричина, которой должны завершаться все причины. Причиной причин является бог.
Однако здесь надо сделать оговорку. Ограничивая сферу непосредственного действия бога созданием всеобщего разума, Ибн Сина, по существу, отвергает исламско-каламистскую концепцию о постоянном его вмешательстве в дела мира. По образному выражению Э. Ренана, бог у Ибн Сины, дав толчок появлению мира, представляет перифериям возможность катиться самим.
Конкретизируя учение о взаимоотношении необходимосущего и возможносущего, Ибн Сина подходит к принципу эманаций Плотина. Наиболее обстоятельно это излагается в его «Мабда ва Маад» («Похождение и возвращение»). По Ибн Сине, единый, бестелесный, извечный, самодовлеющий, абсолютный, необходимосущий бог в силу необходимости быть познанным без всякого опосредования творит общий разум, который есть самое знание, познающее как самого себя, так и своего творца. Из этого общего разума эманировались сферы и их души. На сфере луны цепь эманации завершилась, «ибо здесь мир простых сущих и линия исхождения закончились и началась линия возвращения». На этой линии на основе сочетания четырех элементов (огонь, воздух, земля, вода) и совершенствования их смеси постепенно возникают минералы, растения и человек. По мере очищения человек может достичь ступени активного разума, сана пророка и ангела. В «Книге указаний и наставлений», написанной в последние годы жизни, которое стало итоговым изложением его философских идей, уже есть многое от суфизма. Так или иначе философия Ибн Сины окажет большое влияние на жизнь, мировоззрение и творчество великого нишапурца.
Трудами знаменитого предшественника, видимо, пользовался Омар Хайям и в своей врачебной практике. Ведь сан «ученый» в средневековом Иране, как, впрочем, и во всем остальном мире в то время, включал понятие «табиб» — «врачеватель».
Мы не знаем точно, какое воздействие на юного Омара оказали концепции и идеи нишапурских суфиев. Но то, что он был знаком в той или иной степени с суфийскими воззрениями, несомненно. Вероятность этого большая. Е. Э. Бертельс отмечает: «Особенно сильный рост влияния шейхов (духовных наставников в суфизме. — Авт.) наблюдается в период господства Сельджукидов, которые при всяком удобном случае всегда стремились выразить свое уважение перед местными шейхами и оказать им поддержку. Трудно пока сказать, чем Сельджукиды при этом руководствовались. Был ли это своего рода страх перед чудотворными способностями шейхов, представлявшихся Сельджукидам чем-то вроде шаманов, или Сельджукиды сознавали их растущую силу и стремились при их посредстве сохранить хорошие отношения с городским населением?»
…Омар захлопнул книгу. Это была «Политика» Аристотеля. Время позднее, а спать не хочется. Где-то за шахристаном возле караван-сарая лает собака. Размеренно бьет своей колотушкой ночной сторож. Через некоторое время затихают и эти звуки. Юноша завороженно смотрит на огонек светильника. Вокруг него летают мотыльки. Один из них, самый смелый, ринулся вдруг в огонь и, опалив крылышки, упал на стол.
Омар думает о только что прочитанном. Как этот грек писал? Благо, говорит, везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий: во-первых, от правильного установления конечной цели всякого рода деятельности и, во-вторых, от отыскания соответственных средств, ведущих к конечной цели. Как хорошо сказано! Четко и лаконично! Жизнь коротка, а познать хочется все на свете. Но, увы, всей ее не хватит на познание даже крохотной части. И все же молодость — это весна жизни. Сил много. Жажда к наукам неутолима. А в ряду наук есть одна — самая стройная, самая строгая и точная. Это математика. Но сколько и в ней темных пятен и нерешенных проблем! Значит, цель — вот она! Средства? Разум, здоровье и молодость!
Глава II МАВЕРАННАХР 1066—1074
День завтрашний от нас густою мглой закрыт, Одна лишь мысль о нем пугает и томит. Летучий этот миг не упускай! Кто знает, Не слезы ли тебе грядущее сулит? Месяца месяцами сменялись до нас, Мудрецы мудрецами сменялись до нас. Эти мертвые камни у нас под ногами Прежде были зрачками пленительных глаз. Хотя стройнее тополя мой стан, Хотя и щеки — огненный тюльпан, Но для чего художник своенравный Ввел тень мою в свой пестрый балаган?!Средневековые мусульманские географы и путешественники называли Мавераннахром исламизированные территории бассейна Амударьи и Сырдарьи. На севере Мавераннахр граничил с Туркестаном, населенным тюркскими и монгольскими кочевниками. На юге и юго-востоке чаще всего официальной границей между Ираном и Мавераннахром являлся Джейхун (Амударья).
При действительно последовательном мышлении творческая личность в конечном счете должна обосновать самой себе свою же ограниченность. И она оказывается перед трагической дилеммой: нужно либо начать конструировать, отбросив гложущие сомнения, систему личной веры, либо продолжать поиск более сложной и гармоничной системы мышления, осознавая, что в конечном счете и она окажется ограниченной.
Раннее прохладное утро. Солнца еще нет на белесом небосводе, и эго палящие лучи еще не омывают город равнодушным зноем. Но в Самарканде уже светло. В садах и виноградниках — многоголосый птичий щебет и воркование, улицы все сильнее наполняются криками людей, скрипом арб, ржанием лошадей, истошным ревом ишаков и верблюдов, блеянием овец и коз. Сегодня большой базарный день, и правоверные мусульмане, огнепоклонники в своих остроконечных шапках, иудеи в тюбетейках с кисточками спешат в Рас ат-Так, где находятся главные базары города.
Но молодой человек, кажется, и не замечает обычного самаркандского шума. Он идет не торопясь, но и не оглядываясь по сторонам на окружающих. Выше среднего роста, с чуть удлиненными чертами лица, небольшой, но тщательно подстриженной бородкой, он, видимо, озлоблен или сильно утомлен. Омар действительно устал: последние несколько недель он почти совсем не спал, вновь и вновь возвращаясь к уравнениям, над которыми бился несколько последних месяцев. Математические исследования, которыми он занялся еще до своего приезда в Самарканд, работа, которая так его захватила, сейчас, когда, казалось, почти все преграды преодолены и возникшие проблемы решены, и надо только как-то объединить найденные системы уравнений, — все это как-то вдруг неожиданно застопорилось.
Он был раздражен до предела — на себя, на свою, как ему сейчас казалось, никчемную работу, на других ученых, работавших вместе с ним в библиотеке главной самаркандской мечети, на главного кади города, на весь свет. Разумом своим он понимал, что ему надо просто хорошо выспаться и тогда его озлобление пройдет. Но что-то внутри мешало ему расслабиться. И не только желание как можно быстрее закончить работу, которая ему уже надоела. Омару хотелось и другого: поразмышлять спокойно о новых идеях и образах, приходивших к нему в голову, когда он занимался этими уравнениями.
Вот уже несколько недель, и даже не недель, а месяцев, он чувствовал себя особенно одиноким. Он ни с кем почти не разговаривал, когда его окликали, он предпочитал делать вид, что не слышит. Или забирался в дальний угол мечети, чтобы избежать назойливых околоумных расспросов и рассуждений.
Это то одиночество, когда кажется, что ты раздавлен, что ты ничто, что осталось только твое неизвестно и зачем бредущее в этой туманной жизни тело. Но Хайям знал и о другом вдохновляющем и дарящем высшую радость одиночестве, когда кажется, что весь ты, твое тело и твоя душа — это один глаз, одно око, ощущающее, видящее ту рождающуюся высшую гармонию, которая лишена преходящей суеты. И ты вдруг чувствуешь, что тоже связан с этим высшим, гармоничным, невысказанным и вечным. И не зря ведь много позже, в XX веке, придут к выводу, что чем выше творческий потенциал человека, тем более ему свойственны одиночество, отсутствие чувства уверенности и сосредоточенность на своей исследовательской работе.
Иногда он начинал молиться, и молился неистово и долго, повторяя особо странные аяты из священной книги. Но и все равно чувство опустошающего одиночества не проходило. Несколько раз он словно наяву видел своего отца, который смотрел на него, не мигая и не пытаясь что-то сказать. Омар не был сентиментален и, несмотря на молодость, не очень-то доверял чувствам. Но, ощущая, пристальный и внимательный взгляд своего отца, которого уже два года не было в живых, он хотел расплакаться. Ему было жалко себя, своего отца, своих близких. Но слез почему-то не было.
Почти все ошибались, пытаясь определить возраст нишапурца. Чаще всего ему давали 26 лет. «А ведь через несколько дней мне исполнится только двадцать», — усмехнулся Омар. Он остановился возле нищего старика, равнодушно глядящего на синее небо пустыми глазницами и беззвучно повторяющего что-то худыми, почти белыми губами. Середина мая 1068 года. Впереди было обычное жаркое лето Мавераннахра. Омар бросил старику полдирхема и быстро зашагал дальше.
Если бы его спросили, нравится ли ему Самарканд, то двадцатилетний Омар Хайям скорее всего недоуменно посмотрел бы на вопрошающего. Молодость всегда и повсюду и несмотря ни на что любопытна. А Самарканд — первый город Мавераннахра, пристанище ученых, с его библиотеками, с его памятью о великом и загадочном прошлом, запечатленном в камне и глине, — разве может он оставлять равнодушным?
А впрочем, было и то, что порой и раздражало неспокойного и резкого Омара, — толпы и толпы людей. В городе в то время было около полумиллиона шумного и пестрого населения. Самарканд соединял испокон веков главные торговые пути из Индии (через Балх), из Персии (через Мерв) и из бескрайних владений тюрков. Да и необыкновенное плодородие окрестностей также являлось причиной большой скученности людей.
Город вместе со своими окрестностями в то время был окружен двойной стеной в 12 фарсангов (около 80 километров) с 12 воротами, состоящими из двух половинок. За каждыми воротами были еще другие, также двойные; между первыми и вторыми располагались жилища привратников.
Самарканд с предместьями занимал территорию в 6000 джерибов (1 джериб равняется 1952 квадратным метрам). В шахристане — историческом центре Самарканда — находились соборная мечеть и цитадель с дворцом правителя.
В шахристан можно было попасть через четверо ворот: на востоке — Китайские, на возвышенности, с которой по многочисленным ступеням спускались к Зеравша-ну; на западе — Наубехарские, или Железные; на севере — Бухарские, или ворота Осрушаны; на юге — Кешские, или Большие. Могучие стены шахристана были выстроены еще до арабских завоеваний. Строительство потребовало много глины, так что образовался большой ров. Чтобы привести по этому рву воду в город, построили каменную плотину в местечке ас-Саффарун. Вода входила по арыку в шахристан через Кешские ворота. Арык проходил над рвом стены. Доход с участков земли, расположенных по берегам арыка, предназначался на его поддержание. Работы по ремонту плотины составляли натуральную повинность самаркандских огнепоклонников, которые за это были освобождены от подушной подати.
С внешней стороны шахристана находилась возвышенность, называемая Кухек («Горка»), Здесь брали камни для городских построек и глину для выделки сосудов и других предметов. От Китайских ворот дорога спускалась к реке, чтобы перейти через мост. Глубина реки под мостом равнялась 2 камал (около 3,7 метра). Во время таяния снега в горах вода по временам поднималась выше моста и жители Самарканда не могли остановить наводнения.
Город утопал в садах: они составляли гордость Самарканда. Фруктовые деревья и виноградники имелись почти при каждом доме. Как-то Омар поднялся на самое высокое место в городе. Оттуда глазу предстало сплошное море зелени.
Садоводство процветало благодаря искусственному орошению. Вода, проведенная в город, разделялась на четыре протока, каждый из которых делился еще на две ветви, так что всех крупных арыков было восемь. Всего в Самарканде насчитывалось 680 плотин.
Омар направлялся к соборной мечети, которая находилась невдалеке от цитадели. Улица, по которой он шел, как, впрочем, и большинство других, имела каменную мостовую. Самарканд славился одной любопытной особенностью: в городе было до 2000 мест, где можно было получить даром воду со льдом. Вода содержалась в фонтанах или подавалась в медных кувшинах и глиняных сосудах. Один из очевидцев описывал это таким образом: «Редко видел я постоялый двор, угол улицы, площадь или группу людей у стены без того, чтобы там не было ледяной воды, которую раздавали Аллаха ради; воду раздавали в соответствии с пожертвованиями в 2000 местах — как из кирпичных хранилищ, так и из бронзовых чанов».
В городе жило множество ремесленников, и зимой и летом всегда шла бойкая торговля. Один из крупнейших арабских путешественников, Макдиси, перечисляя товары, вывозимые из Мавераннахра, писал: «Из Самарканда вывозятся ткани серебристые и самаркандские, большие медные котлы, изящные кубки, палатки, стремена, удила, ремни… еще парча, вывозимая к тюркам, и красные ткани, известные под названием „мумарджал“, ткань синизи (полотняная), много шелка и шелковых тканей, лещинные и простые орехи… Не имеют себе равных бухарское мясо и род бухарских дынь, известных под названием „аш-шак“, хорезмийские луки, шашская посуда и самаркандская бумага».
Самаркандская бумага оказала большое влияние на развитие не только мусульманской, но и европейской культуры. Считается, что самаркандских ремесленников научили приготовлению бумаги китайцы, взятые в плен арабским полководцем Зиядом ибн Салихом. В Китае тряпичная бумага без примесей изготовлялась уже во II веке. К началу XI века бумага из Самарканда в мусульманских странах совершенно вытеснила папирус и пергамент. Самарканд известен был еще и тем, что здесь находился один из крупнейших невольничьих рынков Востока.
Но возвратимся к Омару Хайяму. Во всех известных исторических хрониках, где упоминается его имя, нет и намека на объяснение того, почему и как он оказался в Самарканде, покинув свою родину — Хорасан. И мы можем только догадываться о тех причинах, которые заставили молодого Хайяма перебраться в Мавераннахр.
В 1066 году умирает его отец, который дал ему возможность учиться и получить блестящее образование. Жизненный путь талантливого нишапурца к этому времени был им в основных чертах, вероятно, уже определен — благородный путь познающего истину. И даже если предположить, что после смерти отца его материальные условия резко ухудшились, тем не менее в обычных условиях он вполне мог бы устроиться и продолжить свои занятия в Нишапуре, в то время крупнейшем научном центре мусульманского мира.
Но по каким-то причинам в Хорасане остаться он не мог. Более того, Хайям оказывается вообще во враждебном Сельджукидам государстве. Начиная с 1064 года начались постоянные нападения Алп-Арслана на караха-нидское государство в Мавераннахре. И можно предположить, что Хайям был вынужден бежать из Нишапура, спасаясь от каких-то преследований. Впрочем, он и сам это не скрывал. Во введении в свой алгебраический трактат, написанный во время пребывания в Мавераннахре, он говорит: «Я же… всегда горячо стремился к тому, чтобы исследовать все эти виды (уравнений) и различить среди этих видов возможные и невозможные случаи, основываясь на доказательствах, так как я знал, насколько настоятельна необходимость з них в трудностях задач. Но я был лишен возможности систематически заниматься этим делом и даже не мог сосредоточиться на размышлении о нем из-за мешавших мне превратностей судьбы. Мы были свидетелями гибели ученых, от которых осталась малочисленная, но многострадальная кучка людей. Суровости судьбы в эти времена препятствуют им всецело отдаться совершенствованию и углублению своей науки. Большая часть из тех, кто в настоящее время имеет вид ученых, одевают истину ложью, не выходя в науке за пределы подделки и притворяясь знающими. Тот запас знаний, которым они обладают, они используют лишь для низменных плотских целей. И если они встречают человека, отличающегося тем, что он ищет истину и любит правду, старается отвергнуть ложь и лицемерие и отказаться от хвастовства и обмана, они делают его предметом своего презрения и насмешек».
Неприкрытая горечь и озлобление сквозят в этих строках, написанных молодым математиком. Омар Хайям говорит не только о том, что он был «лишен возможности систематически заниматься» наукой, но и «даже не мог сосредоточиться на размышлении» из-за мешавших ему «превратностей судьбы». Он видел, как гибли истинные ученые, «от которых осталась малочисленная, но многострадальная кучка людей». Какие «суровости судьбы в эти времена» мог иметь в виду нишапурец? Вряд ли можно вполне ясно представить себе эти обстоятельства (которые будут играть важную роль и в дальнейшей жизни Омара Хайяма), если не оглянуться на предшествующий эпохе Хайяма драматический период.
В первой четверти VII века в Мекке, небольшом торговом городе среди гор и каменистых полупустынь Западной Аравии, одно за другим произошли события, которым суждено было решительно повлиять на ход мировой истории, неожиданно и навсегда изменить судьбу не только язычников Аравии, но и многих других народов, вызвать к жизни одну из крупнейших цивилизаций мира.
Здесь, в Мекке, как гласит предание, Мухаммад[3], сын Абдаллаха, сирота, пастух, а позднее — доверенный по торговым делам богатой вдовы, криком созвал на площадь своих соплеменников и возвестил им о ниспосланном ему свыше «слове божием». Его осыпают камнями, бранью и угрозами, а затем вынуждают бежать из родного города. Но ничто уже не могло остановить событий: из «слова» родилась религия ислама. «Слово» привело к «делу». А «дело» обернулось для мира грандиозным движением народов, столетием бесчисленных сражений, гибелью великой Сасанидской империи в Иране и Вестготского королевства в Испании, жестокими поражениями Византийской империи, завоеванием арабами Ирана, Сирии, Египта, Северной Африки.
VII век стал временем великих потрясений и перемен. Результатом их было возникновение арабо-мусульманской цивилизации, определившей развитие культуры многих народов, внесшей огромный вклад в формирование как европейской, так и всей вообще мировой цивилизации.
К 630 году политическое объединение Аравии под главенством Мухаммада закончилось. Его преемниками стали «заместители»[4] (халифы), которые считались одновременно главами духовными (имамами) и политическими (эмирами). Первые четыре халифа («праведные халифы») принадлежали к числу родственников и ближайших сподвижников Мухаммада — Абу Бакр (правил в 632—634 гг.), Омар (634—644 гг.), Осман (644—656 гг.) и Али (656—661 гг.).
Период халифата в данном случае важен прежде всего тем, что именно тогда сложилась замечательная мусульманская средневековая культура. Ее сложная, противоречивая и богатая по результатам история была тесно связана и тесно переплелась с развитием основных форм мироощущения, миросозерцания, основных типов мышления, складывавшихся в ходе нескончаемых и ожесточенных богословских споров, в результате которых формировались, оттачивались и рушились философско-религиозные системы, создавая насыщенную интеллектуальную атмосферу той эпохи.
Действительные титаны мысли — это всегда порождение не только своего периода, но и его прошлого. Но их творчество непременно простерто и в будущее. Человек, созидающий не просто слепок, пусть даже сложных социально-экономических, политических, идеологических связей того общества, в котором он появляется на свет и в котором он живет. Творцы, на то они и творцы, оказываются не только втянутыми, но и определяют глубину и размах интеллектуальных прорывов истории, возникающих то там, то тут на нашей планете.
Творящая личность — это, пожалуй, наиболее сложное противоречие каждого этапа истории. Ведь истинный стимул к действительному творению — это глубоко личностное осознание несовершенства всех типов мышления, существующих в данный момент истории.
Тревога вечная мне не дает вздохнуть, От стонов горестных моя устала грудь, Зачем пришел я в мир, раз — без меня, со мной ли — Все так же он вершит свой непонятный путь?И вряд ли можно в полной мере оценить такую сложную и уникальную личность, как Хайям, если не рассмотреть ее в контексте появления и борьбы философско-богословских доктрин и течений, определивших интеллектуальную атмосферу жизни великого Омара ибн Ибрахима. Схоластические одежды оказывались очень часто слишком тесными, чтобы скрыть пульсирующую человеческую мысль: познаваем ли мир; если да, то каким же образом; есть ли предел человеческому познанию; ну а что за этим пределом; свободен ли человек в своих поступках, в своем движении за истиной; а если нет, то почему, и т. д.
Каждый молится богу на собственный лад. Всем нам хочется в рай и не хочется в ад. Лишь мудрец, постигающий замысел божий, Адских мук не страшится и раю не рад.Вернемся, однако, вновь в первую половину VII века. Характеризуя это время, советский ученый Е.Э. Бертельс писал: «Как в годы правления Мухаммада, так и в годы правления его первых двух „заместителей“ Абу Бакра и Омара арабское общество Мекки и Медины представляло собой своеобразную религиозную общину, в которой светской власти в полном смысле этого слова, в сущности, не было, где каждое законодательное и административное распоряжение воспринималось как непосредственное веление Аллаха. Можно думать, что образ жизни Абу Бакра и Омара действительно мало чем отличался от образа жизни любого члена общины, в том числе даже и наименее материально обеспеченного».
Но уже при третьем халифе — Османе все начало меняться. Начавшиеся при нем волнения, приведшие в конце концов к его гибели, были вызваны тем, что он стал открыто нарушать установленные его предшественниками правила. Община мусульман возмущалась тем, что он завел себе несколько домов, умножил свои стада, захватил земельные участки и содействовал также обогащению всей родни халифа.
Убийство Османа послужило началом ожесточенной м яростной политико-религиозной борьбы, продолжавшейся все недолгое правление халифа Али. Междоусобицей ловко воспользовался представитель рода Омайн — Муавиа ибн Абу Суф'ян, который осенью 661 года захватил власть.
Для укрепления завоеванных позиций Омейяды используют все средства, устраняя потенциальных претендентов на халифский престол, в первую очередь потомков Али. Никакие традиции их уже не могут остановить, и даже священная Мекка при Муавии становится ареной яростных столкновений.
Но своих собственных приверженцев Омейяды стараются подкупить обильными щедрыми дарами, а поэтому требуется непрерывное пополнение сокровищницы. При разделе военной добычи уже не может быть и речи об участии в этом дележе всей общины, как это было при пророке. Начинается быстрая имущественная дифференциация.
По мере укрепления омейядского государства усиливалась и потребность соответствующего религиозно-идеологического обоснования отхода от традиций, сложившихся при Мухаммаде. Коран, хотя и был сведен в одно целое и закреплен письменно, давал ответ далеко не на каждый вопрос, возникавший в различных жизненных ситуациях. Потребность в каком-то дополнении к священной книге возрастала. И естественным источником такого дополнения стали воспоминания ближайших сподвижников Мухаммада о том, что говорил пророк по поводу аналогичных случаев и каковы были тогда его действия.
Однако завоевательные войны и главным образом междоусобная борьба после убийства Османа быстро привели к тому, что ряды людей, сохранявших такие воспоминания о Мухаммаде, значительно поредели. Собирание и запись этих преданий (хадисов) делается, таким образом, одной из важнейших юридических, моральных, идеологических задач. Создается своего рода профессия «мухаддисов» (собирателей и толкователей хадисов), для сбора их предпринимавших порой поездки в самые отдаленные края все расширявшегося халифата.
Какие хадисы являлись подлинными, какие нет — затруднялись сказать самые известные и авторитетные богословы. Некоторые считали подлинными только семнадцать хадисов, другие триста. Знаменитый Абу Абдал-лах аль-Бухари, составитель известного сборника хадисов Ас-Сахих, доводил их цифру до девяти тысяч двухсот, а имам Ахмад ибн Ханбал считал, что их пятьдесят тысяч.
Первые мухаддисы пользовались в самых различных социальных слоях большим авторитетом. Но когда действия Омейядов вызвали резкое недовольство рядовых членов мусульманских общин, выразившееся в ряде восстаний, и когда простые люди стали убеждаться, что мухадисы не только не защищают права общины, но порой открыто переходят на сторону властей, положение меняется.
Из среды недовольных закономерно появляются мухаддисы нового типа. Эти люди выдвинули следующий довольно разумный и практичный критерий: доверие к мухаддису (а следовательно, и к тому, что он сообщает) возможно только в том случае, если он не только передает хадисы, но и соблюдает их, ведя жизнь аскета, тщательно избегающего всего, что может считаться запретным для истинного мусульманина. И совсем не случайно, что в среде мухаддисов этого второго типа начинает развиваться аскетическое течение. Обычное обозначение для таких людей — «захид» (отшельник, аскет).
В основе движения захидов изначально не лежали никакие сложные теории. Их отличают от широких кругов верующих повышенная интенсивность эмоционального восприятия религии и, в известных чертах, религиозной практики. Например, исходя из такого аята (стиха) Корана «и поминайте меня, дабы я помянул вас», они все свободное время стремились отдавать повторению священного слова «Аллах».
Велись длинные и сложные дискуссии на тему о том, что считать «дозволенным» и что «запретным». Сходились на том, что всякое даяние, исходящее от носителей власти или от их приближенных, должно безусловно считаться «запретным», так как богатства властителей не заработаны честным трудом, а добыты путем насилия. Все биографии захидов полны рассказов о том, как эти благочестивые мужи категорически отказывались принять какой-либо дар халифа или его приближенных. Один из них даже считал нечистой свою собственную курицу только потому, что она залетела на крышу к соседу — воину из халифской гвардии и поклевала там зерна. Увещевать властителей они считали своим долгом, но принять от них не желали и куска хлеба.
Аскетическое течение в исламе, безусловно, оказало свое воздействие на формирование мироощущения Омара Хайяма. Оно найдет свое отражение позднее и в философских его произведениях. Об этом же говорят и его четверостишия.
Вместо злата и жемчуга с янтарем Мы другое богатство себе изберем: Сбрось наряды, прикрой свое тело старьем, Но и в жалких лохмотьях — останься царем!Интересная черта биографий ранних захидов состоит в том, что большинству этих людей приписывается лишь один из двух способов зарабатывать себе на хлеб: они или собирали в степи колючки и продавали их на рынке, или таскали воду. Основная мысль совершенно ясна. Как колючки, так и вода (из общественных хранилищ и рек) ничьи, ценности не имеют. Ценность они приобретают лишь тем, что доставляются из отдаленных мест туда, где становятся доступны для пользования. Следовательно, получающий за них плату получает ее не за самый товар, а, в сущности, только за его доставку. Иначе говоря, захид продает здесь только свой собственный физический труд.
Освободись, о сердце, от плена чувств земных, От радостей любовных, от горестей пустых. Иди к захидам, сердце, присядь на их порог… И ты, быть может, станешь святым среди святых.Аскетизм захидов вызывал в то время чаще всего сильное сопротивление и вражду со стороны ортодоксальных теологов. Ведь антиаскетическое настроение было господствующим в первые века ислама, особенно в правление Омейядов. «Войны за веру» принесли колоссальные богатства. Обширные завоевания и захват огромной военной добычи закономерно должны были привести к появлению своего рода этики обогащения — как награда за участие в «войне за веру» надежда на «законное» и освященное Кораном обогащение от военной добычи также поддерживала антиаскетическое настроение. В ответ на это захиды заявляли, что Аллаху угодны не те, которые участвовали в джихаде «ради земной жадности», но те, которые делали это «ради будущей жизни».
Движение захидов было не только общественным течением. Постепенно стали складываться и соответствующие теоретические предпосылки. И складывались они не в вакууме, а в условиях резкой активизации различных философско-богословских течений в халифате. Мы рассмотрим только те из них, которые оказали впоследствии заметное, но сложное воздействие на жизнь и творчество Омара Хайяма.
Мужи, чьей мудростью был этот мир пленен, В которых светочей познанъя видел он, Дороги не нашли из этой ночи темной, Посуесловили и погрузились в сон.Особую роль в интеллектуальной истории этого периода сыграли мутазилиты. Основателем их учения принято считать Басила ибн Ата. Сам Васил и все его ближайшие преемники были представителями аскетического течения, о котором говорилось выше. Они представляли собой оппозицию, но оппозицию меньшинства, терпевшую непрерывные поражения.
Мутазилиты впервые в исламе стали широко применять метод объяснения и обоснования богословских и мировоззренческих проблем при помощи рациональных аргументов. Речь идет о широком использовании методов греческой логики и философии, а также философской терминологии. Мутазилиты даже приняли учение об атомистике, провозгласив, что пространство и время суть соединения атомов.
Они энергично выступили против представления Аллаха в человекоподобном образе. Приписывать богу, подчеркивали мутазилиты, человеческие свойства так же наивно, как представлять его восседающим на престоле в человеческом образе. Божество — это чистое и неопределимое в человеческих понятиях единство, оно неподобно творениям своим (людям) и непознаваемо для них. Единство, духовность, неопределимость и непознаваемость бога — вот суть учения о божестве. Поэтому-то они и отвергали учение о возможности познания божества путем интуиции, сердцем и о возможности непосредственного общения человека с божеством.
Поскольку вечен и несотворен только великий Аллах, то из этого следует, что Коран не вечен и сотворен тем же единым богом. А раз Коран — только одно из великих творений Аллаха, то нельзя и не нужно принимать буквально и без рассуждений каждое место из него. Коран — книга святая, поскольку она создана богом, но, говорили мутазилиты, эта святость относится только к духу, общему содержанию Корана, его принципам и идеям, а отнюдь не к каждому выражению, каждой букве его. Поэтому считалось необходимым аллегорически толковать отдельные его места, стараясь раскрыть внутреннее содержание «книги Аллаха».
Из общеисламского учения о справедливости бога мутазилиты выводили учение о свободе воли и отрицали предопределение.
Раз божьи и мои желания несходны, Никак не могут быть мои богоугодны. Коль воля господа блага, то от грехов Мне не спастись, увы, — усилия бесплодны.Поскольку Аллах справедлив, он в конечном счете создает только то, что справедливо, разумно и целесообразно, поэтому он не может быть источником зла и несправедливости, творцом злых и неразумных поступков, совершаемых людьми. Источником зла является не Аллах, а свободная воля, предоставленная богом своим творениям. Люди совершают свои деяния, добрые и злые, пользуясь свободной волей, вложенной в них богом. Поэтому-то, говорили мутазилиты, рай и ад являются справедливым воздаянием за дела человеческой жизни.
Наконец, мутазилиты считали, что имам-халиф имеет право и даже обязан «утверждать веру» не только языком и рукой, но и мечом, иначе говоря, он обязан утверждать веру не только проповедью и писанием, но и преследованием всех еретиков. Так что при всем своем рационализме мутазилиты отнюдь не были сторонниками свободы религиозного вольнодумства и на практике свободу воли для инакомыслящих и инаковерующих отвергали.
При седьмом аббасидском халифе аль-Мамуне, который более всего сделал для внедрения античной науки, мутазилитство стало государственной идеологией в халифате. Мамун стремился установить единое, обязательное для всех мусульман исповедание. Это казалось тем более необходимым, что политические противники халифа выступали под религиозными лозунгами.
Действия Мамуна стали значительным новшеством в исламе. В первые два века своего существования ислам представлял собой плюралистическое собрание разнообразных мнений, школ, законоведческих толков.
В это время в исламе кристаллизуются не только прямые «ереси» вроде шиитства, отделившиеся от ортодоксального ислама — «людей сунны и общины». Даже среди этих последних разные мазхабы (то есть богословские школы) в то время спорили и враждовали друг с другом. Основных правоверных мазхабов в исламе насчитывалось и насчитывается по настоящее время четыре: ханифиты, маликиты, шафииты и ханбалиты. Они расходились главным образом в вопросах права и обрядовой практики. Хотя все они принадлежали к одной и той же правоверной суннитской общине, тем не менее история полна яростных, ожесточенных и кровавых столкновений между ними. На судьбу Хайяма прямо или косвенно оказали особое воздействие три таких толка: ханифиты, шафииты и ханбалиты.
Поскольку в исламе не было, как в христианстве, соборов, которые принимали бы общеобязательные решения по религиозным вопросам, в то время трудно было определить, какое мнение следует считать правоверным, а какое еретическим.
Халиф Мамун выбрал из конкурирующих течений учение мутазилитов, поскольку это была самая разработанная логическая богословская система, кроме того, эта доктрина являлась наиболее утонченной и согласной с духом философской мысли, который стал распространяться в мусульманском мире.
Мутазилиты, однако, недолго определяли погоду в халифате и через 17 лет после смерти Мамуна уже сами были объявлены еретиками. Их стали преследовать (не парадокс ли это?) в соответствии с ими же введенным принципом преследования инакомыслящих. Но такие гонения в общем не были постоянными. Мутазилитские школы продолжали существовать к середине XI века и даже процветали в тех городах халифата, где находились культурные и научные центры: в Басре, Багдаде, Рее, Исфахане, Нишапуре, Самарканде, Гургане, Хорезме. Но временами преследования возобновлялись и были очень жестокими, как это произошло при Тогрул-беке, столицей государства которого стал Нишапур.
Мутазилиты были официально впервые осуждены при халифе аль-Мутаваккиле, и старое, основанное на традиции суннитское правоверие было снова признано государственным исповеданием в халифате в 851 году. Однако мутазилиты не перестали быть опасными для мусульманской ортодоксии: сильным оружием их была рационалистическая система и логика доказательств, взятые из арсенала рациональной философии. У правоверных суннитов разработанной системы догматики еще не было: богословы по-прежнему довольствовались прямыми ссылками на Коран и хадисы, которыми уже, однако, нельзя было удовлетворять все более требовательные умы образованных людей того времени. Настоятельная потребность в новой «ортодоксальной» системе догматики вытекала из необходимости бороться как с мутазилитами, так и со свободомыслящими философами идейным оружием, а не только преследованиями и прямым насилием.
Основоположником калама (системы ортодоксальной схоластической теологии) стал один из известных богословов конца IX века — аль-Ашари, который воспользовался оружием своих противников и начал применять методы рациональной логики в интересах уже ортодоксальной мусульманской схоластики. Позднее людей, занимающихся догматикой, стали называть мутакаллимами.
Сам аль-Ашари был учеником своего отчима мута-зилита Джуббаи. Однажды он во время лекции задал своему учителю такой вопрос: «Было три брата. Один из них умер праведником, один грешником, а один малым ребенком. Какова будет их судьба после смерти?» Джуббаи ответил: «Это ясно, праведник попадает в рай, грешник в ад, а ребенок, так как он еще не успел проявить себя, не попадет ни туда, ни сюда и останется в промежуточном состоянии». Ашари тогда задал другой вопрос: «А если ребенок обратится с жалобой к богу и спросит его, почему он не дал ему возможности добрыми делами добиться доступа в рай, что ответит бог?» Джуббаи усмехнулся: «Ты же знаешь, что бог может творить только то, что наиболее выгодно для человека. Бог ответит: „Я знал, что ты, если подрастешь, то станешь грешником и обречешь себя на адские муки, потому-то я и отнял у тебя жизнь ранее…“ Ашари тут воскликнул: „А тогда грешный брат в отчаянии возопит: „Господи! А почему же ты меня не умертвил ребенком и дал мне стать грешником?“ Что ответит бог на это?“ Джуббаи оторопел и, помолчав, смог только прошептать: „Наущение сатанинское…“ Но победоносный Ашари заявил: „Видишь ли, учитель, твой осел застрял на мосту. Теория твоя не выдерживает критики того самого разума, который ты так восхваляешь“.
Мы — послушные куклы в руках у творца! Это сказано мною не ради словца. Нас по сцене всевышний на ниточках водит И пихает в сундук, доведя до конца.В отличие от прежних ортодоксов Ашари защищал суннитское правоверие не только ссылками на Коран и хадисы, но и логическими доводами. В полемике с мутазилитами он пользовался их же методами логики и рационалистической философии.
Основывая догмат о вечности и несотворенности Корана, Ашари подкрепляет его таким логическим доводом: творец вечен вместе со своим словом, а слово — это и есть Коран.
Благоговейно чтят везде стихи Корана, Но как читают их? Не часто и не рьяно. Тебя ж, сверкающий вдоль края кубка стих, Читают вечером, и днем, и утром рано.Аль-Ашари постарался примирить два традиционных ортодоксальных, но противоречащих друг другу догмата: догмат о предопределении судьбы и учение о загробной ответственности человека за свои поступки. Аллах создал человека вместе с его будущими поступками и со способностью их совершать. Это творение — акт воли Аллаха. Но человеку с его индивидуальным сознанием свойственно присваивать себе вещи и действия, с ним связанные. Благодаря такому «присвоению» человек считает своими и приписывает себе свои поступки и волю к их совершению, хотя в действительности эти поступки объясняются частным, индивидуальным по отношению к каждому отдельному человеку актом творческой воли Аллаха. Таким образом, человек «присваивает» себе акт воли бога, и это «присвоение» побуждает человека воображать, что он обладает свободой воли и свободой выбора между поступками, отсюда происходит и идея о существовании свободы воли у человека.
Такое построение Ашари внешне кажется логически остроумным, но в философском смысле оно неубедительно. Действительно, при всех своих софистических ухищрениях Ашари, по сути, вновь подтверждает тезис о том, что человек является орудием воли Аллаха. А поэтому не может быть устранено и ключевое противоречие: каким образом человек, обладая лишь мнимой свободой воли и будучи, по сути дела, только автоматом, может отвечать за свои поступки и быть за них достойным рая или ада? Воздаяния в загробной жизни за земные поступки людей не имеют никакого морального обоснования, поскольку во всех деяниях всех людей признается абсолютное значение воли Аллаха. А поэтому принципиальное различие между добром и злом не может быть логически объяснено и теряет всякое значение.
Наполнив жизнь соблазном ярких дней, Наполнив душу пламенем страстей, Бог отреченья требует? Вот чаша, Она полна. Нагни — и не пролей! Ловушки, ямы на моем пути — Их бог расставил и велел идти. И все предвидел. И меня оставил. И судит! Тот, кто не хотел спасти!Ашари выступил как против антропоморфизма прежних консервативных теологов, так и против точки зрения мутазилитов о невозможности приписывания богу каких-либо атрибутов. Но отрицание антропоморфных представлений о боге и приписывание ему человеческих атрибутов было достаточно специфическим. Ашари заявлял, что представление о «руках», «лице» бога и т. д, является антропоморфизмом только тогда, когда сознательно уподобляют все это человеческим рукам, лицу и т. д. Но если верить в «лицо», «руки» бога и его «восседание на престоле», не пытаясь объяснить себе эти выражения Корана, то есть не задавая вопросов и не требуя объяснений, то такая вера и будет «правоверной истиной». Не случайно из-за этих ухищрений автор известной энциклопедии «Мафатих аль-улум» («Ключи знаний») Абу Абдаллах Мухаммед аль-Катиб аль-Хорезми называл самих ашаритов попросту мушаббиха — антропоморфи-стами.
Ты не очень-то щедр, всемогущий творец: Сколько в мире тобою разбитых сердец! Губ рубиновых, мускусных локонов сколько Ты, как скряга, упрятал в бездонный ларец?Наконец, Ашари считал, что мусульмане, даже впавшие в великие грехи, все же остаются правоверными и что для мусульман осуждение на адские муки будет только временным. Заступничество пророков также может освободить души грешников из геенны. Это мнение впоследствии было принято большинством суннитских теологов.
Система Ашари была принята прежде всего последователями шафиитского мазхаба. В Иране, где этот мазхаб был очень распространен, система ашаритов уже в X веке завоевала достаточно прочные, хотя и не господствующие позиции. Среди остальных мазхабов ашаритский калам распространялся гораздо медленнее. Более того, ашариты подвергались гонениям и преследованиям со стороны еще более консервативных ортодоксов. При том же сельджукидеком завоевателе Ирана Тогрул-беке ашариты были объявлены еретиками и подверглись преследованиям.
Все, что будет: и зло, и добро — пополам Предписал нам заранее вечный калам. Каждый шаг предначертан в небесных скрижалях, Нету смысла страдать и печалиться нам.Наряду с умеренным шиизмом, отличавшимся от ортодоксального ислама (суннизма) относительно немногими сторонами доктрины, главным образом учением о наследственном имамате наследников четвертого праведного халифа Али, сложился ряд крайних шиитских сект. Все они развивали в разных формах идею «воплощения» (человека в боге).
Сами мусульманские теологи различают три формы обожествления людей: отражение божества и божественной силы в человеке; одновременное существование человеческого и божественного начал в душе; воплощение божества в человеке, человеческая природа которого при этом изменяется в божественную. Последние две формы, свойственные мироощущению крайних шиитских сект, все суннитские и умеренные шиитские теологи считают еретическими.
Шиитским движениям была присуща идея установления «всеобщей справедливости» и социального равенства. Шииты стремились к утверждению «истинного» имамата Алидов и восстановлению «чистого» ислама в его первоначальном виде, к теократии, которая рисовалась в идеализированном виде и противопоставлялась светскому (феодальному) государству халифата. Это и была та «открытая ересь», которая, как указывает Ф. Энгельс, характерна для народных и оппозиционных движений эпохи феодализма. Ожидания появления шиитского Мессии (Махди), общие для разных, преимущественно шиитских движений, также связывались с народными чаяниями об установлении «царства справедливости» на земле. В шиитских хабарах (хадисах) о Махди постоянно повторяется в разных вариантах одна идея: «Он (Махди) наполнит землю правдой и справедливостью так же, как она была наполнена несправедливостью и насилием».
Возникновение секты исмаилитов было связано с расколом в среде шиитов в середине VIII века. Шестой шиитский имам Джафар ас-Садик отстранил своего старшего сына Исмаила от наследования имамата. Старинное предание объясняет это пристрастием к вину. Ведь сказано в Коране: «Вино, майсир, жертвенники, стрелы — мерзость из деяния сатаны. Сторонитесь же этого, — может быть, вы окажитесь счастливыми! Сатана желает заронить среди вас вражду и ненависть вином и майсиром и отключить вас от понимания Аллаха и молитвы».
Часть шиитов, однако, продолжала считать наследником Исмаила. Со временем, спасаясь от преследований, они разбрелись по разным странам — в Сирию, Хорасан и т. д. Имя и местопребывание того из них, кто признавался очередным имамом, сообщалось только немногим преданным соратникам. Их позднее стали называть фа-тимидскими исмаилитами.
Карматы (второе направление в исмаилизме) считали, что имамов, как и главных пророков, должно быть всего семь. Поэтому седьмой имам Мухаммед ибн Исмаил должен считаться последним имамом; больше имамов, по их мнению, не должно быть, и теперь следовало только ожидать появления седьмого пророка аль-Махди.
Основная масса последователей карматского движения состояла из крестьян. Но немало было среди них также ремесленников и бедуинов-кочевников. Всех их объединяли вражда к халифату и надежды на создание нового общественного строя, основанного на социальном равенстве.
В течение IX—X веков произошла целая серия карматских восстаний в Хорасане, Ираке, Сирии, Индии, Средней Азии. В 899 году карматы захватили город Лахсу. Она стала столицей карматского государства (просуществовавшего полтора столетия), в котором была предпринята попытка осуществить социальный идеал карматского исмаилизма.
О, если б каждый депь иметь краюху хлеба, Над головою кров и скромный угол, где бы Ничьим владыкою, ничьим рабом не быть! Тогда благословить за счастье можно б небо.Великий поэт-исмаилит Насир-и-Хосров побывал в Лахсе в 1051 году, когда трехлетний Омар уже бегал по улицам Нишапура. Основное населенно страны состояло из свободных крестьян и ремесленников. Город Лахса был окружен пашнями и рощами финиковых пальм. Никто из жителей не платил никаких налогов. Государство владело 30 тысячами рабов, в основном ввозившихся из Африки, и бесплатно предоставляло их земледельцам для работ в поле и в саду, а также для ремонта зданий и мельниц. Была и государственная мельница, которая молола бесплатно для народа зерно в муку. Кто из земледельцев нуждался, мог получить от государства пособие. Если в Лахсе поселялся приезжий ремесленник, он получал от государства на приобретение орудий труда и обзаведение пособие, которое мог возвратить, когда ему заблагорассудится, без процентов. Ростовщичество было запрещено. Во главе государства стояла коллегия из шести старшин и шести их заместителей; всякое решение принималось коллегией при условии единогласия. В ополчении числилось 20 тысяч человек.
Это была попытка восстановления старинной свободной земледельческо-ремесленной общины, однако основанной на рабстве. Карматы, проповедуя социальное равенство, не распространяли его на рабов. Устранив крупное землевладение, они сохранили общинное рабство.
Религиозная система исмаилизма состояла из двух очень различных ветвей: «внешняя» доктрина, общедоступное учение для рядовых членов секты, и «внутренняя» доктрина, которую открывали только посвященным членам секты. Причем «внутренняя» система рассматривалась как аллегорическое толкование «внешней» доктрины. Важнейший исмаилитский принцип гласил: «Нет внешнего без внутреннего, и, обратно, нет внутреннего без внешнего». Каждому пункту «внешней» доктрины соответствовал таким образом разъясняющий его тайный смысл пункт «внутренней» доктрины.
«Внешняя» доктрина у фатимидского исмаилизма мало чем отличалась от умеренного шиизма и сохраняла почти все обрядовые и правовые постановления шариата: молитвы, посещение мечети, посты и т. д. Карматы же отрицали большую часть обрядов «правоверного ислама» и даже поклонение Каабе считали идолопоклонством.
«Внутренняя» доктрина состояла из двух частей: аллегорическое истолкование Корана и шариата (например, ад как аллегория состояния невежества; рай — как аллегория совершенного знания, которое может быть достигнуто путем усвоения эзотерического учения исмаилизма) и общая система философских и теологических знаний.
В соответствии с исмаилитской системой единое начало множественности явлений мира есть всевышняя тайна («невидимое», «Единое»), У него нет никаких атрибутов, оно неопределимо и непознаваемо для людей, которые не могут иметь с ним никакого общения.
Абсолют пребывает в состоянии вечного покоя. Он не является непосредственным творцом мира. Абсолют простым предвечным актом воли выделил из себя творческую субстанцию — Мировой (или Всеобщий) Разум. Это первая эманация Абсолюта. Мировой Разум обладает всеми атрибутами божества; его главный атрибут — знание.
Мировой Разум произвел вторую, низшую эманацию — Мировую Душу, ее главный атрибут — жизнь. Будучи несовершенной, Мировая Душа стремится достигнуть совершенства, выделяя из себя новые эманации. Она создала первичную материю, которая, в свою очередь, произвела землю, планеты, созвездия, живых тварей. Однако первичная материя пассивна, инертна, лишена творческого начала — она может создавать только такие формы, которые являются бледными подражаниями прообразам, существующим в Мировом Разуме.
Мир есть макрокосм, «большой мир», а человек есть микрокосм, «малый мир». Тайное учение исмаилитов особо подчеркивает параллелизм, соответствие между микрокосмом и макрокосмом.
Среди живых тварей должен появиться Совершенный человек как венец человечества. Появление такого человека объясняется стремлением Мировой Души к совершенству. Совершенный Человек появляется на земле ради спасения людей. Спасение же есть достижение совершенного знания; рай — аллегория этого состояния совершенства. Когда человечество достигнет совершенного познания, тогда зло, которое есть не что иное, как неведение, исчезнет и мир вернется к своему источнику — Мировому Разуму.
Мне свят веселый смех иль пьяная истома, Другая вера мне иль ересь незнакома. Я спрашивал судьбу: «Кого же любишь ты?..» Она в ответ: «Сердца, где радость вечно дома».Вернемся вновь к движению захидов. Борьба внутри ислама за создание философско-интеллектуальной базы не остановила его дальнейшего развития, а, напротив, ускорила. Да и сама эволюция аскетического движения, непрестанно устремленная в одном направлении мысль, ощущение взора божества, следящего за действиями своего раба, пламенная готовность к жертве, эмоциональная жажда отказа от всех благ — все это должно было рано или поздно привести к интеллектуальному самоосознанию движения. Вообще надо отметить, что изменения, происходящие в религиозных системах, вызываются не только социальными обстоятельствами. Эти изменения обусловливаются и развитием собственно интеллектуально-религиозной мысли. Отсутствие эволюции в таких системах означает либо консервативность социальных отношений, либо отсутствие творческих религиозных мыслителей, либо то и другое.
Из всего, что Аллах мне для выбора дал, Я избрал черствый хлеб и убогий подвал, Для спасенья души голодал и страдал, Ставший пищим, богаче богатого стал.Важную роль в разработке теоретической базы движения захидов сыграл Абу Абдаллах аль-Мухасиби из Багдада, В отличие от ранних аскетов он обладал уже полной богословской подготовкой, а потому мог делать попытки создания достаточно разработанной понятийной системы своего учения. Мухасиби ставил себе задачу выявить соотношение между внешними действиями человека и намерениями его сердца. Тщательнейшее исследование самых сокровенных помыслов и движений души привело его к формулированию понятия халь — экстатического состояния, которое, как он полагал, ниспосылается человеку как божественная милость. Халь — состояние скорее даже вневременное, ибо это мгновенное, внезапное озарение, окрашенное тонами того или иного настроения.
Мухасиби не считал приемлемым для истинно верующего удовлетворяться одним лишь внешним актом благочестия. Для него было важно, чтобы внутреннее состояние мусульманина соответствовало его внешним действиям. Более того, внутреннему состоянию он придавал гораздо большее значение. Такой вывод вполне закономерен, ибо именно в это время богословие также начинает отводить исключительное значение намерению. Например, знаменитый сборник хадисов аль-Бухари как раз и начинается изречением: «Поистине, дела — лишь в намерениях», то есть, иными словами, случайному, не связанному с надлежащим психическим состоянием действию юридического значения придавать нельзя.
Развитие феномена самонаблюдения и его теоретическая интерпретация усиливались и вполне конкретными социальными обстоятельствами. Аббасиды постоянно призывали ко двору захидов, получивших известность святостью жизни, выслушивали их увещевания и осыпали их щедрыми дарами. И ореол святости нередко делался прекрасным средством к приобретению уже не небесных, а вполне земных благ.
Не надо продолжать, аскет, о вечности бесплодный спор. Я слишком многое узнал ж совершил до этих пор. Ты лучше пей вино, аскет, — ему замены в мире нет, Ведь из любых теснин вино па вольный выведет простор.Против злоупотребления «святостью» и выступила школа Мухасиби и учение «людей порицания», появившиеся в Нишапуре в IX веке. Основа последнего заключалась в следующем. Главная задача человека, принявшего учение «людей порицания», — в самоусовершенствовании, в очищении сердца и помыслов и строжайшем соблюдении сунны. Но эта деятельность — его личное дело, о нем не должны знать посторонние. Все, что происходит в его душе, — тайна, касающаяся только бога, ведающего все сокрытое, и его самого. Внешне он ничем не должен отличаться от других людей. Напротив, если люди будут считать его грешником, презирать и оскорблять, то это должно радовать его. Это доказательство того, что его усилия ведут его по правильному пути, ибо все пророки и святые всегда подвергались поношениям и оскорблениям. Более того, считалось даже возможным, чтобы «люди порицания» совершали ряд нарушений сунны (конечно, маловажных), ибо именно таким путем они могли скорее всего составить себе плохую репутацию среди окружающих.
Ты у ног своих скоро увидишь меня, Где-нибудь у забора увидишь меня, В куче праха и сора увидишь меня, В полном блеске позора увидишь меня!Поставив себе, например, задачу жить только сбором подаяний, «люди порицания» обращались к прохожим на нишапурских улицах с просьбой о милостыне в нарочито грубой и оскорбительной форме. Считалось, что если и при таких условиях им что-либо подадут, то это будет сделано явно по воле божией. Они же сами при этом не предпринимали ничего, что могло бы вызвать к ним благосклонность или сострадание, и не превращали свою добровольную нищету в ремесло.
Если «люди порицания» страшились лицемерия перед людьми, то багдадцы выступали против еще более страшного порока — лицемерия перед самим собой. Если даже человек, утверждали они, добьется того, что его усилия по очищению сердца будут скрыты от всего мира, то он может прийти к еще более опасному греху — ослеплению своей «святостью», упоению своими бедами и терзаниями. Если он даже тайно от всех будет терзать свою плоть, но рассчитывать при этом на награду в будущей жизни, то это та же самая торговля «святостью».
Однажды встретился пред старым пепелищем Я с мужем, жившим там отшельником и нищим; Чуждался веры он, законов, божества: Отважнее его мы мужа не отыщем.Знаменитый суфийский шейх аль-Джунайд, получивший, кстати, классическое богословское и философское образование, мысля логически, приходит к смелому выводу: истинный верующий вообще не должен рассчитывать на какую-либо награду. На вопрос, чем же человек может выразить свою покорность божественной воле, аль-Джунайд отвечал однозначно: только полным выключением своей собственной воли, собственного «я», сознанием того, что единственное реальное бытие — бытие божества. Таким образом, цель, к которой должен устремляться истинный суфий, — глубокое погружение в размышления о тотальном божественном единстве. Это такая медитация, при которой собственное существование полностью исчезает и отпадают какие бы то ни было душевные движения: «Лучшая из бесед, высшая из них — беседа с мыслью в сфере божественного единства».
Для того, кто за внешностью видит нутро. Зло с добром — словно золото и серебро. Ибо то и другое — дается на время, Ибо кончатся скоро и зло, и добро.Другой суфийский мыслитель, аль-Биетами, пришел фактически к этому же, идя по несколько другому дуги. Самоочищение для него должно вытекать прежде всего из преданной, самозабвенной любви к божеству. При полном углублении в медитацию о единстве божества может зародиться чувство полного уничтожения «я», подобное слиянию «я» влюбленного с «я» возлюбленной. Человек исчезает, остается только божество. Вистами назвал это состояние фана (небытие). Это название становится одним из главных интеллектуальных понятий суфизма и приобретет впоследствии огромное значение. Именно фана в большей части суфийских школ начинает признаваться конечной целью путников тариката («суфийского пути»).
К XI веку одним из главных центров различных направлений суфизма становится Хорасан, и прежде всего Нишапур. Помимо «людей порицания», здесь действовали ученики шейха Баязида аль-Бистами, звавшие к «экстазу», проповедовавшие «упоение богом», «опьянение божественной любовью», с другой стороны — ученики шейха Джунайда аль-Багдади, видевшие в «экстазе» и «опьянении» опасность для суфия: искусственно возбуждая себя, он принимает свои фантазии за подлинное единение с богом.
Из Хорасана вышли в XI веке авторы систематических трудов по суфийской теории: Абу-ль-Касим аль-Ку-шейри, Абд аль-Малик аль-Джувейни, Абу-ль-Хасан Али ибн Осман аль-Джуллаби аль-Худжвири. Джуллаби прямо считал, что «солнце (мистической) любви и преуспевания тариката находится в звезде Хорасана».
К началу XI века в Хорасане насчитывалось более 200 суфийских обителей. Недалеко от Нишапура находилась ханака крупнейшего суфийского шейха Абу Сайда Фазлаллаха Мейхенского, умершего на следующий год после рождения Омара Хайяма.
Дервишские общины Нишапура были обычно тесно связаны с ремесленными кругами, откуда и поступал главный приток мюридов. Да и значительное большинство видных шейхов так или иначе само было тесно связано с каким-либо ремеслом. Поскольку Омар происходил из семьи состоятельного ремесленника, то, естественно, суфийская атмосфера Нишапура не могла не оказать на него определенного воздействия.
После завоевания Нишапура Сельджукидами наблюдался особенно сильный рост влияния шейхов. Говорят даже, что сам Тогрул-бек пришел па поклон к Абу Саиду Мейхенскому. Любопытная особенность многих известных суфийских шейхов в Нишапуре того времени заключалась в том, что они отличались большой терпимостью по отношению к представителям светского знания. Тот же Абу Саид однажды долго разговаривал с Абу Али ибн Синой, после чего шейх заметил: «То, что я вижу, он знает», а Ибн Сина сказал о своем собеседнике: «То, что я знаю, он видит».
Табризи в своем труде «Десять разделов» приводит следующую интересную по-своему легенду. Однажды Омар Хайям послал Абу Саиду следующее четверостишие:
Жизнь сотворивши, смерть ты создал всдед за тем, Назначил гибель ты своим созданьям всем. Ты плохо их слепил. Но кто ж тому виною? А если хорошо, ломаешь их зачем?Абу Саид ответил ему также в виде рубаи:
Что плоть твоя, Хайям? Шатер, где на ночевку. Как странствующий шах, дух сделал остановку. Он завтра на заре свой путь возобновит, И смерти злой фарраш свернет шатра веревку.Первое рубаи действительно принадлежит Хайяму, а второе является «странствующим» и приписывается другим поэтам. Но Абу Саид умер в 1049-м, когда Хайяму был лишь год от рождения. Поэтому рассказ Табризи действительно только легенда. Но она очень показательна: в ней противопоставляется основная дилемма позднего Омара Хайяма «жизнь — смерть» ключевой суфийской концепции «дух — тело».
Биограф шейха Абу Саида отмечал связь между распространением суфизма и распространением шафиитского мазхаба, настаивая на том, что все шейхи и представители тариката, жившие после Шафи'и, придерживались шафиитского толка.
В последнем разделе своего «Трактата о всеобщности существования» Омар Хайям, возраст которого приближался к шестидесяти, когда он закончил эту работу, писал: «Знай, что те, которые добиваются познания господа, чистого и высокого, подразделяются на четыре группы:
Первые — мутакаллимы, которые согласны с мнением, основанным на традиционных доказательствах. Этого им хватает для познания всевышнего господа, творца, имена которого священны.
Вторые — это философы и ученые, которые познают при помощи чисто разумного доказательства, основанного на законах логики. Они никоим образом не удовлетворяются традиционными доводами. Однако они не могут быть верны условиям логики и ослабевают.
Третьи — это исмаилиты и талимиты, которые говорят, что путем познания творца, его существования и свойств является только весть праведника, так как в доказательствах познания есть много трудностей и противоречий, в которых разум заблуждается и ослабевает, поэтому лучше так, как требует речь праведника.
Четвертые — это суфии, которые не стремятся познать с помощью размышления и обдумывания, но очищают душу с помощью морального совершенствования от грязи природы и телесности, и когда субстанция очищена, она становится наравне с ангелами, и в ней поистине проявляются эти образы. Этот путь лучше всего, так как мне известно, что ни для какого совершенствования нет лучшего, чем достоинство господа, от него нет ни запрещения, ни завесы ни для какого человека. Они имеются только у самого человека от грязи природы, и если бы эти завесы исчезли, а запрещения и стены были бы удалены, истины вещей стали бы известны и казались бы как они есть».
Отрывок этот достаточно показателен. Прежде всего не может быть и речи, что Хайям кривит душой. Он здесь безусловно искренен. Ведь если бы он писал в соответствии с тогдашними официальными предписаниями, то исмаилитов вообще постарался бы не касаться. В то смутное и бурное время их упоминать без отрицательных эпитетов считалось безусловным табу. Он, конечно, включил бы традиционных ортодоксов, а набиравших силу и популярность мутакаллимов оценил бы иначе. Но настоящая творческая личность должна быть безусловно искренней к самой себе — это в конечном счете главная предпосылка творчества. И поэтому Хайям вообще не упоминает ортодоксов, а о мутакаллимах пишет с достаточной долей иронии.
Но не будем забывать, что Хайям уже был далеко не молод, когда он пришел к своей классификации. В Мавераннахре же он очутился 18—19-летним юношей. И несмотря на пропитанный суфийскими идеями воздух Нишапура, Омар все же был в это время близок к мутазилитам, хотя и испытал, безусловно, влияние суфиев (поскольку, в частности, и те и те примыкали к шафиитам, бывшим в опале при первых Сельджукидах). И когда гонения на шафиитов в очередной раз усилились, то он был вынужден бежать из родного города.
В то же время и в Самарканде и в Бухаре, как и во всем Мавераннахре, господствующее положение занимали шафииты. Да и его первый покровитель в Самарканде, верховный судья города Абу Тахир был известным теологом именно пгафиитского толка.
Но чем же все-таки были вызваны преследования шафиитов? Как «султаны ислама», потомки Сельджука были более чем ревностными защитниками правоверия. Они выступили не только как фанатичные приверженцы ислама, но и господствовавшего в государстве Саманидов и усвоенного тюрками ханифитского толка.
И это тоже не было случайностью. Дело в том, что при всем своем правоверии и ортодоксальности ханифиты допускали широкое использование, помимо религиозного, светского права, местного обычного права, сложившегося до принятия ислама, а также законов и уставов, изданных светской властью. Благодаря этому ханифитский мазхаб оказался наиболее гибким и наиболее удобным для Сельджукидов. Этот мазхаб с особой охотой принимали кочевники (каковыми и являлись сельджуки), ибо, принимая его, они могли удерживать свои старинные патриархальные обычаи.
При Тогрул-беке шафииты подвергались ожесточенному преследованию по приказу фанатичного ханифита Кундури — визиря султана, в основном в связи с тем, что к ним примыкали мутазилиты и мутакаллимы. И хотя в 1063 году, после смерти Тогрул-бека, Кундури был казнен, тем не менее преследования шафиитов продолжались. Визирем нового султана Алп-Арслана стал шафиит Низам аль-Мульк, но из слов самого Низам аль-Мулька видно, что и Алп-Арслан был ревностным ханифитом, ненавидел шафиитов и жалел о том, что ему приходилось пользоваться услугами шафиитского визиря.
Любопытная особенность ислама того периода (и прежде всего его ханифитского толка) заключалась в относительной терпимости к иудеям, христианам, зороастрийцам и одновременно в неутихающей ожесточенной, порой кровопролитной борьбе одних сект против других, одних мазхабов с другими. Халиф Хишам преследовал и казнил мутазилитов, отрубал руки и ноги сторонникам свободы воли. В свою очередь, мутазилиты, став господствующим направлением, своих противников сажали в тюрьму, подвергали телесному наказанию и даже смертной казни. Иногда одна секта объединялась с другой против третьей. Так произошло, например, позже в Нишапуре в 1096 году. Здесь началось крупное вооруженное столкновение каррамитов с шафиитами и ханифитамп, причем в стычках участвовали тысячи людей. Активное участие в этих бурных событиях приняли не только местные горожане, но и окрестное сельское население. Вообще в мусульманском мире религиозными вопросами интересовались не только богословские круги, но и простые люди: в Нишапуре или Хамадане можно было встретить на улице носильщиков, споривших между собой, сотворен ли Коран или нет.
Преследования мутазилитов и мутакаллимов при Алп-Арслане были довольно суровыми, если Омар Хайям, в то время скорее всего именно мутазилит или примыкавший к этому течению, покинул свою родину и перебрался в Мавераннахр, а потом писал: «Мы были свидетелями гибели ученых, от которых осталась малочисленная, но многострадальная кучка людей».
Выбор Самарканда был тоже не случаен. Здесь были сильны позиции мутазилитов, которые преподавали свое учение в нескольких созданных ими медресе. Отношения между сектами и мазхабами складывались достаточно терпимо. Самарканд славился своими культурными традициями, здесь было много богатых и крупных библиотек. Город входил в состав государства, основанного в 1046 году Тамгач-ханом Ибрахимом, полный титул которого звучал следующим образом: «Опора державы, венец общины, меч наместника божьего Тамгач-хан Ибрахим».
Сам он был человеком образованным и покровительствовал развитию науки и культуры в городах Маверан-нахра. Исторические источники говорят о нем как об идеале справедливого царя. Возможно, это было преувеличением, тем не менее хан по-своему защищал и интересы простого люда.
Однажды мясники подали ему прошение, в котором жаловались на чрезмерно низкую таксу на мясо, доставлявшую им мало дохода, и просили позволения повысить ее, предлагая за это внести в казну тысячу динаров. Хан согласился, мясники внесли деньги и повысили цены. Тогда хан велел объявить, что под страхом смерти запрещает жителям покупать мясо. Мясники стали терпеть огромный убыток. Кончилось тем, что через несколько дней мясники должны были еще раз уплатить значительную сумму денег, на этот раз для восстановления прежней таксы. По этому поводу хан сказал: «Нехорошо было бы, если бы я продал всех своих подданных за тысячу динаров».
Поскольку Ибрахим отличался редким благочестием (например, он никогда не вводил новых налогов, не спросив мнения факихов), шафиитское духовенство пользовалось большим влиянием. Одной из авторитетных фигур являлся верховный судья (кадий) Самарканда Абу Тахир Абд ар-Рахман ибн Алак. Человеком он был незаурядным, высокообразованным, хотя бы потому, что в 1068 году в возрасте 29 лет он уже занимал пост верховного кадия такого крупного города, как Самарканд. Он покровительствовал ученым, и, вероятно, не только Омару Хайяму. Во введении к своему трактату о доказательствах задач алгебры и алмукабалы Хайям писал: «Поскольку всевышний Аллах даровал мне благо, я хочу посвятить себя славному и несравненному господину, судье судей имаму Абу Тахиру, да продолжит Аллах его возвышение и повергнет тех, кто питает против него зависть и вражду. Я отчаялся увидеть столь совершенного во всех практических и теоретических качествах человека, сочетающего в себе и проницательность в науках, и твердость в действиях и усилиях делать добро всем людям. Его присутствие расширило мою грудь, его общество возвысило мою славу, мое дело выросло от его света, и моя спина укрепилась от его щедрот и благодеяний. Благодаря моему приближению к его высокой резиденции я почувствовал себя обязанным восполнить то, что я потерял из-за превратностей судьбы, и кратко изложить то, что я изучил до мозга костей из философских вопросов. И я начал с перечисления этих видов алгебраических предложений, так как математические науки более всего заслуживают предпочтения». Отдавая должное восточному красноречию, столь обычному в то время, впрочем, встречающемуся и сейчас, несмотря на возможные преувеличения достоинств верховного кадия, тем не менее ясно одно: его покровительство сыграло большую роль в судьбе Хайяма и прежде всего в том, что он мог заниматься в этот период теоретической математикой, абстрактной и глубоко рационалистической наукой.
Могущество и влияние Абу Тахира определялось не только его личными качествами, хотя и они играли немаловажную роль. Ключевым являлось то обстоятельство, что он занимал пост верховного судьи такого крупного в мусульманском мире города, как Самарканд. Компетенция кади от компетенции правительственной власти четко не разграничивалась. В истории ислама очень редки случаи, когда наместники не признавали решений кади. Более того, особое значение имело то, что Абу Тахир, как и верховные кади всех других крупных городов, был назначен на свой пост непосредственно халифом — обстоятельство крайне важное, даже учитывая слабость халифской власти, проявившуюся достаточно ясно к середине XI века. Свидетельством глубокого почтения перед должностью кади, который персонифицировал собой закон и традицию, в ту эпоху служит и тот факт, что в то время, когда опальные эмиры и визиры довольно часто отправлялись в тюрьму, лишь о немногих судьях рассказывается нечто подобное.
Омар не раз бывал на судебных заседаниях, которые вел верховный кади. Обычно это происходило по вторникам и субботам в специальной просторной пристройке к соборной мечети Самарканда. Рано утром собирался здесь весь штат верховного судьи: заседатели, судебные служители и писцы, судьи, разбиравшие мелкие тяжбы, управляющий зданием суда и специальные судебные полицейские.
Обычно тяжущиеся стороны обращались в суд при помощи записок, на которых стояли имена жалобщика и ответчика, а также соответственно имена их отцов. Писцы собирали эти записки до начала разбора дел и передавали затем Абу Тахиру. Судебное разбирательство обязательно должно было происходить в условиях широкой гласности. Обычно Абу Тахир приказывал открыть настежь ворота, созвать публику, и один из служителей должен был по запискам оглашать перед всеми присутствующими дело тяжущихся сторон. Далее опрашивались свидетели, обе стороны, и наконец кади выносил свой приговор.
Иногда по вечерам, после наступления спасительной прохлады, сидя в доме у верховного судьи и пригубляя холодный щербет, Омар долго разговаривал с Абу Тахиром. Говорили неторопливо о науке, занимавшей Хайяма, богословских проблемах, интересовавших судью, знаменитых книгах и известных ученых прошлого. Рассказывал чаще сам верховный судья, а молодой нишапурец внимательно слушал. Порой разговор касался и сложных юридических вопросов.
— Ты знаешь, конечно, Омар, — неторопливо говорил низким грудным голосом Абу Тахир, глядя с грустью на весело журчащую воду в арыке, — халиф советует судье чаще читать священный Коран, точно отправлять предусмотренные ритуалом молитвы, справедливо обходиться с тяжущимися сторонами. Он не должен никому оказывать предпочтения, будь то мусульманин, христианин или иудей. Он должен быть постоянно спокоен, ибо справедливость не на стороне алчущих и суетливых. Поэтому и ходить он должен с достоинством, говорить немного и тихо, поменьше смотреть по сторонам, и жесты его должны быть сдержанны. Он должен брать себе опытных, знающих законы писцов, неподкупных служителей и достойного доверия заместителя для разбора дел, которыми он не сможет заниматься сам, и выплачивать всем им достаточное жалованье.
Судья должен тщательно выбирать свидетелей и следить за ними, он обязан вести надзор за сиротами и пожертвованиями, спрашивать совета у ученых в отношении тех дел, где он не в состоянии вынести решения на основании Корана и сунны. И если они согласно придут к противоположному решению и окажется, например, что я вынес неправильный приговор, то я должен отменить его.
Но, увы, жизнь всегда сложнее самых мудрых представлений о ней. Могу ли я быть спокойным как судья, если не могу оставаться хладнокровным как человек, видя несправедливость, творящуюся вокруг меня, но от меня не зависящую? Мои помощники неподкупны сегодня, но будут ли они столь же честны и прямы завтра? Один великий Аллах знает об этом. Я несколько раз спрашивал совета у людей образованных, которых ты хорошо знаешь, ибо часто встречаешься с ними на диспутах и обсуждениях. Но совета не дождался по этим сложным вопросам, поскольку они сами переругались и передрались друг с другом. Впрочем, ты сам об этом знаешь, ведь и ты принимал участие в этих ученых спорах.
— Я предпочитал молчать и слушать, — пробормотал Омар. — Сейчас душа у меня не лежит к этим делам.
В Самарканде, а позднее и в Бухаре большую часть времени Омар Хайям проводил в библиотеках, и прежде всего в тех, которые принадлежали соборным мечетям, В то время каждая более или менее значительная мечеть имела свою библиотеку. Впрочем, и сами Караханиды Мавераннахра считали для себя величайшей гордостью собирать книги.
Описания библиотек в Бухаре и Самарканде того времени не сохранились, но можно привести воспоминания одного из очевидцев той эпохи касательно библиотеки Адуд ад-Даула: «Библиотека помещалась в специальном здании, ведали ею управляющий, библиотекарь и инспектор. Адуд ад-Даула собрал там все книги, которые только были сочинены до него по всем отраслям знаний. Библиотека состояла из большого вестибюля и длинного сводчатого зала, к которому со всех сторон были пристроены боковые помещения. Вдоль всех стен как самого зала, так и боковых помещений он разместил шкафы накладного дерева высотой и шириной в три локтя с дверцами, опускавшимися сверху вниз. Книги помещались слоями на полках. Каждая отрасль знания имела свой шкаф и каталог, в который были занесены названия книг».
Омар Хайям мог работать и в своего рода научных учреждениях, в которых хранение книг сочеталось с обучением или, во всяком случае, с оплатой выполненной в их стенах работы. Эти так называемые «дома науки» были достаточно распространены к этому времени в мусульманских странах. Возникали они по-разному. Например, как помнил сам Хайям, кади Ибн Хиббан завещал городу Нишапуру дом с библиотекой и жилыми помещениями для приезжих ученых и стипендии на их содержание. Один из приближенных Адуд ад-Даула построил в Рамхормозе на Персидском заливе, а также в Басре библиотеки, где читатели и те, кто переписывал тексты, получали пособие. Халиф аль-Хаким основал в Каире такой «дом науки», где собрал все книги из дворцовых библиотек. Доступ к ним был свободный для всех, а заведовал «домом науки» библиотекарь и два прислужника. Кроме того, там работали еще учителя, которые преподавали. Чернильницы, тростник для письма и бумагу предоставляли там бесплатно. Правда, время от времени правители закрывали эти научные учреждения, как это произошло, например, в Каире. Учителя, обвиненные в ереси, были на всякий случай отправлены на тот свет, а сам «дом науки» закрыт, так как, по мнению власть имущих, он стал очагом религиозных смут и сектантства.
Наконец, существовала в Бухаре и Самарканде еще одна форма учебно-научных учреждений, правда, больше богословского характера — медресе, которые мог посещать Омар Хайям. Особенностью медресе были частые диспуты по богословским вопросам, прежде всего связанные с толкованием тех или иных мест в Коране и различных хадисов. А так как в Мавераннахре было много медресе мутазилитов и мутакаллимов, то там затрагивались волей-неволей и вопросы светской науки.
Примерно в 1069—1070 годах по повелению тогдашнего правителя караханидского государства Шамс аль-Мулька Омар Хайям переезжает в Бухару. Скорее всего молодому хану он был представлен Абу Тахиром. А поскольку почти каждый правитель в мусульманских странах в то время считал за честь для себя оказывать покровительство науке и окружать себя во дворе учеными, то понятно, почему Хайям получил повеление прибыть в Бухару.
Один из поздних современников Хайяма, аль-Бейхаки, писал, что «…бухарский хакан Шамс аль-Мульк крайне возвеличивал его и сажал имама Омара с собой нп свой трон». Сообщение о том, что хакан сажал Хайяма с собой на трон, может быть, и является преувеличением. Но из слов аль-Бейхаки можно сделать безусловный вывод, что в Бухаре Хайям пользовался покровительством уже самого государя.
Нет никаких данных, свидетельствующих о том, что караханидский правитель, значительную часть своего времени ведший кочевой образ жизни, проявлял бы большой интерес к математике, физике, астрономии, чем прежде всего интересовался в это время Омар Хайям. Помимо рекомендаций такого авторитетного человека, как верховный кади Самарканда, большое влияние на Шамс аль-Мулька могли оказать острый ум нишапурца и его знание религиозных вопросов: умение толковать Коран, знание хадисов и т. д. О том, что Хайям размышлял в этот период и о философских и богословских проблемах, говорят не только превратности его личной судьбы, но и косвенно рассказ арабского историка Табризи: «Я слышал еще, что, когда ученый (Хайям) соблаговолил прибыть в Бухару, через несколько дней после прибытия он посетил могилу весьма ученого автора „Собрания правильного“ (аль-Бухари), да освятит Аллах его душу. Когда он дошел до могилы, ученого осенило вдохновение, и он двенадцать дней и ночей блуждал по пустыне и не произносил ничего, кроме четверостишия:
Хоть послушание я нарушал, господь, Хоть пыль греха с лица я не стирал, господь, Пощады все же жду: ведь я ни разу в жизни Двойным единое не называл, господь.
Вполне возможно, что этот отрывок говорит также и о том, что уже в Мавераннахре Хайям начал писать свои знаменитые рубаи. Именно этот вид четверостиший стал широко распространенной и популярнейшей жанровой формой философской поэзии в персидской литературе. По своей смысловой насыщенности и емкости, цельности поэтической конструкции, простоте, скрывающей нетривиальную сложность, рубаи, пожалуй, можно сравнить лишь с японскими танка[5].
Исторически сложились два вида рубаи. Наиболее распространены четверостишия, в которых рифмуются первая, вторая, четвертая строки (оба полустишия первого бейта и вторая мисра (полустишие) второго бейта), а третья строка остается незарифмованной. Схема рифм такого рубаи — а а б а. Во втором же типе рубаи («песенное рубаи») рифмуется все четыре строки — полустишия — а а а а.
Надо отметить одну примечательную особенность персидского стихосложения. В русской поэзии ритмика силлабо-тонического стиха построена на чередовании ударных и безударных слогов. Тот или иной стихотворный размер определяется количеством и расположением таких слогов. Персидская же поэзия, как древнегреческая и латинская, основана на чередовании долгих и кратких слогов. Долгим считает тот, который образован долгим гласным. Закрытый слог с краткой гласной по долготе звучания равен открытому с долгим гласным. Два кратких слога приравниваются к одному долгому и в схеме какого-либо размера всегда могут быть заменены одним долгим. Но долгий слог, в свою очередь, никогда не заменяется двумя краткими. Таким образом, долгих слогов в стихах значительно больше коротких. Поэтому эмоционально рубаи на персидском языке воспринимаются иначе, глубже и проникновеннее, чем их смысловые переводы, например, на русский язык.
Обычно рубаи строится со строгостью логического силлогизма — это, вероятно, одна из главных причин, привлекшая к ним Хайяма-математика. В первом бейте рубаи заключены посылки, в третьем полустишии, значительность которого так часто акцентируются настораживающим и задерживающим внимание отсутствием рифмы, — вывод, который закрепляется завершающей сентенцией или ассоциацией четвертого полустишия. Однако такое построение не является обязательным. Теснейшая связь рубаи с народной поэтической стихией позволила ему счастливо избегнуть той беспрекословной кодификации структуры, на которую были обречены средневековой схоластической поэтикой все остальные жанры и жанровые формы.
…Омар лежал на спине. Он чувствовал себя глубоко расслабленным, но не опустошенным, а наоборот — цельным в умиротворенности. Ему не было ни хорошо, ни плохо — его состояние было выше этих слов. Сквозь распахнутые настежь окна в комнату проникала сентябрьская ночная прохлада, настоянная на лунном свете.
Мягкая рука Айши ласково касалась его осунувшегося лица. Хайям лежал с закрытыми глазами, но он знал, что она с грустной нежностью смотрит на него. Не разжимая своих век, Омар тихо сказал:
— Послушай, моя дорогая, эти строки родились сейчас в моем сердце для тебя.
Чтоб добиться любви самой яркой из роз, Сколько сердце изведало горя и слез. Посмотри: расщепить себя гребень позволил, Чтобы только коснуться прекрасных волос.— Еще что-нибудь, — прошептала девушка, прикоснувшись губами к влажному лбу Омара.
Много сект насчитал я в исламе. Из всех Я избрал себе секту любовных утех. Ты — мой бог! Подари же мне радости рая Слиться с богом, любовью пылая, — не грех!Айша покраснела. Даже в темноте было видно, как вспыхнули от стыда ее глаза. Чуть отодвинувшись от Омара, она откинула свою красивую головку на подушку.
— Не обижайся. Ведь то не мой язык говорит, а сердце. Ведь я переполнен тобой, Айша. Разве ты не чувствуешь? А ведь любовь — это прежде всего искренность..
Она молчала. Звезды, влекомые страстью, загадочно мерцали на небе, подавая неведомые знаки всем влюбленным Земли.
— Научи меня слагать стихи. И тогда я словами, отлитыми из женских слез, скажу, что ты слеп, Омар.
— Я не поэт. Да и поэзии нельзя научиться. Истинная поэзия — это дитя нечеловеческой боли и величайшей радости. Боль — ибо весь мир проходит через тебя, через твое сердце, разрывая его на тысячи кусочков. Радость — ибо действительный поэт способен к великому сопереживанию со всем этим миром. Однажды Абу Али написал такое четверостишие:
Познало сердце и добро и зло, Мирьяды солнц в себе оно несло. Но к совершенству — ни на волосок! Весь мир изведав, к цели не пришло.А послушай эти рубаи:
Я — плач, что в смехе всех времен порой сокрыт, как роза. Одним дыханьем воскрешен или убит, как роза. И в середину брошен я па всех пирах, как роза. И вновь не кровь моя ль горит на всех устах, как роза?Тебе не кажется, что колебания сердца учителя до сих пор чувствуются в этих строках?
— Но если ты не поэт, зачем же ты пишешь рубаи?
— В человеке всегда есть что-то, помимо разума, знаний, чувств, привычек. И это «что-то» часто не может быть выражено через язык, через обычное слово. Нужна музыка. А ведь поэзия — тоже музыка. Есть какая-то магия в ритмах звуков и в ритмах поэтических слов. И разве не ощущается волшебство в этих строках Рудаки, которыми к тебе я обращаюсь, любимая Айша.
Фату на лик свой опустили в смущенье солнце и луна. Как только с двух своих тюльпанов покров откинула она. И с яблоком сравнить я мог бы ее атласный подбородок, Но яблок с мускусным дыханьем не знает ни одна страна. Прелесть смоляных вьющихся кудрей. Она багряных роз кажется нежней, В каждом узелке — тысяча сердец, В каждом завитке — тысяча скорбей.И еще — поэтическая строка делает обычное слово, мысль острее, злее, едче. Я тебе уже как-то напоминал эти строки Абу Али:
Налейте вина мне, пусть длятся года, Налейте, чтоб радость была молода. Вино что огонь, но земные печали Уносит оно, как живая вода. С ослами будь ослом — не обнажай свой лик! Ослейшего спроси — он скажет: «Я велик!» А если у кого ослиных нет ушей. Тот для ословства — явный еретик!Но есть еще одна причина, почему и иногда думаю стихами. Так мне порой удается добиться глубокого спокойствия. А ведь именно оно нужно, чтобы человек, мог вести великий разговора с самим собой. Это тот диалог, через который он узнает, что его высшее призвание, его суть — понять самого себя. И знаешь, Айша, требуется действительно большое мужество, чтобы понять, насколько это человечно — думать самостоятельно, не повторяя других…
В Бухаре Омар Хайям прожил до начала 1074 года. Столица караханидского государства, как и другие крупные города Мавераннахра, состояла из трех частей: цитадель, первоначальный собственно город (шахристан или, как называли арабы, мадина) и пригород, расположенный между первоначальным городом и новой, выстроенной в мусульманское время стеной (рабад). Цитадель с древнейших времен находилась на том же месте, что и ныне: к востоку от площади Регистан. Во времена Шамс аль-Мулька в крепость вели двое ворот: ворота Регистан (на западе) и ворота Гуриян, или «Ворота пятничной мечети» (на востоке). От одних ворот до других шла улица. На всем пространстве от ворот Регистана до прилегавшей к цитадели поляны Дештек, покрытой камышом, рыли дворцы, гостиницы, сады и бассейны.
Бухара отличалась одной особенностью: в противоположность большинству других городов цитадель находилась не внутри шахристана, а вне его. Между ними, восточнее цитадели, имелось еще свободное пространство, где находилась соборная мечеть. Стена шахристана имела только семь ворот. После арабского завоевания шахристан был объединен с пригородами в один город и окружен общей стеной.
Между цитаделью и шахристаном, рядом с пятничной мечетью, находилась знаменитая ткацкая мастерская, изделия которой славились на весь мир: ковры отсюда вывозились в Сирию, Египет, Рум. Вообще в столице Караханидов ремесла и торговля были весьма развиты. Макдиси перечисляет то, чем славилась Бухара: «Что касается товаров, то вывозятся следующие: из Бухары — мягкие ткани, молитвенные коврики, ковры, ткани для настилки полов в гостиницах, медные фонари, табаристанские материи, лошадиные подпруги, выделываемые в местах заключения, ушмунские ткани, жир, овечья шерсть, масло, которым мажут голову. Не имеют себе равных бухарское мясо и род бухарских дынь, известных под названием „аш-шак“.
Наршахи в своей «Истории Бухары», касаясь производства тканей в Бухаре, пишет: «…ни в одном городе Хорасана не умели ткать таких хороших материй». Они расходились отсюда по всему миру.
Искусство бухарских мастеров было предметом подражания. Бухарцы выезжали в Хорасан, пытаясь, но безуспешно, наладить там производство столь же качественных тканей, которые охотно употребляли высшие слои общества: «Не было царя, эмира, раиса, чиновника, который не носил бы одежды из этой ткани», — пишет тот же Наршахи.
Улицы Бухары отличались своей шириной и были вымощены камнем, который брался с горы Варка, около селения того же имени, где начинается горная цепь. При всем при том в XI веке город считался перенаселенным и нездоровым: с плохой водой, зловонным воздухом. И в этом он был похож на родину Хайяма — Нишапур. Один из арабских путешественников даже назвал Бухару «отхожим местом этого края».
Улицы города хотя и были достаточно широки, но места все же было недостаточно для такого числа жителей столицы. Ведь, по свидетельству арабского географа Истахри, Бухара была самым многолюдным городом в Мавераннахре.
Город был подвержен частым пожарам. В то время в строительстве применяли много дерева. Даже у минарета главной соборной мечети верхняя часть была деревянной. Еще до приезда Омара Хайяма в Бухару в 1088 году во время борьбы за престол между сыновьями Тамгач-хана Ибрахима соборная мечеть сгорела. От горючих веществ, брошенных из цитадели, вспыхнул деревянный верх минарета, который обрушился на мечеть. В следующем году мечеть была восстановлена; верх минарета сделали из жженого кирпича.
Главный городской арык Бухары носил название Руд-и Зер (буквально «Золотая река»). По словам того же Макдиси, «река входит в город со стороны Келляба-да; здесь устроены плотины, сделаны широкие шлюзы и поставлены бревна. Летом, во время полноводия, удаляют одно бревно за другим по мере поднятия воды, так что большая часть воды уходит в шлюзы и потом течет к Пейкенду; без этой хитрости вода обратилась бы на город. Это место называется Фашун; ниже города есть другие шлюзы, называемые „Рас аль-Вараг“ („Голова плотины“), устроенные таким же образом. Река прорезывает город, проходит через базары и разделяется (на каналы) по улицам. В городе есть широкие, открытые хаузы (бассейны) на берегу их устроены из досок помещения с воротами для совершения омовения. Иногда вода, которую отводят в Пейкенд, одерживает верх, и участки земли среди лета покрываются водой. В тот год, когда я прибыл туда, вода затопила много участков и разорила население».
В Бухаре, как нигде в другом месте, был распространен обычай захоронений внутри города, поблизости от жилых комплексов или даже в них самих. Даже в самом шахристане попадались кладбища. Часто умерших хоронили и во дворах жилых домов. В таком случае выделялась какая-нибудь отдаленная часть двора, обносилась изгородью, нередко там возводилась легкая постройка, а остальная часть дома продолжала жить своей обычной жизнью. Но обитатели его из страха перед гневом и наказанием со стороны духа умершего следили за тем, чтобы поблизости от могилы не произошло что-нибудь непристойное.
Хоть сотню проживи, хоть десять сотен лет, Придется все-таки покинуть этот свет, Будь падишахом ты иль нищим на базаре — Цена тебе одна: для смерти санов нет. Огню, сокрытому в скале, подобен будь, А волны смерти все ж к тебе разыщут путь. Не прах ли этот мир? О, затяни мне песню! Не дым ли эта жизнь? Вина мне дай хлебнуть!В 1069 году Шамс аль-Мульк приказал построить для себя южнее города дворец и устроить охотничий заповедник. Дворец был окружен садами и пастбищами. Наршахи пишет об этом таким образом: «Малик Шамс аль-Мульк купил много участков земли у ворот Ибрагима и разбил там великолепные сады… назвал это место Шамсабад». В нем бывал и Хайям. Свой старый дворец, находившийся около Новых ворот в местечке Карек-и Алевиян Шамс аль-Мульк подарил бухарским улемам.
Вообще, несмотря на кочевой образ жизни, и Шамс аль-Мульк, и его отец Ибрахим исполняли и ту обязанность государей, которая выражалась в «украшении городов высокими и красивыми зданиями, устройстве рабатов на больших дорогах». Тамгач-хан Ибрахим выстроил в Самарканде, в квартале Гурджаан, великолепный дворец, который должен был напоминать потомству о славе хана, как Фаросский маяк — о славе Александра Македонского. Из построек Шамс аль-Мулька особенной известностью, кроме Шамсабада, пользовался «царский рабат», построенный в 1078—1079 годы около селения Хардженг. Другой рабат был выстроен Шамс аль-Мульком в месте Ак-Котель, на дороге из Самарканда в Ходженд. В 1080 году здесь был похоронен и сам хан.
Где высился чертог в далекие года И проводила дни султанов череда, Там ныне горлица сидит среди развалин И плачет жалобно: «Куда, куда, куда?» Скорее пробудись от сна, о мой саки![6] Налей пурпурного вина, о мой саки! Пока нам черепа не превратили в чаши, Пусть будет пара чаш полна, о мой саки!Шамс аль-Мульк, подобно своему отцу, пользовался славой справедливого государя. Он продолжал вести кочевую жизнь и только зиму проводил со своим войском в окрестностях Бухары. И он строго следил за тем, чтобы воины оставались в своих шатрах и не притесняли жителей; после захода солнца ни один воин не смел оставаться в черте города.
Почти восемь лет провел Омар Хайям в Мавераннахре. Это были годы, когда он жадно продолжал пополнять свои знания, читая различные книги по всем отраслям науки, какие только попадались ему в руки. Но размышления его не были столь же внешне хаотичны. За различными научными, религиозными трактатами и текстами смутно стали вырисовываться различные стили мышления, философско-религиозные системы. И у него, как ему кажется, уже выработался свой критерий и одновременно свое кредо мышления ученого — точность, измеримость и логическая непротиворечивость. Вот что, по мнению молодого Хайяма, является единственно верным ориентиром в истинном познании. И поэтому-то, может быть, при всем разнообразии своих интересов нишапурец основное внимание уделяет математике — наиболее точной и чистой науке, как ему кажется.
Математическое творчество Хайяма явилось продолжением как работ классиков греческой и эллинистической науки — Аристотеля, Евклида, Аполлония, так и выдающихся предшественников в странах ислама.
Начиная со второй половины IX века математики стран ислама включают в круг своих занятий кубические уравнения. Этим занимались аль-Махами, Ибн аль-Хайсан, аль-Кухи, аль-Бируни. Таким образом, важной задачей становилась разработка общей теории уравнений третьей Степени.
Мы знаем о трех математических работах Омара Хайяма, относящихся к периоду его пребывания в Мавераннахре. Одна из них — «Трудности арифметики» — до сих пор не найдена. Об этой работе Хайям упоминает в своем алгебраическом трактате: «У индийцев имеются методы нахождения сторон квадратов и ребер кубов, основанные на небольшом последовательном подборе и на знании квадратов девяти цифр, то есть квадрата одного, двух, трех и т. д., а также произведений двух на три (и т. д.). Нам принадлежит трактат о доказательстве правильности этих методов и того, что они действительно приводят к цели. Кроме того, мы увеличили число видов, то есть мы показали, как определять основания квадрато-квадратов, квадрато-кубов и так далее сколько угодно, чего раньше не было». По мнению советских исследователей Б.А. Розенфельда и А.П. Юшкевича, в этой работе Омар Хайям первым в истории математики предложил общий прием извлечения корней n-й степени из чисел, основанный, вероятно, на знании формулы n-й степени двучлена.
Второй трактат — небольшой и не имеет заглавия. В начале его сказано только: «Этот трактат — Абу-ль-Фатха Омара ибн Ибрахима аль-Хайями». Омар приводит здесь классификацию из 25 видов линейных, квадратных и кубических уравнений. Причем указывает, что 11 из этих 25 видов могут быть решены при помощи 2-й книги «Начал» Евклида, а остальные 14 — только при помощи конических сечений или специальных инструментов. Хайяму известны решения только четырех из них, принадлежащие его предшественникам. В своей небольшой работе Хайям критикует «тех, кто хвастлив, тщеславен и бессилен», чьи «души не вмещают ничего, кроме разве лишь понимания чего-нибудь незначительного из наук. Однако, когда они постигают это, им кажется, что это количество и есть то, что заключают в себе науки и что составляет их».
Я знаю этот вид напыщенных ослов: Пусты как барабан, а сколько громких слов! Они — рабы имен. Составь себе лишь имя, И ползать пред тобой любой из них готов.В конце трактата говорится: «Если бы не благородство собрания, да будет это благородство вечным, и не достоинство спрашивающего, да сделает Аллах вечной свою поддержку ему, я был бы в большом отдалении от этого, так как мое внимание ограничено тем, что для меня важнее этих примеров и на что расходуются все мои силы». Полемический тон этих высказываний достаточно очевиден. Вероятно, даже занимаясь математикой, Омар Хайям отнюдь не представлял замкнутого в себе, отрешенного от мира ученого. Судя по всему, уже в тот период исследования молодого ученого в области алгебры приводили к дискуссиям по более широкому кругу вопросов.
В этом же трактате Хайям писал: «Если мне будет отпущено время и будет сопутствовать успех, то я изложу эти четырнадцать видов со всеми их разновидностями и их частными случаями и различу среди них возможные от невозможных: некоторые из этих видов нуждаются в некоторых условиях, так что правильный трактат должен охватывать многие предпосылки, приносящие большую пользу в началах этого искусства».
Таким «правильным трактатом» стал знаменитый «Трактат о доказательствах задач алгебры и алмукабалы». Эту алгебраическую работу Хайяма можно разбить на пять частей: введение; решение уравнений первой и второй степени; решение уравнений третьей степени; сведение к предыдущим видам уравнений, содержащих величину, обратную неизвестной, и дополнение.
Работа Омара Хайяма стала возможной в результате его глубокого и систематического изучения предшествующего этапа развития этой отрасли математики. Он ищет и ставит те сложные проблемы, которые, по его мнению, не были разрешены наукой до него, что подтверждают его собственные высказывания: «Один из поучительных вопросов, необходимый в разделе философии, называемом математикой, это искусство алгебры и алмукабалы, имеющее своей целью определение неизвестных, как числовых, так и измеримых».
Здесь, вероятно, следует напомнить, что и в средние века математика считалась одним из разделов философии. Философские науки делились на теоретические и практические. Теоретические же, в свою очередь, подразделялись на «высшую науку» (то есть философию в нынешнем смысле), «среднюю науку» — математику и «низшую науку» — физику. В данном случае Хайям называет «измеримой величиной» непрерывную геометрическую величину, то есть линию, поверхность и тело в отличие от дискретного количества — натурального числа.
Далее он пишет: «В нем (то есть в этом искусстве алгебры. — Авт.) встречается необходимость в некоторых очень сложных видах предложений, в решении которых потерпело неудачу большинство этим занимавшихся. Что касается древних, то до нас не дошло сочинение, в котором они рассматривали бы этот вопрос, может быть, они искали решение и изучали этот вопрос, но не смогли преодолеть трудностей, или их исследования не требовали рассмотрения этого вопроса, или, наконец, их труды по этому вопросу не были переведены на наш язык.[7] Я же, напротив, всегда горячо стремился к тому, чтобы исследовать все эти виды и различить среди этих видов возможные и невозможные случаи, основываясь на доказательствах, так как я знал, насколько настоятельна необходимость в них в трудностях задач».
В другом месте трактата Хайям возвращается к этой же мысли, подчеркивая преемственность своей работы от исследований Евклида и Аполлона: «Следует знать, что этот трактат может быть понят только теми, кто хорошо знает книги Евклида „Начала“ и „Данные“, так же как две книги сочинения Аполлония[8] «Конические сечения».
Во введении Хайям пишет: «Я утверждаю, что искусство алгебры и алмукабалы есть научное искусство, предмет которого составляют абсолютное число и измеримые величины, являющиеся неизвестными…, но отмеченные в какой-нибудь известной вещи, по которой их можно определить. Эта вещь есть или количество, или отношение…» Таким образом, предмет алгебры — это неизвестная величина, дискретная (ибо «абсолютное число» означает число натуральное) или же непрерывная (измеримыми величинами Хайям называет линии, поверхности, тела и время). «Отнесение» неизвестных величин к известным есть составление уравнения.
Задачей алгебры, подчеркивает Омар, является определение как числовых, так и геометрических неизвестных. Здесь Хайям отмечает, что математики стран ислама того времени интенсивно занимались поисками числового решения кубического уравнения. О различных видах уравнений третьей степени он пишет: «Доказательство этих видов в том случае, когда предмет задачи есть абсолютное число, невозможно ни для них, ни для кого из тех, кто владеет этим искусством. Может быть, кто-нибудь из тех, кто придет после нас, узнает это для случая, когда имеется не только три первые степени, а именно число, вещь и квадрат». Такое решение кубического уравнения было найдено только в начале XVI века, через 400 лет после смерти Хайяма.
Далее Омар Хайям производит классификацию уравнений первых трех степеней. Всего он выделяет 25 форм, из них 14 кубических уравнений, не сводящихся к квадратным или линейным делением на неизвестную или ее квадрат. Значение классификации в том, что применительно к каждой форме подбирается соответствующее построение.
Хайям, впервые в истории математики, заявляет, что уравнения третьей степени, вообще говоря, не решаются при помощи циркуля и линейки. «Доказательство этих видов может быть произведено только при помощи свойств конических сечений». В 1637 году с подобным утверждением вновь выступил Рене Декарт, и только двести лет спустя, в 1837 году, это было строго доказано П.Л. Веицелем.
Основным является третий раздел трактата, где дано построение корней каждой из 14 форм уравнений третьей степени при помощи надлежаще подобранных конических сечений. При этом подбор таких сечений произведен вполне систематически.
Работы Омара Хайяма по алгебре, к сожалению, оказали незначительное воздействие на развитие математики. В Европе, например, его результаты стали известны, по-видимому, тогда, когда они были давно уже превзойдены европейцами. Алгебраический трактат Хайяма впервые упоминается в Европе в 1742 году в предисловии к учебнику дифференциального исчисления Ж. Меермана. По этому поводу Ж. Э. Моитюкла в своей известной «Истории математики», заметив, что арабы пошли дальше квадратных уравнений, говорит, что в Лейдене имеется арабская рукопись, озаглавленная «Алгебра кубических уравнений» или «Решение телесных задач», и что автором ее является Омар бен-Ибрахим. «Весьма жаль, — добавляет Монтюкла, — что никто из знающих арабский не имеет вкуса к математике и никто из владеющих математикой не имеет вкуса к арабской литературе».
Профессор А.П. Юшкевич писал: «Можно жалеть, что книга Хайяма осталась неизвестной европейской математике XV—XVI веков. Насколько раньше поставлен был бы вопрос о числовом решении кубического уравнения, насколько облегчена была бы работа творцов новой высшей алгебры. События сложились по-иному, и европейским ученым пришлось немало потрудиться, чтобы заново пройти тот путь, начало которому проложил задолго до них великий восточный поэт и математик.
Судя по всему, в период пребывания в Мавераннахре Омар Хайям занимался не только чистыми математическими исследованиями, но и выполнял прикладные работы по заказу своих высокопоставленных покровителей. Об этом может свидетельствовать небольшое сочинение Хайяма «Весы мудростей», в котором решается классическая задача Архимеда об определении количества золота и серебра в сплаве, а также точного определения веса драгоценных камней.
Эта работа дошла до наших дней в виде V главы IV книги трактата «Книга о весах мудрости» ученика Омара Хайяма Абу-ль-Фатха Абд ар-Рахмана аль-Хазини, работавшего в Мерве и закончившего свое произведение в 1121 году, то есть еще тогда, когда Хайям был жив. О том, что такая работа действительно принадлежала Хайяму, пишет историк Татави. Он отмечает, что это трактат «о нахождении цены вещей, осыпанных драгоценными камнями, без извлечения из них самих драгоценных камней».
Глава IV книги аль-Хазини, представляющая собой трактат Хайяма, носит название «Об абсолютных водяных весах имама Омара аль-Хайяма». Сохранилась также отдельная рукопись трактата Хайяма, озаглавленная «Об искусстве определения количеств золота и серебра в; состоящем из них теле», но она содержит только первую половину трактата.
Работа состоит из четырех разделов. В них различными методами решается задача Архимеда. Архимед решил, ее по просьбе сиракузского царя Гиерона.
Определению удельных весов различных тел ученые Средней Азии XI—XII веков уделяли вообще большое внимание. Хайям в своей работе продолжает традицию чрезвычайной точности взвешивания аль-Бируни. У последнего погрешность весов при взвешивании 2,2 килограмма не превосходила 0,06 грамма.
Книга жизни моей перелистана — жаль! От весны, от веселья осталась печаль, Юность — птица: не помню, когда прилетела И когда унеслась, легкокрылая, в даль. Тот, кто с юности верует в собственный ум, Стал в погоне за истиной сух и угрюм, Притязающий с детства на знание жизни, Виноградом не став, превратился в изюм. Лик розы освежен дыханием весны, Г паза возлюбленной красой лугов полны, Сегодня чудный день! Возьмем бокал, а думы: О зимней стуже брось: они всегда грустны.Глава III СИЛА И СЛАБОСТЬ ВЫБОРА 1074—1092
Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим? В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим. Как много чистых душ под колесом лазурным Сгорает в пепел, в прах, а где, скажите, дым? Подвижники изнемогли от дум, А тайны те же душат мудрый ум. Нам, неучам, — сок винограда свежий; А им, великим, — высохший изюм. Несовместимых мы всегда полны желаний: В одной руке бокал, другая — на Коране. И так вот мы живем под сводом голубым, Полубезбожники и полумусульмане.Насколько это человечно — сомневаться, не упиваясь своими сомнениями!
…Март 1074 года. Через восточные ворота уходит караван. Дервиши с четками и без четок, стоя, сидя на корточках или на ковриках, на разные голоса напевно читают аяты из Корана — да пребудет милость Аллаха с теми, кто уходит в далекий и опасный путь. Вокруг них блестят в пыли серебряные монеты. Каждый из отъезжающих считает своим долгом бросить одну, несколько или горсть монет тем, кто вышел их провожать в это раннее утро. Свою долю получают нищие, бродяги и больные, ночующие за стенами города.
Большой караван уходит из Бухары. Сотни верблюдов и мулов с тюками — дар правителя Мавераннахра Малик-шаху. Несколько десятков отборных жеребцов, в которых превосходно знают толк сельджуки. И многочисленная конская охрана. Не обычный караван направляется в Исфахан. Богатые подарки должны быть доставлены юному наследнику сельджукской империи.
Омар, пришпорив своего вороного, подарок Шамс аль-Мулька, отъезжает в сторону и взбирается на небольшой холм. Затем, чуть потрепав ласково по холке жеребца, отпускает поводья и поворачивается в сторону Бухары. «Прощай», — беззвучно произносит он. Хайяма нельзя было упрекнуть в излишней чувствительности, но быть ответственным за свои поступки, даже в мелочах, это не сентиментальность.
Не по своей воле покидает Омар Мавераннахр. Он еще несколько мгновений смотрит на город, разом вспомнив лица тех, кто был здесь для него особенно дорог. Вдруг внутри его что-то похолодело: словно чужая, не его мысль родилась, закружилась, зазвенела в нем, заглушая все остальное: «Ты уже никогда здесь не будешь! И ты никогда не будешь таким, каким был. И все эти годы в Мавераннахре будут медленно или быстро гаснуть в тумане времени, только порой вспыхивая какими-либо особыми воспоминаниями. Ты оставляешь здесь самого себя, а может быть, только часть себя… нет, всего, целиком, того, каким ты был здесь и каким не был бы; нигде в другом месте». Он неожиданно резко стегнул коня и быстрым галопом бросился догонять своих.
В караване Омар был обладателем верблюда и двух верблюдиц. «Хозяева пустыни» ему были подарены верховным судьей, который случайно или не случайно находился в это время в Бухаре. Верблюдицы навьючены личной поклажей Хайяма — книги, привезенные им из Нишапура и те, которые ему удалось приобрести в Самарканде и Бухаре, различные выписки, сделанные им самим, переписанные опытными каллиграфами в нескольких экземплярах работы по математике, одежда, подаренная его богатыми друзьями или купленная им самим, инструменты для наблюдения за движением звезд, некоторые приборы для точного взвешивания, несколько дорогих ему вещей, оставшихся от отца, среди которых и небольшой старый нишапурский ковер, сотканный матерью. Все это было тщательно упаковано самим Омаром.
На верблюде ехал слуга Омара Хайяма — Юсуф, молодой, крепкий и сметливый парень. Он должен был помогать хозяину, ухаживать за верблюдами и не спускать глаза с небольшого сундука, подвязанного к верблюду.
Накануне вечером, приехав из дворца Шамс аль-Мулька, Омар застал в своем доме Абу Тахира. Хайям поклонился, но судья нетерпеливым жестом велел ему садиться.
— Омар, — после небольшого молчания начал судья, — что тебе сказал хакан?
— Несколько обычных слов с пожеланиями счастливого пути. Повелитель не был расположен к беседе. И на прощание он подарил мне эту вещицу.
Судья мельком взглянул на редкое золотое кольцо с красным массивным рубином: «Да, он не в духе. Ведь властители всегда предпочитают победы. Хотя он-то, как неглупый человек, должен понимать, что порой одно поражение учит гораздо большему, чем многочисленные и надоедающие победы».
— Омар, уже поздно, поэтому перейдем к делу. Нас в жизни всегда подстерегают неожиданности. Приятные. не очень приятные, а то и вовсе чудовищные, но тем не менее мы всегда должны благодарить за этого великого Аллаха. Неожиданность — это лучший подарок Всевышнего человеку, ибо он лучше знает наше предназначение на этом свете. То, что ты уезжаешь из Бухары, может быть, и к лучшему, хотя мне и не хотелось бы расставаться с тобой.
Я хочу передать через тебя небольшой подарок человеку, который будет твоим покровителем. Он защитник ученых и сам мудрый человек. И в то нее время он самый могущественный человек у Сельджукидов.
Омар кивнул. Он уже догадался, о ком идет речь.
— Да, ты прав, — продолжал судья. — Я говорю о великом человеке, визире Алп-Арслана и нынешнего султана — Абу Али Хасане ибн Али Туси, которого уже сейчас величают Низам аль-Мульком[9]. Я с ним знаком и виделся несколько месяцев назад.
Омар вновь кивнул. Он знал и это.
— Ия говорил также о тебе. Он тебе поможет. Хотя… — тут судья замолчал. — Будь осторожен, Омар, хотя и оставайся смелым. Смелость нужна в битве и на охоте. Но особенная смелость необходима тогда, когда ищешь истину. Именно на этом пути легче всего поставить капкан… Вот здесь, в сундуке, несколько редких книг, переписанных лучшими каллиграфами Самарканда. И здесь же письмо для него, в котором речь идет о тебе.
…Мерно идет караван. Затихли сонные всадники. Только иногда покрикивают слуги друг на друга. Нигде так не думается, как в дороге. Поистине дорога — это лучшее лекарство для души. «Душа — это сосуд с чистой ключевой водой, — вспомнил Хайям слова своего отца. — Полон сосуд водой и мудрый не прольет и капли в течение всей жизни. Необычна эта вода — в спокойной и неподвижной поверхности действительно мудрый одновременно увидит свою истину и внутри и вовне». Незадолго до своей смерти Ибрахим несколько раз повторил эти слова своему сыну. Омар нечасто вспоминал эту фразу отца, но сегодня она не давала ему покоя.
Мы попали в сей мир, как в силок — воробей, Мы полны беспокойства, надежд и скорбей. В эту круглую клетку, где нету дверей, Мы попали с тобой не по воле своей.Уже при отце Шамс аль-Мулька Тамгач-хане Ибрахиме начались нападения сельджукских султанов на Мавераннахр. В 1061 году Тамгач-хан даже отправил посольство в Багдад, чтобы пожаловаться халифу — номинальному главе ислама — на действия сельджукского султана Алп-Арлсана. К концу 60-х годов давление на Мавераннахр прекратилось, поскольку султан был занят на других границах своей империи. Более того, мирные отношения между Сельджукидами и Караха-нидами, укрепились серией монаршеских браков. Дочь Алп-Арслана была выдана замуж за Шамс аль-Мулька. В свою очередь, наследник сельджукского престола Малик-шах женился на дочери Тамгач-хана, Туркан-хатун, сыгравшей впоследствии значительную роль и в жизни сельджукской империи, и в жизни Омара Хайяма.
Тем не менее осенью 1072 года война возобновилась — Алп-Арслан начал новый поход на Мавераннахр, который, однако, ему дорого обошелся. Арабский историк Ибн аль-Асир следующим образом описал этот последний эпизод из жизни воинственного Алп-Арслана в своей хронике «Аль-Камил фи-т-Тарих»: «Султан Алп-Арслан — имя его Мухаммад, но зовут его обычно Алп-Арслан — отправился в Мавераннахр… Он построил через Джейхун мост и проходил через него в течение двадцати с лишним дней, войско его превышало двести тысяч всадников… Его приближенные привели к нему коменданта какой-то крепости, известного под именем Юсуф аль-Хорезми… Юсуф бросился к султану… и ударил его имевшимся при нем ножом в бок… Кто-то из фаррашей ударил Юсуфа по голове дубинкой и убил его, а тюрки разрубили его (на части).
Когда султан был ранен, то сказал: «Куда бы я ни направлялся, на какого бы врага ни шел, я не делал этого иначе, как попросив помощи Аллаха себе в этом. А вчера, когда я взобрался на холм и от величия моей армии и множества моих войск подо мною задрожала земля, я сказал сам себе: „Я властелин мира, и никто не сможет пойти на меня“. И Аллах сделал меня беспомощнее самых слабых тварей своих…» Он умер и был перевезен в Мерв, где похоронен рядом со своим отцом».
Где Бахрам отдыхал, осушая бокал, Там теперь обитают лиса и шакал. Видел ты, как охотник, расставив капканы, Сам, бедняга, в глубокую яму попал.Далее историк записал: «Когда Алп-Арслан был ранен, он завещал султанство сыну своему Малик-шаху, который был вместе с ним, и приказал, чтобы войско присягнуло ему, и все присягнули. Заведывал этим делом Низам аль-Мульк. Поход был прекращен. Визирем Малик-шаха стал Низам аль-Мульк».
Новому султану исполнилось 17 лет. И конечно, в этих условиях значение многоопытного Низам аль-Мулька в государстве резко возросло. Воспользовавшись молодостью нового султана, некоторые из его родственников стали открыто претендовать на верховную власть. Однако немногим более чем за полгода Низам аль-Мульк жестоко подавил все эти выступления. Осенью 1073 года, отвоевав Термез, Малик-шах двинулся на Самарканд, где в это время находился Шамс аль-Мульк. Последний стал просить мира, обратившись через Абу Тахира к великому визирю. Малик-шах согласился и вернулся в Исфахан.
Низам аль-Мульк остро нуждался в это время в образованных и талантливых молодых людях, и, по-видимому, Абу Тахир на этой встрече рекомендовал ему Омара Хайяма.
…Ранняя весна — благодатное время для караванных путешествий. Солнце еще не так жестоко к людям, животным, земле. Воздух пропитан ароматом пробуждающейся природы — дышится легко и верится, что несчастья и болезни навсегда минуют тебя. Вдоволь зелени для животных, воды — для людей. И долгая дорога не кажется такой утомительной.
Когда до Исфахана остался один дневной переход.
Омар вспомнил не раз им читанное описание города, составленное Насир-и Хосров, побывавшего там за двадцать два года до него: «Исфахан лежит в долине, воздух и вода там замечательно хороши.
Город окружен высокой прочной стеной с воротами и бойницами. Наверху стена по всему протяжению снабжена зубцами. В городе есть ручьи проточной воды и красивые высокие здания. Посреди города стоит красивая большая соборная мечеть. Говорят, что длина стены — три с половиной фарсаха. Весь город находится в цветущем состоянии, развалин я там не видел нигде. Базаров там много: я видел базар менял, где торгуют двести менял. Каждый базар окружен стеной и воротами, точно так же окружены стенами с крепкими воротами и кварталы, и улицы.
Там были прекрасные караван-сараи и была улица, называемая улицей Вышивальщиков, где было пятьдесят хороших караван-сараев: в каждом из них жило много торговцев и жильцов.
Тот караван, с которым ехали мы, вез тысячу триста харваров разного товара, но, когда мы приехали в. этот город, наше прибытие осталось совершенно незаметным, ибо тесноты там нет, всюду достаточно помещений и прокормления.
Незадолго до нашего приезда там был страшный недород, но, когда мы приехали туда, там как раз снимали с полей ячмень. Полтора мена пшеничного хлеба отдавали за один полновесный дирхем, три мена ячменного хлеба тоже стоили один дирхем.
Во всех странах, где говорят по-персидски, я не видал города красивее, более населенного и более цветущего, чем Исфахан. Говорят, что пшеница, ячмень и другое зерно там может лежать в течение двадцати лет не портясь. Многие утверждали, что раньше, когда вокруг города еще не было стены, воздух был еще лучше, чем теперь».
Равнина, на которой расположен Исфахан, окружена горами со всех сторон (кроме юго-востока, где она непосредственно примыкает к степи), отличается теплым климатом и обильным орошением. Почва требует обильного удобрения, для чего в особых башнях собирался голубинный помет и, кроме того, утилизировались городские отбросы.
Центром города была так называемая «Царская площадь», где находились дворец повелителя, главная мечеть и главные базары. Как и другие большие площади в персидских столицах, она была окружена рядом построек с нишами в два этажа; в нижних — помещались лавки; перед зданиями тянулась сплошная аллея деревьев и протекал канал. Арабский историк Макдиси описывал соборную мечеть с круглыми колоннами и к юго-западу от нее минарет в 70 аршин вышины. Причем все это здание было построено из глины арабами из племени бенутепин и расширена при халифе Муктадире в X веке. При мечети впоследствии была библиотека, один каталог которой составлял три тома.
В Исфахане изготовлялись шелковые и бумажные ткани, холсты и одежды, которые вывозились в различные страны Востока. Вообще ремесленная продукция была довольна высока в техническом и художественном отношении. Это проявилось в ковроткачестве, декоративной керамике, ювелирном деле, монументальной архитектуре. Наивысшего расцвета достигла чеканка на металле, раскраска тканей, золотое и серебряное литье.
При Малик-шахе Исфахан стал одним из крупнейших городов Востока. Вряд ли Омар Хайям, въезжая весной 1074 года в Исфахан, догадывался, что его жизнь в течение более чем двадцати лет будет связана с этим городом, основанным еще Александром Македонским.
Где вы, друзья! Где вольный ваш припев? Еще вчера, за столик наш присев, Беспечные, вы бражничали с нами… И прилегли, от жизни охмелев!История сельджукского государства — неотъемлемая и важная часть истории Востока, и прежде всего среднеазиатских народов и Ирана. Академик В.В. Бартольд писал, что «благодаря образованию сельджукской империи огузский или туркменский народ приобрел для мусульманского мира такое значение, какого не имел в средние века ни один из турецких народов». Туркменская по происхождению династия сельджуков в лице своих султанов — «великих сельджуков» — Тогрул-бека, Алп-Арслана и Малик-шаха объединила под своей властью народы и страны, находившиеся на территории от Средней Азии до Сирии и Палестины. Это объединение сопровождалось значительными изменениями в социальной и политической жизни народов этого региона. Определяя значение сельджукского завоевания, Ф. Энгельс подчеркивал, что «особого рода землевладельческий феодализм ввели на Востоке только турки в завоеванных ими странах». Несколько позднее в «Хронологических выписках» К. Маркс высказал ту же мысль: «их (сельджуков) появление изменило все отношения в Передней Азии» и «Малик-шах основал в своем государстве ряд ленных владений, раздробивших его царство на многочисленные мелкие государства».
Развитие ленной системы, так называемого икта, закрепощение крестьянства, децентрализация государственного устройства — таковы значительные изменения, без учета которых трудно понять историю XI—XII столетий Ближнего и Среднего Востока.
Сельджукские вожди быстро установили контакт с феодальной знатью завоеванных территорий, особенно с той ее частью, которая была связана с городской жизнью, имела недвижимое имущество в городах, принимала участие в караванной и базарной торговле и занимала важные чиновные цосты в предыдущих государствах. Ничто так ярко не выражает политику сельджукских государей Алп-Арслана и Малик-шаха, как приглашение ими в качестве визиря Низам аль-Мулька. Взятый еще Тогрулбеком курс на союз с теми слоями феодальной знати, которые максимально были связаны с городской жизнью, практически и теоретически оформляется в целую систему знаменитым государственным деятелем. Низам аль-Мульк, своего рода Ришелье Сельджукидов, фигура настолько крупная, что его можно рассматривать как политическое знамя своего времени.
Хасан ибн Али принадлежал к благородному по своему происхождению, но обедневшему роду из города Ту-са. Абу Али Хасан, отец Низам аль-Мулька, долгие годы служил у газневидского наместника Хорасана. Он был чиновником средней руки, и его жалованья едва хватало на расходы семьи. Ибн аль-Асир пишет: «Деньги и имущество, какие были у его отца, ушли, мать его умерла, когда он был еще грудным ребенком, и отец его, бывало, обходил со своим ребенком кормилиц, пока какая-нибудь из них не покормит его даром. Он вырос, изучил арабский язык, и (заложенная) в нем тайна божия побудила его к высоким стремлениям и занятию науками. Он изучил фикх, стал превосходным (в нем) и слыхал много хадисов. Потом он начал заниматься султанскими делами, и судьба не переставала возвышать его, благоприятствуя ему как во время нахождения на месте, так и во время путешествия. Он ездил по городам Хорасана и вместе с одним из чиновников попал в Газну. Затем он стал находиться при Абу-Али ибн Шазане, управляющем делами в Балхе для Дауда, отца султана Алп-Арслана. При нем (ибн Шазане) положение его стало хорошим и обнаружились его способности и надежность, и он стал известен этим. Когда Абу-Али ибн Шазану пришла пора умирать, он завещал его малику Алп-Арслану и сообщил о его положении. Тот поручил Низам аль-Мульку ведение своих дел. Потом он стал его визирем, а после смерти дяди своего Тогрул-бека он (Алп-Арслан) стал султаном. Он продолжал быть его визирем, так как в нем обнаружились большие способности и правильные мнения, которые доставили Алп-Арслану султанство. Когда умер Алп-Арслан (Низам аль-Мульк), занялся делом сына его Малик-шаха…»
Низам аль-Мульк сыграл огромную роль в создании, централизованного и разветвленного бюрократического аппарата сельджукской державы, Он был талантливым государственным деятелем и одаренным политиком. С его, именем связано проведение ряда важных реформ, укрепивших экономическую, политическую и военную организацию сельджукской империи. Курс, проводимый им в течение почти 30 лет с 1064 по 1092 годы, можно сформулировать следующим образом: 1. Опираться на те круги феодальной знати, которые не будут препятствовать созданию централизованной монархии; 2. Держать постоянно наготове большое, хорошо дисциплинированное и вооруженное войско, опираясь на которое можно вести широкую завоевательную политику и поддерживать порядок внутри страны; 3. Всеми мерами бороться против сил, подрывающих политику создания централизованного государства, особенно против исмаилитов, которые имели свои опорные пункты в Северном Иране; 4. Всячески препятствовать переходу икта в наследственное владение, поскольку это ослабляет централизаторские тенденции власти. Однако эта стратегия оказалась внутри самой себя настолько противоречивой, что сразу после смерти Низам аль-Мулька история ее отбросила.
Раздача земель воинам за службу (икта) началась еще в ходе первых завоеваний. Сельджукам и их военачальникам, не сразу порвавшим со своими кочевыми традициями, икта, как особая форма держания земли, пришлась очень по душе и потому, что она допускала возможность взимать налоги и повинности с крестьян, не переходя на оседлое состояние, не становясь оседлыми землевладельцами.
Однако именно Низам аль-Мульком была проведена реформа, положившая начало массовой раздаче воинам земельных наделов. Если раньше государство выплачивало им жалованье из казны, то теперь взамен этого стали раздавать икта.
Низам аль-Мульк написал трактат «Сиасет-наме», в котором изложил не только свое политическое кредо, но и политическую практику сельджукского государства, а также ряд административно-политических рецептов. В этом трактате есть специальная глава, озаглавленная «О мукта[10], о разузнавании, как они обращаются с народом»: «Мукта… пусть знают, что по отношению к народу им не приказано ничего, кроме как собирать добрым образом законную подать. Если кто из народа захочет отправиться ко двору, чтобы открыть свои обстоятельства, пусть к тому не чинят помехи; любому, кто сделает иначе, пусть укоротят руки, пусть от него отберут икта и накажут, чтобы показать пример другим. Им следует знать, что царство и народ принадлежат султану».
Значимость этой проблемы для него Важна настолько, что в главе тридцать седьмой он вновь возвращается к ней, чтобы дать практический совет государю: «Если укажут на разруху и рассеяние населения в какой-либо округе и если можно думать, что сообщающие — злонамеренные люди, немедленно надо уполномочить одного из придворных таким образом, чтобы никому не приходило в голову, за каким делом его отправляют. Под каким-нибудь предлогом пусть он пробудет с месяц в той округе, посмотрит на дела города и деревни, процветание и разрушения, пусть выслушает всякого, — что говорят о мукта и амиле? — и доставит правильные сведения. Ведь чиновные люди будут приводить всяческие изменения и отговорки: у нас, мол, враги. Не следует их слушать!»
Внутренняя стратегия Низам аль-Мулька сыграла важную роль в подъеме сельского хозяйства сельджукской империи, да и всей ее экономики. Однако объективно рост экономической мощи крупных мукта должен был привести к усилению сепаратистских тенденций.
В сельджукском государстве непосредственным помощником и советчиком верховного султана был визирь, стоявший во главе всего бюрократического аппарата… «Благополучие и злополучие государя и его государства, — подчеркивает Низам аль-Мульк, — связано с визирем». Должность визиря фактически была наследственной. Султаны предпочитали иметь визирей из старинных родов, занимавших эту должность из поколения в поколение.
Визирь считался полномочным заместителем султана в общении с вассальными правителями и иностранными государями. Во время правления Алп-Арслана и Малик-шаха Низам аль-Мульк имел непосредственный доступ к султану.
Основной обязанностью визиря было управление громоздким чиновничьим аппаратом. В его ведении находился верховный орган центральной власти, называвшийся «диван-и ала». Последний был разветвлен на отделы и состоял из ряда официальных учреждений. О них еще пойдет речь впереди.
Своих визирей имели также наследники сельджукского трона, их матери, обычно старшие жены султанов, царского происхождения вассальные правители, а также придворные, принадлежавшие к сельджукидской фамилии. Жены сельджукидских правителей обычно носили титулы «хатун», «туркан-хатун» или «теркен-хатун» и играли заметную роль в дворцовой жизни и подчас активно вмешивались в дела государственного управления. У них были свои дворцы, земельные владения, диваны, чиновники и крупные военные отряды. Нередко жены фактически соперничали по своему влиянию с верховными султанами.
Правительственные учреждения сельджукской державы состояли из нескольких крупных ведомств (диванов), с помощью которых осуществлялось государственно-административное управление. Причем эти диваны разделялись на две основные категории: «доменные» (фамильные) и официальные (государственные). Первые из них ведали имуществом и всеми связанными с ним делами членов правящей династии. Верховным доменным учреждением являлся диван-и хасс, который был одновременно личным султанским диваном. В его ведение было передано все движимое и недвижимое имущество и казнохранилище правящей фамилии. В компетенцию султанского дивана входило управление и целыми провинциями, откуда налоги поступали непосредственно в диван-и хасс.
С султанским диваном непосредственно была связана и казна. В ней хранились почетные одежды, украшенные серебром шапки, золотая сбруя, пояса, инкрустированное драгоценными камнями оружие и т. д. Отсюда выдавались награды, являвшиеся нередко и знаками отличия сановников. В качестве подобных символов власти обычно служили барабаны или литавры, а также знамена.
Начальники государственных диванов подчинялись непосредственно визирю, который был главой диван-и ала, состоящего из четырех основных ведомств: диван-и тугра, диван-и истифа, диван-и ишраф, диван-и арз.
В диван-и тугра (то есть фактически государственная канцелярия) скреплялись печатью государственные указы, султанские послания и распоряжения. Глава этого ведомства туграи предварительно носил такого рода документы на личную подпись к самому султану.
Должность туграи после визиря была самой почетной и важной в сельджукском государстве. Он временно заменял визиря в случае отсутствия последнего при верховном султане. Туграи должен был строго проверять всю исходящую и поступающую дипломатическую корреспонденцию и документацию, следить за правильным оформлением и выдачей официальных грамот и указов, охранять тайны секретной государственной информации.
Делопроизводство в сельджукских диванах в основном велось на фарси. В дипломатической переписке чаще всего употреблялся арабский язык. Поэтому от туграи требовались большие филологические познания и владение тонкостями различных литературных стилей. Он обязан был также иметь и особый каллиграфический почерк.
Большую роль в системе бюрократического аппарата державы Сельджукидов играл диван-и истифа. Главой этого ведомства был мустауфи, который считался третьим по значимости государственным сановником, своего рода министром финансов.
Диван-и истифа курировал государственные доходы и расходы, вел учет податей, налоговых и других поступлений, а также казенных сумм. В этом учреждении хранились списки всех бюджетных статей, в том числе диван-и хасс — султанского дивана. Мустауфи ведал доходами и расходами не только государственных учреждений, но и султанского двора. В его компетенцию входил и финансово-налоговый учет земельных владений, и других отданных в вознаграждение наделов; он контролировал казну, ведал счетами наличной валюты и драгоценностей.
Диван-и ишраф являлся высшим контрольно-инспекционным органом сельджукского государства. Главная обязанность начальника диван-и ишраф — мушрифа, — по-видимому, заключалась в надзоре и ревизии финансово-налоговых счетов. Однако мушриф часто выполнял общие контрольные функции, а подчас возглавлял и секретную осведомительную службу. Рост значения мушрифов не был случайным явлением в период расцвета сельджукской империи, который сопровождался ростом внутриполитических и социальных противоречий. Интересы централизации требовали упрочения государственного контроля и системы тайного надзора. Поэтому Низам аль-Мульк, возражая Алп-Арслану и Малик-шаху, ратовал за назначение на должность мушрифов верных и надежных чиновников: «Никогда не следует государю быть небрежным к делам своих чиновников; всегда следует разузнавать об их поведении и жизни. Как только проявилась какая-нибудь неправильность и вероломство с их стороны, не должно так оставлять, следует смещать таких, наказав, сообразно с проступком, чтобы это послужило примером для других и никто из-за страха наказания не осмелился бы умыслить против государя. К каждому, кому вручается большая должность, следует тайно приставить мушрифа, чтобы тот об этом не знал, он будет постоянно сообщать о его делах и обстоятельствах».
В сельджукской державе существовало и военное ведомство, называвшееся «диван-и арз аль-джейш». Его главой был ариз аль-джейш, имевший своего заместителя. Этот диван, как и другие, по-видимому, располагал своими отделениями в различных провинциях и областях страны.
Все эти четыре ведомства представляли собой основной элемент той сложной и запутанной бюрократической машины, созданной и отшлифованной при непосредственном участии Низам аль-Мулька, которая фактически управляла сельджукским государством.
Если жизнь твоя нынче, как чаша, полна — Не спеши отказаться от чаши вина. Все богатства судьба тебе дарит сегодня — Завтра, может случиться, ударит она! Ты сегодня не властен над завтрашним днем, Твои замыслы завтра развеются сном! Ты сегодня живи, если ты не безумен. Ты — не вечен, как все в этом мире земном.…Омар вошел в просторную прохладную комнату, сплошь устланную коврами. Через распахнутое широкое окно была видна часть внутреннего двора дворца великого визиря с небольшим фонтаном посередине. Сам Низам аль-Мульк сидел, сложив под себя ноги, в центре комнаты у низенького столика, искусно сделанного из железного дерева, привезенного из Африки.
Увидев визиря, Омар низко поклонился. Низам аль-Мульк медленно встал и, улыбаясь, направился к Хайяму. Он был среднего роста, слегка располневший, с небольшой аккуратной бородкой. Ступал Низам мягко, чуть прихрамывая. Великому визирю исполнилось пятьдесят семь лет, но, несмотря на все испытания, выпавшие ему в жизни, выглядел он немного моложе. Позднее Омар не раз услышит от него слова, которым Низам старался следовать в своей жизни: «Все — но в меру».
— Салям алейкум, о Омар, — певуче произнес визирь, не переставая улыбаться и в то же время пристально всматриваясь в молодого человека. Ведь первые впечатления почти всегда важны для проницательного человека: первый взгляд на незнакомца лишен предубеждений.
— Ва-алейкум ас-салям, о справедливейший из справедливых, защитник бедных, надежда ислама, — склонив голову, произнес Хайям.
Низам аль-Мульк молча показал Омару, чтобы тот сел напротив него за стол. Следуя примеру хозяина, Омар Хайям опустился на ковер.
Визирь приблизил ладони рук друг к другу, как это делают мусульмане, благодаря Аллаха, и произнес на красивом арабском языке: «Во имя бога, милосердного и всепрощающего! Хвала богу преславному и всемогущему, творцу земли и неба, познающему явное и тайное, прощающему грехи. Слава Мухаммаду, превосходнейшему из пророков, избраннику бога мира, принесшему священное писание, предстателю за народы, сподвижникам его и всему его семейству!» Хайям вслед за хозяином повторил: «Аллаху акбар!»
— Хорошо ли ты устроился, Омар? — начал разговор Низам аль-Мульк. — Понравился ли тебе Исфахан, а также дом, который отведен тебе?
— Благодарю вас, о благороднейший из благородных, — начал Омар. — Поистине Исфахан прекрасен настолько, что может служить для истинных правоверных постоянным напоминанием о рае. И благодарю также за вашу величайшую милость и щедрость, позволившую мне приобрести прекрасное пристанище в этом луноподобном городе.
— Я рад, что ты доволен. Я уже слышал, что ты, несмотря на свою молодость, преуспел во многих науках и искусствах?
— Молва людская всегда преувеличивает и наши добродетели, делая их неправодопобными, и наши недостатки, превращая их в чудовищные пороки. Я же просто стараюсь идти своей дорогой к истине, занимаясь тем, что мне действительно представляется важным.
Низам, по-прежнему улыбаясь, вдруг спросил: «И что же ты прежде всего ценишь в людях, о нишапурец?» Омар догадался, что этот вопрос с подвохом.
— Я молод, о надежда мусульман, а мой удел ошибаться. Но мне кажется, что важнейшее достоинство истинного мусульманина — способность вовремя говорить и вовремя молчать, оценивать свои ошибки и учиться на ошибках других и при всем этом не забывать ни на минуту о всемогуществе Аллаха.
Визирь на мгновение прикрыл глаза и чуть кивнул головой, «Пожалуй, — сказал он сам себе, — я не ошибся…»
— Омар, ты, конечно, не случайно попал в Исфахан. Вообще случайностей не бывает в жизни людей. Случайность — это напоминание о самомнении людей и неправильности их размышлений.
Тень сельджукского государства падает сейчас на север и восток, на юг и на запад. Остроту наших сабель испытали на себе и неверные, и те, которые отвратились от истинной веры. В казне нашей много золота, нивы тучны, а стада многочисленны. Но государство сильно не только войском, не только казной, не только торговлей, но и знанием, и науками…
Мы начали собирать в нашем государстве ученых, чтобы еще сильнее светила звезда Сельджукидов. И мы хотели бы, чтобы и ты принес свои знания и разум на службу нашему султану. Он задумал, по моему совету, создать обсерваторию недалеко от Исфахана, чтобы наблюдать за небесными светилами. Потребуется множество расчетов — но ты в них преуспел.
Омар поклонился в знак согласия. Он был рад, что все так удачно складывается, однако свою радость нельзя было показывать.
— Однако это еще не все. Ты знаешь, что наш государь — Малик-шах — еще юн. Поэтому-то важно ему общаться с людьми умными и опытными, чтобы быстрее самому преуспеть в тонкостях жизни. Но частое общение государя с вельможами, эмирами и сипах-саларами (военачальниками) наносит ущерб его величию и достоинству, потому что эти придворные становятся слишком смелыми. Поэтому-то важно его общение с надимами. Ты знаешь, кто такой надим? Это своего рода… как бы точнее это сказать… полупридворный и полудруг государя. Я тут кое-что записал…
Низам взял со стола сверток, развернул его и начал читать, медленно, с расстановкой: «…надим должен быть непринужденным в обращении с государем, чтобы государь от него получал удовольствие и природа государя была открыта перед надимом. Их время — определенное: когда государь дал прием и все вельможи разошлись, наступает их очередь службы. От надима несколько польз: одна та, что он бывает близким другом государя, другая, что тысячу родов слов можно сказать с надимом. Надимы ведут всякого рода разговоры без принуждения о добром и плохом, в пьяном и трезвом виде, в чем много полезного и целесообразного. Надо, чтобы надим был от природы даровит, добродетелен, пригож, чист верой, хранитель тайн, благонравен, он должен быть рассказчиком, чтецом веселого и серьезного, помнить много преданий, всегда быть добрословом, сообщителем приятных новостей, игроком в нарды и шахматы, если он может играть на каком-либо музыкальном инструменте и владеть оружием — еще лучше».
— Играешь ли ты на каком-либо инструменте? — вдруг, прервав чтение, спросил визирь.
— Увы, нет, — ответил Омар.
Неопределенно кивнув головой, Низам продолжил чтение: «Надимам приличествует устраивать все, что имеет отношение к вину, развлечениям, зрелищам, дружеским собраниям, охоте, игре в човган и тому подобному… Надим тем ценнее, чем он более опытен житейски, чем более он побывал всюду. Следует, чтобы надимам государя был представлен достаток и полное уважение среди всей свиты».
— Быть надимом нашего государя большая честь, — продолжал визирь, свертывая рукопись. — Через несколько дней я тебя представлю султану. И последнее — если у тебя будут какие-нибудь затруднения, обращайся ко мне.
…Выйдя на горячую улицу, Хайям вдруг вспомнил слова Абу Тахира об осторожности. Что ж, лучше всегда преувеличивать человека и знать, что никогда до конца его не поймешь, нежели недооценивать и ошибиться, считая, что понял его.
Да, лилия и кипарис — два чуда под луной, О благородстве их твердит любой язык земной, Имея двести языков, она всегда молчит. А он, имея двести рук, не тянет ни одной.Ибн аль-Асир писал о 1074 годе (467 год хиджры): «В этом году Низам аль-Мульк и султан Малик-шах собрали самых лучших астрономов. Они передвинули Науруз в начальную точку Овна, а до этого Науруз приходился на такое время, когда Солнце находилось в середине Рыб, и появился календарь, созданный султаном. Для султана Малик-шаха была построена обсерватория, в ее создании участвовали лучшие астрономы — Омар ибн Ибрахим аль-Хайями, Абу-ль Музаффар аль-Исфазари, Маймун ибн Наджиб аль-Васити и другие. На создание обсерватории пошло очень много средств. Обсерватория действовала до смерти султана в 485 году (1092 г. н.э.), после чего закрылась».
О строительстве обсерватории сообщается и в «Памятниках стран и известиях о рабах божьих» аль-Казвани, где говорится, что Малик-шах дал Хайяму «много денег для покупки астрономических приборов и для звездных наблюдений».
В течение восемнадцати лет Омар Хайям руководил астрономической обсерваторией в Исфахане. И одним из важнейших результатов деятельности Исфаханской обсерватории стала календарная реформа, известная в истории под названием «летосчисление Малики».
В селъджукидском государстве во времена Хайяма использовались два календаря одновременно — солнечный и лунный. В основе солнечного календаря лежит солнечный год, то есть период оборота Земли вокруг Солнца, равный 365,2422 суток, то есть 365 суткам 5 часам 48 минутам 46 секундам. В основе же лунного календаря лежит месяц, то есть период оборота Луны вокруг Земли, равный 29,5306 суток, то есть 29 суткам 12 часам 44 минутам 3 секундам. Двенадцать месяцев составляют лунный год, равный 354 суткам 8 часам 48 минутам 36 секундам.
Издавна в Иране пользовались солнечным календарем. Бируни в своем известном сочинении «Следы, оставшиеся от прошедших поколений», писал об атом календаре: «они (зороастрийцы. — Авт.) считали свой год в 365 дней и пренебрегали последующей дробью до тех пор, пока четверти суток не образовывали в течение 120 лет целый месяц… Тогда они прибавляли к году целый месяц». Зороастрийцы отмечали свой Новый год — Науруз — 21 марта, в день весеннего равноденствия, являвшийся главным зороастрийским праздником.
Каждый из зороастрийских месяцев соответствовал одному из созвездий «пояса зодиака» — большого круга небесной сферы, по которому совершается видимое годовое движение Солнца. Каждому месяцу соответствовал тот знак зодиака, по которому совершается видимое движение Солнца в течение этого месяца. Зороастрийские месяцы и знаки зодиака соответствуют друг другу следующим образом:
Фарвардин — 21 марта — 20 апреля — Овен
Урдибихищт — 21 апреля — 22 мая — Телец
Хурдод — 23 мая — 21 июня — Близнецы
Тир — 22 июня — 22 июля — Рак
Мурдод — 23 июля — 22 августа — Лев
Шахривар — 23 августа — 22 сентября — Дева
Мехр — 23 сентября — 22 октября — Весы
Обон — 23 октября — 21 ноября — Скорпион
Озар — 22 ноября — 22 декабря — Стрелец
Дей — 23 декабря — 20 января — Козерог
Бахман — 21 января — 19 февраля — Водолей
Исфандармуз — 20 февраля — 20 марта — Рыбы
После завоевания Ирана и Средней Азии арабами вместе с исламом эти народы получили и мусульманский лунный календарь. Начало этого календаря отсчитывалось от периода хиджры — ухода Мухаммеда из Мекки, в Медину — 16 июля 622 года. Поэтому-то мусульманский календарь часто называют «эрой хиджры».
Приняв ислам, народы Ирана сохранили большое количество домусульманских обычаев, среди которых особую роль играло празднование Науруза, поскольку лунный год, который на 11 дней короче солнечного года, неудобен для полевых работ. Лунный календарь применялся в религиозных и официальных документах, солнечный — в хозяйственной жизни.
Позднее в своем трактате «Науруз-наме» Омар Хайям описал историю календарных реформ от основания зороастризма до своего времени: «Когда прошло 30 лет царствования Гуштасна[11], явился Зардушт (Зороастр) и принес религию магов. Гуштасп принял его религию и применил ее. Со времени праздника Афридуна[12] до этих пор прошло 940 лет и Солнце было в Скорпионе. Гуштасп приказал совершить високос. Он начал фарвардин Солнца с первого дня Рака и устроил праздник, говоря, что надо соблюдать этот день и совершать Науруз, так как Рак — счастливое созвездие для работы и что крестьянам и земледельцам надо дать право платить налоги в это время, тогда им будет легко. Потом он приказал совершать високос каждые 120 лет, чтобы сделать годы неподвижными и чтобы люди знали свое время и в морозы и в жару. Этот обычай продолжался до эпохи Искандара Румского, называвшегося Двурогим[13].
Начиная с этого времени, люди перестали совершать високос и продолжали поступать так же, как и до этого обычая. Так продолжалось до эпохи Ардашера Попаконя[14], который вновь совершил високос и устроил большой праздник. Он составил договор и назвал этот день Нау-рузом.
Люди справляли праздник Науруз до эпохи Нуширвана Справедливого[15]. Когда портик Медаина[16] был закончен, он установил празднование Науруза согласно обычаям того времени. Но он не совершал високоса, говоря, что люди должны воздерживаться от этого обычая, пока Солнце к концу оборота не достигнет первого дня Рака… Это продолжалось до эпохи халифа Мамуна[17], который приказал наблюдать за Солнцем и каждый год, когда Солнце достигнет Овна, совершать Науруз. Таким образом, были составлены астрономические таблицы Мамуна, и еще в наше время календарь исчисляют с помощью этих таблиц. Так было до эпохи Мутаваккиля-ил-лахи[18]. Мутаваккиль имел визиря по имени Мухаммад ибн Абд аль-Малик, который сказал ему, что собирание налога приходится на такое время, когда скот находится далеко от хлебных полей, поэтому люди мучаются. И согласно обычаю царей Аджама они совершили високос для возвращения года на свое место, чтобы люди меньше мучились во время уплаты налога после уборки урожая. Мутаваккиль согласился и приказал совершить високос и возвратить Солнце из Рака к фарвардину. Тогда люди успокоились и вновь стали придерживаться этого обычая.
Затем Халаф ибн Ахмад, эмир Систана, совершил другой високос. С тех пор до нашего времени стало шестнадцать дней разницы.
Счастливый султан, опора веры, Малик-шах, да освятит Аллах его душу, зная об этом, приказал совершить прежний високос и возвратить год на свое место».
О календарной реформе Хайяма сообщал Насир ад-Дин ат-Туси (1201—1274) в работе «Ильханские астрономические таблицы»: «О новом летосчислении, называемом Малики. Оно установлено счастливым султаном Джалал ад-Дином Малик-шахом ибн Алп-Арсланом Сельджуком. Установлено, что за начало его года берется день, когда Солнце вступает в Овен, то есть начало истинной весны. В начале каждого месяца Солнце вступает в то созвездие зодиака, которое соответствует этому месяцу, и, таким образом, месяцы этого летосчисления — настоящие солнечные месяцы. Названия месяцев — персидские, такие же, как первоначальные, древние месяцы. Астрономы установили продолжительность месяцев в тридцать дней для облегчения подсчета дней и чтобы не было расхождения с другими календарями. Дополнительная пятерка добавляется в конце месяца исфандар-муза, и каждые четыре года к году добавляется еще один день, так что год становится 366 днями; так поступают семь или восемь раз по четыре года, а один раз високос производится раз в пять лет».
Выдающийся узбекский астроном Улугбек в своих знаменитых «Новых астрономических таблицах Гургана» пишет об этой знаменитой календарной реформе: «Эра Малики или Джалали. Эта эра названа так по имени султана Джалалиддина Малик-шаха, сына Алп-Арсла-на Сельджука. Начало года Джалали совпадает с полднем дня вступления Солнца в Овен, месяцы этой эры также подчинены прохождению Солнца через отдельные знаки Зодиака, почему годы и месяцы этой эры должны быть истинными, солнечными. Однако обычно исчисляют месяцы в 30 твердо установленных дней, чтобы внести регулярности в таблицы эфемерид».
Если считать, что в календаре Хайяма високосный год, отделяемый от предыдущего високосного года не четырехлетним, а пятилетним промежутком, всегда является восьмым, то в итоге получается исключительно простой календарь с 33-летним периодом, причем високосными годами являются 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 и 33-й годы. Средняя продолжительность года в этом случае равна 365,2424 суток, то есть отклонение от истинного солнечного года равно 0,0002 суток, и, следовательно, ошибка в 1 день накапливается за 5000 лет. В современном календаре, которым пользуется ныне человечество, средняя продолжительность года равна 365,2425 суток, то есть отклонение от истинного года равно 0,0003 суток, и ошибка в 1 день накапливается за 3333 года.
Руководя обсерваторией в Исфахане, Омар Хайям выполнял и функции астролога, предсказывая по положению звезд те или иные события. Собственно, это входило в его прямые обязанности надима при особе султана. «Многие из государей, — писал Низам аль-Мульк, — делали своими надимами врачей и астрологов, чтобы знать, каково мнение каждого из них, что следует им, что следует государю, что надо делать, чтобы беречь природу и здоровье государя… Астрологи же наблюдают за временем и часом; для всякого дела, которое будет принято, они дают уведомление и выбирают благоприятный час».
Ко времени Хайяма астрономия еще не отделилась от астрологии. Наиболее показательным примером может послужить «Книга для изучения; начал искусства астрологии» крупнейшего энциклопедиста Абу-Рей-хана Бируни, в которой рассматриваются и астрономические и астрологические проблемы.
Почти все астрономы средневековья в той или иной степени занимались и составлением прогнозов, следя за движением звезд. Поэтому-то и терминология астрономов и астрологов была во многом сходна. Например, известные «Маликшахские астрономические таблицы», составленные под руководством Омара Хайяма, в определенной степени являются одновременно и астрологическими. В них содержатся названия звезд, их положения в созвездиях, долгота и широта, величина звезд, темпераменты людей, родившихся под соответствующим знаком, а также воздействия (благоприятные или неблагоприятные) звезд на людей.
И в «Науруз-наме» Омар Хайям фактически не разделяет астрологию и астрономию: «Говорят, что когда всевышний и святой Изад приказал Солнцу сдвинуться с места, чтобы его лучи и приносимая им польза были бы повсеместно, Солнце вышло из головы Овена, тьма отделилась от света, и появились день и ночь. Так началась история этого мира. После этого оно через тысячу четыреста шестьдесят один год вернулось на то же место в тот же день и в ту же минуту.[19] За это время Юпитер соединялся с Сатурном семьдесят три раза. Это называют малым соединением; это соединение бывает каждые двадцать лет. Когда Солнце кончает свой оборот и возвращается на то же место, между Сатурном и Юпитером происходит соединение в том созвездии зодиака, которое является созвездием упадка Сатурна, противостоящим созвездию Весов, являющемуся созвездием возвышения Сатурна. Один оборот здесь, один оборот там в том порядке, как мы указали и показали места светил». Соединение и противостояние — важнейшие частные случая взаимного расположения двух планет, понятия, активно используемые в средневековой астрологии.
В астрологии до сих пор некоторые созвездия зодиака считаются «созвездиями упадка» для тех или иных планет, а другие созвездия считаются «созвездиями возвышения»: при прохождении планет через «созвездия упадка» благотворное влияние этих планет на судьбы людей ослабляется, при их прохождении через «созвездия возвышения» считалось, что влияние усиливается.
В другом месте этого же трактата Омар Хайям пишет: «С помощью науки астрологии утверждают, что владеющие луком, если они стрелки и занимаются большую часть времени оружием стрельбы, не нуждаются (ни в чем другом). Победа каждого войска зависит от оружия — стрелы, и стрелки, владеющие этим оружием, побеждают. Довод в пользу этого таков, что судьба этого оружия находится в созвездии Стрельца, а природа Стрельца огненная. Большим счастьем является дом Юпитера — треугольник в созвездии Овна, созвездие Льва является домом Солнца, а достоинства созвездия Стрельца объясняются тем, что оно — дом Марса».
С каждым из семи светил — Солнцем, Луной и пятью известными тогда планетами мусульманские астрологи связывали некоторые участки — пояса зодиака, чаще всего треугольники, называемые «домами» этих светил. Солнце и Луна имели по одному «дому», а планеты — по два, в каждом из созвездий зодиака находился «дом» одного из светил. В период нахождения светила в его «доме» сила его воздействия на судьбы людей, по мнению астрологов, увеличивается. «Дом» Солнца находился в созвездии Льва, один из «домов» Юпитера — в созвездии Овна; в созвездии Стрельца находился один из «домов» Марса.
В рубайяте Омара Хайяма есть целый цикл произведений, в которых говорится о воздействии неба на жизнь людей. Причем под небосводом как раз имеются в виду астрологические элементы. Наиболее ярко это отражено в одном из четверостиший, которое ниже приводится в дословном переводе:
О ты, пребывающий во власти четырех (элементов) и семи (планет)! От семи и четырех ты постоянно в жару. Горюй постоянно, ибо на этом пути алчности ты не знаешь, что, Когда ты уйдешь — уйдешь (навсегда).Под четырьмя элементами здесь имеются в виду огонь, земля, воздух и вода, а под семью планетами — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Луна, Солнце.
Небесный круг, ты — наш извечный супостат! Нас обездоливать, нас истязать ты рад! Где б ни копнуть, земля, в твоих глубинах, — всюду Лежит захваченный у нас бесценный клад. Не одерживал смертный над небом побед, Всех подряд пожирает земля-людоед. Ты пока еще цел? И бахвалишься этим? Погоди: попадешь муравьям на обед!Хотя Хайям и занимался астрологией, он относился к ней скорее как к искусству, где важна интуиция, вдохновение. Поэтому Низами Арузи Самарканди имел все основания писать: «Несмотря на то, что правила астрологии и являются признанным искусством, им нельзя верить, астроном должен избегать доверия к ним, и каждое утверждение, сделанное им, должен предоставить судьбе. Насколько я знал доказательство истины Омара, я не видел, чтобы он доверял правилам астрологии». Надо еще отметить, что многие выдающиеся люди того времени отдавали дань занятиям астрологией. Среди них — Фараби, Бируни, Ибн Сина и другие. Любопытен еще один момент: ортодоксальное мусульманское духовенство резко враждебно относилось и к астрологам и астрологии.
Наконец, в рубайяте Хайяма есть четверостишия, в которых отражены взгляды, вполне соответствующие его философским исканиям. И на первый взгляд кажется, что эти рубаи противоречат цитированным выше:
Мне так небесный свод сказал: «О человек, Я осужден судьбой на этот страшный бег. Когда б я властен был над собственным вращеньем, Его бы я давно остановил навек». Ответственность за то, что краток жизни сон, Что ты отрадою земною обделен, На бирюзовый свод не возлагай угрюмо: Поистине тебя беспомощнее он.Однако это противоречие кажущееся. Хайям в косвенной поэтической форме подчеркивает, что на судьбы людей воздействует сложнейшая гамма закономерностей (только в незначительном объеме познанных человечеством) необъятного мира, всеобщего универсума. И космос, совокупность звезд и планет, всего лишь частица огромного мироздания.
— Омар, всегда ли оправдывались твои предсказания? — Малик-шах отхлебнул вина и засмеялся. Он был доволен — охота оказалась успешной. Сам султан свалил красавца оленя с ветвистыми рогами, правда, при помощи двух выстрелов. Туши уже были освежеваны, и слуги торопливо разводили костры. Малик-шах сидел возле шатра, в тени, на коврах, в нескольких метрах от ручья.
Историк аль-Хусайни писал: «Султан Малик-шах был самым лучшим стрелком (из лука), никогда не промахивался и обладал сильным ударом копья. Он очень любил охоту. Однажды он приказал пересчитать то, что он добыл на охоте вместе со слугами. Оказалось 10 тысяч (голов животных), и он приказал раздать 10 тысяч динаров милостыни и сказал: „Я боюсь Аллаха всевышнего, что проливаю кровь животных для забавы“. Это Малик-шах построил Манарат аль-Курун (Минарет из рогов), на пути из Багдада в Мекку. Он возведен из рогов и копыг животных, убитых на охоте».
Омар не любил охоту не только потому, что сочувствовал обреченным животным, которые чаще всего не на равных боролись в последний раз с людьми за свою жизнь. Его раздражал бестолковый гогочущий шум многочисленной свиты молодого султана. Но, как надим, он должен был порой участвовать в таких забавах, когда очередь или желание государя падали на него.
— Нет, не всегда, — ответил спокойно Омар Хайям, сидевший напротив Малик-шаха. Не каждый надим мог сидеть в присутствии султана. Но Хайям обладал такой достаточно редкой привилегией. — Небосвод велик, а жизнь человека слишком ничтожна, чтобы точно знать, как влияют звезды на ту или иную человеческую судьбу. Мы что-то знаем о законах звезд, но это что-то несравнимо с тем, что мы не знаем. Такова воля всевышнего: тайны людей, народов и государств он спрятал в ритм движения небосвода. И величие создателя проявляется в том, что, познав что-либо из этих тайн, истинно познающий убеждается поистине только в одном — насколько грандиозен и необъятен замысел божий. Как бы ни расширялся круг известного нам знания, нашими соседями и спутниками вечно остаются Неизвестное и Бесконечное. И на наш разум Тайна всегда отбрасывает свою странную тень. Но человеческое величие астролога заключается в том, что, даже зная, что он никогда не узнает полностью астрологических законов, тем не менее продолжает свои наблюдения.
— Но этот путь, Омар, бесконечен, а человек смертен; таким его создал великий Аллах, ибо должен человек заботиться о своем спасении.
— Ты прав, о величайший из живущих султанов, — торопливо сказал Хайям. — Но ищущий рая и отвергающий ад должен по крайней мере знать, кто тот, который ищет и отвергает. Познание себя — истинно богоугодное дело. Ведь в одном из хадисов сказано: «Тот, кто знает о себе, знает о своем господе…»
— Омар, несколько дней назад ты сказал мне, что лицемерие является одним из наиболее страшных грехов. Но лицемерие порождается гордыней. И разве цель — познать себя — не есть хитрая ловушка гордыни? Кто-то из факихов мне говорил, что ты непонятно усложняешь веру… Впрочем, мне надоели эти разговоры. Омар, что в мире лучше вина и красавицы?
— Лучшее вино и две красавицы, если ты свободен от всего, как истинный суфий, или ты могуществен, как султан.
— Омар заслуживает того, чтобы ему отрубили голову. Назвать султана не свободным — ну, не преступление ли это перед государством? — весело воскликнул Малик-шах, обращаясь к Лайле, изумительно красивой рабыне, с большими черными колдовскими глазами. Лайла была румийкой по рождению, умела прекрасно танцевать и петь. Она молча и неопределенно покачала головой…
— Прочти, Омар, свои стихи и ты будешь помилован, — султан засмеялся и поднял бокал.
«Вино пить — грех». Подумай, не спеши! Сам против жизни явно не греши. В ад посылать из-за вина и женщин? Тогда в раю, наверно, ни души. Кумир мой, вылепил тебя таким гончар, Что пред тобой луна своих стыдится чар. Другие к празднику себя пусть украшают, Ты — праздник украшать собой имеешь дар. На розах блистанье росы новогодней прекрасно, Любимая — лучшее творенье господне — прекрасна. Жалеть ли минувшее, бранить ли его мудрецу? Забудем вчерашнее! Ведь наше Сегодня — прекрасно. Кумир мой — горшая из горьких неудач! Сам ввергнут, но не мной, в любовный жар и плач. Увы, надеяться могу ль на исцеленье, Раз тяжко занемог единственный мой врач?Здесь, наверное, стоит отвлечься от бесед Омара Хайяма с султаном и сказать несколько слов о том, что представляли собой носители высшей власти в сельджукской империи.
Наследники престола у Сельджукидов назначались еще при жизни царствующего султана. Существовала специальная традиция возведения на трон и присяги на верность будущему султану. Наследника сажали на лошадь, впереди которой шествовала знать, одаривали присутствующих халатами и вышитыми попонами. Среди тюркоязычных народов в то время конь олицетворял собой племя и даже целое государство. Торжественное сажание наследника престола на коня символизировало его возвышение над народом и получение государственной власти.
Первым сельджукским властителем, присвоившим себе почетный титул «султан», был Мухаммад Тогрул-бек. Уже в 428 году хиджры (1036 или 1037 год) он назывался «великий султан, опора мира и религии». Обычно верховные правители старшей ветви сельджукской фамилий носили титул «великий султан, высочайший шахиншах», а также «султан Востока и Запада».
Начиная с Мухаммеда Тогрул-бека сельджукские государи получали формальное право на султанскую власть от халифа. Обряд посвящения сопровождался облачением в почетные одежды и другими церемониями, Именно сельджукские властители создали идею «султана ислама» как верховного светского правителя всего мусульманского мира, стоящего рядом с халифом, религиозным главой мусульман. Султан, получая от халифа инвеституру и специальный диплом, как бы становился «доверенным» самого «имама правоверных»[20], что, впрочем, не мешало сельджукским правителям вести борьбу с халифами, которые были лишены ими же светской власти. Султан считался «поверенным мира» на основе коранической догмы о божественном предопределении власти.
Полномочия султанской власти были огромны, он являлся верховным распорядителем всего государственного имущества. «Когда государь на кого-либо разгневан, — пишет Низам аль-Мульк, — он приказывает отрубить голову, отсечь руки и ноги, вздернуть на виселицу, бить палками, отвести в темницу, бросить в яму».
Глава сельджукской державы был обязан разбирать жалобы на своих вельмож, сановников и должностных лиц. Довольно часто для проверки жалоб султан посылал доверенных гулямов с устным напутствием или письменным указом. Гулямы получали за это вознаграждение, или, точнее, плату для исполнения султанского поручения. Только султан имел право давать земельные наделы в условную или наследственную собственность.
Многие историки высоко оценивали достоинства первых сельджукских государей Тогрула, Алп-Арслана и Малик-шаха. Можно привести, например, любопытное замечание арабского историка Идриса о тюрках: «Их князья воинственны, предусмотрительны, тверды, справедливы и отличаются превосходными качествами». В.В. Бартольд пишет: «…нравственные понятия кочевников в большей степени, чем нравственные понятия культурных народов, находились в зависимости от религии. Вполне естественно, что первые Сельджукиды и Караханиды были лучшими мусульманами, чем Махмуд и Масуд[21], как Владимир Святой был лучшим христианином, чем византийские императоры… Очень вероятно, что под влиянием религии некоторые из этих властителей проникались искренним желанием осуществить идеал справедливого царя».
Предводитель кочевого народа, едва отличавшийся от своих воинов по одежде, деливший с ними все труды, не мог внезапно превратиться в деспота, каким был, например, Махмуд. Любопытен ответ Алп-Арслана, отца Малик-шаха, на вопрос Низам аль-Мулька, почему он против введения системы шпионажа в государстве: «Если я назначу сахиб-хабара (руководителя такой шпионской системы), то люди, искренне ко мне расположенные и близкие мне, не станут обращать на него внимания и подкупать его, полагаясь на свою верность, дружбу и близость; с другой стороны, мои противники и враги заключат с ним дружбу и будут давать ему деньги; ясно, что сахиб-хабар постоянно будет доводить до меня дурные вести о друзьях и хорошие вести о врагах. Добрые и дурные слова подобны стрелам; если выпустить несколько стрел, то хоть одна попадет в цель; с каждым днем будет уменьшаться мое расположение к друзьям и увеличиваться мое расположение к врагам; через короткое время друг будет от меня дальше, враг — ближе; наконец враг займет место друга; вред, который произойдет от этого, никто не будет в состоянии исправить».
Система внутреннего шпионажа, кроме того, представляла тот недостаток, что могла служить орудием и против монарха; если Махмуд приставил шпионов к своему сыну и наследнику Масуду, то и Масуд ухитрился внедрить соглядатаев в канцелярию отца. Однако, с другой стороны, должность сахиб-хабара являлась одним из устоев для феодального государства. И в этом смысле Низам аль-Мульк был прав. Уничтожение системы шпионажа (а более действенный контроль в тех условиях был невозможен) могло только увеличить произвол отдельных наместников.
Малик-шах был достаточно образован для своего сана, и в этом безусловно сказалось влияние великого визиря и надимов султана, подобранных Низам аль-Мульком. Повелитель страны не пренебрегал выслушивать разъяснения Омара Хайяма о небесных явлениях и достаточно толково разбирался в стихах. Конечно, государь не мог следить за сложным бюрократическим управлением своих обширных владений, и эта обязанность лежала исключительно на визире. В то же время при таких условиях слишком активное вмешательство государя и двора в ход управления могло особенно гибельно отозваться на делах. Низам аль-Мульк поэтому старался, чтобы письменные приказания государя посылались как можно реже: «Послания, которые пишут с государева двора, многочисленны, а все, что становится многочисленным, теряет свое значение. Надо, чтобы не писали ничего от высокого собрания, пока не наступит какое-нибудь важное обстоятельство. А если написали, то уже надо, чтобы содержание послания было таково, чтобы ни у кого не поселялось намерения что-нибудь не выполнить из приказа. Если окажется, что кто-либо поглядит пренебрежительно на приказ или замедлит в ревности к слушанию и повиновению, пусть назначат суровое наказание, даже будь он из близких».
Власть сельджукских правителей, основанная на идее самодержавности, теоретически считалась неограниченной. Тем не менее при решении важных государственных дел султан мог устроить совещание с высшими сановниками и вельможами.
Султан ведал не только гражданскими, но и военными делами государства, назначал и смещал полководцев. Все мероприятия, связанные с организацией и расходами на армию, утверждались «великим султаном». Султан являлся также верховным главнокомандующим и нередко сам возглавлял походы и военные кампании. В его распоряжении имелись личная гвардия, отряды телохранителей и гулямов.
Великие сельджукиды особое внимание уделяли тому, чтобы не допустить посягательств на свой престол со стороны своих же родственников. Начало этому положил Тогрул-бек, когда приказал задушить родного брата Ин-нала тетивой его собственного же лука, после того как подавил его мятеж. Алп-Арслан в 1065 году сражался с восставшим против него Кутулмушем, одним из двоюродных братьев Тогрул-бека, а через три года — против родного брата Кавурда, наместника Кирмана. Когда же после смерти Алп-Арслана султанский престол наследовал Малик-шах, Кавурд снова поднял знамя восстания, желая стать султаном. В начале 1074 года, после трехдневного сражения при Хамадане, в котором лично участвовал Малик-шах, Кавурд был разбит, взят в плен и в следующую ночь по совету Низама аль-Мулька (но вопреки султану) задушен.
Такой финал, однако, не удержал одного из братьев Малик-шаха, Такаша, сначала в 1081 году, а затем вторично в 1084 году произвести восстание в Хорасане. После поражения ему по приказанию султана выкололи глаза.
Несмотря на исключительно большое влияние визиря, впоследствии Малик-шах стал все более подробно вникать во все государственные дела. Он придавал большое значение восстановлению разоренных местностей, основанию научных заведений, постройке больших зданий с общественно полезными целями, покровительствовал искусству. Малик-шах любил большие путешествия внутри своего государства, стремясь лично ознакомиться с местными условиями. Его отличало и особенное стремление заботиться о бедных людях.
…Через много лет в Нишапуре, в один из тех редких моментов, когда у него было хорошее настроение, Омар Хайям рассказал нескольким своим ученикам историю, приключившуюся с султаном: «Один из его знатных мамлюков проходил мимо бедного человека, продававшего арбузы. Взяв арбуз, он не уплатил за него. Продавец пошел с жалобой к султану Малик-шаху. Султан спросил у него: „Узнаешь ли ты обидчика?“ Тот ответил отрицательно. А сезон арбузов уже прошел. Султан приказал позвать своих мамлюков и, когда они пришли, сказал им: „Мне очень захотелось арбуза, но сейчас ведь не время. Может быть, кто-нибудь из вас достанет мне его?“ И тогда тот мамлюк воскликнул: „О владыка! Не ищи — у меня есть арбуз!“ Султан приказал взять его под стражу и позвал человека, который опознал его. Султан сказал ему: „Это мой мамлюк, и я дарю его тебе, бери его!“ Мамлюк выкупил себя за 300 динаров. Человек вернулся к султану и сказал: „Государь наш! Я продал мамлюка, которого ты подарил мне, за триста динаров!“ Султан спросил: „Ты доволен этой суммой?“ Тот ответил утвердительно».
Поглаживая свою сплошь белую бороду. Хайям спросил: «Что питает справедливость истинных государей?» Он повернулся на запад, где уже садилось солнце, и сам же ответил; «Справедливость в человеке — это мера его связи с вечностью. Истинно справедлив тот государь, кто веру соединил с силой. Если же сила заменяет веру, а вера скрывает отсутствие силы — рано или поздно ждите беды».
Историки пишут, что Малик-шах заботился о строгом порядке и дисциплине в войсках и о справедливости в администрация, причем порой указывал Низаму аль-Мульку на то и другое. Хотя он и не был столь страстно предан лагерной жизни, как его отец, но все же был талантливым военным предводителем.
Где б ни алел тюльпан и роза ни цвела, Там прежде кровь царей земля в себя впила, И где бы на земле ни выросла фиалка, Знай — родинкой она красавицы была.…Весна 1081 года. Армия Малик-шаха возвращается в Исфахан. На спине одного ив боевых слонов искусно развернута походная палатка, в которой находится больной султан. Рядом с ним — Омар Хайям, выполняющий обязанности походного врача.
— А ты, оказывается, искусный врачеватель. Сегодня я себя чувствую гораздо лучше. Вчерашняя гадость, которую ты заставил меня выпить, оказалась-таки полезным лекарством. Где ты научился искусству лекаря?
— В основном по книгам Абу Али[22] в Нишапуре и позднее, в Самарканде, я несколько раз прочел и почти запомнил его «Канон врачебной науки».
— Послушай, а не мешают ли искусству врачевания твои занятия астрономией, математикой?
— Я не пойму тебя, о повелитель.
— Видишь ли, астрономы изучают движение звезд, планет — и это одно движение; математики занимаются измерением — и это одно измерение. Но каждый человек отличается от другого. Значит, отличаются и их болезни, и горести. Вчера ты готовил лекарство для меня или для больного?
— Для тебя, ибо истинное искусство врача заключается в том, чтобы в больном видеть того, кто ни на кого не похож. Трудно сравнить это с математикой, поскольку там мои измерения может повторить любой опытный математик.
— Омар, я вспоминаю, что несколько лет назад ты закончил какой-то математический трактат. И даже получил от меня какую-то награду, хотя я не очень-то понял, что ты там доказываешь. Продолжаешь ли ты этим заниматься и сейчас?
— Дураки, мудрецом почитают меня, Видит бог: я не тот, кем считают меня, О себе и о мире я знаю не больше Тех глупцов, что усердно читают меня.В середине декабря 1077 года Омар Хайям закончил один из своих важнейших математических трудов — «Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида».
«Комментарии» Хайяма разделены на три книги или три части. Во введении он формулирует следующим образом свою общую методологическую задачу: «Изучение наук и постижение с их помощью истинных доказательств необходимо для того, кто добивается спасения и вечного счастья. В особенности это относится к общим понятиям и законам, к которым прибегают для изучения загробной жизни, доказательства (существования) души и ее вечности, постижения качеств, необходимых для существования всевышнего и его величия, ангелов, порядка творения и доказательства пророчества государя (пророков)[23] повелениям и запрещениям которого повинуются все творения в соответствии с соизволением всевышнего Аллаха и силой человека». Таким образом Омар Хайям, как действительный последователь Ибн Сины, пытается в рационалистическом духе интерпретировать и мир и положения ислама.
В первой книге «Комментариев» рассматривается теория параллельных. Хайям вообще не сомневается в истинности классического постулата Евклида, однако считает его менее очевидным, чем ряд других евклидовских положений. Кроме того, он отвергает некоторые варианты доказательства.
Один из принципов Аристотеля Хайям принимает за исходный в собственной теории параллельных: «Две сходящиеся прямые линии пересекаются, и невозможно, чтобы две сходящиеся прямые линии расходились в направлении схождения». Каждое из двух утверждений, содержащихся в этом принципе, эквивалентно пятому постулату Евклида.
При помощи нового постулата Омар Хайям доказывает восемь теорем, последняя из которых по формулировке совпадает с пятым постулатом. Центральное место у Хайяма занимает исследование равнобедренного двупрямоугольника (четырехугольника с двумя прямыми углами при основании и равными боковыми сторонами). Равнобедренный двупрямоугольник разделяется своей осью симметрии на два трипрямоугольника. Относительно двух других углов двупрямаугольника, равных между собой, Хайям сначала предполагает, что они острые, затем, что они тупые, и оба допущения приводит к противоречию при помощи своего принципа. После установления существования прямоугольника он довольно просто доказывает пятый постулат.
Работы восточных геометров по теории параллельных, растянувшиеся почти на пятьсот лет и тесно связанные между собой, оказали значительное воздействие на позднейшие исследования. Идеи Хайяма и ат-Туси стали известны в Европе только в XVII веке. Выявленная и обоснованная ими связь пятого постулата Евклида с проблемой суммы углов четырехугольника, или, что равносильно этому, с вопросом о сумме углов треугольника, стала основной в дальнейших работах. Гипотезы и представления математиков Востока о свойствах рассматривавшихся ими четырехугольников в случае острого и тупого угла стали своего рода первыми теоремами неевклидовых геометрий Лобачевского и Римана (в первой из которых обосновывается гипотеза острого угла для этих четырехугольников, а во второй — гипотеза тупого угла). Работы Омара Хайяма стали одним из важных звеньев в цепи исследований, закончившихся созданием неевклидовой геометрии.
Вторая и третья книги «Комментариев к трудностям во введениях книги Евклида» посвящены теории отношений. Хайям подтверждает правильность знаменитого определения тождества двух отношений в пятой книге «Начал», в которой Евклид сравнивает произвольные равнократные первой и третьей и, соответственно, второй и четвертой величин, образующих пропорцию.
Это определение, однако, с его точки зрения, страдает существенным недостатком, ибо не выявляет «истинный смысл пропорции». Хайям считал, что определение Евклида не конкретизирует измерительных аспектов отношений, которые представляли практический интерес для математики мусульманских стран. Поэтому свою задачу он видел в формулировании такого определения равенства отношений, которое непосредственно отражало бы числовую функцию отношения. Хайям намеревался соединить общую теорию отношений пятой книги, пригодную и для непрерывных соизмеримых величин, и теорию отношений чисел седьмой книги. При этом Хайям пошел по новому и оригинальному пути: он доказывает эквивалентность Евклидовых определений тождества и неравенства отношений с новыми.
В основе исходного определения Хайяма лежит процесс отыскания наибольшей общей меры и соответствующий алгоритм Евклида. Доказывая эквивалентность определений Евклида и собственного, Омар Хайям приходит к выводу о наличии существенного пробела в теории отношений — отсутствие общей теории о существовании четвертой пропорциональной к трем данным величинам, которую Евклид доказал в шестой книге только для частного случая отрезков. С точки зрения Хайяма, существует прямая связь этой теоремы с непрерывностью и доказывает ее на основании еще одного из «принципов, заимствованных у философа»: «величины можно делить до бесконечности, то есть они не состоят из неделимых» (кстати, это положение Аристотеля будет играть важную роль и в его философских трактатах). Для обоснования этой теоремы Хайям доказывает, что величина принимает каждое значение, промежуточное между какими-либо двумя ее значениями. Хотя для этого приведенного принципа недостаточно, здесь важна сама принципиальная идея.
Третья книга «Комментариев» посвящена проблеме составления отношений, недостаточно развитых у Евклида. Это учение представляло для математиков стран ислама особую важность в связи с возможными приложениями к теории музыки и, главное, тригонометрии. Здесь Омар Хайям отходит от концепции о числе Аристотеля. Признавая, что число в собственном смысле — это натуральное число, собрание единиц, он предлагает ввести более широкое абстрактное понятие о числе как о действительном положительном числе. При этом Хайям теоретически обосновывает давнюю практику математиков. Ведь «вычислители и землемеры часто говорят: половина единицы или треть ее или какая-нибудь другая доля ее, в то время как единица неделима… предполагают единицу делимой. Они часто говорят: корень из пяти, корень из десяти и т. д. — их слова, действия и измерения изобилуют этими выражениями».
Для большинства математиков и философов Древней Греции было характерно восприятие числа исключительно как меры дискретных множеств предметов или меры непрерывных величин, состоящих из однородных с ними величин, равных между собой. Расцвет астрономии, огромные и регулярные вычислительные работы по составлению тригонометрических и астрономических таблиц, успехи числовой алгебры — все это привлекло внимание к иррациональным числам (1/5) как законному объекту математики.
Хайям, развивая тенденцию на объединение отношений и чисел, первый со всей определенностью формулирует и новую, более общую концепцию действительного (положительного) числа. Он вводит и обосновывает понятие общей абстрактной числовой величины, указывая на практическую значимость такого расширения понятия числа. Хайям подчеркивает, что новая, вводимая им единица является делимой, — только у практиков эта единица всякий раз являлась именованной и могла рассматриваться как множество других более мелких единиц, а у Хайяма это — отвлеченная числовая единица. В итоге у Хайяма каждому отношению ставится в соответствие некоторое действительное (положительное) число и отношения вместе с числами приобретают функции измерения любых величин.
За Хайямом в теории отношений и учении о числе последовал Насир ад-Дин ат-Туси. В Европе единое понятие действительного (положительного и отрицательного) числа впервые появляется в конце XVI века. Строгие теории действительного числа появились только в конце XIX века. В третьей книге у Хайяма есть следующий отрывок: «Что касается отнимания отношения, упоминаемого в музыке, то на самом деле при внимательном рассмотрении оно оказывается разновидностью присоединения, и метод изучения — тот же самый для обладающего проницательным умом и хорошей интуицией. Мы коснулись этого вопроса в „Комментариях к трудностям“ Книги о музыке». Упоминаемая Хайямом работа не сохранилась. Скорее всего это были комментарии к «Большой книге о музыке» аль-Фараби, с творчеством которого Хайям был хорошо знаком.
Те, в ком страсти волнуются, мысли кипят, — Все на свете понять и изведать хотят. Выпьют чашу до дна — и лишатся сознанья, И в объятиях смерти без памяти спят.— Я иногда завидую тем людям, которые не забивают себе головы такими выспренними словами, как «мудрость», «истина», «знание».
Прекрасная летняя ночь нависла над Исфаханом. В небе сочно роятся равнодушные звезды. Упрямый горный ветерок все же ухитрился отогнать остатки дневного зноя. На верхней площадке обсерватории стоят Омар Хайям и Абу-ль-Музаффар аль-Исфазари.
— Почему? — чуть помедлив, спрашивает своего коллегу Абу-ль-Музаффар.
— Может быть, потому, что высшая правда заключается в том, чтобы не замечать тех вопросов, ответов на которые нет. Просто не замечать. Почему бы нет?
Абу-ль-Музаффар прокашлялся. Он не всегда вполне понимал Хайяма. Омар был скорее молчалив, чем разговорчив. Очень часто даже во время обсуждений итогов еженедельных наблюдений он говорил просто и кратко. Но иногда его прорывало.
— Омар, то, что было непонятным вчера, становится чуть ясным сегодня, и будет — если поможет Аллах! — нашим знанием завтра…
— Я говорю о другом, Абу. Взгляни внимательно на человека. Три главных события составляют суть его жизни. Он рождается, он живет, он умирает. И что же? Он не чувствует, как он рождается. И он не помнит о рождении. Умирая, он страдает. И он не хочет думать о смерти. Наконец, пока он живет, у него не хватает времени на то, чтобы осмыслить суть своей единственной драгоценности — собственную жизнь.
Два дня назад, Абу, я в присутствии султана говорил с неким дервишем из Балха. Он утверждал, что знание математиков, астрономов, врачей состоит из лоскутов и что нельзя из них соткать действительный ковер истины. Повелитель стал защищать ученых. И тогда дервиш рассказал такую притчу.
Некий падишах отдал своего сына обучаться искусству рамлю[24]. Тот хорошо старался и преуспел в этом деле. Однажды падишах зажал в руке перстень и сказал: «Сын мой, скажи-ка, что у меня в руке?» Тот ответил: «Оно — круглое, минерал, посередине у него отверстие». Шах сказал: «Признаки ты назвал верно, реши же, что это за предмет». Тот после долгого раздумья сказал: «Мельничный жернов». Шах воскликнул: «Столько точных примет ты установил силой знания и изучения, но не хватило у тебя разума на то, чтобы понять: не может жернов поместиться в руке, и нельзя его взять в руку».
И дервиш продолжал: «Вот так и ученые наших дней „расщепляют волосок“ в науках и говорят о том, до чего им дела нет, и прекрасно все это знают. А то, что важно и к ним ближе всего, то есть „самость“ свою, они не знают, то есть себя не знают».
Абу, я нашел что ответить ему. Но переубедил ли я его — не знаю.
Во сне сказал мне пир: «Покинь свою кровать, Ведь розу радости нельзя во сне сорвать, Ты, лежебок, все спишь, а соy подобен смерти, Потом века тебе придется спать».Для сельджукских султанов на первом плане всегда оставались военные операции, И чем более были они уверены, что управление обширным их государством преуспевает в руках Низам аль-Мулька, тем ревностнее сражались они на западе и на востоке для расширения границ своих владений.
Продолжение завоевательных войн необходимо было и по другой причине. С севера в сельджукское государство постоянно прибывали родственные туркменские и гузские племена. Для того чтобы избавиться от этих беспокойных и воинственных родственников, Малик-шах направлял их для захвата новых владений в Сирии, Армении и Малой Азии.
Султан руководствовался достаточно умной политикой, предоставляя эти трудно поддающиеся дисциплине, но отлично справляющиеся с внешними врагами иррегулярные войска власти собственных их вождей. И не всегда при этом сразу вмешивался, когда по временам племенные вожди вцеплялись друг другу в горло.
Завоевательные походы сельджуков на западе были направлены против двух по-прежнему достаточно могущественных государств — Византии и фатимидского Египта. В 1071 году, незадолго до своей смерти, Алп-Арслан взял в плен римского императора Романа IV. Последний вторгся в Армению с огромным войском, чтобы вытеснить сельджуков из этой византийской провинции. Однако в трехдневном ожесточенном сражении, в котором лично участвовали и султан и император, последняя в рукопашном бою был взят в плен, а его армия обратилась в паническое бегство.
Алп-Арслан обошелся с пленным императором достаточно милостиво и согласился дать ему свободу в обмен на заключение мирного договора, в условия которого, кроме отсылки из Византии без всякого выкупа всех нленных мусульман, входила еще уплата громадной денежной суммы за самого Романа. Однако как только император вернулся в Византию, он был убит заговорщиками, которые отвергли и злополучный договор.
Это дало необходимый повод сельджукам вновь заняться завоеванием византийских владений. К 1081 году Армения и почти вся Малая Азия, включая Никей, были в руках у эмира Сулеймана, наместника сельджукского султана в этом районе. Причем этот город, где происходил когда-то столь важный для христиан вселенский собор, он сделал своей столицей.
В 1070 году влияние постоянно возрастающего могущества сельджуков распространилось до самой Аравии, где шериф Мекки отказался от ориентации на египетских халифов, Через шесть лет один из туркменских вождей, Атсиз, захватил Дамаск. Его же нападение уже непосредственно против территории Египта было отбито Фатимидами, однако и попытка последних вновь отвоевать Дамаск тоже не увенчалась успехом.
Большое внимание Малик-шах уделял и своим восточным границам. В 1089 году он начал поход против Караханидов, воспользовавшись как предлогом жалобами на несправедливость и жестокость сына Шамс аль-Мулька — Ахмед-хана, незадолго до этого вступившего на престол. Малик-шах без труда взял Бухару и Самарканд. Ахмед-хан, который заперся в маленькой крепости, был вынужден сдаться и затем был послан военнопленным в Исфахан. Султан добрался до владений кашгарского хана, который согласился признать суверенитет Сельджу-кидов, выбивать имя султана на монетах и поминать его в молитвах в мечетях.
К началу 90-х годов границы империи Сельджукидов достигли Средиземного и Мраморного морей на западе и Кашгара на востоке, Аральского моря, Главного Кавказского хребта и Черного моря на севере, Персидского залива и Сирийской пустыни на юге. И не было могущественнее государства в это время.
В прах и пыль превратились цари, короли — Все, кто спрятан в бездонное лоно земли, Видно, очень хмельным их вином опоили, Чтоб до Судного дня они встать не смогли. Двести лет проживешь — или тысячу лет. Все равно попадешь муравьям на обед. В шелк одет или в жалкие тряпки одет, Падишах или пьяница — разницы нет!Как «султаны ислама», потомки Сельджука были еще более ревностными защитниками правоверия, чем Караханиды. Они были не только фанатичными приверженцами ислама, но и его наиболее ортодоксального ханифитского толка. При Тогрул-беке шафииты подвергались ожесточенному преследованию, в том числе в связи с тем, что ими был создан калам. Ведь для ханифитов даже попытки осторожного аллегорического истолкования Корана со стороны мутакаллимов воспринимались как еретические в своей основе.
Даже Алп-Арслан, при котором преследования шафиитов прекратились, был ревностным ханифитом, ненавидел шафиитов и часто жалел о том, что ему приходилось пользоваться услугами шафиитского визиря. Низам аль-Мульк писал: «Счастливый султан (т. е. Алп-Арслан) был так крепок и тверд в своем толке, что много раз срывались с его языка: „О, какая жалость! если бы мой визирь не был шафиитом!“ Он был тверд в правлении, внушал трепет, и я постоянно из-за того, что он был ревностен к своей вере и шафиитское вероисповедание считал за недостаток, всегда его опасался…»
При Малик-шахе ситуация еще более изменилась. Могущественный визирь добился своего — оба толка были уравнены в своих правах, и на поверхности социальной жизни распри и междоусобица между ними формально прекратились. Казалось, наступило время разумной веротерпимости в одиннадцатом веке, который как раз этим не очень отличался. Возрастало значение мутакаллимов, особенно в сети богословских учреждений, созданных Низам аль-Мульком. Укреплялось социальное и политическое положение суфиев. В правление султана Малик-шаха ежегодно из государственной казны выдавалось факихам, суфиям, чтецам Корана триста тысяч динаров.
Характерен такой пример. Связь между сельджукским двором и ханакой потомков известного суфия Абу Саида Мейхенского была столь прочной, а богатство и влияние шейха — настолько велико, что биограф Абу Саида с гордостью писал: «Раис, сборщик податей (амил) и правитель (шихне) и каждый, кто в той области мог делать какое-нибудь дело, не мог его делать иначе, как с согласия потомков шейха. Если кто-нибудь делал кому-нибудь притеснение в той области, то как только руководитель и пир потомков шейха писал, что такому-то не следует быть в Хаберане и эту бумагу какой-нибудь дервиш отвозил в лагерь (султана), тотчас же докладывали султану и писали грамоту об отставке этого человека».
Султаны сунны Алп-Арслан и Малик-шах подчеркнуто оказывали почет могилам шиитских имамов. Малик-шах молился, например, в святынях Кума, Неджефа и Кербелы.
Однако подспудно ортодоксы не желали мириться с ролью «одного из равных» и готовились к открытой схватке, поджидая удобного стечения социальных и политических обстоятельств.
О росте религиозно-идеологической и политической напряженности в стране в этот период говорят некоторые любопытные факты. Еще со второй половины X века на территории Ирана и Мавераннахра началось интенсивное строительство суннитских высших учебных заведений — медресе. Это было своего рода ответом на вызов мутазилитов с одной стороны, а с другой — попытка противопоставить что-то расширяющейся сети фатимидских заведений по подготовке исмаилитских проповедников. Низам аль-Мульк созданию и укреплению положения этих медресе (названных в его честь низамийя) стал уделять еще большее внимание.
Низамийя, в которых обучались и светским и духовным наукам, появились в каждом крупном городе Ирака и Ирана. Причем особо крупными и известными были такие медресе в Багдаде, Нишапуре, Балхе, Герате, Мерве, Исфахане, Басре и Мосуле. Визирь лично назначал подходящих ученых преподавать в своих низамийя. В 1091 году, например, он послал из Хорасана для преподавания в Багдад, где находилось самое крупное медресе, тридцатитрехлетнего, уже известного в то время философа и теолога Абу Хамида аль-Газали, с которым неоднократно позднее встречался Омар Хайям. Порой Низам аль-Мульк сам читал лекции студентам. Обучение в низамийя было бесплатным, и более того, студенты получали своего рода щедрые стипендии.
Низам аль-Мульк, как предусмотрительный политик, преследовал и другие цели, помимо вышеупомянутых, открывая свои медресе. Он создавал сеть этих учреждений по всей стране, лично зависящих от него как своего рода личные опорные пункты. Для осуществления административной политики великого визиря сельджукской империи требовались обученные и преданные кадры, которые и готовились в низамийя. Кроме того, эти медресе нужны были визирю для расширения своего шафиитского толка и ашаритского калама в стране.
Однако даже поддержка Низам аль-Мулька отнюдь не гарантировала их повсеместного признания, особенно вне Хорасана. В Багдаде и западных провинциях сельджукской империи калам по-прежнему предавался анафеме в ортодоксальных ханифитских и ханбалитских кругах. Очень часто самому великому визирю приходилось обороняться, причем порой довольно специфическими способами, скрывая свои цели.
В 1076—1077 годах в Багдаде находился и выступал с проповедями известный в то время ашарит аль-Кушайри, которому оказывал покровительство Низам аль-Мульк. Ханбалитские факихи всячески пытались сорвать проповеди аль-Кушайри, призывавшего христиан и иудеев к обращению в ислам. После одной такой проповеди в низамийя, когда состоялась церемония по случаю обращения в ислам нескольких иудеев, возбужденные толпы сторонников ханбалитов с воплями: «Это — ислам вероломства и подкупа!» — принялись громить медресе.
В потасовке, длившейся несколько дней, был убит один шафиит, и тогда шафииты стали поносить «ханбалитского» багдадского халифа. На требования ханбалитов Багдада прекратить публичное преподавание ашаризма Низам аль-Мульк ответил следующим образом: «Политика султана и требования справедливости требуют, чтобы мы не склонялись в пользу одного мазхаба за счет других. Наша цель — укрепить ортодоксальную веру и сунну, а не разжигать сектантскую борьбу. Мы построили это медресе (то есть низамийя) только для защиты ученых и в общественных интересах, а не для того, чтобы вызывать противоречия и разлад».
Арабский историк Макдиси перечисляет большой список ханифитских, ханбалитских медресе и подчеркивает, что медресе, построенная вокруг гробницы имама Абу Ханифы, без сомнения, была такой же по важности, как и низамийя.
Создание конкурирующих медресе стало и важным элементом усиливавшейся внутриполитической борьбы в сельджукском государстве. Например, в 1087—1089 годах основной политический противник великого визиря Тадж аль-Мульк основал собственное медресе в Багдаде — таджийя.
Неизвестно, преподавал ли Омар Хайям в низамийя в Исфахане. В принципе, учитывая особые отношения между ним и визирем, можно предположить, что он читал лекции по математике и астрономии, но вряд ли теологические пауки, учитывая его отрицательное отношение к мутакаллимам и его значительные разногласия с ними. В определенной степени эти разногласия всплывут на поверхность в его философских трактатах 80-х годов.
Интеллектуальная ситуация в сельджукидском государстве стала обостряться и в связи с резкой активизацией деятельности исмаилитских проповедников (да'и). Отчасти это было связано с тем, что фатимидские халифы, потерпев военно-политические поражения в Сирии и Палестине от сельджуков, активизировали свои усилия по подрыву своего злейшего врага изнутри.
70-е и 80-е годы XI века можно охарактеризовать как период накопления сил исмаилитов, период медленного распространения ереси по всей территории государства Сельджукидов. Этот период закончился восстанием, получившим в истории название да'ват-и джадида[25].
Один из позднейших сельджукских визирей, Ануширван, считал, что исмаилиты и их вождь Хасан Саббах могли в течение долгих лет вести скрытую, а порой и открытую пропаганду и тайно готовить восстание потому, что сельджуки не имели сети сахиб-баридов (тайных агентов). Выше уже приводились слова Низам аль-Мулька о том, как Алп-Арслан ответил отказом на предложение восстановить эту систему «по примеру прежних царей». Но сама по себе ликвидация шпионской сети не могла привести к оживлению деятельности исмаилитов и восстанию конца XI века. Истинные причины этого, по всей видимости, коренятся в обострении классовых противоречий в результате развития института икта и посягательств иктадаров на личность крестьянина. И не случайно опорные пункты исмаилитов появились в горах, поскольку вооруженное свободное крестьянство оставалось главным образом в труднодоступных горных областях.
Для того чтобы лучше понять проблематику и структуру философских трактатов Омара Хайяма, написанных в 80-е годы, необходимо выяснить, что же было сердцевиной ожесточенных дискуссий и споров различных религиозно-идеологических направлений и школ в тот период. В определенной степени свет на этот вопрос проливает великий поэт Насир-и Хосров, который был одним из известных исмаилитских да'и в этот период. Все произведения Насир-и Хосрова пронизывает мысль о необходимости приобретения и распространения «знания». Эта мысль всегда сочетается у него с жалобами на невозможность свободно думать и распространять «знание» в Хорасане, на жестокие преследования со стороны ортодоксальных богословов, на упадок науки и засилье невежд.
Один из параграфов его трактата «Джами' аль-Хикматайн» начинается со слов о превосходстве человека, одаренного разумной душой, над всем земным, и далее он пишет: «Они (факихи, здесь ортодоксы) главенствуют над верой ислама и утверждают, что всякий, кто говорит: «…Я знаю, что сиканджубин[26] осаждает желчь», — тот неверный. Может ли быть невежество сильнее этого! И если врач из-за того, что он знает, что миробалан[27] отвращает страдания жара и желчи от естеств, — неверный, (то) так же всякий, кто знает, что вода отвращает страдание голода, — неверный, потому что и лекарство, и пища, и питье — творения бога. Этому заблуждению и неверию, в которые впала большая часть этой общины, нет предела!»
Говоря далее о стремлении к познанию вещей, присущем человеческим душам, Насир-и Хосров заключает: «А сейчас мнимые факихи веры ислама говорят: „Если кто-нибудь говорит: Сегодня из восхода солнца явствует (нечто) — или: Я знаю, которая звезда движущаяся, а которая покоящаяся, — он неверный“. И невежество они предпочли знанию, и говорят они: „Нам нет дела до „как“ и „почему“ в творении“.
В конце концов поэт пишет: «Из-за того что эти мнимые улемы называют неверными тех, кто обладает знанием о творении, стремящиеся (познать) „как“ и „почему“ замолчали и говорящие об этом знании смолкли… И никого не осталось в этой упомянутой земле, кто мог бы соединить знание истинной веры, которое есть (одно) из следствий святого духа, со знанием о творении, которое есть дело философии, потому что философ считает этих мнимых улемов (находящимися) на положении скотов, и вера ислама от их (улемов) невежества унизилась. А эти мнимые улемы называют философа неверным, так что ни истинной веры не осталось в этой земле, ни философии…»
Конечно, как преследуемый, да'и Насир-и Хосров, возможно, в чем-то и преувеличивает. Но тем не менее основные пункты у него постоянно повторяются. По мнению ортодоксов (ханифитов и ханбалитов), любое стремление к знанию (врача, астронома и т. д.) есть потенциальная и опасная предпосылка неверия, ибо истину ведает только Аллах. Если же человек утверждает, что он знает, тем самым он противопоставляет себя богу. Отсюда и их крайне отрицательное отношение к поискам ответов на многочисленные «как» и «почему», прежде всего по проблеме творения, ибо это означало бы отказ от прямого истолкования Корана, где, как предполагалось с точки зрения ортодоксов, уже есть ответы на эти вопросы.
В первой главе другой своей книги Насир-и Хосров говорит следующее: «…и (поскольку) невежественные люди общины унизили истинную (веру), и опирались на внешнее книги господа, а аллегоризуемое и внутреннее и (сокровенные) и смыслы ее не разрешали (постигать), и соблазнились они чувственным и вещественным, и удалились от духовного и невещественного, и (поскольку) в соответствии с различными своими желаниями, ища главенства, они соединили веру с низменными устремлениями и назвали (это) фикхом, и (поскольку) они ведающих знание (об) истинах и видящих оком проницательности, и ищущих истину, и отделяющих вечную непреходящую субстанцию от бренной преходящей субстанции прозвали еретиками и людьми дурной веры, и карматами, — (то) мы сочли обязательным написать на эту тему сию книгу и назвать ее „Путевой припас странствующих“.
В другом месте этой же книги утверждается: «И большая часть группы, которая претендует на то, что они мусульмане, и считает для себя обязательным убивать „знающих“, и следует своим дурным устремлениям, и порочным взглядам, и ложным верованиям, убеждена, что ангелы — это тела, которые летают…» Осуждаемая Насир-и Хосровом «группа» — это каррамиты, антропоморфисты, придерживавшиеся догмата «бог — это тело, не подобное телам» и представлявшие все отвлеченные категории философии и теологии в виде «тел» и людей. И в своих стихах поэт беспощадно высказывается по адресу ортодоксальных богословов:
Это племя, которое указывает вам путь, ведет вас к вечному пламени. Эти взяточники у вас — факихи; Сатана — факих, если они факихи!.. Мне не удивительна в вас глупость, потому что те, кто (у вас) факихи веры, — глупцы… С минбаров говорят, (обращаясь) к сброду, о рае, и жратве, и гуриях (в раю); все в таком роде, вопят, орут, преследуя свои цели… Посмотри на улемов, которые продают знание! Перья и крылья у них — как у орлов, а по жадности они — как кабаны. Каждый подобен акуле, и от невежества и алчности для знания рот закрыт, а для взятки рот открыт…По мнению Насир-и Хосрова, тупые, невежественные и фанатичные факихи отрицают всякую возможность познать творение, они объявляют «неверными» и преследуют математиков, философов, познающих законы мироздания, врачей за то, что те составляют и применяют лекарства, астрономов за то, что те изучают движения звезд и планет. Они преследуют также всех обладающих «знанием истинной веры», всех стремящихся познать внутренний смысл Корана путем раскрытия его аллегорий.
Именно в такой сложной обстановке Омар Хайям пишет свои философские работы, которые в этой ситуации являлись, естественно, выражением взглядов не только его самого, но и позиции определенной группы. Перу Хайяма принадлежат пять дошедших до нас философских трактатов, из которых четыре были написаны в период с 1080 по 1091 годы. Последняя, пятая работа «Трактат о существовании» был написан, по-видимому, гораздо позднее.
В 1080 году имам и судья провинции Фарс Абу Наср Мухаммад ибн Абд ар-Рахим ан-Насави написал «досточтимому господину, доказательству истины, философу, ученому, оплоту веры, царю философов Запада и Востока, Абу-ль-Фатху Омару ибн Ибрахиму аль-Хайями» письмо, в котором он высказал свои соображения о мудрости Аллаха в сотворении мира и «в особенности человека» и об обязанности людей молиться. Судья относил себя к ученикам и сторонникам Ибн Сины.
В накаляющейся интеллектуально-идеологической ситуации того времени трактат Хайяма должен был быть выражением взглядов рационалистов и ответом на учащающиеся нападки противников. Такая роль Хайяма была обусловлена не только его известностью как ученого. Важное значение имела и его близость к султану и великому визирю. Поэтому-то судья и формулирует открыто ключевые дискуссионные вопросы того времени: вопрос о бытии бога и о долженствовании, в частности, о долженствовании молиться и соблюдать обряды.
Вопрос о бытии вообще — основной вопрос теоретической философии, а вопрос о долженствовании в широком смысле — основной вопрос практической философии средневекового Востока. Сам Хайям об этом в своем трактате пишет следующим образом: «…вопросы бытия и долженствования относятся к таким трудным вопросам, решение которых оказалось невозможным для большинства ими занимавшихся и их обсуждавших. Каждый из этих вопросов состоит из нескольких подразделений; каждое из этих подразделений нуждается в некоторых видах труднодостижимых критериев, основывающихся на различных утверждениях, вызывающих спор между теми, кто этим занимался. Эти два вопроса являются одними из завершающих вопросов высшей науки и первой философии[28], мнения говорящих о них очень противоречивы, а раз дело обстоит так, тем более было бы трудно говорить об этих вопросах, если бы ты не почтил меня предложением обсудить и поспорить по этим двум вопросам».
Далее Хайям делает примечательную оговорку: «Я буду краток, так как у меня мало времени…» Вообще произведения Омара Хайяма, в том числе и философские, очень кратки и лаконичны. Это отмечалось и позднейшими его биографами. Причина, по-видимому, заключается в том, что Хайям в течение длительного времени занимался математическим анализом и привык к краткому изложению своих мыслей. Но здесь проявляется и другое, что, вероятно, станет очень важным элементом его позднейшего мироощущения: особое внимание Хайяма к проблеме времени,
Рассуждениям Хайяма о бытии и долженствовании предпослано своего рода философское предисловие.
«Истинные существенные вопросы, употребляемые в искусстве философии, это три вопроса, являющиеся источником всех других вопросов.
Первый из них — это вопрос «есть ли это?», то есть вопрос о том, есть ли вещь, и о доказательстве этого. Например, если бы мы сказали, «существует ли разум или нет?», то ответ будет: да или нет.
Второй вопрос — «что это?», то есть вопрос об истине вещи и ее сущности. Например, если бы мы сказали: «что есть истина разума?», то ответ состоит в определении, описании, расчленении или разъяснении названия… Здесь отвечающий должен ответить то, что он хочет из того, что он считает определением вещи или представлением о ней.
И третий вопрос — «почему?», то есть вопрос о причине, благодаря которой вещь существует и без которой эта вещь не существовала бы. Например, если бы мы сказали: «почему существует разум?», то (отвечающий) должен дать ответ так, чтобы ни одна из частей его исчерпывающего ответа о причине этого не была бы альтернативой, за исключением того, что касается второго вопроса.
Имеются и другие вопросы, например «какой?», «как?», «сколько?», «когда?», «где?», но они являются случайными, говорят о случайных для данной вещи истинах, доказываемых с ее помощью, и, следовательно, при исчерпывающем исследовании включаются в истинные существенные вопросы, так что мы не нуждаемся в упоминании этих вопросов».
Хайям не случайно делает акцент на третий вопрос «почему?», который был важнейшим в спорах того периода. Его трактат направлен не только против ортодоксальных богословов, вообще отрицающих смысл поиска ответов на вопрос «почему?», но и против сторонников калама, более гибких противников Омара Хайяма.
Хайям пишет, что существующее никогда не может быть без вопросов «что?» и «есть ли?». Среди сущего могут быть такие вещи, к которым нельзя задать вопрос «почему?». Это необходимые вещи, которые не могут не существовать. Здесь Хайям приводит доказательство существования бога как конечной причины: «Вещь, действительно обладающая этим свойством, не имеет причины и вопроса „почему?“, следовательно, имеет место необходимость существования по самой своей сущности… Если ты рассмотришь все существующие вещи и вопросы „почему?“ для них, то увидишь, что вопросы „почему?“ для всех вещей приводят к вопросам „почему?“, условиям и принципам, не имеющим ни вопросов „почему?“, ни условий, ни причин. Доказательство этого таково. Если спрашивается, почему АВ, мы говорим: потому что АД, если спрашивается, почему АД, мы говорим: потому что АЕ, и так далее. Поэтому такое рассуждение необходимо приводит к причине, не имеющей причин, так как иначе мы получили бы (бесконечную) цепь или порочный круг, а то и другое нелепо. На самом деле все причины существующих вещей приводят к причине, не имеющей причины… Причина, не имеющая причины, есть необходимо существующий по своей сущности, единый во всех отношениях и свободный от всех видов недостатков».
Обоснование бога только как конечной причины имело большое значение для рационалистов и ученых того времени. Причем этот тезис был направлен прежде всего против мутакаллимов.
Сторонники калама считали, что вся Вселенная и каждое тело, которое в ней существует, составлено из очень мелких частей, которые далее не могут быть разделены. Все эти частицы равны и подобны между собой, так что между ними нет никакого различия. Каждая из этих частиц абсолютно лишена количества. Но когда они собираются вместе, тогда их совокупность получает количество, и она становится телом.
Эти частицы не существуют извечно во Вселенной, как полагали Эпикур и другие сторонники атомистического учения Древней Греции. Именно бог непрерывно творит эти субстанции, когда он хочет, вследствие чего они могут и не существовать.
Мутакаллимы утверждали также, что есть пустота, то есть существует одно или несколько пространств, в которых не имеется абсолютно ничего: они свободны от всякого тела и лишены всякой субстанции… Это положение прямо связано с первым. Ибо, если бы вся Вселенная была наполнена этими частицами, то в ней было бы исключено всякое движение. Но ведь соединение или разъединение этих частиц и образование тел может происходить только посредством движения.
Поэтому-то сторонники калама настаивали на существовании пустоты для того, чтобы постулируемые ими частицы могли соединяться и разъединяться в этом пустом пространстве.
Наконец, мутакаллимы считали, что и время составлено из многочисленных мелких времен, которые, по причине своей кратковременности не могут быть дальше разделены. Ведь если бы они признали, что время непрерывно и способно делиться до бесконечности, то отсюда с необходимостью следовало бы, что и та частица, которую они считают неделимой, способна делиться. Вот почему они выдвинули положение, что величина не представляет собой нечто непрерывное, «а составлено из частей, где деление останавливается, подобно тому, как и время заканчивается „теперь“, которые не допускают дальнейшего деления».
Мутакаллимы в результате своих построений приходили к выводам, что Аллах постоянно по своей воле создает весь мир заново и, таким образом, в мире невозможны никакие действительные причинные связи, а следовательно, и их рациональное познание. Вот против этого центрального тезиса мутакаллимов выступает Хайям-философ, защищающий Хайяма-математика.
Полемический характер рассуждений Хайяма проявляется и в том, что, переходя к основной части своего изложения, он сразу же делает акцент на возможности именно рационального познания материального мира: «…бытие, о котором здесь идет речь, является существованием вещей, существование которых возможно и предположение о несуществовании которых не приводит к нелепости… Если от нас требуют доказать наличие этих существующих вещей, то совершенно ясно, что чувства, необходимые наблюдения и заключения разума (подчеркнуто нами. — Авт.) освобождают нас от каких-либо других доказательств».
Далее Хайям переходит к анализу ключевого для тогдашних религиозно-идеологических дискуссий вопроса — происхождение зла на Земле: «Знай, что это вопрос, вызывающий смущение у большинства людей, так что почти нет такого мудреца, которого не охватило бы смущение по поводу этой главы. Я и мой учитель аш-шейх ар-раис Абу Али аль-Хусайн ибн Сина аль-Бухари… обратили внимание на этот вопрос».
Начинает он доказательство с выдвижения тезиса, что существующие вещи не созданы Аллахом все вместе, а в определенном порядке. «Первое творение есть чистый разум, являющийся самым благородным среди существующих вещей вследствие своей близости к первому истинному началу. Затем таким же образом он создал более благородное, спускаясь к более и более низкому, до тех пор пока он в своем творении не дошел до самого низкого из существующих вещей — праха разложившегося сущего. Затем он начал создавать, восходя от него к более благородным вещам, пока не дошел до человека, являющегося самым благородным среди сложных существующих вещей и последним из существующих вещей в мире бытия и тлена, а следовательно, самым близким к творцу среди благородных созданий и самым удаленным от праха среди сложных благородных существующих вещей».
Такая картина мира во многом напоминает скрытое учение исмаилитов об эманациях божества. Как известно, Ибн Сина считал, что мир возникает путем «истечения» из божества. И это тоже, в общем, понятно, учитывая, что на мировоззрение Ибн Сины исмаилитские концепции оказали существенное воздействие. В своем «Жизнеописании» он говорит: «Отец мой был из тех, кто проникся учением египтян, и считался исмаилитом. От них он воспринял учение о душе и разуме в том виде, в каком они излагали и понимали его сами. Таким же был и мой брат. Всякий раз, когда они беседовали между собой, я слушал их и понимал то, что они говорили. Они и меня стали призывать присоединиться к этому учению и в своих речах упоминали философию, геометрию и индийский счет».
Хайям подчеркивает, что Аллах смог создать существующие вещи в течение некоторого времени в силу необходимости избегнуть соединения взаимно противоположных, но встречающихся вместе свойств одной вещи в одно время с одной стороны. Отвечая на вопрос, почему тогда Аллах создал несовместимые противоречия, он приводит классический ответ рационалистов: «…воздерживаться от большего блага из-за необходимости малого зла есть большое зло». Здесь фактически Хайям разуму человека (постигающего божье провидение о роли зла) дает высшую оценку. Ведь если мудрость творца создает определенный порядок в мире, то человек оказывается способным встать вровень с этой мудростью. «Всеобщая истинная мудрость и всеобщая истинная щедрость дали всем существующим вещам присущее им совершенство без уменьшения доли хотя бы одной из них. Однако они в зависимости от их близости или дальности (от этой всеобщей мудрости) различаются по благородству».
По поводу вопроса о долженствовании Хайям замечает, что «он легче вопроса о бытии». Любопытно определение, которое он дает этому понятию: «Долженствование — это повеление, исходящее от всевышнего Аллаха, которое гонит людей к предназначенным для них совершенствам в их жизни, как первой, так и другой, отвращает их от несправедливости и гнева, совершения злодеяний, приобретения пороков, стремления к следованию силам тела, мешающим им следовать силе разума».
В этой фразе кроется прямой вызов рационалиста представителям ортодоксальных мазхабов. Ведь если долженствование — это нечто от Аллаха и оно предназначено для совершенствования людей, то люди в реальной жизни обладают свободной волей творить несправедливость, злодеяния и т. д. Кроме того, Хайям пишет о совершенствовании «в первой жизни», в то время как ортодоксы утверждали, что посюсторонняя жизнь ничто по сравнению с потусторонней. В этом отрывке видны и определенные суфийские мотивы: философ говорит об «отвращении от гнева» и об отвращении от «стремления к следованию силам тела, мешающим людям следовать силе разума». Однако это не категорическое утверждение, поскольку эти идеи были присущи и некоторым другим направлениям в интеллектуальной жизни того периода.
Если низменной похоти станешь рабом — Будешь в старости пуст, как покинутый дом. Оглянись на себя и подумай о том, Кто ты есть, где ты есть и — куда же потом?Доказывая богословский тезис о необходимости людей молиться, Омар Хайям вновь использует логику, начиная рассуждения с наиболее широкой дедуктивной посылки: «…люди не могут приобрести свои совершенства иначе как посредством сотрудничества и взаимной помощи, так как если бы не были произведены их пища, их одежда, их жилища, — а это то, в чем они больше всего нуждаются для жизни, — они не смогли достичь совершенства, а ни один из них не может самостоятельно произвести все, в чем он нуждается из средств жизни. Поэтому каждый из них должен взять на себя (производство) одного из необходимых средств жизни…» Далее следует вывод, что для регулирования обмена необходим справедливый закон. Такой закон может быть установлен только пророком. Интересно, что Хайям характеризует пророка прежде всего как аскета: «Такой закон может быть установлен только таким человеком, который наиболее силен разумом и наиболее чист душой, которого не занимают дела мира, помимо самых необходимых для жизни, который не стремится к господству и не подвержен страстям и гневу».
Конечно, почтение, которое демонстрировали сельджукские правители, в том числе и Малик-шах, к захидам, суфиям и святым, безусловно, отразилось на стиле этого отрывка. Но, с другой стороны, Хайям мог и специально использовать такую форму изложения как определенный полемический прием, направленный против распространяющегося лицемерия факихов, прикрывающих выспренними словами стремление к личному богатству и власти.
Характеризуя окружающую его социальную среду, Омар Хайям саркастически пишет: «Большинство людей считает то, что им должны другие, необходимым и истинным и настаивают на выполнении этого права, не видя того, что они должны другим; каждый из них считает свою душу лучше душ многих людей и более достойной блага и власти, чем другие». Законы должны быть направлены против этого всеобщего лицемерия, приходит к выводу Хайям. Но поскольку пророк смертен, то и «установленные им законы оставались бы в течение некоторого времени, до тех пор, пока им не предназначено исчезнуть». Но «справедливые законы не могут существовать без того, чтобы люди постоянно не вспоминали законодателя». Для этого и необходимо молиться.
Такое обоснование приводит Хайяма к выводу о том, что религиозный акт — молитва — по сути необходим для реальной социальной жизни. А отсюда он вновь заставляет читателя прийти к выводу, что люди обладают свободой воли, Аллах же является только конечной причиной бытия.
Через некоторое время Омар Хайям пишет дополнение к трактату о бытии и долженствовании, озаглавленное «Ответ на три вопроса: необходимость противоречия в мире, детерминизма и долговечности».
Во введении он говорит о тех мотивах, которые обусловили появление дополнения: «…этот спор со мной по вопросу о необходимости противоречия возвысил мою славу, возвеличил мое дело и послужил причиной необходимости моей чистой благодарности всевышнему Аллаху, так как я не предполагал, что мне зададут такие вопросы, в которых содержится столь сильное сомнение». В дальнейшем из текста этой работы Хайяма становится ясно, что спорили с ним мутакаллимы. Причем, судя по всему, дискуссии эти шли при дворе и закончились в пользу Омара Хайяма.
Первый вопрос Хайям приводит в следующей трактовке: «Если бы необходимость противоречия (ведущая в конечном счете к появлению зла. — Авт.) была возможно существующей, она имела бы причину и в конечном счете свелась бы к необходимо существующему самому по себе. Если бы она была бы необходимо существующей сама по себе, то необходимо существующих самих по себе было бы много, а было доказано, что необходимо существующее само по себе единственно во всех отношениях. Поэтому, если бы она была возможной, то ее причиной и творцом было бы единственное необходимосущее, а вы категорически утверждали, что от него не может проистечь зла».
Отвечая своим оппонентам, Хайям предварительно формулирует два вида определений для определяемых. Один вид — это существенные определения, без которых нельзя представить некий объект, и они, по сути, «причина определяемого». Другой вид — случайные определения, без которых объект представить вполне можно. Случайные определения Хайям далее подразделяет на неотделимые (например, умение человека смеяться) ; отделимые в воображении, но не на самом деле (чернота у ворона); отделимые и в воображении и на самом деле (например, профессия человека).
После этого Омар Хайям переходит к анализу основного определения «существование», заявляя, что существование относительно и распадается на два смысла: во-первых, это «бытие в вещах», то есть существование общего в конкретных вещах действительного мира, и, во-вторых, «существование в душе», то есть чувственное, фантастическое, воображаемое и разумное представление.
Философ утверждает, что существование в душе совпадает с существованием в вещах тогда, когда конкретные предметы, объединяемые общим понятием, существуют в действительном виде. Но возможно и существование в душе, не совпадающее с существованием в вещах, как, например, существование идеи или образа.
Исходной точкой рассуждений Хайяма по вопросу о бытии в вещах и существовании является учение Ибн Сины об общих понятиях. Ибн Сила считал, что общее существует трояко: «до вещей», в разуме Аллаха, в качестве замысла его творения, «в вещах» и «после вещей», то есть в разуме человека в виде общих понятий о вещах, образуемых разумом путем абстракции от единичных вещей.
Однако существует важное различие между Омаром Хайямом и Ибн Синой. Хайям отвергает существование общего «до вещей» в его противопоставлении «после вещей». С его точки зрения, возможность «существования в душе» была предопределена первым актом творения. Хайям считает, что безличный бог является только первопричиной существующего мира, что люди могут познавать этот мир, потому что существует определенная причинная зависимость в мире и Абсолют обусловил способность людей к познанию: «…одна сущность является причиной другой сущности, и одна необходимость является причиной другой необходимости, не имеющим причин, и эта сущность будет причиной в некотором смысле. Это утверждение не наносит никакого ущерба высказанному положению о том, что необходимосущее по своему существу едино во всех отношениях».
Что это положение направлено против мутакаллимов, Хайям и не скрывает: «…нечетность необходимо присуща тройке, это значит, что она присуща тройке не благодаря внешней причине или (специальному) творчеству творца».
После такого предварительного и длинного вступления Омар Хайям приступает к ответу на поставленный ему вопрос: «…возможно, существующие вещи проистекают из святого сущего в правильном порядке.[29] Далее, среди этих существующих вещей имеются такие, которые противоречат друг другу по необходимости, а не по (специальному) творчеству творца. Когда имеется такое сущее, необходимо имеется противоречие, а когда с необходимостью имеется противоречие, то имеется необходимое несуществование, когда же имеется несуществование, с необходимостью имеется зло».
Нетрудно заметить, что здесь Хайям обосновывает в специфической форме диалектическую идею о борьбе противоположностей. Однако его ответ пока не может удовлетворить оппонентов, и он продолжает: «Нет сомнения, что необходимосущее сотворило противоречие в вещах случайно и не по своему существу. Оно не сотворило черноту как противоположность белизне. Оно сотворило черноту не как противоположность белизне, а как возможно существующую сущность, ибо все есть возможно существующая сущность, а всякая возможно существующая сущность создана необходимо-сущим потому, что само существование есть благо» (выделено нами. — Авт.).
Жизни стыдно за тех, кто сидит и скорбит, Кто не помнит утех, не прощает обид. Пой, покуда у чанга[30] не лопнули струны! Пей, покуда об камень сосуд не разбит!Итак, исходная точка зрения Хайяма в том, что необходимосущее внутри себя лишено противоречий, что оно целостно и гармонично, ибо иначе оно не было бы необходимосущим. Мир человека как инвариантность, созданный творцом, обладает высшим благом — существованием. И мир этот, как сложная инвариантность, развивается, реализуя некоторые возможные сущности в сущности действительные, через противоречия, по своим законам. Одним ив объективных следствий подобных закономерностей является зло, но с точки зрения человека.
Но Хайям вводит в свою концепцию понятие «случайности», и, с точки зрения его противников, здесь содержится весьма уязвимое место его построений: ведь случайность в применении к творцу означает принижение его всемогущества. Омар Хайям, очевидно, сам понимает слабость в этом пункте: «Всякий, кто сотворил черноту, чтобы она была возможно существующей, тем самым случайно создал противоречие, и творца черноты зло не касается никаким образом. Следовательно, первая цель есть высшая цель, она есть вечная истинная милость и состоит в создании блага. Но этот вид блага невозможен без зла и несуществования, которые присущи ему только случайно».
Хайям в данном случае еще более выпукло акцентирует внимание на диалектике существования: поскольку высшая цель творца — существование, то это существование невозможно без зла, то есть несуществования. По сути дела, здесь речь идет о ключевом диалектическом принципе: развитие мира невозможно без постоянного преодоления несуществования, то есть борьбы существования и несуществования через противоречия. Тезис о случайности зла в данном случае необходимо интерпретировать как оптимистическое кредо рационалиста и ученого, верящего в прогресс именно существования.
Однако с ортодоксальной теологической точки зрения ответ Хайяма по-прежнему нельзя признать убедительным: пусть Аллах зло создал случайно, но ведь все равно это в конечном счете умаляет всемогущество Аллаха. Поэтому Омар Хайям вынужден писать: «Здесь имеются подробности, которые невозможно выразить, и сообщающий не может сообщить это, так как у него нет достаточной ясности для этого. Только глубокая интуиция может достичь того вдохновения, которое удовлетворяет совершенную душу и с помощью которого она вкушает наслаждения высокого разума».
Ответ Хайяма на второй вопрос на первый взгляд кажется достаточно странным: «Что касается вопроса о том, какое из двух учений ближе к истине (детерминизм или противоположное ему), то с первого взгляда и при внешнем рассмотрении кажется, что ближе к истине детерминизм, но на самом деле он колеблется в бессмыслице и погружается в выдумки, так что он очень далек от истины».
Однако и здесь Хайям резко и бескомпромиссно выступает против мусульманской схоластики. Мутакаллимы создали свой специфический метод детерминации. Обращая внимание на мир в целом или на какую угодно из его частей, сторонники калама рассуждают следующим образом. Допустимо, что эта вещь такова, какова она есть относительно своей фигуры, величины и существующих в ней качеств, а также по отношению к тому времени и пространству, которые она действительно занимает. Но ведь она могла быть также больше или меньше, иметь другую форму, сопровождаться другими свойствами, существовать раньше или позже и занимать другое место. Но то, что она определена именно так, хотя вполне допустимо, что все это могло быть иным, является доказательством того, что существует некто, который свободно определяет эти вещи и постоянно выбирает из двух возможных случаев один. Мир в своей совокупности нуждается в ком-то, кто определяет его как в целом, так и в частях, наделяя их каким-либо специфическим свойством.
Вот против такого «детерминизма», сближающего схоластов с ортодоксальным духовенством, и протестует резко Омар Хайям.
Отвечая на третий вопрос о наличии долговечности и долговечном, Хайям вновь выступает против тезиса мутакаллимов о том, что Аллах творит мир каждый миг заново.
Он начинает последовательно спрашивать своих противников, вынуждая их отвечать соответствующим образом. Обладает ли что-нибудь долговечностью? Сторонники калама вынуждены ответить, что творец обладает этим качеством. Что означает долговечность творца? Мутакаллимы в соответствии со своей концепцией должны ответить, что «долговечное долговечно благодаря непрерывным последовательным долговечностям в (каждом) из последовательных мгновений». Но, ловит их на слове Хайям, сами понятия требуют, «чтобы долговечное оставалось в течение некоторого периода времени, чтобы можно было определить, что оно долговечно. И человеческий разум способен это определить». В противном случае долговечное и долговечность не имеют никакого смысла, несмотря на наличие последовательных существований. «Ясно, что существование и долговечность имеют один и тот же смысл, причем долговечность есть не что иное, как продолжение существования или наличие у существующего свойства существования в течение некоторого периода времени, так как абсолютное существование может быть и на одно мгновение, а долговечность — на период времени. Таково направление спора с ними и победа над ними».
Океан, состоящий из капель, велик. Из пылинок слагается материк. Твой приход и уход — не имеют значенья. Просто муха в окно залетела па миг…Низам аль-Мульк руководил политической жизнью сельджукского государства через великий диван в Исфахане, который он возглавлял. Он пользовался значительным влиянием в действующей армии и порой сам руководил теми или иными боевыми экспедициями.
Сложную, но достаточно эффективную бюрократическую систему, (эффективную в той только мере, в которой она каждодневно направлялась сильной личностью), которую создал и которой руководил Низам аль-Мульк, он же постарался заполнить людьми, которые либо непосредственно принадлежали к числу его прямых или косвенных родственников, либо являлись его протеже и сторонниками. Во многих случаях разница между теми и другими сводилась на нет через многочисленные браки, которые любил устраивать великий визирь.
Собственные дети Низам аль-Мулька отличались двумя качествами: их было много и они были тщеславны. Только сыновей у визиря было двенадцать, и каждый из них возглавлял то или иное государственное учреждение. Некоторые занимали ключевые посты в стратегически важных провинциях, где их отцу требовались особо верные сторонники для претворения принятых решений в жизнь. Шамс аль-Мульк Утман являлся губернатором Мерва. Джамаль аль-Мульк Мансур был губернатором Балха, пока не был убит в 1082 году. Джамаль слыл настолько гордым, что во времена Алп-Арслана отверг просьбу отца стать визирем наследного принца. «Не подобает, — сказал он, — человеку, подобному мне, служить визирем простому мальчику». Влияние Муайида аль-Мулька было почти сравнимо с властью его отца. Одно время Низам аль-Мульк попытался добиться, чтобы он занял пост визиря багдадского халифа. В конце концов при жизни отца Муайид стал начальником государственной канцелярии.
Низам аль-Мулька окружала большая свита секретарей и высокопоставленных чиновников, ищущих его покровительства. Кроме того, великий визирь имел и соб-ственый контингент гулямов (личная охрана) численностью несколько тысяч человек. Высокопоставленные родители стремились всеми правдами и неправдами послать своих сыновей на обучение и службу к Низам аль-Мульку. А тот никогда не упускал случая привлечь в число собственных сторонников способных и талантливых людей.
Таким образом, внутри разветвленного государственного механизма Сельджукидов был создан еще внутренний, личный аппарат великого визиря. Причем он оказался достаточно жизнеспособным: еще в течение почти пятидесяти лет после убийства Низам аль-Мулька его выдвиженцы играли важную роль в общественно-политической жизни государства. Многие из них служили визирями и высшими чиновниками у сельджукских султанов и багдадских халифов, несмотря даже на то, что мало кто из них способностями напоминал своего отца или покровителя.
Мы достаточно об этом подробно пишем, поскольку и Омар Хайям примыкал к группе Низам аль-Мулька. Великий визирь покровительствовал ему при всей своей жизни. А после его смерти судьба Хайяма оказалась тесно связана с судьбой некоторых его сыновей.
Но одновременно Хайям был близок и к султану. Об этом, в частности, свидетельствует следующий рассказ аль-Бейхаки: «Имам Омар рассказывал моему отцу: „Однажды я был перед султаном Малик-шахом, когда к нему пришел мальчик из детей эмиров и хорошо прислуживал ему. Я удивился тому, как хорошо он служит в столь раннем возрасте. Султан же сказал мне: „Не удивляйся, ведь цыпленок, вылупившийся из яйца, научается клевать зерно без обучения, но не находит дороги домой, а птенец голубки не может клевать зерно без обучения, но вместе с тем становится вожаком (голубиной) стаи, летящей из Мекки в Багдад“. Я восхитился словами султана и сказал: всякий великий вдохновлен“.
У нас нет никаких фактов, по которым мы могли бы судить, какую роль играл Омар Хайям в политических хитросплетениях того времени. Но очень трудно представить, чтобы он был полностью исключен из бурной внутриполитической жизни своего времени. Об этом говорят, в частности, и его полемические философские трактаты. Кроме того, нельзя забывать, что человек, которого он считал своим основным учителем — Абу Али ибн Сина тоже отнюдь не был кабинетным ученым, принимая непосредственное участие в политических делах. Рост напряженности в религиозно-интеллектуальной жизни также должен был заставить Хайяма более активно следить за политическими тенденциями в государстве. Да и некоторые его рубаи подтверждают это. Но, во всяком случае, по-видимому, до конца 1092 года ему удавалось сохранить особые отношения и с султаном, и с великим визирем.
Несмотря на то исключительное положение, которое занимал в иерархии власти Низам аль-Мульк, мало-помалу над его головой стали сгущаться тучи. Сыграли свою роль и его личные психологические особенности: гордость, переходящая в надменность, растущее стремление к открытой демонстрации своей власти, подчас откровенное игнорирование в важных государственных делах не только других высокопоставленных придворных, но и самого султана. Однако Малик-шах постепенно перерос свою первоначальную полную зависимость от визиря и стал тяготиться этими отношениями.
Враги у Низами были не только при дворе, но и в той бюрократической машине, которую он столько времени тщательно и любовно отлаживал. Многие чиновники надеялись на продвижение, считая, что основанием для этого являются их личные качества и способности. Однако их надежды на справедливость при распределении тех или иных государственных постов часто сталкивались со стремлением великого визиря выдвинуть своих родственников и сторонников.
В армии позиции Низам аль-Мулька были достаточно прочны, поскольку он всегда выступал против сокращения личного состава, уменьшения жалований и т. д. Однако постепенно те военачальники, которые группировались вокруг Малик-шаха, стали разделять опасения султана относительно чрезмерной концентрации власти в руках группы визиря.
Стремясь что-то противопоставить влиянию визиря, Малик-шах начал подспудно поощрять противников Низам аль-Мулька. Центральной фигурой оппозиции стал Тадж аль-Мульк Абу-ль-Ганаим Марзбан ибн Хусрау Фируз, выходец из старинного рода из Фарса. Он занимал крупные государственные посты в стране. Вокруг него объединилась целая группа высших чиновников, недовольных великим визирем. Один из них, Ибн Бахманияр, попытался в 1082 году отравить Низам аль-Мулька. Это ему не удалось, и он был ослеплен.
Под влиянием партии врагов визиря при дворе султана начали распространяться сатирические стихи и анекдоты, направленные против всесильного вельможи и его сыновей. Особенно старался Джафарак, один из придворных остряков. Джамаль аль-Мульк, губернатор Балха, в ярости прибыл в Исфахан в 1082 году и отрезал шутнику язык, а затем убил. Это был уже прямой вызов султану.
Открыто Малик-шах промолчал, но по его приказу губернатор Хорасана Абу Али тайно отравил Джамаль аль-Мулька в Нишапуре. Султан принес свои соболезнования визирю.
Через некоторое время один ив близких друзей Малик-шаха, Абу-ль-Махасин, обвинил Низам аль-Мулька в том, что тот использует свое положение для накопления богатства и раздачи должностей для своих родственников. Великий визирь не стал отрицать этого, но возразил, что такие действия являются наградой за его верную службу трем государям, что тысячи тюркских гулямов, которых он оплачивает, увеличивают военные возможности державы. И, кроме того, добавил он, значительная часть его состояния тратится на благотворительные цели и милостыни для святого люда, которые прославляют величие султана Малик-шаха.
Султан понял, что он еще не способен бросить открытый вызов визирю. Ему ничего не оставалось делать, как велить ослепить Абу-ль-Махасина и посадить его в тюрьму.
Таким образом Низам аль-Мульку удавалось преодолевать периодически возникающие внутренние кризисы, угрожавшие его положению. Но в конце 80-х годов семидесятилетний визирь столкнулся с конфликтом, который стал для него фатальным. На этот раз оппозиция сформировалась вокруг Тадж аль-Мулька и первой, и самой влиятельной, жены султана, караханидской принцессы Туркан-хатун, женщины столь же красивой, сколь и обладавшей сильным характером и безграничными амбициями.
Хотя Низам аль-Мульк стал доминирующей фигурой в бюрократической машине Сельджукидов, он никогда не занимал такого же положения при дворе. Несмотря на то, что в течение длительного времени он имел несравнимое ни с чем влияние на султана, его воздействие на жен султана, принцев и их окружение было гораздо слабее.
Именно окружение Туркан-хатун стало фокусом оппозиции, так как Тадж аль-Мульк был также ее личным визирем. Без сомнения, Низам аль-Мульк имел в виду Туркан-хатун, когда писал специальную главу «Относительно женщин» в «Сиасет-наме»: «Не следует, чтобы подручные государю становились начальствующими, ибо от этого порождаются большие непорядки, государь лишается силы и достоинства. В особенности это относится к женщинам, которые являются „людьми покрывала“ и у которых нет совершенства разума. Цель их существовония — сохранение рода. Чем они родовитее, тем достойнее, чем скромнее, тем более заслуживают похвалы. Если жены государя станут давать приказы, они будут приказывать то, что им подсказывают корыстные люди; ведь они не могут, как мужья, постоянно видеть внешние дела собственными глазами, их приказ основывается на словах передатчиков, которые состоят при их делах… поэтому, конечно, их приказ противоречит верному. Отсюда родится вред, величие государя испытывает ущерб, люди впадают в страдания, происходит изъян в царстве и вере, имущество людей погибает, вельможи державы подвергаются обидам.
И в прошлые времена, когда жена верховодила над государем, ничего не бывало, кроме мятежей, смут, восстаний и зла… Всегда государи и мужи, сильные разумом, следовали добрым путем и так установили, чтобы женщины и слабые не знали о тайнах их сердец. На их советы, желания, приказания они налагали запрет, не подчинялись».
Низам аль-Мульк приводит десять исторических, религиозных и легендарных примеров в подтверждение своих слов. Причем пропагандистская направленность этих примеров достаточно очевидна: «В истории приводится, что Александр пришел из Рума и, разбив Дария сына Дария, царя Аджама, обратил его в бегство… Дарий имел дочь, очень красивую лицом, прекрасную, совершенную во всех отношениях. Ее сестра была такая же, как и другие дочери его рода, бывшие в его дворце, все они были прекрасны. Александру сказали: „Тебе следовало бы пройти в женскую половину Дария, чтобы посмотреть на луноликих, подобных пэри, в особенности на дочь Дария, никто не сравняется с ней по красоте“. У говоривших такой был умысел: пусть Александр посмотрит на дочь Дария, возьмет ее в жены за красоту. Александр ответил: „Я победил их мужей, не подобает, чтобы их жены победили нас…“
Если что скажут женщины, надо делать вопреки, чтобы вышло целесообразно. Согласно преданию пророк приказал: «Советуйся с ними, но поступай вопреки».
Халиф Мамун сказал однажды: «Не дай бог никогда ни одному государю допускать, чтобы женщины говорили с государем относительно государства, войска и казнохранилища, вмешивались в эти дела или кому-либо оказывали покровительство, кого-то прогоняли, другого назначали на должность, иного смещали… Волей-неволей мужи обратятся к их двору, будут им представлять о своих нуждах. Приметив угодливость мужей, а во дворце такое множество войска и народа, они допустят в голову многие нелепые желания, дурные и злонравные мысли быстро найдут к ним дорогу; не пройдет много времени, как уйдет величие государя, почет, блеск двора и приема, у государя не останется достоинства, со всех сторон его станут порицать, государство придет в расстройство, у визиря не будет властности, войско будет обижено». В определенной степени косвенные предсказания великого визиря после его смерти сбылись.
На этот раз камнем преткновения для двух противоборствующих групп стал вопрос престолонаследия. Любимцем отца был сын Туркан-хатун Дауд, но он умер в 1082 году. Шесть лет спустя Малик-шах объявил своим наследником Ахмада — другого сына от Туркан-хатун. Но на следующий год и он умер. Энергичная мать не успокоилась и, не обращая внимания на эти предупреждения рока, стала добиваться, чтобы ее третий сын Махмуд был объявлен наследником трона Сельджукидов, несмотря даже на то, что он был самым молодым среди остальных сыновей султана.
У Малик-шаха были и другие сыновья: Беркярук от сельджукской жены Зубайда-хатун, Мухаммад и Санджар от жены, бывшей невольницы. Когда поднялся вопрос о престолонаследии, то все говорило в пользу Беркярука не только потому, что он был старший, но и потому, что мать его происходила из рода Сельджуков, а это имело влияние на отношение к нему многих из высокопоставленных лиц государства. Когда Малик-шах начал обсуждать это важное дело с визирем, тот высказался в пользу Беркярука, и султан, несмотря на возрастающую антипатию к Низам аль-Мульку, по-видимому, начал склоняться к тому, чтобы и в данном случае последовать его совету. Но на это никак не могла согласиться Туркан-хатун, которая имела влияние на мужа.
Счастлив тот, кто в шелку и парче не блистал, Книгу славы мирской никогда не листал, Кто, как птица Симург, отрешился от мира, Но совою, подобно Хайяму, не стал.…Наиболее странные сны снятся человеку незадолго до рассвета. Именно в предутренних снах человек видит то, что с непонятной тревогой пытается вспомнить позднее. Порой ему кажется, что место и время, где он оказался, уже видел — видел во сне незадолго до рассвета.
Омару снился странный сон: это происходило где-то в горах. Солнечный, но не жаркий день. Внизу недалеко слышно журчание ручья. Кругом тихо и спокойно. Напротив него сидит… он сам. Он ясно ощущал, что на площадке их двое. И оба сидят, не разговаривая, но в безмолвии понимая друг друга.
— Ты часто повторяешь о своем стремлении к познанию истины.
— Да.
— Но уже эти слова твои непонятны: кто ты, который стремится к познанию истины?
— Не знаю.
— Но есть ли различие между тобой и истиной, к которой ты стремишься?
— Да.
— Следовательно, есть истина внутри тебя, но ты ее не знаешь и к ней не стремишься, и есть истина вовне тебя, которую ты также не знаешь, но надеешься знать. Откуда же ты знаешь, что ты тот, кто стремится к познанию истины?
— Потому что я никогда не чувствую себя удовлетворенным от того, что достиг в своих науках.
— Но поскольку ты себя не знаешь, то и твои слова сомнительны.
— Ладно, иначе я скажу так: я познаю, чтобы продолжать понимать, в том числе и себя, но я не стараюсь понять, чтобы потом перестать познавать.
— Я тебе дам один совет: если ты хочешь сделать действительный шаг к самому себе, найди в себе великое и непонятное для тебя самого.
— А что потом?
— Видишь ли, есть познающие, которые стремятся быть светом между этим миром и вечностью. Есть познающие, которые осторожно идут по туго натянутому канату между жизнью и смертью. Есть познающие, которые идут по канату, брошенному на землю во дворе их дома.
— Я не понимаю.
— Почему? Ведь я — это ты.
Предутренние сны часто вызывают головную боль, которая трудно проходит…
В 1091 году Омар Хайям написал «Трактат о существовании». Но еще незадолго до этого он закончил небольшое сочинение, дошедшее до нас под заголовком «Свет разума о предмете всеобщей науки, сочинение мудреца Омара ибн Ибрахима аль-Хайями».
Вообще надо отметить, что все его четыре философских произведения, созданные между 1080 и 1091 годами, достаточно целостны по тематике и рассматриваемые в них проблемы взаимосвязаны. Более того, к некоторым из них Хайям возвращается вновь и вновь.
Трактат «Свет разума о предмете всеобщей науки» начинается с констатации мысли, высказанной Хайямом уже ранее: «Вещь должна существовать, и притом существовать в одном из двух существований (в вещах или в душе), если же этого нет — это не вещь; нет вещи, которая не существовала бы с необходимостью в одном из двух существований… Поскольку сущее и вещь являются всеобщими, более первичным как предмет всеобщей науки является сущее, так как оно более очевидно».
В этом произведении еще резче проявляется релятивизм Хайяма. Он подчеркивает, что существование и в вещах и в душе есть относительное явление. Более того, Хайям утверждает: «Однако твердо установлено, что все случайно». Это, в общем, закономерно вытекает из тезиса, который он развивал в предшествующих работах: «Поскольку только творец является необходимосущим, все остальное возможносущее».
Так как вечных законов твой ум не постиг — Волноваться смешно из-за мелких интриг, Так как бог в небесах неизменно велик — Будь спокоен и весел, цени этот миг.В этом же произведении он вновь доказывает, что существование не может быть вещью помимо самого существующего: «Разум не может судить о вещи, если он не отвлечен от индивидуальных случайностей… и невозможно, чтобы эта отвлеченность находилась вне (вещей)».
Далее Хайям приходит к выводу, что существование в вещах отлично от того, каким оно существует в разуме: «…существование существующего в вещах существует само по себе, и понятие о его существовании, помимо его самого, имеет место только после понимания его разумом, и поистине разум понимает это свойство только после того, как познает его и превращает в познанную сущность». Но при этом «разум не может судить о вещи, если он не отвлечен от индивидуальных случайностей». Таким образом, Хайям ставит вопрос не только о соотношении общего, частного и индивидуального в познании, но и важнейшую по сегодняшний день методологическую проблему целостности познания.
Действительно, утверждает он, существующее в вещах и его существование — одно и то же. При его познании оно превращается в познаваемую сущность. Но в зтом процессе играют роль и ощущения человека, и его воображение: «…для нас нет познанного в чистом виде, и оно невозможно…» Это обусловливается тем, что не выполняется важнейшее условие: «чтобы разум при познании предмета был бы единым, как творец».
Вероятно, одна из причин, заставивших Омара Хайяма написать этот трактат, заключалась в стремлении высказать свою точку зрения по проблеме познаваемости Аллаха: «Одним из сильных сомнений… представляющим собой предмет спора, является то, что, если нас спросят, является ли абсолютное существование познаваемой сущностью, или не является познаваемой сущностью?..»
В данном случае Хайям противопоставляет свое мнение и представлениям ортодоксальных факихов, и мутакаллимов, и исмаилитов, которые, исходя, правда, из различных предпосылок, утверждали, что Аллах принципиально не познаваем. Философ при помощи рациональной логики пытается доказать то, что являлось основной целью суфизма: «…если мы ответим, что оно (то есть абсолютное существование. — Авт.) не является познаваемой сущностью, это было бы нелепо, так как если бы оно ее было познаваемой сущностью, существующей в душе, то было бы нелепым и наше утверждение, что существование в вещах есть вещь помимо самой сущности».
Омар Хайям приходит к следующему выводу: «…существование, представляющее собой сущность первой истины, является необходимостью… существование, являющееся противоположностью несуществования, о котором говорится по поводу всех вещей, является необходимым свойством этой сущности…»
В «Трактате о существовании» Хайям классифицирует определения для объектов на два рода — существенный и случайный. И тот и другой, в свою очередь, подразделяются на два вида — относительный и действительный.
Для дальнейших рассуждений Хайяма важно понять, что он имеет в виду под этими последними двумя видами: «Действительным (случайным) видом является, например, определение того, что тело черное, если оно (на самом деле) черное. Чернота есть действительное свойство, помимо самого черного, и является действительным определением. Доказательство этого действительного вида не нуждается в доводах, так как оно ясно как для разума, так и для воображения и ощущения.
Относительным случайным видом является, например, определение двойки как половины четверки, так как если бы свойство двойки быть половиной четверки существовало бы помимо самой двойки, имелось бы бесконечное число понятий, помимо ее самой. Доказательство основывается на невозможности этого».
Омар Хайям связывает понятие «относительного определения» с предпосылкой, что общие понятия существуют только «в душе»: «…когда разум познает какое-нибудь понятие, он разумно разделяет это познаваемое, познавая (все) его состояния, и если он найдет это понятие простым… и найдет для него определение, то он познает, что эти определения свойственны этому понятию относительно, а не по его существованию в вещах…»
Объектом дискуссии вновь для Хайяма выступает проблема существования. Своих оппонентов он называет «людьми истины». Поскольку именно исмаилиты называли себя так, можно предположить, что в данном случае он дискутирует именно с ними: «По-видимому, вопрос существования труднее, чем остальные случайные свойства. Некоторые из людей истины сомневались в нем, поскольку они говорят, что, например, разумный человек обладает истиной и сущностью, в определение которой не входит существование, так что мудрый может познать понятие человека без понимания вместе с тем того, существует ли он или не существует…»
Дискуссия разворачивалась по поводу ключевого вопроса о возможности познания, о предметах и ограничениях этого познания, и в частности познания Аллаха-творца. Исмаилиты утверждали, что единственным исключением для познающего является творец, который является безличным по своей сути. Понятие «существование» нужно Хайяму для противопоставления подобной точке зрения своей концепции, которую он развивает в своем трактате. Для него необходимосущее можно представить только как существующее. Причем свойство существования необходимосущего вытекает из его сущности (то есть того, что в принципе познается). Следовательно, творец не сотворил это свойство, а оно присуще ему изначально: «Если бы свойство существования было бы понятием, (существующим) помимо его самого, то в его сущности… была бы множественность…» А это противоречит его тезису о целостности изначального Абсолюта.
Однако Хайям оказывается перед проблемой: каким образом совместить принцип познания Абсолюта и принцип относительности человеческого познания. Для этого он вводит понятие относительной множественности Аллаха, понимая под этим, вероятно, формы проявления бога: «…необходимосущий по своему существу один во всех отношениях, и ему ни в коем случае не присуща множественность, за исключением относительной множественности, которая, по-видимому, бесконечна по своему числу, но относительная множественность никоим образом не делает множественной сущность».
Итак, Абсолют — познаваем, но это познание — относительно, как и все остальное в этом мире. И здесь Омар Хайям резко расходится с одним из ключевых положений суфизма. Человек может и должен познавать Абсолют, но при этом Аллах — абсолют всегда будет оставаться загадкой для человека: «Итак, все свойства необходимосущего являются относительными, никакое из них не является действительным. Возможно, что знание его действительно, то есть (действительно) получение образов познаваемого в его сущности, однако все они необходимо являются возможно существующими».
Углубляющийся релятивизм Хайяма простирается не только на существование, но и на несуществование: относительно не только первое, но и второе: «Узнав, что существование относительно, так же как единство и другое познаваемое, ты узнал, что и несуществование и его состояния с точки зрения познавания относительны».
Когда б ты жизнь постиг, тогда б из темноты И смерть открыла бы тебе свои черты. Теперь ты сам в себе, а ничего не знаешь, — Что ж будешь знать, когда себя покинешь ты?И в то же время сама логика рассуждений Хайяма приводит его к выводу, что небытие заложено в сути вещей. Существование — потенциально, вероятно, а вот несуществование — закономерность: «…все возможно существующее имеет сущность для разума, которую разум познает… вместе с тем он познает, что свойство существования присуще ей извне (в конечном счете обусловливаясь первопричиной. — Авт.). Если свойство существования присуще ей извне, то необходимо, чтобы свойство ее несуществования было бы присуще ей по ее сущности. Но свойство, присущее вещи по ее сущности, предшествует по порядку ее свойству, присущему ей извне. Таким образом, свойство несуществования, присущее возможно существующей сущности, предшествует по порядку свойству ее существования».
Опираясь на используемые им понятия, Омар Хайям формулирует своего рода закон о единстве и борьбе противоположностей: «…возможно существующая сущность категорически (выделено нами. — Авт.) не может быть причиной существования без того, чтобы не быть несуществующей, или средством, или чем-нибудь другим, являющимся возможно существующим».
Итак, Омар Хайям вновь подчеркивает глубокую диалектическую закономерность: возможно существующее в себе самом одновременно является несуществующим.
Слышал я: под ударами гончара Глина тайны свои выдавать начала. «Не топчи меня! — глина ему говорила, — Я сама гончаром была лишь вчера». Из всех, которые ушли в тот дальний путь, Назад вернулся ли хотя бы кто-нибудь? Не оставляй добра на перекрестке этом: К нему возврата нет — об этом не забудь. Ужели бы гончар им сделанный сосуд Мог в раздражении разбить, презрев свой труд? А сколько стройных ног, голов и рук прекрасных, Любовно сделанных, в сердцах разбито тут? Удивленья достойны поступки творца! Переполнены горечью наши сердца, Мы уходим из этого мира, не зная Ни начала, ни смысла его, ни конца.Глава IV БУДЬ ВСЕГДА ГОТОВ К НЕОЖИДАННОСТИ! 1092—1104
Под этим небом жизнь — терзаний череда, А сжалится ль оно над нами? Никогда. О нерожденные! Когда б о наших муках Вам довелось узнать, не шли бы вы сюда.А сколько мы погубили до них поколений, — разве чуешь ты хоть одного из тех и слышишь от них шорох?
Коран. XIX. 97
О, как безжалостен круговорот времен! Им ни один из всех узлов не разрешен: Но, в сердце чьем-нибудь едва заметив рану, Уж рану новую ему готовит он. Смертный, если не ведаешь страха, — борись. Если слаб — перед волей Аллаха смирись. Но того, что сосуд, сотворенный из праха, Прахом станет, — оспаривать не берись.Нужно быть сильным, чтобы с твердой волей идти по дороге, выбранной тобой. Но еще большая сила и человечность нужны, чтобы самому отказаться от привычного пути, даже тогда, когда не видно другой дороги.
Черной и пасмурной выдалась пятница 12 рамазана 485 года хиджры (16 октября 1092 года). Накануне вечером над городом пронесся сильный ветер, ночью прошел дождь. Но не такой, какой был всего три недели назад — редкий дождь ушедшего лета.
Этот же дождь принес с собою весть о скорой и сырой зиме. С утра люди озабоченно смотрели на небо и сильнее кутались в кабы и халаты. Свинцово-черные тучи, пригнанные ветром с севера, устроили там, наверху, настоящий дьявольский шабаш. Редко выпадает год таким, но именно поэтому люди научились определять его.
Багдад… Это один из древних и крупных городов, столица мусульманского мира. Издавна здесь проходил караванный путь из Месопотамии в Иран. Славится поэтому он своими базарами, ремесленными рядами, шумным людским морем. Но в этот день город словно подменили. Он в оцепененье.
И страшные, очень страшные (если не сказать преступные) слухи крались во второй половине дня по благословенному Багдаду. Они ползли вкрадчиво, как дикая кошка на охоте, но распространялись с быстротой бегущей антилопы. Они заполняли собой, словно передержанное в тепле тесто, все улицы, углы, закоулки города, проникали в самые далекие ханаки.
В одних домах люди, услышав известие, бросались к дверям (правда ли?), потом взволнованно ходили из угла в угол, обдумывая, что же теперь будет. Иные плакали. Повсюду стала работа. В других домах с удовлетворением потирали руки, и мужчины едва скрывали в усах и бороде улыбку удовольствия. И это у них получалось.
Но слухи оказались истинными.
Поздно вечером в одном из караван-сараев свидетель случившегося рассказывал любопытствующим:
— Было это так. Преславный визирь Низам аль-Мульк Туси кончил трапезу во дворце эмира. Все знали, что сейчас он выйдет, а значит, будут хорошие подаяния. Я тоже решил поживиться двумя-тремя монетками. В такую сырую погоду брюхо особенно настойчиво поет свою песню. Поэтому когда появился тахт-раван[31] великого визиря, я был к нему ближе других. Рядом со мной оказался какой-то странный человек в обличье дервиша, и я еще вспомнил разговоры, что в суфиев наряжаются и проходимцы, чтобы иметь незаслуженные почести, посягать на чужих жен. Этот держал руки где-то в глубине своих лохмотьев, и хотя мне было вовсе не до того, я успел разглядеть его обросшее лицо, которое выражало и покорность, и смирение, и какую-то отрешенную решимость.
— Какой ты наблюдательный! — не то с иронией, не то с недоверием сказал кто-то из слушавших.
— Да какая там наблюдательность! — поспешно и испуганно отреагировал бродяга. — Я увидел то, что слепому бросилось бы в глаза! Будь он таким же нищим, как я, мне было бы трижды наплевать на него — мой соперник и все, которого надо опередить и обхитрить.
Ну, ладно. Дальше было вот что. Этот человек приблизился к паланкину, когда мы бросились собирать монетки. Стража хотела было его остановить, но великий визирь дал знак пропустить дервиша или того, кто прикидывался им. Ведь всем присутствующим известно, с каким почтением наш султан, известный всему миру своей мудростью и доблестью Малик-шах и сам Низам аль-Мульк относятся к суфиям. Человек приблизился к визирю и что-то сказал. Видимо, чтобы лучше расслышать его слова, едва различимые сквозь жадный рев толпы, великий визирь Низам аль-Мульк Туси наклонился к этому человеку. И слушайте, слушайте, что было дальше! Нищий дервиш с быстротой молнии выбросил из своих лохмотьев руку, и как ни был сумрачен день, в его руках блеснул кинжал из дамасской стали. Еще мгновение — и клинок до самой рукоятки вошел в грудь визиря, в самое сердце! Толпа онемела от ужаса. В наступившей тишине я услышал предсмертный хрип Абу Али Хасана Низам аль-Мулька Туси (да будет благословенной его память). Удар откинул его назад. И он повалился бы навзничь, но судорога прижала его к верхней части дверного проема. Здесь он и принял смерть. Стеклянные глаза визиря смотрели на оцепенелый от ужаса народ. А из громадной раны хлестала кровь…
Потом раздался душераздирающий крик… Кинувшегося было бежать дервиша стража схватила, а, может, он споткнулся, и это помогло телохранителям поймать его. Последнее, что я видел, — страшное лицо начальника стражи. Он и двое его помощников находились в центре толпы. Все трое были высокого роста и поэтому выделялись над людом. Но внизу на земле дервиш не был виден. Начальник стражи в глубокой ярости поднимал и со всей силой вонзал куда-то свое копье. И так до бесконечности…
Нищий постоялец караван-сарая обладал даром рассказчика, и его слушали, затаив дыхание. Наверное, каждый так или иначе чувствовал, что в стране происходят какие-то важные события, ведется подспудная невидимая, но яростная борьба.
По мнению историка Ибн аль-Асира, смерть великого визиря была вызвана прежде всего внутриполитическими факторами в верхах сельджукского государства. А поводом послужило то, что своего внука Османа Низам назначил раисом Мерва. «Туда же султан послал Кудана (в качестве) наместника… Молодость и самонадеянность Османа и то, что он полагался на своего деда, рассчитывая на его помощь, повели к тому, что он арестовал его (Кудана) и наказал его, но потом освободил. Тот с жалобой о помощи направился к султану».
Для Малик-шаха это событие стало последней каплей в его отношениях со своевольным визирем. Он отправил к гордому старику нескольких своих вельмож и велел передать через них: «Если ты мой заместитель и находишься под моей властью, то тебе следует придерживаться границ подчинения и заместительства. И вот эти твои сыновья, каждый из них владел большим округом и правит большой областью, но, не удовлетворяясь этим, они переходят в дела расправы и в жажде (власти) дошли до того, что они совершили то-то и то-то».
Не выдержал и Низам аль-Мульк: «Скажите султану: „Если ты не знал, что я соучастник твой в царстве, так знай, что ты достиг этого своего положения только благодаря моим мероприятиям и моему мнению“. Он продолжал: „Разве он не припоминает, что в то время, когда был убит его отец, я устроил его дела и уничтожил восставших против него из его семьи и других… Он в то время хватался за меня, не обходился без меня и не противоречил мне. Но когда я уже направил дела и объединил мнения в его пользу, завоевал ему города — близкие и дальние — и подчинились ему (страны) близлежащие и отдаленные, он стал без всякого основания приписывать мне грехи и слушать доносы на меня. Передайте ему от меня, что устойчивость той остроконечной шапки (короны его) связана с этой чернильницей и что в их единении упрочение всего, что является желанным, и причина всякого благосостояния и благоприобретения. И когда я закрою эту (чернильницу), то не станет и той. И если он решился на перемену (отношений ко мне), то пусть сделает в целях предосторожности заготовку продуктов прежде, чем это случится, и пусть соблюдет предусмотрительность в отношении событий до того, как они произойдут“.
Это был открытый вызов султану. Последнего Ибн аль-Асир прямо обвиняет в убийстве визиря: «Произошло обсуждение мероприятий в отношении Низам аль-Мулька, которые завершились его убийством». Однако, учитывая, что через 35 дней умер и Малик-шах, можно предположить, что сам султан вряд ли был прямо повинен в гибели своего прежнего наставника.
Почти одновременная смерть правителя и визиря должна была привести к резкому ослаблению сельджукского государства. И многие в стране желали этого. Ибн аль-Асир меланхолично заключает: «Государство расстроилось, и был пущен в ход меч (пошли раздоры). И слова Низам аль-Мулька оказались как бы предсказанием. Многие поэты оплакивали Низам аль-Мулька».
С древнейших времен в политике действует непреложный закон, почти аксиома: «Кому выгодно?» Кто выиграл в результате того или иного события? Порой неважно — чьих рук то или иное дело, кто его спланировал, кто в нем участвовал. Самое главное — кому выгодно?
Эти два события сыграли существенную роль в дальнейшей судьбе Омара Хайяма. Ведь он, как, впрочем, и каждый ученый того времени, полностью зависел от своих покровителей, располагающих казной и властью. И век Малик-шаха и Низам аль-Мулька, несмотря на его жестокость, был достаточно благоприятен для науки и ученых. За несколько десятилетий они заметно продвинули науку в ее развитии и в отдельных отраслях значительно опередили свое время.
Что же могло ожидать ученых со сменой власти? Об этом Омар задумывался и горячо желал, чтобы правителю великого сельджукского государства и его визирю Аллах даровал бы долгую жизнь, тем более что и простому народу при них жилось безопасней и спокойнее.
В условиях постоянных больших и мелких дворцовых интриг, когда каждое неосторожное слово, произнесенное даже среди пустых стен, становилось достоянием недоброжелателей и явных врагов, как должен был вести себя человек, не обремененный ни властью, ни богатством, живущий исключительно милостью покровителей?
Хайям был не только опытным астрономом и математиком. Он лечил людей — значит, обладал познаниями в области психологии. Он предрекал будущее (его называли искусным звездочетом), и, быть может, не столько по звездам, сколько внимательно присматриваясь к людям, их характерам, к их сильным и слабым сторонам, к группировкам и течениям при дворе, к их постоянно бурлившим противоречиям и конфликтам. Хайям научился внимательно относиться к малозначимым на первый взгляд обстоятельствам, которые, однако, в подспудной постоянной борьбе при дворе играли столь важную роль. Мелочи ведь стимулируют развитие, а развитие — это не мелочь!
Эти два начала — долг перед истиной, великое подвижничество во имя знания и необходимость следовать правилам политического поведения — сделали сложный характер Хайяма еще более противоречивым, неуживчивым. Вот что пишет историк аль-Бейхаки: «Омар ибн-Ибрахим Хайям происходил из города Нишапура, так же, как и его предки. Он следовал учению Абу Али ибн Сины в различных ответвлениях философских наук, но был более резок и скрытен. Однажды в Исфахане он прочел какую-то книгу семь раз и запомнил ее. Возвратившись в Нишапур, он записал ее по памяти. Когда сравнили с оригиналом, то между ними не оказалось существенной разницы…»
«Резок и скрытен…» Два этих слова в определенной степени являются антонимами, словами с противоположными смысловыми значениями. Это все равно что быть и толстым и тонким одновременно. Резкость в характере, как ни парадоксально, предполагает открытость, ибо резкие слова произносятся в глаза собеседнику. Резкость за глаза называется уже по-другому. В то же время скрытный человек, будучи прежде всего осторожным, не может быть резким, потому что, прежде чем быть произнесенным, каждое его слово проходит через мелкое сито, где все резкое тщательно отделяется.
Но почему же все-таки «резок и скрытен»? Эпоха, как уже говорилось, не могла не оставить своего отпечатка на Хайяме. Второе («скрытен») есть следствие первого («резок»). Резкий, а значит, оригинальный, интересный в своих суждениях человек (чему он и обязан вниманием Низам аль-Мулька и приглашением во дворец), общаясь в придворных кругах, не мог вскоре же не проявить оборотной стороны этой черты своего характера. Вся придворная «чернь ученая», как назвал ее Хайям в одном из рубаи, представители враждебных великому визирю группировок закономерно должны были втягивать в сеть плетущихся ими интриг математика и геометра, обласканного визирем, и надима султана, всячески пользуясь его неосторожными словами и действиями.
Отдельные колкости сдабривались двусмысленными шутками, едкие анекдоты перемежались с продуманной клеветой, злобную улыбку сменяла открытая ненависть. Посыпались удары за те резкие слова, которые сам Хайям считал простым проявлением искренности. И тогда родилась первая его горькая житейская мудрость:
Молчаливость и скромность в наш век не порок, Любопытство — нередко несчастий исток. Глаз, ушей, языка ты пока не лишился, Стань слепым и глухим, рот закрой на замок.С годами подобной «резкости» становилось все меньше и меньше. На смену приходила «скрытность», формальное следование правилам жестокой игры. Но особо тупое невежество, глупость или совершенно неожиданная подлость вдруг преображали его, он становился прежним Хайямом и, отбрасывая сдержанность, с юношеским пылом обрушивался на противника. А такое не проходило бесследно. Вновь следовал коварный удар. И опять надолго замолкали уста Омара.
Чтоб угодить судьбе, глушить полезно ропот, Чтоб людям уродить, полезен льстивый шепот; Пытался я порой лукавить и хитрить, Но всякий раз судьба мой посрамляла опыт.В эти сложные периоды ученый старался забыться в общении со своими немногими близкими друзьями. Они служили бездетному холостяку Хайяму действительной опорой в трудную минуту. Среди них не требовалось вести длинных мудрых бесед о разногласиях в прочтении того или иного места в Коране, опровергать точку зрения о несотворенности Вечной книги. Среди друзей все проще. Здесь нет места неискренним похвалам и лести. Страдающих этим распространенным недугом в свой круг не принимали. Можно было говорить о чем угодно и по любому предмету высказывать свое мнение. Здесь в почете были персидские пословицы: «Друг тот, что правду в глаза скажет, а не тот, кто твою ложь за правду примет». И еще одна: «Друг ударит — и то приятно».
Ближайшие друзья Хайяма — ученые Исфаханской обсерватории. Это Абу-аль-Рахман Хазини, Абу-ль-Аббас Лоукари, Меймуни Васити и Музаффари Исфазари. Хайям любил и уважал их за преданность дружбе, чистоту помыслов. Но еще больше ценил в них научный талант, предрекая им большое будущее на этом поприще. О чем они могли говорить? Обо всем. Могут ли для ученых существовать границы для «дозволенных» тем? Подчас темой для разговора было выяснение именно этого вопроса. В дискуссиях оттачивались ум и язык — вещи немаловажные для надима — приближенного султана.
Так проходили дни — до очередной жестокой схватки с противником, яростным и многоликим. Особенную злость Хайям вызывал у духовных вождей правоверного ислама, законоведов-факихов, называвших себя учеными. С ними велись наиболее ожесточенные споры. Многие из таких «ученых» скорее напоминали дервиша Собхана из известной иранской притчи, который, выучив несколько философских терминов, без всякой связи употреблял их в своей речи. Слушавшие считали его великим ученым, чья речь недоступна их пониманию. Но однажды он попал в собрание, где присутствовал известный философ, и там стал произносить высокопарные речи. Философ, внимательно выслушав дервиша, понял, что тот пользуется словами, смысла которых не понимает, и сказал: «Слог у него хорош, но сам он гроша ломаного не стоит». Может быть, и эта притча была на вооружении и Хайяма…
«Резкость и скрытность»… У каждой эпохи есть свои специфические противоречия. Раздвоенность в характере Хайяма обусловлена противоречиями его эпохи, той обстановки, в которой жил и творил ученый и поэт. Эта черта вообще типична для многих талантливых, даже великих, но, по сути, бесправных людей того времени. Отнюдь не дружественно относящийся к Омару Хайяму автор XIII века Ибн аль-Кифти в своем сочинении «История мудрецов» пишет: «…намеки, содержащиеся в его стихотворениях, отличались острой критикой шариата и представляли собой смесь запутанных положений. Когда современники стали поносить его за вероотступничество и говорить повсюду о его тайных взглядах, он обуздал свои речи и перо, опасаясь за жизнь».
Слова аль-Кифти независимо от того, что он сам вкладывал в них, ярко иллюстрируют мысль о том, как прямой и резкий Хайям в силу обстоятельств должен был порой скрывать, маскировать свое истинное лицо.
Хайяма нельзя назвать трусом. Человек, искренне и бесповоротно выбравший путь поиска истины, не может не быть мужественным. Говорят, действительная зрелость мыслящего человека определяется тем, может ли он отдать жизнь за свои мысли и убеждения. Но для этого надо откинуть всякие сомнения и колебания и уверить себя, что твои идеи и взгляды — это твои, и только твои, что они идут изнутри тебя, выражают самое сокровенное, таинственное и уникальное в тебе. Но здесь есть и обратная сторона: нужно ведь иметь решимость сказать себе, что все остальное — это не твое, что твой выбор отрицает все остальные альтернативы.
Хайям шел по своему пути истины. И можно сколько угодно рассуждать о том, как и в какой степени он понимал значимость своей миссии в этом бренном мире — миссии мыслящего, который должен осознать свой мир и свое место человека в нем, продвинуть вперед познание и т. д. Но жизнь человека, и Хайям видел это своими глазами, стоила недорого.
На первый взгляд явная парадоксальность ситуации: жить, чтобы мыслить, но не иметь возможности открыто делать свои мысли достоянием всех подобных тебе собеседников, хранить в себе достигнутые знания, результаты мучительных размышлений. А ведь мыслящему нужно общение. Творческая мысль кидает человека в такие бездны одиночества, откуда разум порой уже может и не возвратиться. На пути познания, с другой стороны, нет ведь всегда и вечно правых и неправых. Есть те, которые пришли и стали, и те, которые ни на минуту не останавливаясь, идут в постоянном тумане сомнений. И здесь тоже нужно какое-то общение. Но Хайяму приходилось писать:
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала: Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало.Вспомним вновь слова аль-Бейхаки. Какой колоссальной памятью должен обладать человек, чтобы, прочитав семь раз книгу, потом практически без ошибок воспроизвести ее! Невольно возникают вопросы: на какие свершения был способен этот мозг? Каких глубин достигал он в своих блужданиях в глубинах мироздания? А каких вершин в познании достиг?
Да, верно, были математические уравнения, обсерватория в Исфахане, календарь, философские трактаты… Ну а чего не было, но что могло бы быть и не стало только потому, что «он ни с кем не делился, не поверял своих мыслей», был «скрытен».
Хайям был воплощенное противоречие. В трудные минуты он — мрачный меланхолик и экспансивный холерик, когда бьет желчь — его рубаи то богохульные, то безропотно смиренные. В иную пору он — настоящий суфийский шейх, даже от близких друзей скрывающий мысли, а иногда гедонист, превыше всего ставящий земные радости. Таков Хайям.
У шумного источника много кувшинов бьется. Для тех, кто был близок к высоким кругам, некоторые вещи казались страшнее дворцовых интриг. Страшнее они казались потому, что были непонятными… Впрочем, для среднего человека. А Омар-то мог знать, а там, где не знал, логически домысливать, строить версии, предполагать, что скрывалось под исмаилитским движением, какие цели у его руководителей, истинны ли те задачи, облеченные в религиозные лозунги… Он не мог этого не знать. За плечами четыре с лишним десятка прожитых лет — пора зрелости. Опыт, вынесенный из большой жизненной школы, в сочетании с острым и наблюдательным умом давали пищу для размышлений.
А поразмыслить было над чем.
Хасан Саббах. С именем этого человека связаны большие события в сельджукском государстве. Он внес серьезные перемены в судьбу Омара Хайяма. При жизни и потом, когда Хасан Саббах умер, о нем слагали легенды, в которых вождь исмаилитов представал в прямо противоположных ипостасях: защитником обездоленных, умным и жестоким предводителем, таинственным мистиком, фанатичным шиитом-исмаилитом, положившим на алтарь веры жизнь двух своих сыновей (убиты по приказу Хасана Саббаха за нарушение предписаний Корана), наконец, великим государем…
Одна из многочисленных легенд о Саббахе связана и с именами Омара Хайяма и Низам аль-Мулька. О ней рассказывает историк XIV—XV веков Фазлаллах Рашид ад-Дин в своей исторической хронике «Собрание летописей». Хасана Саббаха он называет его исмаилитским титулом «сайид-на» — «наш повелитель»: «Наш повелитель, Омар Хайям и Низам аль-Мульк вместе учились у учителя в Нишапуре. По обычаю детских лет, как и полагается мальчикам, они соблюдали правила дружбы и преданности и придерживались их до такой степени, что, выпив крови друг друга, поклялись, что если кто-нибудь из них достигнет высокой степени и величественного положения, то будет покровительствовать и помогать другому. Случилось, что Низам аль-Мульк, как известно из истории сельджуков, достиг степени визиря. Омар Хайям явился к нему и напомнил о клятвах и договорах дней детства… Низам аль-Мульк, признав старое право, сказал: „Управление Нишапуром и его округой принадлежит тебе“. Омар, бывший великим ученым, досточтимым и мудрым, сказал: „Я не думаю о власти, приказаниях и запрещениях народу. Лучше прикажи ежегодно выдавать мне жалованье“. Низам аль-Мульк назначил ему десять тысяч динаров из дохода Нишапура, которые платил ему каждый год без уменьшения». Далее сообщается о том, что, помогая Хайяму, визирь в то же время всячески мешал придворной карьере Хасана Саббаха. И делался вывод, что убийство Саббахом великого визиря — это-де месть за предательство юношеской клятвы.
Историческую недостоверность легенды о «трех товарищах» разоблачил еще Эдвард Броун в работе «История литературы Персии. От Фирдоуси и до Саади», которая вышла в свет в 1906 году. В самом деле, даже если сравнить даты рождения каждого из них, то станет ясно, что никакой речи о детской дружбе всех троих не может быть и речи. Низам аль-Мульк был уже взрослый мужчина 31 года, когда родился Хайям. И только через 6—7 лет появился на свет Хасан Саббах. Историк Ибн аль-Асир, уделявший много внимания и Низам аль-Мульку, и Хаса-ну Саббаху, нигде не упоминает, что они были школьными товарищами.
Но легенда интересна тем, что летописец, неосознанно выражая тенденцию того времени, выделил трех по-своему выдающихся людей эпохи Сельджукидов. И еще. В памяти людей Хайям остался человеком, лишенным властолюбия, не желавшим даже думать «о власти, приказаниях и запрещениях народу».
Но вернемся к движению исмаилитов. Кто же был он — аль-Хасан ибн Али ибн Мухаммад ибн Джафар ибн аль-Хусейн ибн Мухаммед ибн ас-Саббах? Какие цели преследовал? Что проповедовал? К чему призывал? Ответить на эти вопросы необходимо, чтобы полнее представить в контексте исмаилитского движения личность Омара Хайяма.
Он родился в 1054 или в 1055 году. Рашид ад-Дин сообщает: «Родословная его от племени хамяритов, которые были падишахами Йемена». Молодые годы Хасана, когда складывался его характер и вырабатывались религиозные и политические взгляды, связаны с Реем. Рей — большой торговый город с множеством базаров и, естественно, значительным ремесленным населением, издавна был одним из крупных центров исмаилизма. В 1029 году сторонник, ортодоксального ислама суннит Махмуд Газневи завоевал Рей и жестоко истребил всех еретиков без разбору. «И пятьдесят харваров книг рафизитов, батинитов и философов вынес он из их домов и под деревьями (на которых висели повешенные) приказал сжечь».
Именно среди ремесленников, мелких торговцев, городской бедноты, свободных крестьян, то есть нижних слоев общества сельджукского государства, находили горячий отклик исмаилитские идеи. Разгром Махмудом исмаилитов в Рее (как и в других городах Ирана) на несколько десятилетий снизил их активность. Но исмаилитские идеи продолжали жить в умах, чтобы при благоприятной обстановке вспыхнуть с новой силой.
Приверженность подавляющего большинства сторон-пиков Исмаила к своему главе лежала за рамками сложного эзотерического учения батинитов. Решающую роль сыграли обстоятельства политического и социального характера в истории всего этого региона.
Некоторые круги месопотамского шиитства были недовольны той недостаточно воинственной линией, которую проводил имам Джафар в отношении суннитских Аббасидов, державших в своих руках титул халифа — повелителя правоверных. Исмаил же (его сын) настаивал на более решительной оппозиции. Кроме того, вокруг Исмаила стали группироваться те, кто был недоволен сложившимся в шиитском мире социальным порядком. В это время шло усиленное закрепощение скотоводов-кочевников и крестьян-землевладельцев. Исмаил скоро умер, и его отец имам Джафар ас-Садык постарался по возможности широко обнародовать этот факт — вплоть до того, что распорядился выставить на всеобщее обозрение труп сына в одной из мединских мечетей. Но это не помогло — движение расширялось.
Исмаилиты развернули активную проповедь своего учения во всех странах распространения ислама и создали сеть тайных группировок в Сирии, Иране, Ираке, Средней Азии и в Северной Африке.
О сближении Хасана Саббаха с исмаилитами Рея подробно рассказано от его имени в его автобиографическом сочинении «Саргузашт-и сайид-на»: «С дней детства и времени семилетия у меня была любовь к разным знаниям; я хотел стать богословом и до семнадцати лет был ищущим (знания) и бегущим за ним, и веру своих отцов… исповедовал. Однажды я встретил одного человека по имени Амирэ Зарраб, исповедующего веру халифов Египта. Иногда он объяснял ее пользу. А до него (это делал) Насир-и Хосров… И я никогда не подозревал, что истину следует искать за пределами мусульманства. А мазхаб (толк) исмаилитов есть философия, и ученые Египта — это философы.
В это время меня постигла сильная и опасная болезнь. Господь захотел, чтобы мое тело и кожа изменились… Я подумал: «Несомненно, этот мазхаб истинный, из страха я не признавал этого». Я сказал: «Указанное время пришло, я погибну, не достигнув истины». Наконец я поправился от той тяжелой болезни. И был еще один человек, по имени Мумин, которому шейх Абд аль-Мелик ибн Атташ разрешил проповедь… После настойчивых просьб он принял от меня присягу».
В переводе «зарраб» означает «чеканщик». Таким образом, первым пропагандистом исмаилизма, которого встретил на своем пути юный Хасан Саббах, был ремесленник-чеканщик. Он внес в молодую душу первые зерна сомнений, все более настойчиво опровергал представления суннитских ортодоксов. Вторым наставником стал шорник Бу Наджм. Он сумел дать ответы на все, даже наиболее трудные для верующего вопросы Хасана Саббаха. В свете этого становится ясным и социальное положение отца юноши. Какое положение мог занять в Рее его отец, шиит-имамит? Скорее всего он был также ремесленником, входившим в одну из профессиональных гильдий, или мелким торговцем. Именно среда ремесленников, в которой не умирали идеи исмаилизма, оказала решающее влияние на молодого Хасана Саббаха.
В 1076—1077 годы после своего назначения заместителем Абд аль-Мелик Атташа Хасан Саббах принял твердое решение отправиться в Египет скорее всего с целью завершить образование и познакомиться с наиболее авторитетными исмаилитами.
Но почему в Египет? Для подавляющего большинства исмаилитов суть учения упрощенно сводилась к ожиданию Махди с его царством высшего истинного знания и пути к спасению. На рубеже IX—X веков этот исмаилитский Махди все более определенно ассоциировался со скрытым имамом шиитов-имамитов, чем, в частности, воспользовался некий Убейдаллах, который в начале X века провозгласил себя Махди и основал с помощью североафриканских берберов фатимидский халифат с центром в Египте, просуществовавший вплоть до 1171 года. Убейдаллах и его потомки выдавали себя за алидов, потомков Али и Фатимы. Фатимидское государство сыграло важную роль в укреплении и развитии исмаилизма как влиятельного течения шиитской мысли. Глава этого государства, объединявший религиозную и светскую власть, именовался халифом.
В фатимидский халифат, который к тому времени стал, однако, терять былую мощь, и отправился Хасан Саббах. Там он провел около полутора лет. Посещал знаменитые мечети Аль-Азхар, Хакима, Ахмеда ибн Тулуна и Амр ибн аль-Аса, слушал ученых и философов. Но рано или поздно Хасан Саббах должен был убедиться в прогрессирующем падении мощи фатимидского халифата. Уже были потеряны Алжир и Тунис, Сицилию захватили норманны, Сирию и Палестину — сельджуки. В среде военных шли распри.
Самое главное, для Хасана Саббаха представилась возможность убедиться в том, что исмаилиты Ирана не смогут в нужный момент рассчитывать на помощь фати-мидов. И наконец, борьба группировок при дворе халифа Мустансира, поддерживавших старшего сына Назира и младшего — Мустали (сначала Мустансир назначил своим преемником старшего сына, а потом изменил решение в пользу Мустали), предопределила позднее, после раскола 1094 года, когда умер Мустансир, признание Хасаном Саббахом имамата Назира.
Когда Хасан Саббах после долгих странствий вернулся на родину, ему было уже 27 лет. Наступала пора активной деятельности. Он ставит ясную политическую цель: уничтожить власть Сельджуков, «перевернуть вверх дном» все государство, освободить от господства завоевателей население Ирана и его территорию. Такому намерению не суждено было полностью осуществиться. Но исмаилитам во главе с Саббахом удалось закрепиться в крепости Аламут.
В религиозном учении Саббаха (достаточно умеренном по исмаилитским канонам) полностью сохранилось положение ислама о всевышнем творце как создателе всего существующего. Он чтит Коран, сунну и шариат, верует в пророческую миссию Мухаммада; как и все шииты, восхваляет Али. Сообщают историки, что позже за питье вина, недозволенное шариатом, он убил своего сына.
Для исмаилитов познание бога подразумевало познание истины и путь к спасению. Поэтому первый и основной вопрос, который в своем учении ставил Хасан Саббах, был вопрос о пути познания бога. Он говорил: «Познание бога разумом и размышлением невозможно (оно возможно) только поучением имама».
В пользу необходимости имама Хасан Саббах приводит интересное и остроумное доказательство: «Тот, кто высказывает суждение о творце, всевышнем, должен сказать: „Нет пути к познанию только разумом и размышлением, а есть исключительно через поучение истинного учителя“. Таким образом, ставился косвенный вопрос о пути познания бога без помощи или с помощью имама. Против первого положения Хасан Саббах возражал: „Тот, кто утверждает первое, не может отрицать (чьи бы то ни было) разум и размышление, ибо отрицание (есть) поучение“. Джувейни дополняет эту мысль: „Если бы для познания бога было бы достаточным применение одного только разума, члены никакой секты не могли бы выдвинуть возражений против других сект и все были бы одинаковы“. Делался вывод, что разум для познания бога недостаточен и в каждую эпоху необходим имам, чтобы люди при помощи его поучения стали обученными и овладели религией.
Важны и такие положения учения Хасана Саббаха: гебры, христиане, иудеи — все люди разумные, но им не спастись, так как они не знают слова пророка Мухаммада. Противники исмаилитов — сунниты, — хотя и знают формулу веры, но в познании бога и истины опираются только на собственный разум. Они — неверные, они принадлежат к сектам заблуждающихся, им уготован ад. А надо вспомнить, что все правители сельджукского государства, включая Малик-шаха и Низам аль-Мулька, были мусульманами-суннитами. Против них направлен еще один тезис: «Тюрки не из детей Адамовых происходят; и некоторые называют тюрок джиннами или пери. До пророка Адама пери в этом мире были». Это высказывание представляет большой интерес: «тюрки», то есть сельджукские султаны и эмиры, против которых исмаилиты вели упорную борьбу, не считаются ими за людей, они — джинны, пери, иными словами — силы зла. Такая оценка «тюрок» по-своему воодушевляла исмаилитов в борьбе с ними.
Преемником фатимидского халифа Мустансира стал его младший сын Мустали. Такое нарушение порядка наследования вызвало раскол среди исмаилитов. Хасан Саббах вместе со своими сподвижниками стал поддерживать имамат Назира и его потомков. Имя Мустали, «явного» фатимидского имама, никогда не упоминал. Фатимидские халифы уже не считались им за имамов, тем более что Назира сторонники Мустали зверски убили, а его потомки вынуждены были скрываться. Таким образом, истинный имам — скрытый. Перед смертью Хасан Саббах завещал Аламутское государство своим преемникам «до того времени, когда имам возглавит свое государство». Это учение давно было известно и близко народным массам, так как приход имама ассоциировался с установлением социальной справедливости. В «Дават-и джадид» нет призывов к борьбе с феодализмом. Но антисельджукская борьба была неотделима от борьбы антифеодальной. В исмаилитском государстве были ликвидированы многие феодальные порядки.
То, что еретические движения средневековья представляли собой форму антифеодальной борьбы, было характерно не только для стран Востока. Касаясь этой же проблемы в Западной Европе в средние века, Фридрих Энгельс отмечал: «Революционная оппозиция феодализму проходит через все средневековье. Она выступает, соответственно условиям времени, то в виде мистики, то в виде открытой ереси, то в виде вооруженного восстания. Что касается мистики, то зависимость от нее реформаторов XVI века представляет собой хорошо известный факт; многое позаимствовал из нее также и Мюнцер».
Вынужденный скрываться от преследования сельджукских руководителей, Хасан Саббах много ездит по стране. И всюду он и его да'и вербуют сторонников, И не только из простого люда. К движению стали присоединяться и высокопоставленные чины сельджукского султаната. Развитие внутренних противоречий в государстве, обострение борьбы между различными группировками, усиление разногласий между султаном и великим визирем — все это вело к тому, что некоторые сановники стали искать связей со сторонниками Саббаха, видя в его организации потенциальную поддержку для реализации своих политических амбиций.
Свое отношение к исмаилитам ясно выразил Низам аль-Мульк в «Сиасет-наме». В главе «О выявлении дел еретиков, являющихся врагами шаха и ислама» он пишет: «Нет ни одного разряда людей более зловещего, более плоховерного, более преступного, чем этот люд».
Хасан Саббах называет сельджуков джиннами, Низам аль-Мульк исмаилитов — псами. Как видим, ненависть взаимная. А кроме нее — и страх. Справедливо видя в Хасане Саббахе своего личного недруга и опасного для государства врага, Низам аль-Мульк отдал приказ о его поимке.
К 1090 году перед Хасаном Саббахом, ставшим к тому времени вождем движения, со всей остротой встала необходимость найти такое место, где он и его сподвижники были бы недосягаемы для врагов и откуда они могли бы направлять деятельность всех исмаилитов Ирана. Отлично знавший Иран, Хасан Саббах остановил свой выбор на горной стране Дейлем в системе хребтов Эльбруса и неприступной крепости Аламут, что значит «Орлиное гнездо». Осенью 1090 года хитростью Аламут был взят. С этой крепости началось становление исмаилитского государства Хасана Саббаха.
Обеспокоенные успехами Хасана Саббаха, Малик-шах и Низам аль-Мульк послали на разгром Аламута правительственные войска во главе с эмиром Арслан-ташем. В июне 1092 года он осадил Аламут. «В то время с Ха-сан-и Саббахом в Аламуте находилось не более 60—70 человек, у которых было мало продовольствия. Они ели, только чтобы не умереть с голоду, и бились с осаждающими», — сообщает Джувейни. Хасан Саббах обратился за помощью. Ему помогли исмаилиты Казвина, Кух-и Бары и Талекана. Однажды ночью в октябре 1092 года союзники Хасана Саббаха произвели внезапную атаку. «По божественному предопределению, — говорит Джувейни, — войско Арслан-таша было обращено в бегство и, покинув Аламут, вернулось к Малик-шаху».
…Высокую, будто уходящую в небо, квадратную башню с закругленными углами сразу не приметишь. Поставленная на вершине мрачного и огромного утеса, она не кажется творением человеческих рук, а словно бы является продолжением этих скал, вырастает из глубинных недр утеса.
С вершины башни отлично видна вся долина Аламут. С запада и востока она защищена горами. И удивительно симметрично высится между ними этот утес. Он высокий, около трехсот локтей. Издалека кажется неприступным, а вблизи теряет свой грозный вид и становится даже беззащитным.
«Но пусть только еще раз попробуют сунуться сюда эти плевки джиннов: теперь им несдобровать. Чаша терпения здешнего люда наполнена до предела» — так думает Хасан Саббах, лежа на шелковых подушках в самой дальней, с толстыми стенами, комнате башни. В одной руке у него чаша с напитком, приготовленным из ароматных горных трав. Его стали готовить Хасану, когда он почувствовал, что начинает привыкать к курению хашиша. А ясное сознание и чистый разум ему сейчас были очень нужны.
На какое-то время он глубоко задумывается. Это видно по напрягшемуся серому взгляду, застывшим чертам худого лица. Неожиданно его правая свободная рука сильно сжимается в кулак, так что видны побелевшие костяшки пальцев.
— Папоротник срывают, когда приходит пора, — произносит он вслух. — И рвут сначала тот куст, который больше всех мешает. Что ж, великий визирь, пришла твоя пора. Уж очень ты хотел видеть мой гниющий труп! Но, клянусь, к Джабраилу попадешь сначала ты! Не миновать дубильни шкуре быка…
Несколько дней назад кончилась трехмесячная осада крепости Аламут войсками султана Малик-шаха. На поле боя исмаилиты нашли богатые трофеи, в том числе и большие запасы продовольствия. Это было как нельзя кстати для ослабевших воинов.
Хасан Саббах после продолжительного совещания с ближайшими сподвижниками уединился, чтобы окончательно обдумать свой план, родившийся сегодня утром. Сельджуков, размышляет он, следует обезглавить. Малик-шах и Низам аль-Мульк — люди умные, они знают, откуда исходит главная опасность для государства, а следовательно, и лично для них. Кроме того, и вся государственная власть замыкается на этих людях. Если их убрать, то либо все государство развалится, либо, по крайней мере, весьма ослабеет. Наконец, отношения между главными врагами исмаилизма сейчас таковы, что они способствуют реализации плана. Так что чем раньше они отправятся в иной мир, тем лучше будет для его дела. Когда мир избавится от их присутствия, начнется дележка власти в стане Сельджуков, и им долго будет не до Хасана Саббаха и его людей. А это даст возможность собраться с силами для решающего наступления.
…Утром Хасан Саббах спустился с крепости и приказал собрать в долине всех исмаилитов (в крепости на утесе всем разместиться невозможно, поэтому многие жили внизу). Когда его приказ был выполнен, он обратился к своим сподвижникам: «Найдется ли среди вас тот, кто прекратит в этом государстве вред Низам аль-Мулька Туси?» Человек по имени Бу Тахир Аррани руку согласия положил на грудь. А затем вперед выступили еще около трех десятков молодых исмаилитов.
«Несчастный юноша, — вдруг остро кольнула мысль вождя, сумрачно разглядывающего Аррани. — Вряд ли я и твои друзья с родителями вновь увидят тебя живым. Но твоя цель благородна. Ты подвигнул себя на богоугодное дело».
— Зайдешь в мои покои, — стряхивая оцепенение, сказал Бу Тахиру Хасан Саббах.
…Никто из восставших исмаилитов больше не видел смелого юношу. Только стражи ночного дозора заметили, что глубокой ночью из крепости вышли двое и направились по долине на юг. Правила требовали, чтобы посты удостоверяли личности всех, кто передвигался ночью. В одном из двоих узнавали ближайшего помощника «нашего повелителя», а другой был одет в лохмотья и походил на суфийского дервиша. Говорили, что это и был Бу Тахир. Но, с другой стороны, все, кто общался с весельчаком и балагуром Бу Тахкром Аррани, не могли его признать в этом человеке: его глаза блестели, он что-то бормотал и весь дрожал, будто в сладостном предвкушении…
Низам аль-Мульк стал жертвой индивидуального террора, развязанного исмаилитами против своих врагов. Забегая вперед, надо сказать, что ими были умерщвлены и два его сына — Ахмед, визирь Беркярука, и Фахр аль-Мульк, визирь султана Санджара. От их рук погибли восемь государей. Весь мусульманский мир был потрясен убийствами фатимидского халифа и имама мусталитов Амр ибн Мустали, аббасидских халифов Мустаршид биль-лаха и его сына Рашида.
Смертный приговор исмаилиты подписывали исключительно представителям господствующего класса: государям (халифы, султаны, падишахи), персидской и тюркской знати самых высших рангов (визири и сипахсалары), сельджукской администрации (шихне, вали, раисы, хакимы), военачальникам (эмиры), высшему суннитскому духовенству (кадии и муфтии), главам религиозных сект, а также ренегатам, изменившим исмаилизму. 49 человек убито было при Хасане Саббахе в результате террористических актов. Сюда не входят враги исмаилитов, погибшие на поле боя.
Но в результате смерти двух самых могущественных людей сельджукского государства выиграл не только Ха-сан Саббах. Как только был убит Низам аль-Мульк, своей радости не скрывали Туркан-хатун и ближайший из ее придворных — Тадж аль-Мульк. Последний стал великим визирем, а на высшие государственные должности были назначены ставленники султанши. Но липа только намерения Туркан-хатун осуществились, Малик-шах умер. Мы не знаем, была ли энергичная и властная женщина способна отравить своего мужа и существовали ли какие-либо тайные связи между нею и исмаилитами. Можно только гадать — знал ли об этом заранее халиф багдадский Муктади, давно настроенный против султана.
Но Туркан-хатун скрывала смерть своего супруга до тех пор, пока тайно через своего визиря не добилась того, что эмиры — разумеется, не без подкупа их богатыми дарами — принесли присягу ее пятилетнему сыну Махмуду, а халиф утвердил его. Потом она отправилась в Исфахан с телом Малик-шаха, который и был похоронен в столице. Но еще до того сюда же прибыл по ее приказу эмир Кербога и посадил в тюрьму четырнадцатилетнего (или только двенадцатилетнего) Беркярука. Султанша опасалась, что многочисленные приверженцы Низам аль-Мулька провозгласят его султаном.
Мать Беркярука при помощи клана бывшего визиря добилась освобождения своего сына и провозглашения его султаном. И междоусобная война сделалась неизбежной. Причем и та и другая противоборствующие стороны зависели от поддержки своих эмиров и своих войск.
Живя в Исфахане, Хайям мог наблюдать развивающиеся события своими глазами. Так родилось известное четверостишие:
На чьем стопе вино, и сладости, и плов? Тупого неуча. Да, рок — увы! — таков! Глаза Туркан-хатун, красивейшие в мире, Добычей стали чьей? Гулямов и рабов.Вначале Беркяруку повезло: при приближении Туркан его войско отправилось ей навстречу и дошло до Бу-руджирда. Некоторые эмиры султанши быстро изменили ей, и победа в январе 1093 года осталась на стороне Беркярука. Побежденные с трудом достигли Исфахана, где подверглись долговременной осаде. Изз аль-Мульк, сын Низам аль-Мулька и визирь Беркярука, и другие высшие сановники проводили большую часть времени в разгульном застолье, а юный султан забавлялся еще детскими играми. В конце концов дело окончилось мирным договором, по которому Туркан должна была сохранить за собой и своим сыном Исфахан и Фарс, а Беркярук — сделаться султаном и царствовать над остальными провинциями. Но Тадж аль-Мульк, главный интриган против Низам аль-Мулька, был казнен.
Итак, Низам аль-Мульк похоронен, умер Малик-шах. Кончились дни траура, и Омар Хайям еще по привычке спешит в свою обсерваторию. Но он уже знает, что времена изменились: вряд ли ему можно рассчитывать на благорасположение новых правителей. Для Туркан-хатун и ее приближенных не секрет, чьими щедротами облагодетельствован Хайям. Естественна поэтому их неприязнь к друзьям и сторонникам бывшего визиря.
Но тем не менее Омар Хайям не предполагал, что общее детище — его, Низам аль-Мулька и Малик-шаха — знаменитая уже исфаханская обсерватория может быть закрыта. Поступив так, Туркан-хатун сразу же показала, что не нуждается в услугах Хайяма. Была прекращена и материальная помощь ученым. И вновь, уже не первый раз в жизни Хайяма, обеспеченное существование, возможность свободно заниматься наукой и размышлять, не думая о куске хлеба, сменяются бедностью, неуверенностью в завтрашнем дне.
Туркан-хатун, как и все, кто приходит к власти далеко не прямыми путями, стремилась обезопасить себя, преследуя явных и скрытых врагов и даже тех, кто только казался ей недругом. Особенно жестокие удары посыпались на сторонников ее старого врага Низам аль-Мулька. Не могла не оказать должного внимания эта женщина «с внешностью гурии, умом змеи и повадками волчицы» и такой яркой звезде в науке, которая взошла на небосклоне сельджукского государства, какой был Омар Хайям. Впрочем, мать султана Махмуда была далека от науки. Изощренная в дворцовых интригах, она считала, что каждый «нормальный» человек, имеющий хоть какое-то, пусть даже мифическое право претендовать на власть, рано или поздно не откажется от него при благоприятных обстоятельствах. Звездочеты, чтецы книг, философы как-то не очень подходили под эту мерку. Но, с другой стороны, это люди Низам аль-Мулька… Возникла дилемма: оставить их в покое или явно, а еще лучше тайно разделаться с ними. Впрочем, расправиться с Омаром Хайямом и его друзьями было бы опрометчиво: ведь к ним благоволил и Малик-шах. Такой козырь не преминули бы использовать сторонники Беркярука.
И выбор был сделан — полное безразличие и равнодушие к их судьбам. Ведь она знала, что и обсерватория, и научные исследования, и содержание ученых идет через государственную казну. Все силы Туркан-хатун и ее эмиры отдали на борьбу с людьми Низам аль-Мулька в войске и среди духовенства, оставив без всяких субсидий знаменитый исфаханский очаг знаний. В таких условиях наука стала постепенно хиреть, исследования прекратились.
Чем жили в этот период Омар Хайям и его друзья по Исфаханской обсерватории? Скорее всего небольшими сбережениями, оставшимися от прежних времен. Впрочем, знавший грамоту и Коран, Хайям не мог умереть с голоду.
Почему же Хайям сразу не уехал из Исфахана? Но куда… Неспокойные времена настали по всей стране. Однако главное, конечно, не в том: он, видимо, ждал, что кто-то скоро окончательно победит (и вероятно, его симпатии были тогда на стороне Беркярука). В таком случае, как он надеялся, возобновится работа в обсерватории, которой он отдал почти двадцать лет своей жизни.
Тем временем день проходил за днем. Хайям стал понимать, что подобные думы — всего лишь способ для самоуспокоения и что его работа никому теперь не нужна. Скорее всего именно в те горестные дни появились рубаи, исполненные глубокого пессимизма и скорби.
Ответственность за то, что краток жизни сон, Что ты отрадою земною обделен, На бирюзовый свод не возлагай угрюмо: Поистине, тебя беспомощное он. Зависело б от нас, мы не пришли б сюда, А раз уже мы здесь, — ушли бы мы когда? Нам лучше бы не знать юдоли этой вовсе И в ней не оставлять печального следа. Для тех, кто искушен в коварстве нашей доли, Все радости и все мученья не одно ли? И зло и благо нам даны на краткий срок, Лечиться стоит ли от мимолетной боли?В чтении книг (особенно «Книги исцеления» великого Абу Али ибн Сины), в философских размышлениях проводит Хайям время, свободное от уроков, которыми он перебивался.
Творческая неудовлетворенность, застой снова вызывают на свет того Хайяма, чей дерзкий ум знают и в Нишапуре, и в Бухаре, и в Самарканде. И появляется на свет очередное рубаи, где говорится об истинном лице Туркан-хатун. Могла ли знать об этом четверостишии вдова Малик-шаха? Услужливые доносчики, которые всегда во множестве плодятся вокруг новых повелителей, могли ей донести об этих стихах. И сообщить имя автора? Ответить на такой вопрос сложно. Можно предполагать, что имя Хайяма, как автора стихов, в которых довольно трудно различить суфийскую символику, любовную лирику и откровенное богохульство, было широко известно в определенных кругах. Но вместе с тем, как отмечает И. Кондырева, «…до того, как рубаи появились в литературе, и после этого — раньше и позже… существовали и существуют народные четверостишия (таране, добейти), короткие стихотворения-песни. Испокон веков их сочиняли крестьяне, пели крестьянки, разносили из деревни в деревню вместе со своим нехитрым товаром бродячие торговцы; эти песенки путешествовали с караванами, подпевали молоткам в кузнечном ряду, вплетались в прихотливые узоры персидских ковров». И хотя подавляющее большинство таких четверостиший носят любовный характер, встречаются и другие темы. Например:
Выводок звезд за собою луна Вывела в небо — наседка она. Боже, на эту бездонную прорву Не напасешься зерна!Поэтому вдова Малик-шаха не могла с уверенностью утверждать, что рубаи принадлежит Хайяму. Талантливый персидский народ чутко и быстро реагировал на многие социальные и политические изменения в стране.
Туркан-хатун, вовсе не имевшая в виду честно выполнять договор, предложила свою руку наместнику Азербайджана, дяде Беркярука по матери, Исмаилу ибн Якути, но с тем условием, что он выступит в поход против ее пасынка. Исмаил пошел на это, но был разбит и должен был осенью 1094 года спешно ретироваться к своей покровительнице в Исфахан, где был убит несколькими эмирами, ни за что не желавшими допускать ее нового брака. Через несколько месяцев Туркан-хатун вдруг заболела и умерла. Вполне возможно, что и она была просто отравлена теми же эмирами, не желавшими ее слишком большой независимости.
В это же время другому дяде Беркярука, Тутушу, правившему в Дамаске, также захотелось заявить свои притязания на султанство. Он, описав большой круг, быстро прошел со своей армией через Месопотамию, Армению и Азербайджан по направлению к Хамадану, мимо Беркярука, который находился сначала в Мосуле, а затем в Низибине. Когда эмиры молодого султана (Изз аль-Мульк незадолго до этого умер) поняли, что их отрезают от центральных пунктов сельджукского государства, они бросились назад через Тигр, чтобы раньше своего противника достигнуть укрепленного Хамадана. Поскольку этот город был уже отрезан, эмиры посоветовали Беркя-руку спешить в Исфахан. Там, со времени смерти Туркан эмиры столицы все еще держали ее шестилетнего сына Махмуда в качестве претендента на престол. И для этой группы вопросом жизни и смерти было изгнание Тутуша из страны. Таким образом, на время интересы братьев совпали. Хотя и не без некоторых колебаний, эмиры открыли ворота Беркяруку, и было официально отпраздновано великое примирение: оба брата публично обнялись. Приверженцы Махмуда втайне ликовали — еще бы, соперник оказался в их руках! Однако и на этот раз счастье улыбнулось Беркяруку: Махмуд неожиданно захворал оспой и в ноябре 1094 года умер.
Интересно, что в это же время болели оспой и два других сына Малик-шаха, два будущих султана — Бер-кярук и Санджар. В их лечении, так же как и в лечении Махмуда, принял участие Омар Хайям. Историк аль-Бейхаки рассказывает, что «однажды имам Омар пришел к великому султану Санджару, когда тот был мальчиком и болел оспой, и вышел от него. Визирь Муджир ад-Даула спросил у него: „Как ты нашел его и чем ты его лечил?“ Он ответил: „Мальчик внушает страх“. Это понял слуга-эфиоп и доложил султану. Когда султан выздоровел, по этой причине затаил злобу на имама Омара и не любил его». Понять Санджара нетрудно: Хайям лечил двух его братьев, но Махмуд умер, а Беркярук выжил. Значит, по логике Санджара, лечение было недобросовестным. Хайям, возможно, действовал в чьих-то интересах. И пе ожидала ли его, Санджара, участь Махмуда? С другой стороны, малолетний Санджар, конечно, еще не мог задавать себе таких вопросов. Возможно, аль-Бейхаки допустил некоторую неточность, и все происходило на самом деле несколько по-другому: слуга-эфиоп запомнил слова Омара Хайяма (может быть, Хайям вкладывал в них другой смысл?) и через много лет рассказал Санджару. В истолковании недругов поэта эти слова приобрели зловещий смысл и навсегда настроили будущего султана против поэта и ученого. Во всяком случае, когда Санджар станет правителем, он не забудет Хайяму его оплошности. Таково предначертание членов семьи повелителей — быть подозрительными. А их рабам, у которых голова, язык, умения, знания одновременно друзья и злейшие враги, надо было держаться втрое осторожней. Это еще раз понял Хайям.
Беспощаден и глух этот свод над тобой, Как песчинкой играет он нашей судьбой. Не сдавайся, мой друг, перед злом и коварством, Оставайся в нужде и богатстве собой.Между тем хамаданский эмир только притворно капитулировал перед Тутушем. Как только последний оставил город, эмир бежал в Исфахан к Беркяруку. Сам Тутуш решил, что в конце концов следует попытаться вступить в переговоры. Он перебрался в Рей и стал писать эмирам своего племянника, стараясь различными обещаниями привлечь их на свою сторону. Пока исход болезни Беркярука был сомнителен, эмиры всячески тянули. Но султан выздоровел, а малолетний, чисто номинальный правитель, разумеется, гораздо приятнее для влиятельных сановников. Они открыто порвали отношения с Тутушем и с находившимися в их распоряжении войсками двинулись к Хамадану.
Когда в феврале 1095 года оба войска встретились близ Рея, под началом Тутуша было лишь 15 тысяч человек, тогда как Беркярук располагал тридцатитысячным войском. Сын Алп-Арслана погиб в отчаянной битве от руки эмира, всех сыновей которого Тутуш некогда приказал умертвить на глазах отца.
Когда же последний из братьев его отца, Арслан-Аргун, во время восстания, вначале для него благоприятного, был убит в Хорасане своим рабом, казалось, Беркяруку можно вздохнуть спокойно. Но это оказалось не так.
В течение правления султана Беркярука усобицы постепенно охватили всю страну. Повсюду возникали мятежи, особенно сильные в районах Исфахана, Хамадана, Рея, Себзевара, Мерва, Нишапура, Серахса, Шахрастана, Балха, Хорезма, Гургана. Там повсюду происходили столкновения между отрядами тюркской знати и войсками султана. В столице и во всей стране отсутствовала твердая власть. Все внимание Беркярука было направлено на подавление мятежей. При дворе, не стесняясь в средствах, интриговала знать. Историк Равенди говорит о том, что даже в армии султана вспыхивали мятежи и имело место неповиновение. А уже известный нам Ибн аль-Асир с горечью пишет, что результатом усобиц стали разрушение городов и гибель их мирного населения.
Султану требовалась большая и, что еще важнее, хорошо организованная и обученная армия. За счет каких слоев населения ее пополнять? Естественно, прежде всего за счет крестьян и ремесленного люда. Передвижение войск и их битвы приносили опустошения и разорения крестьянским полям. Скудел урожай, приходила в упадок торговля, торговцы и ремесленники боялись за свою жизнь.
Хайям видел, что положение народа становилось все хуже и хуже. Вместе с тем росли протест и недовольство низов. Прав был Хасан Саббах, когда предрекал ослабление гонений на исмаилитов после смерти Низам аль-Мулька и Малик-шаха. В течение двенадцати лет царствования Беркярука создались благоприятные условия для укрепления исмаилитов в уже запятых ими районах, освобождения от власти сельджуков новых областей и широкого распространения исмаилитской пропаганды.
После победы над Тутушем у Омара Хайяма имелись все основания предполагать, что новый правитель будет более справедлив к нему. Дело в том, что после смерти Изз аль-Мулька главным визирем Беркярука был назначен другой сын Низама, более всего на него похожий — Муайид аль-Мульк, знавший и благоволивший Хайяму. Муайид аль-Мульк Убейдаллах Абу Бакр среди сыновей Низам аль-Мулька слыл, пожалуй, самым даровитым, проявил себя как дипломат и полководец, блестяще знал арабский и персидский языки. Он оказал большую помощь Беркяруку в победе над Тутушем.
Не мог не помнить султан и об удачном лечении Хайямом его опасной болезни.
Не обремененному ни семьей, ни детьми (их ему заменяла наука, она же и «жена», которую он потом, уже испытав все разочарования, назовет «бесплодной дочерью Мудрости пустой»), ему сейчас надо было работать, воплощая и реализовывая себя в творчестве. За плечами годы, наполненные обретениями и потерями, радостью находок и горькими плодами разочарований, искренней дружбой и предательством и коварством. Уже есть знания, опыт. Время работать: сочинять, творить, открывать. Но… Люди озлоблены. В каждом видят врага. Всюду снуют доносчики. Неосторожный взгляд, слово — и ты из покровительствуемого превращаешься в гонимого.
Если труженик, в поте лица своего Добывающий хлеб, не стяжал ничего — Почему он ничтожеству кланяться должен — Или даже тому, кто не хуже его?Хайям вынужден «пресмыкаться втуне», в тягостных раздумьях писать рубаи. Они прежде всего для себя. Каждое выплеснувшееся на бумагу рубаи проецирует в себе ту работу, которая происходит в душе Хайяма, его меланхолию и тоску.
В этом суетном мире коварном, больном, Поит жизнь нас отравленным, мутным вином. Я хочу, чтобы яд меня долго не мучил, Осушить свою чашу единым глотком.Наверное, именно в это время начинается новое увлечение Хайяма суфийскими идеями. Суфийские взгляды найдут выражение в стихах, а в написанном позже философском «Трактате о всеобщности существования», сравнивая несколько групп «добивающихся познания господа», путь суфиев он назовет наилучшим.
…Глубокие реки тихо текут. Не в правилах Хайяма кричать на каждом углу, что он — сочинитель стихов. Подлинные поэты — это Фирдоуси, Рудаки, Ибн Сина… Присваивают себе высокое звание поэта и те, кто изощряется перед повелителями любых рангов в сочинении хвалебных касыд. А скромные строки Хайяма звучат, как ему кажется, только для него самого. Кому интересно, что творится в голове и сердце одинокого странника в этом мире? Так думает 47-летний Хайям.
К периоду между 1095 и 1098 годами относится появление довольно специфического для Омара Хайяма произведения «Науруз-наме». Любопытно оно тем, что было написано, судя по всему, по заказу Муайида аль-Мулька с целью изложения в популярной форме для Беркярука некоторых идей, важных для сторонников нового главного визиря султана. С другой стороны, Хайям включил в текст, предназначенный для султана, те мысли, которые волновали его самого.
В Персии издавна существовал обычай, в соответствии с которым автор специально писал книгу для верховного правителя. Если сочинение повелителю нравилось, автор удостаивался большой чести: ему преподносились богатые подарки, давали должность при дворе, одним словом, он мог рассчитывать на монаршескую милость. Но история помнит и другое. Иногда даже гениальные произведения не были оценены в свое время по достоинству. Так произошло со знаменитой «Шахнаме» Фирдоуси, которую отклонил султан Махмуд Газневи. До сих пор в Иране существует пословица: «От Махмудовой славы и следа не осталось, лишь легенда о том, что он не оценил труд Фирдоуси», в значении «плохое помнится долго».
«Науруз-наме» — интересный в политическом и пропагандистском плане трактат. Новая грань таланта Хайяма раскрывается и в стиле произведения, и в структуре работы, которая состоит из двух смысловых частей.
Господствующая, мода в то время требовала неординарного, причудливого письма именно в написании такого рода работ. И были великолепнейшие виртуозы в этом деле. Один из них — Абу-ль-Фадл Хамадани — мог написать, например, письмо, которое, если его прочитать задом наперед, одновременно содержит ответ; письмо, которое, если читать его наискосок, является стихотворением; письмо, которое в зависимости от толкования может быть либо похвалой, либо порицанием.
Хайям не стремился к такого рода словесной эквилибристике. Для иллюстрации своей мысли Омар Хайям обращается к поучительным рассказам и притчам, приводит исторические факты и медицинские советы, легенды, неправдоподобные анекдоты и мифические случаи.
И, кстати, надо отметить, что тенденции к такого рода письму наметились еще в начале XI века. А. Мец отмечает: «Появляется и нечто новое, выходящее за рамки чисто эпистолярного стиля, — это радость от самого повествования. Встречающиеся в разных местах в большей или меньшей степени отделанные анекдоты (у Хамадани) …могут служить примером этого нового явления.
Вот пример, как некий человек из Бухары, у которого потерялся осел, целеустремленно ищет некое внешнее знание, забывая о внутренней, скрытой сущности человека: «Он отправился на поиски осла, переправился через Амударью и искал его во всех постоялых дворах. Не найдя его там, он пересек Хорасан, добрался до Табаристана и Вавилонии, рыскал по всем базарам, но осла так и не нашел. Отказавшись от дальнейших поисков, он проделывает трудный и долгий путь домой. Заглянув как-то на конюшню, он увидел своего осла; под седлом и при уздечке, с шлеей под хвостом, затянутый подпругой, он преспокойно похрустывал кормом».
И подобный стиль начинает встречаться во многих сочинениях ученых Востока средних веков. Широко использует его, например, Бируни в своих «Памятниках минувших поколений». По-видимому, Омар Хайям считал, что без легенд и анекдотов, столь привычных для тогдашнего читателя, и в частности, для высокопоставленных особ, книга утратит увлекательность и не решит поставленных целей. Кроме того, надо помнить, что книга предназначалась для Беркярука, который, по свидетельству очевидцев, особым интеллектом не блистал.
Есть и другая сторона, которую очень тонко подметил и учел при работе над книгой Омар Хайям. Не зря, очевидно, в ней раскрываются периоды славы и блеска из истории правления иранских царей. Предполагалось, что Беркяруку, читающему «Науруз-наме», это не будет неприятно, а напротив — напомнит о былой славе его предков, тюрков по происхождению, которые сумели покорить столь образованный народ с глубокими традициями.
Хайям свою задачу формулирует следующим образом: «В этой книге раскрывается истина Науруза, в какой день он был при царях Ирана, какой царь установил его и почему его справляют, а также другие обычаи царей и их поведение во всех делах».
Главную проблему надо формулировать в самом начале. Этому правилу и следует Хайям. В первой главе, рассказывая об истории календарных реформ в Иране, о том особом внимании, которое проявляли предыдущие правители, начиная с мифических основателей страны, Омар Хайям то прямо, то косвенно обосновывает необходимость продолжения астрономических наблюдений, возобновление деятельности Исфаханской обсерватории.
Учитывая психологические особенности своих возможных читателей, автор использует такие доказательства и аргументы, которые окажут на них наиболее благоприятное воздействие.
Вот, например, одно из косвенных доказательств превосходства солнечного календаря над лунным, которое использует Хайям: «…всевышний Изад (т. е. бог) создал солнце из света, а с помощью солнца он сотворил небо и землю. Все люди чтят солнце, так как оно есть свет из светов всевышнего Изада, они смотрят на него с торжественностью и почтением, так как всевышний Изад обратил больше внимания на сотворение его, чем на сотворение всего остального».
Таким же образом Хайям использует и другой аналогичный аргумент, построенный на ассоциации понятий «Науруз», «царь», «благополучие», «ученый»: «Когда проходят четыре части большого года, совершается Науруз и происходит обновление состояния мира. У царей имеется обычай — в начале года им необходимо произвести определенные церемонии для благословения, установления даты и наслаждения. Тот, кто в день Науруза празднует и веселится, будет жить до следующего Науруза в веселье и наслаждении. Эту практику для царей установили ученые.
Наконец, еще один психологический прием — контраст использует Хайям для подтверждения своей мысли о необходимости продолжения работы над календарем. Он противопоставляет счастливых, мудрых и преуспевающих царей, ценивших значение астрономии, тем правителям, которые не понимали значения этой науки: «Через четыреста двадцать один год царствования Джемшида… солнце в своем фарвардине вошло в начало Овина. Таким образом, мир пришел в равновесие. Джемшид подчинил дьяволов и приказал устроить бани и производство парчи. …Люди разумом и опытом в течение времени дошли до до такого состояния, какое мы видим теперь. Далее Джемшид скрестил осла и лошадь и получил мула. Он добыл в копях драгоценные камни и сделал все виды оружия и украшений.
Он устроил праздник в упомянутый нами день, дал ему название «Науруз» и приказал людям праздновать каждый год появление нового фарвардина и считать этот день новым (годом) до тех пор, пока не произойдет большой оборот (Солнца). В этом и состоит истина Науруза».
Эта важная первая глава, в которой в нарочито драматических тонах описывается история календарных реформ в Иране, заканчивается восхвалением отцу Беркярука: «Счастливый султан, опора веры Малик-шах… приказал установить старый високос и возвратить год на свое место. Для этого он призвал ученых того времени из Хорасана. Они соорудили все необходимое для наблюдения — возвели стены, установили астролябии и тому подобное — и перенесли Науруз в фарвардин». И вот здесь Хайям формулирует перед новым султаном свою проблему: «Но время не дало возможности султану закончить это дело, и високос остался незаконченным». Эффектная концовка, в которой косвенно намекается, что Беркярук, как наследник своего славного отца, должен завершить это дело!
Но Хайям, как умный психолог, достигший эффекта в драматизации ситуации в тексте, делает неожиданный поворот: «Теперь кратко расскажем о некоторых обычаях царей Ирана, а затем снова вернемся к вопросу о Наурузе…». Он понимает, что оптимальность воздействия текста зависит от уровня разнообразия при сохранении целостности основной структуры. Проблему положения ученых Хайям решает изложить уже с другой точки зрения. Для этого он пишет своего рода обобщенный портрет обычаев царей Ирана, причем для более эффективного влияния выделяет три пункта: некоторые личностные характеристики, отношение к науке и ученым, социально-политические идеи. Излагая последние, очевидно, Омар Хайям выполнял указания Муайид аль-Мулька, поскольку эти мысли очень близки к духу «Сиасет-наме». Все эти три пункта взаимно переплетены, что действительно создает своего рода портрет.
Начинается глава с простейшего тезиса: «Цари Ирана во все времена имели такой порядок: накрыть стол как можно лучше… Различные виды супа, жаркого, разнообразная халва, пиво — все это установлено ими». Далее следует вывод, с которым должен был согласиться любой высокопоставленный сановник: «Эти хорошие обычаи показывали их великодушие».
Заручившись таким согласием, Хайям формулирует важную для него мысль: «Другие обычаи царей Ирана: справедливость, возведение зданий, обучение наукам, занятия философией, покровительство ученым — во всем этом они проявили большое усердие». Поскольку этот пункт {особенно насчет занятий философией) не столь бесспорен, как первый, автор привлекает популярную у государей и царедворцев идею, сформулированную в свое время Низам аль-Мульком в таких выражениях: «Другие обычаи: они посадили в каждом городе и в каждой области людей, чтобы те сообщали царю о всяком известии и обо всем, что случалось среди людей». Опять-таки подобную мысль не мог не поддержать в это неспокойное время Муайид аль-Мульк.
Высказав такое мнение, Хайям возвращается к проблеме, которая волновала его и других ученых и отклик на которую он хотел найти у своих высокопоставленных читателей: «…кусок хлеба, который они давали слуге, не брали обратно и согласно обычаю давали в свое время каждый год и каждый месяц. Если же кто-нибудь умирал и после него оставался сын, который мог бы выполнить ту же службу, они передавали ему хлеб его отца».
Так как по-прежнему Хайям мечтал о возобновлении деятельности Исфаханской обсерватории, то он возвращался к этой теме, волновавшей его уже давно. Но теперь Хайям формулирует ее более непосредственно: «Но сын царя в этом отношении был еще более ревностен, чем его отец, чему было несколько причин: он говорил, что сыну еще более необходимо закончить недоделанное дело своего отца, объясняя, что, поскольку мы сели на трон отцовского царства, нам более удобно сделать это, чем ему».
Наконец, Хайям вновь повторяет, правда, косвенно, тезис о бедственном положении, в котором оказались его коллеги по обсерватории: «Если они (то есть цари Ирана. — Авт.) приказывали выдавать жалованье и пособие человеку, они выдавали ему это жалованье каждый год без его требования».
Таким образом, первые две главы, как бы дополняющие друг друга, с точки зрения автора, играют очень важную роль в осторожном, гибком, но настойчивом формулировании требований к правителю в отношении улучшения той группы людей, к которой принадлежал Хайям. Психологический талант автора проявляется и в учете особенностей своих высокопоставленных читателей, и в учете требований политической ситуации того конкретного времени.
Остальная часть «Науруз-наме» выполняет подчиненную роль, создавая соответствующий фон, позволяющий читателю лучше усвоить идеи, изложенные в первых двух главах. Эта часть в большей степени рассчитана непосредственно на Беркярука, поскольку в ней говорится об атрибутах султанской власти. Поэтому здесь и очень простой язык, и множество образных вставок. Но и в этих разделах высоко проявляется искусство Хайяма как психолога, целеустремленно стремящегося посредством текста воздействовать на читателя. Порой вроде бы совсем незаметно он напоминает необходимые ему тезисы, чтобы султан и его вельможи не забыли о главных идеях произведения.
Омар Хайям пишет, что в день Науруза «первый человек не из семьи царя, мубад мубадов»[32] приходил к царю с золотым кубком, полным вина, с перстнем, дирхемом и царским динаром, охапкой ростков ячменя, мечом, луком и стрелой, чернильницей и пером, восхвалял и благодарил его: «О царь! В праздник фарвардина в месяце фарвардине будь свободным для Йаздана и религии Каев. Суруш[33] внушил тебе ученость, проницательность, знания, живи долго с характером льва, будь весел на золотом троне, вечно пей из чаши Джемшида, соблюдай обычай предков с великодушием и добродетелью, будь справедливым и правым, пусть твоя голова не седеет, пусть твоя молодость будет похожа на ростки ячменя, пусть твой копь будет резвым и победоносным, пусть твой меч будет блестящим и смертельным для врагов, пусть твой сокол будет удачливым на охоте, пусть твое дело будет прямым, как стрела, овладей еще одной страной, будь на троне с дирхемом и динаром, пусть талантливый и ученый человек ценится у тебя и получает жалованье (подчеркнуто нами. — Авт.), пусть твои дворец будет цветущим и твоя жизнь долгой».
После этой речи мубад мубадов отведывал вина и давал кубок царю, в другую руку вкладывал ростки ячменя, клал у его трона динар и дирхем. «Этим он желал, чтобы, если в день Науруза, в новый год, вельможи видят что-либо первым взглядом, они были бы веселы и радостны до следующего года и были бы с этими вещами в счастье. Это благословенно для них, так как вещи, предложенные царю, являлись причиной радости и процветания мира».
Далее, рассказывая об этих «вещах, предложенных царю», то есть атрибутах царской власти, Хайям предстает в новом обличье: он и знаток этнографии и культуры Персии, остроумный и лукавый рассказчик, и лекарь-наперсник, и ментор с иронической закваской, и просто шутник.
Он знает, для кого он пишет. Поэтому здесь Хайям дает порой волю своей фантазии и делает акцент на то, что ныне мы назвали бы «сенсационностью». Вот небольшие фрагменты из его назидательного трактата, позволяющие оценить разнообразие знаний Хайяма и его талант рассказчика.
О золоте
«Одно из свойств золота есть то, что его лицезрение дает свет глазам и радость сердцу, другое — то, что оно делает человека смелым и укрепляет ум, третье — то, что оно увеличивает красоту лица, освещает молодость и отдаляет старость, четвертое — то, что оно увеличивает удовольствие и делает его более ценным в глазах людей». Это, так сказать, духовная польза желтого металла.
Но есть еще и телесная польза: «…если кормить малого ребенка молоком из золотого кувшина, он начинает хорошо говорить и нравиться сердцу людей, он становится мужественным… увеличивается сила зрения… Питье из золотого кувшина предохраняет от водянки и веселит сердце… Каждую слабость сердца от горя или беспокойства можно вылечить золотом и серебром…» Несомненно такие советы могли прийтись по нраву высокопоставленным и богатым сановникам сельджукского двора.
«Цари Ирана так высоко ценили золото, что никому не давали двух золотых вещей: одна из них — чаша, а другая — стрела».
О признаках кладов
«Если в земле находится сокровище или клад, в этом месте снег не остается и тает… Если видят ветвь кунжута или баклажана у подножия горы вдали от жилья, также определяют, что там клад… Если видят множество коршунов, но нет падали, определяют, что там клад. Если идет дождь, и на одном участке земли, на котором нет углубления, собирается вода, определяют, что там клад… Если видят, что пчелы собираются в одном месте в необычное время, или видят дерево, одна ветвь которого растет отдельно от всех ветвей в каком-то направлении, причем эта ветвь больше других ветвей, определяют, что там клад».
О перстне
Хайям начинает здесь с довольно явного саркастического замечания: «Перстень на пальце вельмож говорит об их полном благородстве, силе мысли и правильности решений…» Почему же? А потому, едко отвечает Хайям, «что тот, кто имеет полное благородство, пользуется печатью». Сарказм проявляется не только в том, что в то время, пожалуй, не было сановников, не имевших перстней с печаткой. И не только в том, что особенно в то время «благородство» этих людей проявлялось в коварстве, интригах, убийствах из-за угла. Дело еще и в том, что многие высокопоставленные придворные были попросту неграмотны и печатка перстня часто заменяла им подпись на тех или иных документах. «Кто обладает силой мысли, тот не бывает нерешительным, а тот, кто решителен, не бывает без печати».
«Перстни бывают многих видов, но для царей годны перстни только с двумя драгоценными камнями. Один из них — яхонт, являющийся частицей солнца. Другой из этих камней — бирюза».
О ростках ячменя
«Цари Ирана считали ростки ячменя хорошей приметой, так как от ячменя много пользы… Мудрецы и отшельники питаются ячменем. Говорят, что при питании им кровь никогда не портится и нет нужды в кровопускании. Он также предотвращает болезни крови и желчи. Врачи называют ячменную водку благословенной водой. Она полезна против двадцати четырех известных видов болезней… Если у кого судорога в ногах и коленях, ему нужно поставить ноги в ячменную водку, и он вылечится… а если положить ячменные отруби в котел и хорошо прокипятить, это очень полезно для того, у кого слабые кости ног… Говорят, что, если возможно посеять ячмень ночью во время затмения Луны, сеют, и хлеб из него полезен для сумасшедших».
«Будет ли год хорошим или плохим, определяется при помощи ячменя. Если ячмень растет прямо и дружно, это указывает на то, что год обильный, а если он растет криво, недружно, значит, год неурожайный. Есть предание о том, что пророк — мир над ним! — говорил: „Лучший из всех хлебов — ячменный хлеб. Кто удовлетворяется этим, он его насыщает, так как это мой хлеб и хлеб других пророков“».
О мече
«Меч есть орудие храбрости, являющейся наибольшей добродетелью и среди людей, и среди животных… Символ храбрости выразили в виде сильного зверя с головой, похожей на голову льва, грызущего железо, ногами, похожими на ноги слона, дробящего камень, и хвостом, похожим на голову огнедышащего дракона. Говорят, что храбрый человек должен быть в начале сражения похож на льва по своей смелости и натиску, в середине сражения — на слона по своему терпению, напряжению и внушительности, а в конце сражения — на дракона по своему гневу, терпению к страданию и ожесточенности».
О стреле и луке
Здесь любопытен момент, где Хайям указывает на глубокие традиции изучения звездного неба: «Форму лука взяли по форме частей неба, потому что ученые назвали части небесного круга дугами, то есть луками. Прямые линии, соединяющие один конец каждой дуги с другим концом, называют хордами[34], то есть тетивами, а линию, выходящую из центра небесного круга и проходящую через середину дуги по его ширине, называют стрелой. Говорят, что всякое добро и зло, приходящее на землю под действием светил и по предопределению и воле всевышнего творца и посланное к какому-нибудь человеку, проходит через эти хорды и дуги, подобно тому как в руках стрелка каждое бедствие его дичи попадает к ней от стрелы, проходящей через тетиву и лук».
О пере
Хайям вновь здесь напоминает о значении грамотных и образованных людей для функционирования государства: «Ученые назвали перо украшением царства и посланием сердца. Слово без пера похоже на душу без тела, а когда оно связывается с пером, оно соединяется с телом и сохраняется навсегда. Оно похоже на огонь, выскакивающий из кремня и стали и без труда не загорающийся и не становящийся светильником, от которого получают свет. Халиф Мамун сказал: „Да благословит Аллах перо. Как может моя голова управлять страной без пера? Оно служит воле, не стремясь к вознаграждению и оплате. Оно говорит, прогуливаясь по земле. Его белизна омрачает, а его чернота освещает“. …Человек, владеющий достоинством речи, но не владеющий достоинством письма, несовершенен. Для того, чтобы хорошо писать, надо много писать».
О коне
«Говорят, что среди четвероногих нет лучше коня, ибо он — царь всех пасущихся четвероногих. Пророк — мир над ним! — сказал: „Благо написано на лбах коней“. Персы называли коня ветротелым, румийцы — ветроиогим, тюрки — шагающим и осчастливливающим, индийцы — летающим троном, арабы — Бураком[35] на земле».
О соколе
«Сокол является другом охотничьего загона царей… Предшественники говорили, что сокол — царь плотоядных животных, как царь травоядных животных — конь, царь минералов — яхонт, царь металлов — золото».
«Когда сокол сразу садится па руку и смотрит в лицо царя, это значит, что тот овладеет новой областью… Если он посмотрит правым глазом на небо, возвысятся дела царства. Если посмотрит левым глазом, будет ущерб. Если он долго посмотрит на небо, это означает победу и триумф. Если он долго посмотрит на землю, это означает занятость».
О пользе вина
«Некоторые прозорливые называют вино пробным камнем мужественного человека. Некоторые называют его критиком разума, некоторые — мерилом знания, некоторые — критерием таланта. Большие люди называли вино смывающим горе, а некоторые — веселящим горе».
Здесь любопытно для сравнения вспомнить целую серию четверостиший Хайяма, где тема вина служит фоном для выражения той или иной философской идеи автора или формой выражения его сарказма. Попутно читатель еще раз убедится, как неосновательны попытки найти в стихах Хайяма апологию разгульного пьянства. Иные из рубаи, связанные с темой вина — это скорей диагноз стороннего наблюдателя, чем застольный выклик сотрапезника, диагноз, удивительный своей меткостью и принадлежащий тонкому и достаточно скептическому аналитику.
Поток вина — родник душевного покоя, Врачует сердце он усталое, больное. Потоп отчаянья тебе грозит? Ищи Спасение в вине: ты с ним в ковчеге Ноя. Мы пьем не потому, что тянемся к веселью, И не разнузданность себе мы ставим целью. Мы от самих себя хотим на миг уйти И только потому к хмельному склонны зелью. Прочь мысли все о том, что мало дал мне свет. И нужно ли бежать за наслажденьем вслед! Подай вина, саки! Скорей, ведь я не знаю, Успею ль, что вдохнул, я выдохнуть иль нет. Налей вина, саки! Тоска стесняет грудь; Не удержать нам жизнь, текучую, как ртуть. Не медли! Краток сон дарованного счастья. Не медли! Юности, увы, недолог путь. Полету ввысь, вино, ты учишь души наши. С тобой, как с родинкой, красавец Разум краше. Мы трезво провели весь долгий рамазан, — Вот, наконец, Шавваль. Наполни, кравчий, чащи! Трезвый, я замыкаюсь, как в панцире краб. Напиваясь, я делаюсь разумом слаб. Есть мгновенье меж трезвостью и опьяненьем. Это — жизнь, и я — ее раб! Стоит царства китайского чарка вина, Стоит берега райского чарка вина. Горок вкус у налитого в чарку рубина — Эта горечь всей сладости мира равна. Все недуги сердечные лечит вино. Муки разума вечные лечит вино. Эликсира забвения и утешенья Не страшитесь, увечные, — лечит вино! О вино! Ты прочнее веревки любой. Разум пьющего крепко опутан тобой. Ты с душой обращаешься, словно с рабой. Стать ее заставляешь самою собой.«В нем (то есть в вине. — Авт.) много пользы для людей, но его грех больше его пользы. Мудрому нужно жить так, чтобы его вкус был больше греха, чтобы не мучиться, упражнениями он доводит свою душу до того, что с начала питья вина до конца от него не происходит никакого зла и грубости ни в словах, ни в поступках, а только добро и веселье. Когда он достиг этой ступени, ему подобает пить вино». Можно думать, что между строк Хайям пытается сопоставить ортодоксальный мусульманский запрет вина с иными, куда более стеснительными запретами догматиков ислама, имеющими в эксплуататорском обществе вполне определенный социальный контекст.
Запрет вина — закон, считающийся с тем, Кем пьется, и когда, и много ли, и с кем. Когда соблюдены все эти оговорки, Пить — признак мудрости, а не порок совсем. Пить Аллах не велит не умеющим пить, С кем попало, без памяти смеющим пить, Но не мудрым мужам, соблюдающим меру, Безусловное право имеющим пить! Хочешь — пей, но рассудка спьяна не теряй, Чувства меры спьяна, старина, не теряй. Берегись оскорбить благородного спьяну, Дружбы мудрых за чашей вина не теряй. Не запретна лишь с мудрыми чаша для нас Или с милым кумиром в назначенный час. Не бахвалься пируя и после пирушки: Пей немного. Пей изредка. Не напоказ. Если сердце мое отобьется от рук — То куда ему деться? Безлюдье вокруг! Каждый жалкий дурак, узколобый невежда, Выпив лишку — Джемшидом становится вдруг.Пусть не посетует читатель на столь обширную выдержку из этого трактата Хайяма и его рубайята: великий поэт и мыслитель заслуживает того, чтобы снять с него столь же распространенное, как и необоснованное обвинение в воспевании хмельного загула.
О свойствах красивого лица
«Красивое лицо ученые считают большим счастьем и его лицезрение — хорошей приметой… Красота лица людей является частью влияния счастливых светил, достигающего людей по повелению всевышнего Изада. Красота восхваляется на всех языках и приятна всякому разуму».
«Каждый определяет для себя красивое лицо и дает ему свое название… Что касается ученых и философов, то они говорят, что оно есть доказательство божественного создания и желания изучать науку. Оно является следом творца и показывает доброту его сущности. Сторонники учения о переселении душ говорят, что лицо является почетным халатом творца, знаком его награждения за чистоту и добродетели, совершенные его рабом в прежней жизни. Творец своим светом дарует ему красивое лицо. Что касается обладающих знаниями, то они говорят, что лицо является отражением свечи, освещающим свечу. Некоторые говорят, что оно является лаврами головы и дождем милосердия, освежающим сад знания и заставляющим распускаться дерево старости. Некоторые говорят, что оно является знаком истины, показывающим исследователям правду, чтобы с помощью этой правды они вернулись к истине».
Достигла ли книга своего адресата, и если да, то какой отклик она вызвала — мы не знаем. Судя по всему, надежд Хайяма она не оправдала. И дело не в самой книге. В период 1098 и 1099 годов начинается новый драматический поворот в судьбе Омара Хайяма. Отношения между Беркяруком и Муайид аль-Мульком накаляются до такой степени, что визирь вынужден бежать.
Когда после победы над Тутушем Беркярук послал слугу за своей матерью Зубайдой-хатун, резкий на язык
Муайид в присутствии нескольких эмиров заявил, что «этой развратной женщине» не место в столице султаната. Когда она прибыла, ей тут же передали сказанное. Она затаила против визиря злобу и стала настраивать против него молодого султана.
Однако решающую роль в смещении Муайида сыграл его старший брат Фахр аль-Мульк, враждовавший с ним из-за отцовского наследства. По наущению мустауфи султана аль-Маджда аль-Кумми Фахр аль-Мульк оговорил визиря перед Беркяруком, и тот был смещен со своего поста, закован и взят под стражу. Однако ему удалось бежать, и он вскоре отправился в Гянджу, столицу Аррана, к принцу Мухаммеду. Визирем же Беркярука стал Фахр аль-Мульк.
Еще во время осады Исфахана, где находились Туркан-хатун и ее сын Махмуд, Мухаммад со своей матерью уехал к Беркяруку, который и наделил его Гянджой и ее округами в качестве икта. Так в 14 лет Мухаммад стал наместником провинции Арран, присоединенной к государству Малик-шахом во время войны в Армении. К нему был приставлен атабек, но рано созревший для политики принц от него очень быстро отделался. В 1097 году Беркярук сделал наместником Хорасана брата Мухаммеда — Санджара.
Муайид аль-Мульк был сразу назначен визирем. По его совету Мухаммад прекратил упоминать имя Беркя-рука как султана в хутбе и в конце 1099 года выступил против султана.
Когда Мухаммад стал приближаться к Исфахану, то многие эмиры Беркярука покинули его, предварительно ограбив палатки султана и его матери. Султан бежал в Рей, а оттуда снова в Исфахан, но жители города не впустили его, и он отправился в Хузистан. Когда Рей был взят Мухаммадом, Муайид аль-Мульк сразу же заточил в крепость Зубайду-хатун и через несколько дней приказал ее удавить. Халиф же, получив известие о легкой победе Мухаммада, приказал молиться за последнего как султана.
Так началась пятилетняя фаза наиболее ожесточенной междоусобицы в стране между Беркяруком и Мухаммадом, которому помогал его брат Санджар. Война то разгоралась, то стихала непрочным миром, чтобы вновь вспыхнуть с еще большим ожесточением.
В мае 1100 года на берегу реки Сефид-руд, недалеко от Хамадана, произошло сражение между войсками Мухаммада и Беркярука. Последний был наголову разбит и бежал с 50 всадниками в Нишапур, где надеялся получить поддержку от своего сторонника — правителя города Хабаши.
В апреле 1101 года состоялась новая битва между соперниками. Теперь соотношение сил оказалось иным: Беркярук сумел за год без малого собрать целых 50 тысяч воинов, а Мухаммед — только 15 тысяч. Беркярук, естественно, одержал победу, Муайид аль-Мульк попал в плен. Мстя за свою мать, Беркярук собственноручно зарезал бывшего своего советника.
О следующем событии историк аль-Хусайни пишет: «Они сошлись (для сражения) у города Рудравара, но затем разошлись без боя и договорились о мире, который (вслед за тем) был заключен». Султаном оставался Беркярук, а Мухаммад — наследником. Но последнего такое решение не удовлетворило, и он приказал умертвить тех своих эмиров, которые выступили инициаторами перемирия. Новый раунд войны стал неизбежен.
Четвертое сражение между братьями по отцу произошло в апреле 1102 года. Беркярук разбил недалеко от Рея Мухаммада, а казна последнего была разграблена. Прибыв в Исфахан, Мухаммад стал поспешно укреплять город, восстановив стены и окружив его рвом.
У Мухаммада насчитывалось теперь всего 1100 всадников и 500 пехотинцев. Под знаменами Беркярука собралось 15 тысяч всадников. Осада продлилась до ноября и в городе съели всех лошадей и верблюдов. Аль-Хусайни отмечает: «Мухаммад испытал в этом городе большие беды». Однако ему все же удалось выйти из окружения и с небольшим отрядом бежать.
После очередного поражения Мухаммада был заключен договор, который формально закрепил разделение государства. Мухаммад, как верховный султан, получил, кроме Азербайджана и Северной Армении, еще Месопотамию с Мосулом и Сирию, а также верховенство над Санджаром, которому был отдан весь Хорасан. Таким образом, Беркярук удержал за собою лишь страну от Багдада и Басры до границы Джурджана также с полными правами верховной власти. Такой невыгодный мир для Беркярука был обусловлен двумя причинами: истощением его финансовых ресурсов и начавшейся у него чахоткой.
В результате ожесточенной внутренней пятилетней войны Иран и Ирак оказались в состоянии страшнейшей разрухи. Поскольку города, населенные пункты и целью провинции часто переходили из рук в руки, население подвергалось непрерывному грабежу. Воюющие армии вывозили подчистую продовольствие, безжалостно оставляя на голодную смерть целые округа. Историки пишут о распространяющемся все шире в этот период з целом ряде провинций каннибализме.
Экономическое опустошение привело к резкому росту социальной напряженности. Неуклонно расширялось в этот период исмаилитское движение. В 1099—1100 годах войска Хасана Саббаха без боя овладели крепостью Гирд-кух близ Дамгана. Здесь проходили важные караванные пути. Исмаилитская ересь проникла вскоре и в самое сердце государства — ее столицу Исфахан. Деятельностью исмаилитов в этом городе руководил сын Абд аль-Мелика Атташа — Ахмед. «У этого Абд аль-Малика Атташа был сын по имени Ахмед. Во времена своего отца он занимался торговлей холстом. Он заявлял, что мазхаб и веру отца отрицает и от него отрекается. Когда его отец бежал, его по этой причине не разыскивали», — сообщает Равенди. Это один из примеров приема «такийа» — когда исмаилит в случае опасности скрывает свои истинные убеждения и даже открыто от них отмежевывается.
В городах Хорасана и Ирака шли ожесточенные вооруженные столкновения между представителями различных мазхабов и сект. Все чаще стали происходить под религиозным знаменем кровопролитные бои между различными племенами, этническими группами. Одиннадцатый век вообще оказался небывало обильным на религиозные распри. Но последнее десятилетие в этом отношении выдалось особенно значительным.
Всюду, во всех слоях общества царила атмосфера ожесточения, подозрительности, неуверенности в окружающих и в завтрашнем дне. Как всегда бывает в периоды социальных кризисов, рушатся принятые в обществе ценности справедливости, дружбы, разума, добра, человеческого участия. Наблюдая за тем, что происходило вокруг него, Хайям с горечью писал:
Тот, кто следует разуму, — доит быка, Умник будет в убытке наверняка! В наше время доходней валять дурака, Ибо разум сегодня в цене чеснока. Встань и полную чашу налей поутру, Не горюй о неправде, царящей в миру. Если б в мире законом была справедливость — Ты бы не был последним на этом пиру. В этом мире не вырастет правды побег. Справедливость не правила миром вовек. Не считай, что изменишь течение жизни. За подрубленный сук не держись, человек! Так как разум у нас в невысокой цене, Так как только дурак безмятежен вполне — Утоплю-ка остаток рассудка в вине: Может статься, судьба улыбнется и мне! О небо, я твоим вращеньем утомлен, К тебе без отклика возносится мой стон. Невежд и дурней лишь ты милуешь — так знай же: Не так уже я мудр, не так уж просвещен.Насилие, клевета, доносы, всепроникающий страх становятся симптомами углубляющейся деградации общества, охватывая все группы населения.
В этом мире глупцов, подлецов, торгашей Уши, мудрый, заткни, рот надежно зашей, Веки плотно зажмурь — хоть немного подумай О сохранности глаз, языка и ушей! Если вдруг на тебя снизошла благодать — Можешь все, что имеешь, за правду отдать. Но, святой человек, не обрушивай гнева На того, кто за правду не хочет страдать!Понятия человеческой морали заменяются грубыми приказами силы, которая может выражаться в какой-либо узкой группе, клане, организации, личности.
Если есть у тебя для житья закуток — В наше подлое время — и хлеба кусок, Если ты никому не слуга, не хозяин — Счастлив ты и воистину духом высок. Миром правят насилие, злоба и месть. Что еще на земле достоверного есть? Где счастливые люди в озлобленном мире? Если есть — их по пальцам легко перечесть. Вы, злодейству которых не видно конца, В Судный день не надейтесь на милость творца! Бог, простивший не сделавших доброго дела, Не простит сотворившего зло подлеца.Эти пять-шесть лет, с 1098 по 1104 годы, пожалуй, наиболее трагичный период в жизни Омара Хайяма. После того, как его покровитель Муайид попал в опалу, а затем перешел на сторону злейшего противника Беркярука, Омар для султана и его сторонников превратился в одиозную фигуру: если даже не в прямого врага, то, во всяком случае, в достаточно подозрительную личность. Его опасались, ненавидели, сторонились. Уже по одной этой причине Омар Хайям мог оставить всякие надежды иа возобновление работы Исфаханской обсерватории. Но даже если бы двор Беркярука относился к нему с большей симпатией, денег он все равно бы не получил: кому нужны звезды на небе, когда деньги требуются на подарки эмирам, набор новых армий, укрепление шпионской сети?
Скажи, за что меня преследуешь, о небо? Будь камни у тебя, ты все их слало мне бы. Чтоб воду получить, я должен спину гнуть, Бродяжить должен я из-за краюхи хлеба.Впрочем, Мухаммаду и Санджару тоже дела не было до бывшего надима их отца, до какой-то обсерватории. Шла ожесточенная борьба за власть, а в такие периоды о завтрашнем дне, о будущем мало кто из властителей задумывается.
Травля Хайяма шла и с другой стороны. В это время позиции ортодоксального мусульманского духовенства, прежде всего ханифитского мазхаба, укреплялись. Столкнувшись с расширяющейся оппозицией исмаилитов, суннитские факихи усилили свое наступление, преследуя и открытых, и тайных своих противников. В их числе, естественно, был и Омар Хайям. Все громче на публичных религиозных диспутах его обвиняли в батынитской ереси, неуважении к шариату, неверии. Когда он проходил по улицам Исфахана, многие с ненавистью сплевывали, порой кидали в него камни, раздавались открытые угрозы.
Безучастно глядит небосвод голубой, Как под ним мудрецов истребляет разбой: Тесно чаша с бутылью слились в поцелуе, Хлещет кровь между ними багряной струей. О мудрец! Если тот или этот дурак Называет рассветом полуночный мрак — Притворись дураком и не спорь с дураками. Каждый, кто не дурак, — вольнодумец и враг!Но чаще Хайям даже не замечал растущей опасности для своей жизни. Он долгими часами бродил по городу, не раз ограбленному, голодающему, но все же пытающемуся продлить свое существование. Исчезли пышные и богатые базары, цветастое и многоязычное людское море на улицах, закрылись караван-сараи.
Голод собирал свою богатую жатву. Толпы нищих стояли и сидели на корточках на центральных улицах города, именем милостивого Аллаха прося хоть кусочек хлеба. Другие просто лежали, окруженные роем мух. Хайям понимал, что они уже не доживут до следующего утра, а их трупы вывезут за город и сожгут.
Кто-то дернул Омара Хайяма за его износившийся халат. Он повернулся. Мальчик лет восьми-девяти с гниющими воспаленными глазами молча протягивал ему руку. Другой рукой он держал слепого истощенного старика. Если бы остальные нищие увидели, что Хайям дает подаяние, то он был бы растерзан. Поэтому Хайям незаметно кивнул мальчику головой и медленно пошел дальше, и у небольшого проулка свернул. Здесь он вытащил из кармана один из последних своих дирхемов и протянул мальчику. Тот молча взял и отдал слепому. Старик, почувствовав, что им улыбнулась редкая удача, в знак благодарности начал читать суру из Корана. Читал он плохо, заикаясь и шамкая, с трудом открывая свой иссохший рот. Хайям резко повернулся и пошел дальше. Он понял, что ребенок со стариком долго не протянут.
Звездный купол — не кровля покоя сердец, Не для счастья воздвиг это небо творец. Смерть в любое мгновение мне угрожает. В чем же польза творенья? — Ответь наконец!Хайям был беден. Последние недели он брал с собой по 10—15 серебряных дирхемов, чтобы вот так раздать нищим детям. Но сегодня у него остались последние три монеты. Сами по себе его никогда не интересовали деньги, даже тогда, когда их можно было получить, не сделав никаких усилий.
Небольшие денежные запасы подошли к концу. Его знания, его ум никому не были нужны. Уроки он перестал давать, точнее, от его услуг отказались. Что делать? Но Хайям хорошо знал, что он не может сделать.
Лучше впасть в нищету, голодать или красть, Чем в число блюдолизов презренных попасть. Лучше кости глодать, чем прельститься сластями За столом у мерзавцев, имеющих власть.Голод, всегда сопровождается равнодушием, смешанным со страхом. А Хайям знал, что страх в критических ситуациях легко превратить в тупую, безжалостную ненависть. Вельможи Беркярука, многочисленные факихи и стремились страх людей, превратив в ненависть, направить против исмаилитов. Появились страшные слухи, которым, однако, охотно верили. И чем страшнее и неправдоподобнее они были, тем охотнее верили потерявшие всякую надежду люди. Чего проще, когда вокруг чудовищная неопределенность, замешенная на явной несправедливости, подсказать, кто виноват.
Но трагедия Хайяма заключалась не только в тех драматических внешних обстоятельствах, в которых он очутился. И даже не столько в них. Давал знать себя и возраст — в 1098 году он перевалил за пятидесятилетний рубеж. Время, когда человек начинает более остро чувствовать не только обычную телесную, физическую усталость, но и ту внутреннюю усталость, усталость от сомнений, разочарований, мыслей, чувств, которая накапливается за долгие годы.
Небо — пояс загубленной жизни моей. Слезы падших — соленые волны морей, Рай — блаженный покой после страстных усилий, Адский пламень — лишь отблеск угасших страстей.Главная причина крылась в мучительном мышлении самого Омара Хайяма. Судьба бросила вызов многим его ценностям, убеждениям, принципам. События, которые произошли в его жизни, после смерти Низам аль-Мулька. и Малик-шаха, мало-помалу столкнули его в такую бездну сомнений, в которой он никогда до этого не оказывался.
И речь вовсе не идет о том, что он лишился того видимого комфорта в жизни, каким был окружен, будучи на-димом султана и руководителем обсерватории. Он вообще равнодушно относился к своему материальному благосостоянию. Речь не идет также о том, что он потерял свой социальный статус лица, приближенного к высшим сферам государственной власти. К этому он также был безразличен. Речь не идет и о том, что он потерял относительную безопасность. Борьба при дворе шла постоянно — и он не раз видел, что еще вчерашние любимцы судьбы оказывались в ссылке, в темнице, а то и вовсе лишались головы. Ему самому очень часто приходилось быть особенно осторожным и гибким, чтобы не быть перемолотым жерновами дворцовых интриг.
Нет, суть заключалась в другом. Мироощущение Омара Хайяма, его относительная целостность как личности формировались в период пребывания в Мавераинахре и в Исфахане. И это мировосприятие основывалось все же на рационалистических принципах и посылках. Как мудрый человек, Хайям понимал, конечно, относительность этой рациональности, ограниченность этой логики и, возможно, даже находил ей оправдание.
В научной своей деятельности Омар Хайям искал аргументы, подкрепляющие его рационализм математика, астронома, врача в двух направлениях. В молодости он убеждал самого себя, что недостатки рационального мышления определяются нехваткой конкретных знаний, отсутствием экспериментальной базы, неадекватностью существующих методов и методик. В ходе своей дальнейшей работы как ученого, а также во время дискуссий со своими идеологическими противниками и в результате каждодневных наблюдений он начал осознавать, что проблемы лежат гораздо глубже, нежели он предполагал. Рационализм логического мышления оказался пронизан глубокими противоречиями: отчужденность субъекта мышления от его метода (что, кстати, по мнению Хайяма, суфизм преодолевал); отчужденность метода от моральной сферы жизнедеятельности человека (ведь логика может быть использована и во имя добра, и во имя зла; причем зло может быть названо добром, а добро — злом, и логика это может обосновать); отчужденность метода от реальной сложности объекта (чтобы действительно рационально исследовать нечто, нужно заведомо ограничить объект) ; отчужденность метода от предельных проблем человечества (например, в соответствии со своими же критериями рациональное мышление не может корректно ответить на такие конечные вопросы: кто мы? откуда мы? куда мы идем?).
Еще в 70-е и 80-е годы Хайям стремился найти ответы на эти проблемы. Он перечитывал труды Абу Али ибн Сины, Пифагора, Плотина, Платона, Сократа, египетских гностиков. Ночи просиживал над трудами суфийских мудрецов и работами по эзотерическому учению исмаилитов.
И тем не менее, пусть с определенными оговорками, рационализм оставался основой его мышления и мироощущения. Но когда страна оказалась в состоянии тяжелейшего кризиса и народ оказался под прессом опустошающей междоусобицы, уже и социальные институты, обеспечивавшие какой-то минимум рациональности общественной жизни, стали рушиться, наступил перелом в сознании Омара Хайяма. Невежество, несправедливость, подлость перешли в наступление в обществе.
Увы, от мудрости нет в нашей жизни прока, И только круглые глупцы — любимцы рока. Чтоб ласковей ко мне был рок, подай сюда Кувшин мутящего нам ум хмельного сока. Будь милосердна, жизнь, мой виночерпий злой! Мне лжи, бездушия и подлости отстой Довольно подливать! Поистине из кубка Готов я выплеснуть напиток горький твой.Тяжкие сомнения в значимости своего пути терзают Омара Хайяма. Иногда ему кажется, что невзгоды в его жизни и постоянная неуспокаивающаяся боль в душе — это доказательство того, что он не прав, грешен. «Может быть, это одновременно свидетельство правоты людей Сунны, — порой думал Хайям. — Может быть, действительно я еретик, не повинующийся богу? Я все время стремился видеть и изучать мир сложнее, чем он мне кажется. И кто знает — может быть, все гораздо проще…
Я раскаянья полон на старости лет. Нет прощения мне, оправдания нет. Я, безумец, не слушался божьих велений — Делал все, чтобы только нарушить запрет! Пусть я плохо при жизни служил небесам, Пусть грехов моих груз не под силу весам — Полагаюсь на милость Единого, ибо Отродясь никогда не двуличничал сам!Именно в этот период Омар Хайям совершает хадж (паломничество) в Мекку. Это был шаг человека, отчаявшегося, казалось, сокрушенного обстоятельствами, но все-таки не сдавшегося. Для самого Хайяма требовалось время, чтобы выйти из того внутреннего духовного тупика, в котором он оказался, но в то же время не изменить самому себе. Постоянная неудовлетворенность собой и своим творчеством, усугубленная глубочайшим неверием и ядовито-сладкими цветами скепсиса, влечет творца к тому таинственному огню, в котором он может либо сгореть, либо вновь возродиться.
Даже его противники обвиняют ею в том, что, совершив хадж — благородный поступок благочестивого мусульманина, — тем не менее Хайям остался Хайямом. Историк и правоверный суннит Джамал ад-Дин ибн аль-Кифти, резко отрицательно относящийся к Омару Хайяму, пишет в своей «Истории мудрецов»: «Когда же его современники очернили веру его и вывели наружу те тайны, которые он скрывал, он убоялся за свою кровь и схватил легонько поводья своего языка и пера и совершил хадж по причине боязни, не по причине богобоязненности, и обнаружил тайны из тайн нечистых. Когда он прибыл в Багдад, поспешили к нему его единомышленники по части древней науки, но он преградил перед ними дверь преграждением раскаявшегося, а не товарища по пиршеству. И вернулся он из хаджа своего в свой город, посещая утром и вечером место поклонения и скрывая тайны свои, которые неизбежно откроются. Не было ему равного в астрономии и философии, в этих областях его приводили в пословицу: о если бы дарована была ему способность избегать неповиновения богу!»
…Скрипит песок под копытами лошадей, верблюдов, ослов. Огромный караван паломников из Хорасана направляется в священную Мекку, чтобы поклониться Каабе в мечети аль-Хирам и испить воды из благословенного источника Зем-зем. Несколько тысяч человек направляются с этим ежегодным весенним караваном на юг — родину великого пророка Мухаммеда. Здесь много и богатых людей. У каждого десятки верблюдов с поклажей, несколько лошадей, бараны. Но много и бедных — тех, которые с помощью соседей всего квартала собрали необходимые припасы для такого святого путешествия. Ата-бек султана Санджара дал отряд конных воинов для охраны. Путь в Мекку всегда был небезопасен, а в нынешние смутные времена тем более. Не раз уже было — разбойники грабили караван, а паломников распродавали на невольничьих рынках.
Хайям ехал на коне, купленном на деньги немногих верных, не отвернувшихся от него в трудные времена, друзей, оставшихся в Исфахане. Он всю дорогу молчал, весь уйдя в свои мысли. Паломники с глубоким уважением и трепетным благоговением смотрели на его сумрачную, чуть сутулую фигуру. И тому была веская причина: ведь этот молчаливый мудрец (а некоторые даже за глаза со страхом называли его колдуном) спас караван от страшного и коварного врага.
…Это произошло на пятый день пути. Ближе к закату солнца, когда предводитель каравана уже послал несколько воинов вперед, чтобы они подыскали удобное место для ночной стоянки, стало известно, что пять паломников заболели. У всех больных были одинаковые симптомы: высокая температура, воспаленные глаза, они с трудом говорили и изредка жаловались на головные боли и головокружение.
Шейх велел собрать тех, кто мало-мальски знает толк во врачевании. Последним подъехал Хайям. Каждый из табибов или притворявшихся таковыми предлагал свои средства. Они важно и степенно спорили о преимуществах того или иного метода лечения. Предводитель паломников, сидя на высоком красивом верблюде, слушал эти умные речи, чуть прикрыв глаза. Омар же узнал эту «ученую братию», более заинтересованную в том, чтобы выглядеть значительнее, чем они есть, нежели в результатах своей «медицины».
Когда ему надоело слушать напыщенную умными словами глупость, он, взглянув на горизонт, где садилось солнце, вдруг невежливо и резко прервал табибов: «У нас остается несколько часов. Если мы ничего не предпримем, то завтра к вечеру половина людей заболеет тем же самым. А еще через день весь караван будет обречен на мучительную смерть». Табибы в испуге разинули рты. У одного из них потекла тонкая дрожащая струйка слюны. Шейх, внимательно взглянув на Омара, вдруг узнал его. Он быстро слез с верблюда и почтительно поклонился.
— Что же делать, о мудрейших из мудрейших?
— Вызови начальника стражи.
Пока предводитель каравана отдавал приказ, Омар повелительным тоном попросил табибов быстро найти семь различных видов лекарственных трав.
— Недалеко отсюда есть небольшая долина. Не теряйте минуты, скачите туда.
Когда подъехал начальник стражи, он также поклонился Омару. Хайям сказал:
— Пошли сотню своих толковых солдат вон к тем скалам. Там должны водиться кобры и гюрзы. Мне нужно двадцать живых змей. Через несколько минут наступит их час охоты. Торопись. Но помни: мне нужны живые змеи.
— Определил ли ты место стоянки? — спросил он шейха, когда начальник стражи отъехал. Тот утвердительно кивнул.
— Пусть приготовят несколько больших котлов, десяток остро отточенных топоров и ножей. Пусть освежуют пять самых жирных курдючных баранов.
…Начало темнеть. Хайям торопился. В больших котлах уже закипала вода. Ловко перехватив у воина кобру, он приказал ему крепко держать ее за хвост. Затем Омар быстро перерезал опасной змее голову и ловко снял шкуру. Сделав продольный разрез, он вытащил внутренности, все отбросил в сторону, оставив только сердце и небольшой желчный пузырь. Последний Хайям положил в чашу с водой.
Промыв тушку, он разрезал ее на мелкие части и бросил в специальный чан. Там же оказалась и голова кобры. Еще примерно полчаса части змеи продолжали вздрагивать, а голова время от времени раскрывала рот, обнажая некогда страшные зубы. Но самым поразительным оказалось сердце. Вынутое из тела, оно продолжало совершать спокойные колебательные движения.
Когда Хайям осуществил такую же операцию и с другими змеями, он бросил в кипящую воду змеиные головы. Затем попросил несколько солдат мелко изрубить кусочки змей, так, чтобы получился фарш. Приготовленное таким образом змеиное мясо Омар разделил на равные порции и тоже бросил в кипящую воду.
Стало темно. Площадка, на которой работал Хайям, была окружена людьми. Они со страхом и ужасом смотрели на этого сумрачного человека, который готовил какое-то таинственное зелье.
Через час он попросил убавить огонь и опустил в котлы курдючное сало, мясо, лук, перец. Когда прошло еще полчаса, он бросил в котлы мелко нарезанные лечебные травы, которую достали табибы.
Хайям приказал принести родниковой воды и, взяв чашу, направился к больным. Некоторым стало заметно хуже. Омар подошел к одному из них и погладил ему пальцы на руках. После этого он твердым голосом ему сказал:
— Открой шире рот. Я сейчас тебе дам лекарство. При его помощи ты избавишься от болезни. Но проглоти сразу.
Он вытащил из чаши желчный пузырь кобры, поднес его ко рту и кивнул табибу, который держал сосуд с родниковой водой. Как только больной сделал глотательное движение, ему дали запить.
То же самое было сделано и с другими больными. Хайям приказал их потеплее укрыть.
Когда варево было приготовлено, Омар распорядился, чтобы все паломники получили по пиале лечебного супа, как он его назвал. По нескольку пиал густого, со змеиным мясом, супа должен был съесть и каждый больной. Наконец он приказал объявить, чтобы те, кто чувствует головокружение, получили по дополнительной пиале этого лекарства и кусочек мяса змеи.
Никто не умер. Караван был спасен от эпидемии.
Когда через несколько дней один из табибов стал интересоваться, как же все это произошло, Хайям, чуть помолчав, загадочно ответил: «Лечите человека, а не избавляйте его от болезней. Лечите не тело, а душу с телом. Болезнь — это свидетельство слабости и тела, и души. Дайте силу человеку, и он излечится. Лучший лекарь для человека — он сам».
…По ночам в пустыне холодно. Паломники разбились на группы и уселись вокруг костров. Звезды жирно блестели в ночном свежем весеннем небе. Пустыня была спокойна и умиротворена.
Омар Хайям сидел и, казалось, внимательно вглядывался в темноту ночи. Рядом на коленях тихо молился Абу Хусайн, ковроткач из Нишапура. Когда-то он быстро разбогател, потом так же неожиданно для себя обеднел. Умерли от странной болезни его жена и единственная дочь. Все, что у него еще оставалось, он распродал, чтобы найти средства для хаджа. Хусайн часто говорил, что паломничество в священный город поможет избавиться от неведомых грехов и вернет ему милость всевышнего. Правда, иногда он себя вел так, словно немного помутился его рассудок.
Абу чуть тронул Хайяма за руку:
— Учитель, принести ли тебе чашку чая?
Омар покачал головой. «Лучше бы вина», — подумал он про себя.
Когда Хусайн, задыхаясь, допил пиалу жидкого, но горячего чая, Хайям, не оглядываясь на него, спросил:
— Хочешь, я расскажу тебе притчу?
Абу Хусайн поджал под себя ноги, чуть приоткрыл рот и приготовился слушать.
— Когда это произошло, никто не знает. Но, наверно, очень давно. Там, на востоке, текла огромная река. Впитав воды сотен рек и ручьев, несла она обильные свой воды в великий океан. Недалеко от устья возвышался на реке остров. И вот однажды на этом острове появились муравьи. Казалось, обычные темно-красные муравьи, которых мы и не замечаем у себя под ногами.
Но это были все же необычные представители муравьиного народа. Они умели мыслить и поступать в соответствии с требованиями разума. Шло время, а ведь для муравья наш месяц — целая жизнь: поколения разумных муравьев сменяли новые поколения. Они создали свою культуру, науку, у них появились религии, города, государства, занялись торговлей, ремеслом, стали выращивать пшеницу и ячмень, разводили разнообразный скот. Воевали и мирились, потом опять воевали. Они исследовали весь остров — а ведь он для них был необъятной громадой, поднялись на самые вершины тех деревьев, которые там росли, опускались глубоко в землю. И никого равного себе не нашли. И мыслящие муравьи поняли, что весь мир — это их остров, окруженный со всех сторон водой. И переполнились они гордостью и важностью, и эта гордость и самомнение через образование, культуру постоянно переходили от поколения в поколение и незаметно стали важнейшей частью их видения мира и их разума. Они были уверены, что не случайно появились на этой земле и будущее принадлежит им.
Но в сто лет один раз в океане образовывалась огромная волна и поднималась вверх по реке. Когда-то она, эта волна, и образовала остров мудрых муравьев. Но в этот раз она накрыла его, размыла и унесла назад в океан. Через некоторое время река вновь спокойно несла свои обильные воды, но острова уже не было».
Хайям замолчал. Абу Хусайн помедлил и сказал:
— На все воля Аллаха. А разве у муравьев бывает разум, подобный разуму людей? Нет для меня здесь ясности…
Омар Хайям неопределенно кивнул в знак согласия, а затем бросил:
— Видишь ли, Абу, очень часто тогда, когда все ясно, это означает на самом деле, что все это просто глупо.
Не нужно, друг мой, хмурого лица. Свершишь ли в гневе путь свой до конца? Нам неподвластны вовсе наши судьбы. Спокойным быть — дорога мудреца.…После возвращения из Мекки Хайям поселяется в городе, где он родился. Нишапур, как и весь Хорасан, находился под властью Санджара ибн Малик-шаха. Судя по скудным сведениям исторических хроник, в Нишапуре Омар Хайям посвятил себя педагогической деятельности: преподавал в медресе, давал уроки у себя дома.
Местный раис сначала с опаской приглядывался к Хайяму. Наверно, с таким же внешним подобострастием, под которым скрывались неприязнь и ненависть, встретила его вся нишапурская знать. Но шло время. Живущий замкнуто и уединенно, Хайям стал вызывать различные толки вокруг своего имени.
Сначала его стали порицать за холостую жизнь, замкнутость и одиночество:
— Человек без семьи и детей что царь беззаботный.
Потом поняли, что долгая жизнь при дворе султана не принесла ему особых доходов:
— У него нет даже вздоха, чтобы обменять на стон. Несчастный философ: в семи небесах одной звезды не имеет.
И всем стало вдруг ясно, что Хайям в опале:
— Солнце-то нашего мудреца того… пожелтело.
Необычное, непонятное и необъяснимое явление, каким предстал перед высокородными нишапурцами Хайям, вызывало раздражение. Поэт и философ и здесь стал мишенью для насмешек, издевательств, необузданной клеветы со стороны врагов и завистников. Какой-то блаженный говорил про него: за долгие годы службы в таком месте не накопил и лишнего динара, чтобы беззаботно встретить старость. Уж они-то своего бы не упустили. Брызгая слюной, визжали тупоголовые ревнители веры и шарлатаны, называвшие себя учеными. В чем только не упрекали Хайяма! В вероотступничестве, вольнодумстве, в ереси.
Вероятно, именно к этому периоду жизни относится эпизод, описанный историком XIII века Закарией Казвини в книге «Асар аль-Билад»: «Рассказывают также, что один из законоведов приходил ежедневно к Омару перед восходом солнца и под его руководством изучал философию, на людях же отзывался о нем дурно. Тогда Омар созвал к себе в дом всех барабанщиков и трубачей, и когда законовед пришел по обыкновению на урок, Омар приказал им бить в барабаны и дуть в трубы, и собрался к нему со всех сторон народ; Омар сказал: „Внимание, о жители Нишапура! Вот вам ваш ученый: он ежедневно в это время приходит ко мне и постигает у меня науку, а среди вас говорит обо мне так, как вы знаете. Если я действительно таков, как он говорит, то зачем он заимствует у меня знание; если же нет, то зачем поносит своего учителя?“
Небольшой эпизод из жизни Хайяма, не очень-то характерный для него. Известно ведь, до какой степени доходит наглость людей злых и жестоких, нападающих на того, кто не похож на них и к тому же молчаливо переносит удары. От этого они становятся еще свирепее. Быть может, обидчик поэта был всего лишь маленькой пешкой в большой игре. Высмеяв на людях этого горе-юриста, Хайям таким образом сделал своего рода предупреждение всем своим врагам. И еще одно: законовед — профессия не для выходцев из простого люда. Ими становились люди состоятельные. Значит, и сплетни этот факих распространял в своей среде, среди людей состоятельных. Возможно, в нишапурский период Хайяму пришлось еще не раз применить подобный способ защиты против недругов, каждый раз выдумывая однако что-то новое. И не потому ли, по словам аль-Бейхаки, Омар Хайям «имел скверный характер»? А историк Шахразари сообщает, что ученик Хайяма Абу-ль-Хатим Музаффар аль-Исфазари «к ученикам и слушателям был приветлив и ласков в противоположность Хайяму».
А с чего ему быть «приветливым и ласковым»? Как ни старался убежать от людских толков Хайям, он был часто в центре внимания правоверного духовенства Нишапура. Его травят, к нему в виде учеников подсылают провокаторов, чтобы потом на каждом углу поносить ученого. Такая жизнь не могла не наложить отпечатка на образ мыслей Хайяма. Он стал еще более избегать людей, не доверять им, проводил время среди книг, в долгих и тяжелых размышлениях над сущностью и быстротечностью жизни с ее суровыми законами.
Рука невольно тянулась к перу. На бумагу выливались лаконичные четверостишия с законченной мыслью. Они полны горечи и разочарования. Поэт советует избегать встреч даже с друзьями, не знаться ни с кем и самому оставаться в неизвестности, ибо это единственный способ обеспечить себе безопасность.
Вокруг Хайяма рой врагов несметен, Отшельник станет жертвой грязных сплетен. Пусть ты талантом Хызр или Ильяс[36], Но счастлив тот, кто всюду незаметен.Видимо, на учеников, подосланных с провокационными задачами или на подкупленных бывших друзей, променявших дружбу на золото, намекает это четверостишие:
Ты к людям нынешним не очень сердцем льни, Подальше от людей быть лучше в наши дни. Глаза своей души открой на самых близких, Увидишь с ужасом: тебе враги они.Но когда становится уж совсем невмоготу, он пишет:
Если от жизни досталися мне Хлеба кусок да вода в кувшине, Разве же должен я быть слугою Того, кто глупее меня втройне?Двуличие, лицемерие, ложь, подлость, нищета духа, угодничество — вот что царит в мире. И если ты оседлал этого конька и ловко им правишь — будешь уважаем и чтим:
Я научу тебя, как всем прийтись по нраву: Улыбки расточай налево и направо, Евреев, мусульман и христиан хвали — И добрую себе приобретешь ты славу.Но кто же скажет, кто ответит, почему он создан таким, этот мир? Можно ли в нем хоть что-то изменить? Почему надо все время подличать, и угождать, и унижаться в ожидании милостыни? Почему так? Почему прежде надо быть искусным интриганом и ловко строить сети своим ближним, чтобы они не опередили тебя, а потом уже быть ученым и поэтом? Но в том-то и дело, что звание познающего несовместимо с понятиями «клеветник», «угодник», «лицемер». Их, настоящих ученых, «осталась малочисленная, но многострадальная кучка людей». А остальные… Что ж, остальные — их истинным призванием оказалось другое ремесло — угодничество и низкопоклонство. А другие (о, мерзавцы!) еще тешат себя надеждой, что им откроются тайны мирозданья, и строят свое благополучие на костях преданных ими товарищей.
Когда б я властен был над этим небом злым, Я б сокрушил его и заменил другим, Чтоб не было преград стремленьям благородным И человек мог жить, тоскою не томим.Можно ли сокрушить этот мир? Увы, вряд ли… Сокрушить и что предложить людям взамен? Можно тысячу раз написать «чтоб не было преград стремленьям благородным и человек мог жить, тоскою не томим». Но способно ли действительно существовать в подлунном мире такое человеческое общежитие?..
Впрочем, нет. Маздак! Да, как он мог его забыть! Этого волевого и умного человека, жившего при Сасанидах. Голод стал его оружием и направил закабаленных земледельцев против своих хозяев. Множество власть и злато имущих было перебито, а их земли и усадьбы захвачены крестьянами. Маздак — «муж красноречивый и мудрый» — выступил в Ктесифоне с речью, обращенной к народу, где объявил, что необходимо произвести раздел имущества и установить всеобщее равенство. Восстание продолжалось много лет. И что же? Там, где господствовали маздакиты, они выполняли все положения из того памятного обращения их вождя к народу. Тогда родилась пословица, живущая и по сей день: «Братство значит равенство».
Но… (это «но» вечный спутник Хайяма в лабиринтах познания истины), но государство маздакитов просуществовало недолго. В конце концов силы несправедливости восстановили все, что было временно ими утрачено. Неправда живет со времен оных, и нет признаков, что она когда-нибудь исчезнет. Так думает Хайям, не находя выхода из обступившего его мира зла. И пишет, пишет рубаи — на обложках книг, случайных листочках. Увы, прекрасной самаркандской бумаги, которой обеспечивал ученых султан Малик-шах, уже и в помине нету. А покупать ее нынче довольно накладно. Вот и приходится писать где придется.
Иногда листочки пропадают: то ли ученики уносят вместе с тетрадками или сам Хайям оставляет их где-нибудь по рассеянности. Но уж через некоторое время имам вновь проклинает его со своей кафедры в мечети, а у ворот дома собирается толпа и слышатся тупые выкрики фанатиков: «Богохульник!», «Вероотступник!» …Укоряя себя за рассеянность, Хайям снова вынужден прикусить язык.
О тайнах сокровенных повсюду не кричи И бисер знаний ценных пред глупым не мечи. Будь скуп в речах и прежде взгляни, с кем говоришь. Лелей свои надежды, но прячь от них ключи.Теперь он старается еще глубже прятать сокровенные мысли от окружающих его ханжей и лицемеров, держать в тайне свои «сомнения в разумности порядка, существующего на небесах и на земле». В отчаянии у него вырывается:
Да пребудет со мной неразлучно вино! Будь что будет: безумье, позор — все равно! Чему быть суждено — неминуемо будет, Но не больше того, чему быть суждено.Простых людей Хайям не задевал. Более того, Хайяма любили, помня, что его отец был таким же ремесленником, как и многие из нишапурцев. Отец шил палатки, а сын — «палатки мудрости». Для соседей он составлял прошения, участвовал в их спорах, писал челобитные, советовал, какие аргументы приводить при разборе жалобы у кадия. Вспомним эпизод с законоведом, обучавшимся у Омара Хайяма. Вряд ли опальный поэт мог нанять на свои деньги трубачей и барабанщиков. Это были музыканты из ремесленных кварталов, которые пришли к ученому из глубокого уважения к нему, сами любившие шутки и развлечения подобного рода. Кстати, акция публичного осмеяния неблагодарного человека глубоко народна в своей основе. Она вызвала живой отклик у людей, которые в своей массе были простые мастеровые, и реакция на нее была единодушной, как и ожидал Хайям.
А вспомним легенду о трех друзьях, где Хайям в народном представлении не алчущий золота чтец Корана, а бескорыстный философ, который всем сокровищам предпочел тернистый путь ученого. Но как же тогда быть с утверждением аль-Бейхаки, что он-де «был скуп»? Вероятно, это связано с начальным отрезком последней трети жизни, когда Хайям только что приехал в Нишапур. Местные власти решили, что приехал богач, скопивший за долгую службу при дворе немалое состояние. Как это часто бывает, поскольку в глазах окружающих он выглядел человеком состоятельным, к нему стали наведываться частные лица, священнослужители. Одни просили в долг, другие просили выделить сумму на ремонт или постройку мечети, медресе. Увы, он их надежд не оправдал.
— О, Омар, как тебя понять: про один и тот же предмет спора вчера ты говорил одно, сегодня утверждаешь обратное? Ты, я вижу, большой хитрец. А вот я тебя раскусил. Ты похож на того человека, который однажды известил всех, что его обокрали: вор унес подстилку, простыню, нижнее платье, чалму, скатерть… Когда же проверили, оказалось, что вор унес лишь набедренную повязку. И что же ответил на справедливые упреки этот человек? Он стал клясться, что сказал истинную правду, так как набедренная повязка заменяла ему все эти вещи, Ха-ха-ха… А еще ты напоминаешь того эмира, который в высоких собраниях говорил небылицы. Чтобы отучить от этого, умный визирь привязал к его ноге веревочку и всякий раз в нужный момент дергал ее, пока не отучил эмира от глупой болтовни. Боюсь, и тебя кто-то дергает за веревочку.
— О, многоуважаемое светило ученых, как бы я был бесконечно счастлив, если бы ты указал мне этого человека. Увы, нет его. Хотя таких «ученых и философов», как ты, кругом немало. Имя вам — легион. Вот ты называешь себя ученым. В чем же проявляется твоя ученость? Ты со своими товарищами варишься в собственном соку. Боже упаси выйти вам за рамки дозволенного… Сейчас вы похожи на того купца, который, возвращаясь с базара, попал в руки бандитов. Они посадили купца на землю, начертили вокруг бедняжки круг и сказали: если он переступит черту, его убьют. Затем на его глазах опозорили его жену, забрали имущество и скрылись. На злые упреки жены купец ответил: «Ты не заметила, я все же перешагнул черту».
Над незадачливым чтецом Корана, решившим публично указать на расхождение вчерашних и сегодняшних слов Хайяма, поиздеваться над ним, теперь искренне смеялась вся улица.
Таких перепалок становится все больше, с нежданным равнодушием подумал Хайям, когда остался наедине с собой. Что можно ждать от грядущего? Рука сама собой потянулась к вину…
Упиться торопись вином: за шестьдесят Тебе удастся ли перевалить? Навряд. Покуда череп твой в кувшин не превратили, Ты с кувшином вина не расставайся, брат. Все дни мои полны несчастий, нехороши мои дела, Покоя с каждым днем все меньше, жизнь беспросветно тяжела. Одно отрадно — что не нужно просить, я думаю, взаймы Печалей и скорбей жестоких — за это господу хвала! Мне, боже, надоела жизнь моя, Сыт нищетой и горьким горем я. Из бытия небытие творишь ты. Тогда избавь меня от бытия.Глава V НЕ ТО, НЕ ТО! 1104—1131
Нам в мечети твердят: «Бог — основа и суть!» Мудрецы нас к науке хотят повернуть. Но, боюсь, кто-нибудь вдруг придет и заявит: «Эй, слепцы! Есть иной, вам неведомый путь!» Тайны мира, как я записал их в тетрадь, Головы не сносить, коль другим рассказать. Средь ученых мужей благородных не вижу, Наложил на уста я молчанья печать. Назовут меня пьяным — воистину так! Нечестивцем, смутьяном — воистину так! Я есмь я. И болтайте себе, что хотите: Я останусь Хайямом. Воистину так! …Смысл жизни творчески мыслящего человека в том, чтобы пройти свой, неповторимый путь к тому, чтобы быть всем и везде, оставаясь при этом самим собой.Последние почти тридцать лет жизни Омара Хайяма пришлись на годы царствования двух великих сельджукских султанов Мухаммада и Санджара. 22 декабря 1104 года неудачливый верховный правитель Беркярук умер от чахотки. Наследником он назначил своего четырехлетнего сына Малик-шаха II. Но едва атабек последнего Аяз успел выхлопотать для него в Багдаде благословение халифа, как туда же прибыл Мухаммад, чтобы заявить о своих правах. Силы оказались слишком неравными, и Аязу пришлось уступить. Тем не менее Мухаммад на всякий случай издал приказ умертвить атабека своего малолетнего соперника.
Мухаммад был единодушно признан султаном, поскольку ни один член верховной семьи не был в состоянии бросить ему вызов. Санджар, правивший Хорасаном, не стеснял нового султана, поэтому весь период царствования Мухаммада оказался сравнительно спокойным. Эмиры, страшась его коварства, не смели и пошевельнуть пальцем. Поэтому султан мог строить планы распространения своего влияния на те территории, где при слабом Беркяруке оно почти исчезло, — на Мосул и Ирак.
Мухаммад более энергично возобновил наступление на исмаилитов. Страх перед ними был столь велик (или столь преднамеренно преувеличивался), что под видом борьбы с батынитами можно было совершить любое, самое невероятное преступление и остаться безнаказанным. Султану Мухаммеду его визирь аль-Хатиби внушал, что поголовно все жители Ирака — исмаилиты, а правоверных мусульман можно найти только в Хорасане.
Мухаммеду сказали, что он сам окружен тайными исмаилитами, но что узнать их может лишь тот, кто сам принадлежит к их организации. Визирь обещал разыскать такого человека, который выдал бы всех этих злодеев. Он нашел подходящего типа и подговорил его выдать себя за исмаилита и назвать сто имен крупнейших вельмож (противников визиря), обвинив их в принадлежности к секте. По этому ложному доносу все названные лица были схвачены, подвергнуты ужасающим пыткам, и казнены. Истина выяснилась лишь тогда, когда сам визирь аль-Хатиби был казнен за какой-то проступок.
Исмаилиты почти открыто действовали даже в столице. Ассасины завладели крепостью Шах-диз («Царская крепость»), которую построил на горе близ столицы сам Малик-шах. Из этой-то крепости смертельные враги его преемников повсюду разносили страх и опасение за свою жизнь. В 1106 году удалось уничтожить и это горное гнездо, и еще несколько других, где скрывались исмаилиты.
Правда, и исмаилиты не остались в долгу: целый ряд высокопоставленных эмиров султана были убиты. Однако Мухаммад, как пишет симпатизирующий ему арабский историк, «осознал, что благополучие государства и подданных требует полного истребления ассасинов, опустошения их владений и покорения их крепостей и замков». По крайней мере в Персии удалось настолько оттеснить исмаилитов, что одно из главных лиц, на которых была возложена эта истребительная война, — Ширгир, атабек сына Мухаммада, Тогрула, окружил непроницаемой стеной войск само неприступное Орлиное гнездо — Аламут.
К началу 1118 года тяготы в горном замке возросли до крайней степени: в день каждому человеку выдавали по кусочку хлеба и по три ореха. Капитуляция при условии свободного отступления защитников была отвергнута Ширгиром. Но 18 апреля султан Мухаммад скончался в своем дворце в Исфахане. Мухаммеду исполнилось 37 лет, его старшему сыну — 14, двум другим около 9 лет. Предстояли неспокойные времена. Поэтому никакие приказы Ширгира не могли заставить войска выжидать. Солдаты разбежались, и Аламут был спасен.
При Мухаммаде значение и влияние клана Низам аль-Мулька вновь резко выросло. Сын великого визиря, Му-аййид аль-Мульк был убит врагом Мухаммада Беркяруком еще в 1099 году. Но внук, Насир аль-Мульк ибн Муайид аль-Мульк, служил Мухаммаду сначала в качестве его главного секретаря, а позднее визирем его сыновьям.
Этот последний период жизни Омар Хайям провел в основном в своем родном городе Нишапуре. Его положение вновь улучшилось, поскольку он снова оказался связан с сыновьями и внуками своего давнишнего покровителя Низам аль-Мулька. Причем особое значение, по-видимому, играли его отношения с детьми Муаййида аль-Мулька, в частности, с Фахр аль-Мульком. Об этом он упоминает в «Трактате о всеобщности существования»; «Когда я приобрел счастье службы праведному господину Фахр аль-Мульку, сыну Муаййида аль-Мулька и он одарил меня своими милостями, он потребовал от покорного слуги памятку о всеобщей науке. Это сочинено как трактат для удовлетворения этой просьбы».
Хайям продолжал заниматься педагогической деятельностью, преподавал в медрессе и давал уроки. И только иногда по делам или по приглашению друзей он выезжал в Балх, Мерв, Исфахан. В то же время он продолжал оставаться объектом скрытых и открытых насмешек и нападок со стороны врагов и завистников, в первую очередь со стороны правоверных ревнителей ортодоксальной суннитской веры, влияние которых при Мухаммаде и Санд-жаре медленно, но постоянно возрастало.
Для достойного — нету достойных наград, Я живот положить за достойного рад. Хочешь знать, существуют ли адские муки? Жить среди недостойных — вот истинный ад! Общаясь с дураком, не оберешься срама, Поэтому совет ты выслушай Хайяма: Яд, мудрецом тебе предложенный, прими. Из рук же дурака не принимай бальзама.Тем не менее в целом в силу разных причин Хайям пользовался благосклонностью властьимущих. Ан-Низами ас-Самарканди рассказывает, в частности: «Зимой 508 года хиджры (по европейскому летосчислению в 1114 году. — Авт.) султан послал в Мерв к великому ходже Садр ад-Дину Мухаммаду ибн аль-Музаффару, да будет Аллах милосерден к нему, чтобы он попросил имама Омара предсказать, поедут ли они на охоту, не будет ли в эти дни снега и дождя. Ходжа имам Омар часто беседовал с ходжой и бывал в его дворце. Ходжа послал за ним, позвал его и сказал ему, в чем дело. Тот ушел на два дня, обдумал этот вопрос, предсказал правильное время, отправился и усадил султана верхом. Когда султан отъехал на некоторое расстояние, над землей распространились тучи, поднялся ветер, пошел снег, и все покрылось туманом. Все засмеялись, султан хотел вернуться. Но ходжа имам сказал, чтобы султан не беспокоился, так как тучи в тот же час рассеются и в течение пяти дней не будет влаги. Султан отправился на охоту, и тучи рассеялись, в течение этих пяти дней не было влаги и никто не видел туч». В это время Мерв являлся столицей сельджукского государства. Просьба же султана, очевидно, была отправлена из его загородной резиденции.
Тот же Самарканди упоминает свою встречу с Омаром Хайямом в 1113 году в Балхе. И все же основным для Хайяма в эти годы были долгие и интенсивные размышления в одиночестве о мире, о своей судьбе, своем конечном предназначении в этой жизни. Это был период своего рода подведения итогов насыщенной событиями, идеями, разочарованиями жизни. Он размышляет и вновь берет в руки перо, чтобы записать то или иное четверостишие.
Венец с главы царя, корону богдыханов И самый дорогой из пресвятых тюрбанов За песнь отдал бы я, на кубок же вина Я б четки променял, сию орду обманов.Скорее всего именно в этот период, а точнее, между 1104 и 1110 годами, Омар Хайям пишет своего рода философское завещание — «Трактат о всеобщности существо-вования». И не случайно, что эта последняя из дошедших до нас его философских работ очень высоко оценивалась им самим: «Если ученые и философы подойдут со справедливостью, то они найдут, что это краткое более полезно, чем все тома». Ни одна из предыдущих работ не была так дорога Омару Хайяму, как «Трактат о всеобщности существования». Причем, по-видимому, этот трактат предназначался не только и не столько для склонного к философии визиря, но и для определенного распространения среди «ученых и философов». Работа уникальна еще и потому, что это единственное научное произведение Хайяма, написанное по-персидски.
«Трактат о всеобщности существования», как и другие философские работы Хайяма, написан предельно сжато и компактно. Однако он и существенным образом отличается от его предыдущих философских произведений. Эта работа не столь полемична, выдержана в более спокойных тонах и, несмотря на свою краткость, в целом представляет собой законченное, целостное произведение. Автор излагает здесь и свои представления об общей структуре мироздания, о взаимосвязи между макрокосмом и микрокосмом, рассуждает об общих принципах и методах познания, формулирует основные понятия, необходимые для познания, наконец, касается вопроса о конкурирующих интеллектуальных направлениях своего времени.
Почти все сохранившиеся на сегодняшний день рукописи этой работы Омара Хайяма делятся па семь разделов.
Первый и второй разделы Хайям посвящает изложению своих взглядов на мироздание в целом. «Знай, что все существующие вещи, кроме всевышнего творца, одного рода, все это субстанции. Субстанция бывает двух видов — телесная и абсолютная… Общее сущее имеет только эти три названия — субстанция, тело и абсолютное…» Под субстанцией Омар Хайям имеет в виду неизменную основу вещи в противоположность акциденции — случайному, преходящему свойству вещи. Субстанция разделяется на духовную (абсолютную) и телесную основу. Таким образом, для Хайяма ключевыми выступают эти три понятия, при помощи которых возможно описание мира, «общего сущего».
Далее Хайям указывает: «Один вид общего делим, а другой — неделим, делимое — это тело, а неделимое — абсолютное». Таким образом, материальные телесные субстанции делимы до бесконечности. А духовные субстанции неделимы, целостны и тотальны. Последняя идея возникла еще в рамках пифагореизма: неделимые элементы пространства, отождествляемые пифагорейцами с числовыми единицами, являлись душами.
«Абсолютное в отношении порядка подразделяется на два общих вида, один называется разумом, а другой — душой, каждый из них имеет десять ступеней». Однако все же разделение на душу и разум имеет для Хайяма достаточно абстрактный смысл. Ибо эти два вида составляют неразрывное единство: «Для всякого разума есть душа, так как разум не бывает без души, а душа — без разума».
«Части общего разума бесконечны». Хайям утверждает, таким образом, не только разумность всего Универсума. Бесконечен и безграничен не только материальный мир, но и его разумная субстанция.
«Первая из них (то есть частей общего разума) — это творящий разум, первое следствие необходимосущей первой причины и причина всего сущего, находящегося под ним, это господин общего сущего. Второй разум — господин высшего неба, третий разум — господин неба небес, четвертый разум — господин неба Сатурна, пятый разум — господин неба Юпитера, седьмой разум — господин неба Солнца, восьмой разум — господин неба Венеры, девятый разум — господин неба Меркурия, десятый разум — господин неба Луны». Изложенная здесь картина мира восходит к Плотину, интегрировавшему взгляды Гермеса Трисмегиста, пифагорейцев, Платона, мистические учения халдеев и сабиев. Приблизительно аналогичной точки зрения на структуру мироздания придерживался и Ибн Сина. Однако вряд ли Хайям просто позаимствовал ее у своего предшественника. Он хорошо был знаком со взглядами Пифагора, Платона, Плотина, Гермеса Трисмегиста, Агатодемона.
Подобной плотиновской картины мира придерживались «Братья чистоты», одни из крупнейших теоретиков раннего исмаилизма.
Поэтическое описание десяти небес дает и великий Данте Алигьери в «Божественной комедии».
И я, — невольно зренье обращая К тому, что можно видеть в сфере той, Ее от края оглянув до края, — Увидел Точку, лившую такой Острейший свет, что вынести нет мочи Глазам, ожженным этой остротой. Звезда, чью малость еле видят очи, Казалась бы луной, соседя с ней, Как со звездой звезда в просторах ночи. Как невдали обвит кольцом лучей Небесный свет, его изобразивший, Когда несущий пар всего плотней, Как точку обнял круг огня, круживший Столь быстро, что одолевался им Быстрейший бег, вселенную обвивший. А этот опоясан был другим, Тот — третьим, третий, в свой черед, — четвертым, Четвертый — пятым, пятый вновь — шестым. Седьмой был вширь уже настоль простертым, Что никогда б его не охватил Гонец Юноны круговым развертом. Восьмой кружил в девятом; каждый плыл Тем более замедленно, чем дале По счету он от единицы был. Чем ближе к чистой Искре, тем пылали Они ясней, должно быть, оттого, Что истину ее полней вбирали.«Каждый из разумов и душ, являющихся господами небес, — пишет О. Хайям, — движет свое небо, причем душа движет деятельностью, а разум — любовью». Хотя душа и разум едины, тем не менее они выполняют различные функции. При этом Хайям особо выделяет, что разум является действительно таковым только тогда, когда это любящий разум. Возникает своего рода концепция единства, целостности воли (душа), разума и любви; целостность, которая проявляется по-разному на различных уровнях. Но тем не менее Хайям подчеркивает особую взаимозависимость разума и любви: «Поэтому разум выше и достойнее, чем душа, и ближе к необходимосущему».
Но что является причиной движения мироздания? Это следующий вопрос, на который отвечает Хайям: «Надо знать, что, когда мы говорим, что душа движет небо деятельностью, а разум движет душу любовью, мы говорим, что душа уподобляется разуму, хочет достичь его, и взаимоотношения души и разума являются причиной движения неба». Так по-своему диалектически Омар Хайям пытается решить возникающую перед ним проблему дуализма души и разума: разум воздействует на душу (волю, вообще энергетический потенциал своего рода) любовью, а душа, в свою очередь, стремится уподобиться разуму и достигнуть его. Эти сложные и таинственные взаимоотношения и являются причиной движения, которое «требует исчисления частей неба и приводит к числам, необходимым для общего».
Общее сущее является вечным и состоит из творящего разума, общей души, общего тела. Поскольку Хайям уже проанализировал разум и душу, то теперь он приступает к проблеме тела… «Тело бывает трех видов: небеса, матери и рожденные. Каждый из них делится, и его части бесконечны по возникновению и исчезновению… Под ними (то есть небесами) находятся матери, первая из которых огонь, затем вода, затем земля. Из рожденных первое — минералы, затем растения, затем животные, затем человек».
После этого Омар Хайям переходит к изложению своих взглядов о структуре взаимосвязей в мире. «Порядок сущего подобен порядку букв алфавита, каждая из которых происходит из другой буквы, находящейся над ней. Только „алиф“ (первая буква арабского алфавита. — Авт.) не происходит от другой буквы, так как он является первопричиной всех букв и не имеет предыдущей, но имеет последующую. Если кто-нибудь спросит, какое число наименьшее, мы ответим: «два», так как единица не есть число, у всякого числа имеется предшествующее и последующее». Каждая буква арабского алфавита имеет числовое значение. При этом числовой порядок арабских букв соответствует первоначальному порядку букв арабского алфавита.
Проблемы, которые занимают Хайяма в этой части трактата, затрагиваются в его рубайяте. Так, например, уподобление «цепи порядка» порядку букв алфавита или порядку чисел, равных числовым значениям этих букв, встречается и в некоторых его четверостишиях. Причем первая буква «алиф», имеющая числовое значение 1, символизирует Абсолют:
В тоске молило сердце: открой мне знанья свет! — Вот это знак алифа, — промолвил я в ответ. И слышу вдруг: довольно! Ведь в этой букве все: Когда Единый в доме, другим уж места нет.Эти взгляды Омара Хайяма теснейшим образом связаны с пифагореизмом, исходившим из представления о числе как об основном принципе всего существующего. Пифагорейцы основное внимание уделяли оформлению различных наблюдаемых процессов в арифметически-геометрические структуры, пытаясь таким образом выявить особенности ритмики таких процессов. Причем они соединяли эти структуры с акустикой и астрономией, делая в этих областях открытия и подчиняя музыке даже и грамматику. Это явилось величайшим вкладом в сокровищницу мировой философии и науки, потому что возникновение математического естествознания в новое время философски было связано с идеями пифагореизма.
На почве основного учения о числе возникла в пифагореизме и оригинальная арифметика, придававшая пластический и жизненный смысл каждому числу: единица трактовалась как абсолютная и неделимая единичность, целостность, тотальность; двойка — как уход в неопределенную даль; тройка — как оформление этой бесконечности при помощи единицы, то есть как первое оформление вообще, четверка — как первое телесное воплощение этой триадичной формы и т. д.
В этом же контексте Хайям пишет: «Поэтому необходимосущее есть единица — не как число, так как единица не есть число, ибо она не имеет предшествующего, но она необходимо есть единица как первопричина. Следствием его является разум, следствием разума — душа, следствием души — небо, следствием неба — матери, следствием матерей — рожденные, и каждое из них есть причина того, что под ним, и следствием того, что есть причина другого. Это называется цепью порядка».
И далее Омар Хайям формулирует по-своему оригинальную, окрашенную в суфийские и исмаилитские тона концепцию взаимосвязи макрокосма и микрокосма: «Человек является совершенным человеком, только если он признает эту цепь порядка и знает, что все ее последующие господа — небеса, матери и рожденные — являются причинами его существования, но не однородны с ним, так как он однороден с тем, чье величие велико». В этом отрывке важно подчеркнуть два момента: Хайям вновь говорит о всеобщей взаимосвязи в мире, но в то же время особо выделяет человека, ставя его вровень с богом, с творческим началом Вселенной, Абсолютом. Причем говорит он не о мусульманине, зороастрийце или христианине. Нет, он с богом сравнивает познающего человека, а не верующего. Более того, ключевой характеристикой совершенного человека он считает именно стремление к познанию Абсолюта: «…и если человек отличает начало от конца, он должен знать, что его разум и душа однородны с общим разумом и душой, а остальные господа чужды ему и он чужд им. Поэтому он должен стремиться к однородным с ним, так как он не может быть вдали от родственных субстанций, иначе он должен испытывать настоящую пытку».
Итак, основное противоречие в человеке, по мнению Хайяма, — между его телесной формой и абсолютной субстанцией. И задача для совершенного человека заключается в том, чтобы быть свободным, от мира вещей и подчинить телесную форму существования абсолютной: «Известно, что тело не имеет никакого отношения к абсолютному и истина субстанции человека абсолютна и неделима, а тело делимо. Определение тела таково: у него имеется длина, ширина, глубина и другие акциденции как линия и поверхность, на которых оно находится. Определение абсолютного (в человеке. — Авт.) таково: у него нет длины, ширины и т. д., оно — источник вещей и определяет их формы. Оно — не точка, не линия, не поверхность, не тело, не характеризуется другими акциденциями — качеством, количеством, отношением, местом, временем, состоянием, обладанием, действием и страданием. Оно не является ничем из того, оно — вполне самостоятельная субстанция. …Эта субстанция должна быть чиста от свойств тел».
В небольшом третьем разделе Хайям рассуждает о соотношении разума, души и тела в процессе познания: «Знай, что разум самостоятелен в постижении познаваемого, а душа при понимании истины познаваемого нуждается в разуме. Необходимыми свойствами души являются гордость и величие, она похожа на разум. Доказательство этого в том, что душа при понимании никогда не завидует разуму, так как душа считает, что у нее больше способности к пониманию, чем у разума. Но ее понимание приблизительное и совсем не истинно. Это сходство души и разума стихийно, его следы проявляются в ощущениях». И далее Хайям подчеркивает важную мысль: «Таким образом, душа, которая достойнее, чем тело, несвободна от сомнения, тело же всегда обладает сомнением». Он формулирует своего рода общую структуру личности: тело, которое всегда сомневается, душа, несвободная от сомнения, наконец, разум, преодолевающий всякие сомнения в том случае, если он действительно подобен Абсолюту.
Тело, продолжает Омар Хайям, состоит из материи и формы и обладает качествами, которые даны ему душой, «а в частностях даны телесными причинами». Всеобщая душа дает душу частному, небо дает элементы рожденным и человеку, являющемуся частным случаем рожденных. Здесь Хайям и в прозе высказывает свой едкий сарказм. Поскольку качества человека даются и душой, и небом, и элементами, и рожденными, то «поэтому самомнение этого (человека. — Авт.) больше, чем у других вещей».
В следующем, четвертом разделе трактата Хайям рассматривает основные логические понятия познания общего. Причем вначале он специально оговаривает свое предпочтение дедуктивному подходу: «Знай, что древние не углублялись в частности, так как частности преходящи и мимолетны. Они занимались общим, так как общее постоянно и наука о нем прочна. Кто знает общее, необходимо будет понимать и частное».
В категориальном аппарате логики Хайям выделяет пять основных понятий для исследования общего: род, вид, подразделение, особенность, акциденция. Причем он особо подчеркивает, что каждое из этих понятий само по себе является общим: «Каждый из этих видов сам по себе является общим. Так, например, род есть (единое) общее слово, охватывающее множество. Тело и субстанция также являются общим, каждое из них охватывает множество».
Далее, анализируя понятие «субстанция», Хайям конструирует своего рода дерево понятий: «Субстанция — это слово, означающее все познаваемое, за исключением всевышнего творца. Субстанция бывает двух видов — растущее и нерастущее. Животное бывает двух видов — говорящее и неговорящее. Здесь можно найти родовое место, под которым нет другого вида, — говорящее животное. Остальные виды — промежуточные, и каждый из промежуточных видов (по отношению к тому, что под ним) есть род, а по отношению к тому, что над ним, есть вид».
На этой последней мысли, отражающей один из аспектов сложной взаимосвязи мира, Омар Хайям считает нужным остановиться особо: «[37] и общее и частное. Так, например, субстанция является родом по отношению к своему виду, ее виды — животные и неживотные. Животные являются родом по отношению к своему виду, их виды — говорящие и неговорящие».
Дав определение роду и виду, Хайям переходит к следующим понятиям, вновь отталкиваясь от субстанции: «Знай, что субстанция — это общее, охватывающее все существующие роды, подразделение есть такое общее, с помощью которого можно отделить род от рода и вид от вида. (Так, например, животное — это одно слово, включающее говорящее и неговорящее, говорящее — это подразделение, выделяющее человека, который отличается от других животных речью.)».
Что касается понятия «особенность», то «это такое свойство, которое нельзя отделить от ее субстанции ни воображением, ни разумом, ни действием, как, например, влажность от воды: если ты отделишь влажность от воды, она перестанет быть водой, или жар от огня, сухость от земли, тонкость от воздуха».
Хайям выделяет и рассматривает девять видов акциденций — количество, качество, отношение, место, время, состояние, обладание, действие и страдание. Количество означает сколько, качество — как, отношение — что к чему, место — где, время — когда, состояние — каким образом, обладание — чем, действие — что делает, страдание — что испытывает.
Омар Хайям отмечает, что все общее в мире может находиться либо в состоянии движения, либо в состоянии покоя: («Для всех) частных предметов возможны и состояния движения, и состояния покоя». Причем вообще конкретные проявления этих состояний необходимо особо исследовать: «…(истинные причины этих состояний) лучше всего находить людям на основе обследования и доказательства (принимая во внимание), какова цель и каково место» этих исследований. То есть фактически Омар Хайям вновь подчеркивает диалектическую относительность покоя и движения.
В пятом разделе своего трактата Омар Хайям останавливается на двух вопросах, которые формально вроде бы не связаны друг с другом. Сначала он отмечает, что действия человека бывают только двух видов и оба являются акциденциями: мгновенные и долговременные: «То, что проходит и быстро исчезает, называется мгновенным, а то, что остается на долгое время, называется долговременным». Мгновенные и долговременные действия появляются у человека по причине гнева, страсти или желания, движения или покоя. «Все это бывает двух видов — приятные и неприятные, например, гнев и ненависть неприятны, а привязанность или любезность приятны». Приятные и неприятные свойства могут оставаться в человеке или исчезать. И здесь Хайям подчеркивает очень важную мысль, которая и связывает два вопроса этого раздела: «Если что-либо исчезает, это акциденция и никогда не касается достоинства человека». Но какие же действия не исчезают?
Во второй части этого раздела Хайям вновь формулирует свои основные онтологические принципы в той форме, в какой это было принято в то время, то есть в форме доказательства бытия бога: «Для доказательства существования творца, велико его величие, надо знать, что вещей, мыслимых (выделено нами. — Авт.) человеком, имеется только три рода: они бывают им необходимы, или возможны, или невозможны. Необходимая вещь — это то, что не может не существовать. Возможное — это то, что может существовать и не существовать. Если ты доказал возможное (выделено нами. — Авт.), оно становится необходимо в силу необходимости невозможного, и если говорят, что что-то есть, его существование возможно только в воображении людей». Таким образом, следуя Хайяму, именно мышление человека в действительности определяет тот мир, который его окружает. При этом мышление выделяет и определяет то, что необходимо, то, что возможно, и то, что невозможно, ограничивая и структурируя описание этого мира. Если с этой точки зрения попробовать проинтерпретировать приведенную выше ключевую во всем, пожалуй, трактате мысль, то концепция Омара Хайяма выглядит следующим образом. Мир человека — это небольшой сегмент того огромного, бесконечного и сложного мира, который является «необходимой вещью», поскольку он не может не существовать. В этом контексте «творец» — это чистая необходимость (абсолютный Универсум), не зависящая от мышления человека, но познание которого (как подчеркивал Хайям еще в работах 80 и 90-х годов) принципиально возможно.
Мир же непосредственно человека — это мир, существование которого «возможно только в воображении людей». Но это не просто некий воображаемый, чисто субъективный, создаваемый человеком мир, а часть реального мира, срез его, который определяется мышлением человека, вырывается из цельности реального мира и противопоставляется ему. И когда Хайям пишет, что «вещь, существование которой невозможно, не существует», он имеет в виду не объективную возможность как таковую, а его невозможность существования для данного типа мышления. Для факиха-ортодокса познание мира невозможно потому, что он не может мыслить вообще существование внекоранического познания, поскольку единственное и последнее знание зафиксировано для него в Коране и сунне.
Отсюда и взаимосвязь между этими двумя частями пятого раздела: достоинству человека отвечает прежде всего сознание того, что его возможный и вероятностный мир является всего лишь частицей сложного абсолютного мира. Того бесконечного во времени и пространстве мира, в котором действуют загадочные для человека закономерности. И какие бы усилия человек ни предпринимал для их познания и как бы реально он их ни постигал, тем не менее его знание всегда будет оставаться относительным, а загадочность абсолютного мира не уменьшится. Вот эту вечную загадочность (при том, что, как ни парадоксально, его относительное познание все же возможно), сложность, тотальность и абсолютность мира Хайям, по-видимому, и называл «творцом», «Богом».
Но достоинству человека отвечает познание того, что его и для него возможный и вероятностный мир является таковым потому, что он так мыслится, так описывается. Этот непосредственный и объективный мир раскалывается на многие относительные описания этого мира, на взаимодействия этих описаний и, как следствие, на искажения этих описаний.
В предпоследнем разделе Омар Хайям рассматривает различные действия материальных тел: «Субстанция бывает двух видов — тело и бестелесное. Тела одинаковы и равны по телесности, но действия тел различны: некоторые холодны, некоторые жарки, некоторые — растения, некоторые — минералы. Разные действия не могут быть совмещены в одном теле, не нуждаются в доказательстве действия и силы в теле, по причине различия которых в нем появились бы эти различия».
Хайям пытается подчеркнуть то, что тела существуют через свои свойства, которые взаимодействуют друг с другом. При этом он вводит универсальное и объединяющее понятие «сила» для различных свойств тел. «Философы назвали некоторые из этих действий свойствами. Это нисколько не удивительно: так, магнит притягивает железо, а огонь обладает способностью производить одним пламенем сто тысяч таких же огней, причем эти огни не уменьшаются. Если бы люди не видели огня и если бы благодаря многократному созерцанию эта удивительность и странность не исчезли, они считали бы тело огня самым странным и самым удивительным. Но люди не удивляются этому действию огня и знают, что в огне имеется сила, являющаяся причиной сожжения и нагревания. Так же они должны представлять себе, что в теле магнита имеется сила, действие которой состоит в притяжении железа. Кто представляет себе истинно это понятие, будет избавлен от многих трудностей».
В седьмом и последнем разделе своего трактата Омар Хайям выделяет основные интеллектуальные направления своего времени: «Знай, что те, которые добиваются познания господа, чистого и высокого, подразделяются на четыре группы». Ниже мы еще вернемся к характеристикам Хайяма.
В достаточно обильной литературе, посвященной Омару Хайяму, его называют то материалистом, то правоверным мусульманином, то суфием, то рационалистом, то атеистом, то исмаилитом. Чего легче повесить подходящий ярлык на сложного, противоречивого человека — творца! Но ведь самый сложный и заумный ярлык проще самого простого человека. Хайям сам, однако, подчеркивает: «Я есмь я. И болтайте себе, что хотите: Я останусь Хайямом. Воистину так!»
Давайте представим Хайяма, его личность, его мышление, его мироощущение, как некий внутренний круг — первый круг, круг самого Хайяма. Интеллектуальные потоки того времени окружают и влияют на Хайяма. Ближайший к нему, как он сам подчеркивает, круг — суфизм, третий — исмаилизм, четвертый — «философы и ученые», пятый — мутакаллимы, шестой круг — ортодоксальный ислам, который мало-помалу интегрировал в себя догматическую рациональную схоластику.
Но прежде чем в рубайяте Хайяма искать его отношение к этим интеллектуальным течениям, потокам, необходимо коснуться неординарного человека, оказавшего сильное воздействие на свое время и, пожалуй, еще большее влияние на последующую историю мусульманского мира. Этим человеком был аль-Газали. Жизненные дороги Хайяма и аль-Газали часто сталкивались и пересекались, затем расходились и вновь сталкивались, пока не разошлись окончательно.
Абу Хамид Мухии-д-дин Мухаммад ибн Мухаммад ат-Туси аль-Газали родился в Тусе в 1058 году, через десять лет после появления на свет Омара Хайяма. Учился аль-Газали в Нишапуре, где слушал лекции ашарита и в то же время суфия имама аль-Харамейна Джувейни. В юности он вращался в суфийской среде, но она в то время не оказала на него заметного влияния. Он занимался преимущественно традиционной теологией и правом, однако изучение их настраивало юношу на критический и скептический лад, хотя официально он примкнул к шафиитскому мазхабу своего учителя Джувейни.
Как и Омар Хайям, Газали оказался в середине 70-х годов в окружении Низам аль-Мулька. Он быстро снискал известность, проявив себя изощренным полемистом, победив в ряде публичных богословских диспутов.
В 1091 году аль-Газали стал мударрисом (преподавателем) в Низамийя в Багдаде, где 300 студентов слушали его лекции. И здесь же началась интенсивная философская деятельность Газали.
Внешнее положение аль-Газали казалось блестящим, но внутри он, вероятно, чувствовал себя несчастным: став законченным скептиком (как он сам признавался впоследствии) и утратив веру в ислам и в бога, он пришел к отрицанию возможности познать объективную истину на основе разума. Этот пессимистический вывод побудил его попытаться идти к познанию истины интуитивным путем.
Он снова обратился к изучению суфизма, от которого отвернулся в юности. Но теперь путь суфиев показался ему действительным спасением. По словам Газали, между июлем и ноябрем 1095 года он пережил тяжелый внутренний кризис. Прежние, казалось, давно оставленные, но в действительности, видимо, дремавшие в нем мистические настроения овладели им с новой силой. Суфизм вдохнул в него религиозную веру. Аль-Газали пережил «крушение личности» и почувствовал необходимость сломать свою устоявшуюся жизнь.
Передав кафедру в Низамийя своему родному брату Маджд-ад-дину Ахмеду аль-Газали, он отказался от завидного общественного положения и богатства и втайне от близких покинул Багдад в одежде дервиша. Одиннадцать лет Газали провел в странствиях, ища в добровольной бедности и в аскетической жизни средство для душевного мира и утверждения в своем новом миросозерцании. Он посетил Мекку, Иерусалим, Дамаск, Александрию и другие места. Два года прожил отшельником в горах близ Иерусалима. Ведя уединенную жизнь, аль-Газали в эти годы написал главные свои труды.
В 1106 году Газали вернулся к активной деятельности, стал преподавать в Дамаске и Багдаде. Через некоторое время по приглашению того же Фахр аль-Мулька (с которым сотрудничал Омар Хайям) он начал читать лекции в Низамийя в Нишапуре.
В этот период аль-Газали и Омар Хайям скорей всего неоднократно встречались друг с другом. Об одной такой встрече пишет аль-Бейхаки. Причем, судя даже по этому одному эпизоду, отношения между двумя крупными фигурами своего века складывались достаточно сложно:
«Однажды к нему (Хайяму) пришел имам „Доказательство ислама“ Мухаммад аль-Газали и спросил его об определении полярной части небесной среды среди других частей, в то время как все части неба подобны… Тогда имам Омар стал многословно говорить, он начал с того, что движение является какой-то категорией, но воздержался от углубления в спорный вопрос. таков был обычай этого властного шейха. Так продолжалось до тех пор, пока не наступил полдень и муэдзин призвал к молитве. Тогда имам аль-Газали сказал: „Истина пришла, и исчезла нелепость“ и встал».
Через некоторое время Газали оставил преподавание и с несколькими учениками затворился в ханаке в родном городе Тусе, где и умер в декабре 1111 года.
Обращение аль-Газали к суфизму произвело большое впечатление на многих современников. Однако некоторые его противники высказывали сомнение в искренности кардинального поворота аль-Газали. Если он, говорили они, мог в молодые годы вести полемику с исмаилитами и другими «еретиками», не веря в то, что писал, то и в последующих его писаниях искренность закономерно должна вызывать сомнение. Высказывались предположения, что его отречение от мира и бегство из Багдада могли быть подсказаны политическими мотивами. В 1095 году султан Беркярук победил своего дядю Тутуша, соперника в борьбе за престол. Аббасидский халиф Мустазхир поддерживал Тутуша. Поэтому Газали, занимавший видное место в окружении халифа в качестве приближенного советника, мог обоснованно опасаться мести со стороны султана. Между прочим, Газали и вернулся в Багдад уже после смерти Беркярука.
Аль-Газали стал значительнейшей фигурой в мусульманской теологии и схоластике. Он дал каламу более тонкие логические методы, ввел в него более изощренную философскую терминологию. Но еще большую услугу он оказал умеренному суфизму, окончательно примирив его с теологией и провозгласив интуицию и «внутренний опыт» важнейшим, хотя и не единственным средством постижения абсолютной истины. Таким образом, он существенным образом укрепил статус суфиев в мусульманской общине.
Авторитет аль-Газали как крупнейшего теолога был признан в суннитской среде уже в последние годы его жизни. За ним утвердились почетные звания «Обновитель веры» и «Доказательство ислама». После смерти его влияние расширилось еще больше, затмив славу прежних суннитских теологов. В конце XV века известный комментатор Корана Джалаль ад-дин Суйути говорил: «Если бы был возможен после Мухаммеда еще пророк, то им бы был, несомненно, аль-Газали».
Вместе с тем система аль-Газали стала предметом и острой критики со стороны его оппонентов. «Что касается до сочинений шейха Абу-Хамида, — писал современник Газали выдающийся арабский мыслитель Ибн-Туфейль, — то он, применяясь к обращению своему к народу, в одном месте связывает, в другом разрушает, то не признает одни вещи, то их исповедует. Между прочим, он обличает философов в неверии в книге „Ниспровержение“ за то, что они отрицают воскресение тел и признают награду и наказание исключительно для душ. Затем, в начале книги „Весы“, он категорически говорит, что это мнение есть мнение шейхов суфиев; далее в сочинении „Предохранитель от заблуждения и толкователь состояний экстаза“ он утверждает, что его мнение подобно мнению суфиев и что он остановился на нем только после долгого исследования. И многое в этом роде может увидеть в сочинениях его, кто будет читать и углубляться в исследование их».
«Выдвигать такие софистические аргументы, — писал Ибн Рушд в своем талантливом произведении „Опровержение опровержения“, — низко, ибо можно подумать, что он не заметил всего этого. Всем этим он хотел угодить своим современникам, а подобное поведение не имеет ничего общего с моралью тех, кто стремится выявить истину». Этими словами, даже, может быть, не желая того, Ибн Рушд провел главное различие между двумя современниками — аль-Газали и Омаром Хайямом!
В своей работе «Избавляющий от заблуждения», написанной в последний период жизни, аль-Газали выделяет, как и Хайям, четыре типа «искателей истины»: «…у меня сложилось мнение, что категории искателей истины, сводятся к четырем группам: 1. Мутакаллимы, выдающие себя за авторитетных и компетентных лиц. 2. Батыниты (исмаилиты. — Авт.), заявляющие, что они поборники учения, особенностью которых является то, что они перенимают знания у непогрешимого имама. 3. Философы, утверждающие, что они поборники логики и доказательства. 4. Суфии, притязающие на особую способность присутствовать при обнаружении истины, притязающие на то, что они — люди непосредственного созерцания, люди обнаружения истины».
Один из принципиальных противников Омара Хайяма, обличению и осмеянию которых он посвятил значительное количество своих рубаи, — традиционные ортодоксы, вообще отрицающие возможность какого-либо познания, помимо прямого буквального истолкования Корана и хадисов. В своем трактате аль-Газали также косвенно выделяет эту группу, но очень осторожно, с оглядкой: «И я сказал себе: „Истина не противится этим четырем категориям: ведь они шествуют по пути поисков истины, и если она ускользает от них, то, значит, постижение ее — дело безнадежное. Не возвращаться же обратно к традициям после того, как ты уже распрощался с ними! Традициям человек может следовать лишь при том условии, если подражание авторитетам у него носит бессознательный характер. Но стоит ему осознать это, как предмет его подражания подобно стеклу дает трещину и рассыпается на мелкие осколки“.
И далее аль-Газали формулирует свою задачу, причем так, как вполне мог это сделать и Омар Хайям: «Трещину заделать невозможно, собрать и соединить между собой осколки нельзя — значит, остается только переплавить все это в огне и вместо прежнего предмета создать другой, совершенно новый». И аль-Газали это удалось, но при этом он еще ухитрился в общем-то «угодить своим современникам». Может быть, и дорогая цена, но приемлемая для некоторых.
Один из ключевых принципов творческого человеческого мышления — осознание парадоксальности мира и места мышления в этом мире. Фридрих Энгельс писал, что «научные истины всегда парадоксальны, если судить на основании повседневного опыта, который улавливает лишь обманчивую видимость вещей». В этом смысле диалектику можно интерпретировать как своего рода логику парадоксов.
В то же время достаточно забавным аспектом творческого человеческого мышления является его отношение к парадоксу. Ведь мышление ничего так не хочет, как осмыслить то, что невозможно осмыслить. Например, бесконечность времени. Цивилизации и культуры в определенном отношении движутся одной целью — стремлением, желанием победить время. И разве это не парадокс — человек — конечное существо стремится обуздать время!
Но люди ухитряются порой это сделать! Не случайно ведь, пожалуй, самыми великими и могущественными считались во все времена пророки: религиозные и идеологические. Пророки, казалось, поднявшись над временем, заглянув за горизонт, несли весть о будущем. И вот тогда-то и возникала иллюзия победы над сегодняшним днем: ведь людям нужна уверенность, что они не вчера появились и что не сегодня они будут свидетелями своего последнего заката солнца.
Но время от времени появлялись в истории люди, чья главная задача заключалась в конструировании другой иллюзии: что завтрашний день — это всего лишь продолжение сегодняшнего и послезавтра тоже не принесет принципиальных перемен. Таким был и Газали!
Прежде чем переходить к анализу мироощущения Омара Хайяма, мы должны согласиться, что оно отражено не только в его философских и естественнонаучных произведениях, но и в его рубайяте. Красота его филигранно отделанных четверостиший, глубина мыслей, связанность основных тем в рубайяте позволяют сделать предположение, что рубаи, особенно в последний период жизни Хайяма, были для него не просто отдыхом. Они стали и специфическим средством выражения его мятущегося парадоксального духа, который не мог быть адекватно выражен ни в форме математических построений, ни даже в виде философских размышлений. Вероятно, только поэтические строки, как и музыкальная ритмика, способны выразить достаточно полно звучание струн творческого человеческого духа. И когда Хайям писал: «Тайны мира, как я записал их в тетрадь, головы не сносить, коль другим рассказать» — не имел ли он в виду какую-то запись избранных своих философских рубаи, не дошедшую до нас?
Причем Омар Хайям не только создавал четверостишия, но и, вероятно, возвращался к тем, которые написал ранее. Если согласиться с этой точкой зрения, то тогда могут быть понятны и вполне объяснимы таким путем возможные варианты рубаи, дошедших до нашего времени в различных рукописях.
Одна из центральных на первый взгляд тем в рубайяте — тема вина. Причем она появляется в сочетании о самыми различными проблемами и мыслями. Мы уже говорили, что только предельно ограниченное мышление способно сделать вывод, что такого рода рубаи — гимн бездумному и бессмысленному пьянству. Повторим вновь: слова о вине у Хайяма следует интерпретировать как прямой вызов ортодоксальной духовной тирании. Известный английский востоковед Дармстетер писал в своей книге о персидской поэзии: «Человек непосвященный сначала будет удивлен и немного скандализирован тем местом, какое вино занимало в персидской поэзии. Однако в ней нет ничего общего с нашим vandevires (вакхические песни XV века. — Авт.) и застольными песнями. Застольные песни Европы — песни пьяниц; в Персии же это — бунт против Корана, против святош, против подавления природы и разума религиозным законом. Пьющий для поэта — символ освободившегося человека».
Но для Хайяма вино — это не только символ бунта против ортодоксии. Тема вина, настойчиво повторяющаяся в различных комбинациях, служит вообще символом постоянного освобождения человека, его индивидуальности, освобождения для обретения своей истинной ценности, тотальности.
Имея все это в виду, пройдем по тем кругам, которые составили мятущийся душевный мир великого поэта и мыслителя.
ШЕСТОЙ КРУГ ОМАРА ХАЙЯМА.
ОРТОДОКСЫ ИСЛАМА
Один из основных противников Омара Хайяма — открытые враги познания: консервативные факихи, ортодоксы сунны. В чеканных строках рубайята поэт-философ высказал во весь голос всю свою ненависть, разящую иронию, едкий сарказм в отношении этих врагов свободомыслия, столпов невежества.
Центральное место в воззрениях ортодоксальных факихов занимала идея антропоморфного бога. По сути же, этот всемогущий человекоподобный Аллах, по сравнению с которым, однако, реальный человек — ничто, представлял собой своего рода идеал восточного деспота.
Доводя до крайнего абсурда антропоморфизм рьяных ортодоксов, Хайям, издеваясь, пишет:
Ко мне ворвался ты, как ураган, господь, И опрокинул мне с вином стакан, господь! Я пьянству предаюсь, а ты творишь бесчинства? Гром разрази меня, коль ты не пьян, господь!Злой иронией проникнуто и другое четверостишие Хайяма, в котором он также высмеивает бессмысленный антропоморфизм факихов:
Когда б я отравил весь мир своею скверной — Надеюсь, ты б меня простил, о милосердный! Но ты ведь обещал в нужде мне руку дать: Не жди, чтоб сделалась нужда моя безмерной.И в общем-то ясно, что консерваторы ислама не зря ненавидели богохульника Хайяма. Ибо образ примитивного и злобного, мстительного и мелочного Аллаха, удивительно вписывавшегося в социальную структуру феодального общества, не мог не вызывать у мыслителя едких и гениальных по своей иронии строк:
Ты, всевышний, по-моему, жаден и стар. Ты наносишь рабу за ударом удар. Рай — награда безгрешным за их послушанье. Дал бы что-нибудь мне не в награду, а в дар!Как известно, ортодоксы считали, что все поступки человека предопределены Аллахом с самого начала. Человек оказывался в этой картине мира простой бесцельной куклой в руках всевышнего. Но тогда, в соответствии же с этой логикой, все зло в этом мире от всевышнего, который оказывается величайшим и страшным тираном на свете:
Наполнил зернами бессмертный Ловчий сети, И дичь попала в них, польстясь на зерна эти. Назвал он эту дичь людьми и на нее Взвалил вину за зло, что сам творит на свете.Более того: бог у ортодоксальных суннитов оказывается в соответствии с их же логикой и подлым, низким существом.
Когда ты для меня слепил из глины плоть, Ты знал, что мне страстей своих не побороть; Не ты ль тому виной, что жизнь моя греховна? Скажи, за что же мне гореть в аду, господь?А впрочем, саркастически восклицает Хайям, может быть, совершение греха — это и есть подлинное служение Аллаху:
Если я напиваюсь и падаю с ног — Это богу служение, а не порок. Не могу же нарушить я замысел божий, Если пьяницей быть предназначил мне бог!Невежественные факихи бессмысленно повторяют, что их бог милостив и милосерден. Нет, утверждает Хайям, в соответствии с вашими же доказательствами оказывается, что ваш Аллах отнюдь не милостив и не милосерден:
Ты к людям милосерд? Да нет же, не похоже! Изгнал ты грешника из рая отчего же? Заслуга велика ль послушного простить? Прости ослушника, о милосердный боже!А впрочем, нет, саркастически поправляется Хайям, этот ваш бог действительно «милосерден».
Мы грешим, истребляя вино. Это так. Из-за наших грехов процветает кабак. Да простит нас Аллах милосердный! Иначе Милосердие божье проявится как?Ваш бог — обращаясь к ортодоксам, приходит к заключению Хайям — так же глуп и безумен, как и вы сами:
Этот мастер всевышний — большой верхогляд: Он недолго мудрит, лепит нас наугад. Если мы хороши — он нас бьет и ломает, Если плохи — опять же не он виноват!Невежественной болтовней о какой-то неведомой справедливости официальный ислам освящал каждодневные горести и страдания. И голос Хайяма звучит как протест против жестокого и несправедливого бога-деспота, которым прикрываются мерзости жизни:
Если мельницу, баню, роскошный дворец Получает в подарок дурак и подлец, А достойный идет в кабалу из-за хлеба — Мне плевать на твою справедливость, творец!Но Омар Хайям выступает не только против противоречивых догматов ортодоксов и их жестокой и примитивной концепции бога, но он вскрывает и социальный фон этой ортодоксии: официально одобренное лицемерие, ложь, ханжество, притеснения самих правоверных мусульманских богословов.
Блуднице шейх сказал: «Ты, что ни день, пьяна, И что ни час, то в сеть другим завлечена!» Ему на то: «Ты прав: но ты-то сам таков ли: Каким всем кажешься?» — ответила она. Хоть я и пьяница, о муфтий городской, Степенен все же я в сравнении с тобой; Ты кровь людей сосешь — я лоз. Кто кровожадней, Я иль ты? Скажи, не покривив душой.…Однажды во дворце визиря после роскошного угощения Омар Хайям лениво слушал рассуждения аль-Газали. Последний любил публичные выступления и действительно выглядел импозантно, когда говорил в черном в заплатках суфийском одеянии, с горящими глазами, постоянно окруженный двумя-тремя мюридами.
Аль-Газали рассуждал о том, что над низшим чувственным материальным миром («мир обладания») возвышается средний, духовный мир, мир идеальных прообразов вещей, и высший мир, «мир господства божьего». Мир обладания находится в постоянном изменении, а мир господства существует благодаря вечному и неизменному решению, поэтому он неизменяем и вечно сохраняется в одном и том же состоянии. Средний мир, «мир могущества», занимает среднее положение между низшим и высшим мирами.
Аль-Газали утверждал, что чистые души людей принадлежат к «миру господства», они вышли из него и в него возвратятся после смерти. Но и в земной жизни души могут входить в контакт с этим высшим миром во сне, в грезах и в состоянии мистического экстаза.
Все это Омару Хайяму уже было известно. Но к тому, что далее стал говорить аль-Газали, он стал прислушиваться более внимательно.
Хотя, рассуждал Газали, в своей сущности природа души человека богоподобна, не во всех людских душах отблеск божества отразился одинаково. Подобно иерархии трех миров, существует три рода человеческих душ. Есть люди, в которых влияние чувственного мира преобладает над духовным началом. Эти люди не способны к самостоятельной духовной деятельности. Они должны довольствоваться прямым, без размышлений и толкований, чтением Корана и хадисами, следовать неукоснительно предписаниям шариата и религиозных авторитетов. Для таких людей общеобязательное религиозное учение — их жизненный хлеб, ибо они не способны понимать внутренний смысл священного писания. Низшим душам нельзя открывать высшие тайны религии — эзотерическое учение.
«Но зачем всевышнему нужно было, чтобы его свет отразился неодинаково в богоподобных душах, созданных им же самим? — пробормотал Хайям, так что только ближайшие соседи услышали его фразу. — За что он невзлюбил тех несчастных, кому было суждено родиться неспособными к познанию? И должны ли эти люди знать, за что невзлюбил их творец? А впрочем, имам сможет так это при случае им объяснить, что они, пожалуй, даже останутся довольными».
ПЯТЫЙ КРУГ ОМАРА ХАЙЯМА.
МУТАКАЛЛИМЫ
Трактат о всеобщности существования: перечисляя «добивающихся познания», Хайям начинает с мутакаллимов, отводя им последнее место в своей классификации.
Причем он и не стремится скрыть своей иронии: «…мутакаллимы, которые согласны с мнением, основанным на традиционных доказательствах (выделено нами. — Авт.). Этого им хватает для познания всевышнего господа, творца, имена которого священны».
Сторонники калама, по сути, являлись теми же ортодоксами и также довольствовались традиционными доказательствами. Но эти доказательства, по мнению мутакаллимов, нуждались в рассчитанном логическом обосновании, то есть в рациональном методе, обосновывавшем исламскую схоластику. Что же касается общей исламской картины мира, то здесь различия между ортодоксами и мутакаллимами были совершенно незначительны. Последние также придерживались концепции несотворенности Корана и т. д. Большинство мутакаллимов отвергали в теории идею антропоморфизма, однако в реальной богословско-идеологической борьбе они фактически поддерживали идею человекоподобности бога.
В своих философских работах Омар Хайям довольно резко выступал против мутакаллимов. Но и в четверостишиях он продолжает ожесточенную полемику с ними.
В зависимости от особенностей в развитии культуры той или иной страны сторонники калама проявляли различную степень изощренности для методологического обоснования традиционных консервативных воззрений. Например, в Мавераннахре концепция одного из теоретиков калама, Абу-ль-Касима Самарканди, выглядела следующим образом.
Слово Аллаха (то есть Коран) нераздельно связано с ним и не создано. Всего человечеству ниспослано 114 священных книг: 50 Сафу, 30 Идрису, 20 Ибрахиму (Аврааму), 10 Мусе (Моисею) до Пятикнижия, остальные — Пятикнижие, псалмы, Евангелие и Коран. Аллах говорил Джабраилу без звуков человеческой речи. Джабраил передавал его слово Мухаммаду звуками человеческой речи, так же воспринимал и передавал его Мухаммад. Тем не менее Коран в точности передает слово Аллаха. Бумага, перо, чернила, переплет и произносимые людьми звуки созданы, содержание Корана не создано. Священные книги различны, но основное содержание их одно и то же, как в разных окнах неодинаково преломляется один и тот же солнечный свет.
Сила творения принадлежит одному Аллаху, человек ничего создать не может. Веру — первое условие для спасения — дает бог; но он никому не обязан ее давать; к тем, кому она дана, он милостив, к тем, кому не дана, только справедлив. Принять веру или отвергнуть ее есть действие человека; за это действие он подлежит награде или наказанию.
Кто да свете не мечен грехами, скажи? Мы безгрешны ли, господи, сами, скажи? Зло свершу — ты мне злом воздаешь неизменно, — Значит, разницы нет между нами, скажи!В хороших действиях человека бог ему помогает, в дурных — только покидает его, то есть во втором случае роль бога лишь пассивная. Одинаково ошибочны учения приверженцев кадара, то есть полной свободы человека, что ведет к предположению о бессилии бога, и джабра, учения о предопределении богом всех человеческих поступков, что ведет к оправданию неверных и грешников.
Остроумным образом Хайям использует этот тезис мутакаллимов против власть имущих:
Вы, злодейству которых не видно конца, В Судный день не надейтесь на милость творца! Бог, простивший не сделавших доброго дела, Не простит сотворившего зло подлеца.Неверные и лицемеры прямо идут в ад на вечные муки, покаявшиеся перед смертью верующие — прямо в рай; верующих, умерших без покаяния, бог, как пожелает, или направляет в рай, или наказывает в аду за грехи; после покаяния перед ними открывается рай. Адские муки умерших могут быть сокращены заступничеством пророка и молитвами живых. Молиться следует за всех мусульман, каковы бы ни были их грехи; решение вопроса о тяжести греха следует предоставить богу.
В ответ на это Хайям издевательски отвечает:
Не прав, кто думает, что бог неумолим, Нет, к нам он милосерд, хотя мы и грешим. Ты в кабаке умри сегодня от горячки — Сей грех он через год простит костям твоим.Стрелами своей иронии разит Хайям и созданную фантазией истовых мутакаллимов картину загробного мира, населенного всевозможными духами зла. Ему попросту смешны сказки вроде тех, что у Иблиса (Сатаны) есть престол в воздухе, откуда он рассылает своих гонцов, 70 раз в день приносящих ему сведения о людях. Когда к человеку приближается смерть, Иблис для захвата его души посылает 70 тысяч демонов. Аллах же, в свою очередь, посылает на каждого демона 10 ангелов, но этой защитой пользуются только «люди сунны и общины», правоверные последователи пророка.
Такая благоглупость не могла не вызывать у Хайяма резкой отповеди. И рождались звучавшие особенно богохульно строки:
Владыкой рая ли я вылеплен иль ада, Не знаю я, но знать мне это и не надо: Мой ангел, и вино, и лютня здесь, со мной, А для тебя они — загробная награда.Или такие строки:
Если бог не услышит меня в вышине — Я молитвы свои обращу к сатане. Если богу желанья мои неугодны — Значит, дьявол внушает желания мне!Сторонники калама, как и ортодоксы, обещали верующим, праведным и благочестивым мусульманам награду в загробной жизни как раз в виде тех материальных благ, от которых им предлагали отказаться на земле. Это противоречие стало объектом едкой иронии Хайяма. Он задает закономерный вопрос: зачем запрещать то, что будет потом вознаграждением за такое воздержание?
Нам с гуриями рай сулят на свете том И чаши, полные пурпуровым вином. Красавиц и вина бежать на свете этом Разумно ль, если к ним мы все равно придем?В другом четверостишии Хайям предлагает обменять «прекрасную» загробную жизнь на наслаждения этого мира:
Вы говорите мне: «За гробом ты найдешь Вино и сладкий мед. Кавсер и гурий». Что ж, Тем лучше. Но сейчас мне кубок поднесите: Дороже тысячи в кредит — наличный грош.Но Омар Хайям не просто высмеивает грубые, чувственные награды, якобы ждущие правоверных в раю. Не только издевательски пишет про «ужасы» ада. Он вычленяет в этой концепции рая и ада мутакаллимов идеологический контекст, ту роль, которую она играет в социальной жизни:
Никто не лицезрел ни рая, ни геенны; Вернулся ль кто-нибудь в мир наш тленный? Но эти призраки бесплотные — для нас И страхов и надежд источник неизменный.В некоторых рубаи Хайяма саркастический смех поэта над. примитивными мифами о загробной жизни приобретает более конкретный характер. В нескольких четверостишиях он едко иронизирует над картиной воскрешения мертвых в Судный день и над обрядом предания тела земле.
Чтоб обмыть мое тело, вина принесите, Изголовье могилы вином оросите. Захотите найти меня в день воскресения — Труп мой в прахе питейного дома ищите.Или:
«Надо жить, — нам внушают, — в постах и труде. Как живете вы — так и воскресните-де!» Я с подругой и с чашей вина неразлучен — Чтобы так и проснуться на Страшном суде.Как известно, мутакаллимы, как и ортодоксы, были сторонниками неукоснительного выполнения законов шариата. В целом ряде четверостиший Хайям прямо выступает против исламских ограничений, сковывающих свободу и честь человека:
В молитве и посте я, мнилось мне, нашел Путь к избавлению от всех грехов и зол; Но как-то невзначай забыл про омовенье, Глоток вина хлебнул — и прахом пост пошел. Молитвы побоку! Избрав благую часть, В беспутство прежнее решил я снова впасть. И, шею вытянув, как горлышко сосуда, К сосудам кабака присасываюсь всласть.Традиционный пост у мусульман-суннитов приходится на месяц рамазан. Шариат предписывает соблюдение поста, когда истинный мусульманин с рассвета до заката не должен не только есть, но и пить. Играя на противопоставлении, Хайям создает полные сарказма строки:
То слышу я: «Не пей, сейчас у нас Шабан», А то: «Реджеб идет, не напивайся пьян». Пусть так: то месяцы Аллаха и пророка; Что ж, изберу себе для пьянства Рамазан. Шабан сменяется сегодня Рамазаном, Расстаться надобно с приятелем-стаканом. Я пред разлукой так в последний раз напьюсь, Что буду месяц весь до разговенья пьяным.Вообще обрядовая форма официального ислама как наиболее консервативная и институционализированная в ханжеском духе вызывает взрыв богохульственной иронии Хайяма:
Я в мечеть не за праведным словом пришел, Не стремясь приобщиться к основам пришел. В прошлый раз утащил я молитвенный коврик, Он истерся до дыр — я за новым пришел.Со временем лицемерие и ханжество становились все более заметными социальными характеристиками сторонников схоластической догматики ислама. Это было связано прежде всего с возрастанием их официальной роли в сельджукском государстве, как, впрочем, и в других мусульманских странах. Калам постепенно превращался в удобную и приемлемую идеологическую доктрину ислама, где интеллектуальное начало было принесено в жертву текущим социальным задачам правящих кругов.
Для Омара Хайяма официально одобренное ханжество коренится прежде всего во внутренней несвободе. Ханжа — это человек, который не только сам посадил свою душу во внутреннюю тюрьму, не только сам же радуется такому положению, но еще и твердо убежден, что лучшего и желать не надо.
Доколе будешь нас корить, ханжа ты скверный, За то, что к кабаку горим любовью верной? Нас радуют вино и милая, а ты Опутан четками и ложью лицемерной.Касаясь основного метода мутакаллимов, аль-Газали указывает на их ключевой недостаток. С его высказыванием по этому поводу, безусловно, мог бы согласиться и Хайям: «…мутакаллимы при этом (то есть при борьбе со своими противниками. — Авт.) опирались на посылки, заимствованные ими от своих противников. А к допущению этих посылок вынуждали их либо традиционные воззрения, либо единогласное решение религиозных авторитетов, либо одно лишь какое-нибудь высказывание, взятое из Корана или преданий. Все их длинные рассуждения сводились, как правило, к тому, что они выискивали неувязки в утверждениях противников и порицали их за то, что таковые не согласуются с требованиями принятых уже ими (то есть мутакаллимами. — Авт.) посылок. От всего этого мало проку для человека, допускающего как истинные лишь те принципы, которые обладают характером необходимости».
А у Хайяма — еще одно оружие в борьбе: его рубаи. Вообще надо отметить, что рубаи против исламской ортодоксии и калама — это не только поэтическая реакция Хайяма на те или иные конкретные проблемы. Они одновременно составляют кредо человека, для которого высшую человеческую ценность имеет свобода мысли.
Рабы застывших формул осмыслить жизнь хотят; Их споры мертвечиной и плесенью разят. Ты пей вино: оставь им незрелый виноград, Оскомину суждений, сухой изюм цитат.ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ ОМАРА ХАЙЯМА.
ФИЛОСОФЫ И УЧЕНЫЕ
В действительной научной борьбе никогда не удается быть окончательно правым. Но как тогда ученому относиться к конечному смыслу своей жизни?
Трактат о всеобщности существования: «Вторые — это философы и ученые, которые познают при помощи чисто разумного доказательства, основанного на законах логики. Они никоим образом не удовлетворяются традиционными доводами. Однако они не могут быть верны условиям логики и ослабевают».
…Нишапур. Весна 1116 года. В одной из небольших комнат своего дома Хайям читает лекцию четырем юношам. Держа на коленях пюпитры с тетрадями, они старательно водят тростинками-каламами по бумаге. Хайям сидит, облокотившись на небольшую подушку. Через несколько недель ему исполнится шестьдесят восемь лет. На его лице проступили глубокие морщины, а борода стала еще более седой. Глухим, мрачным голосом он продолжает:
«Только тот является человеком по истине, который не может не познавать истинную природу вещей и мира, то есть мира, каков он есть в своей беспредельной сложности. И при этом такой человек должен опираться на самого себя. Ведь сказал же повелитель правоверных Али ибн Абу-Талиб: „Не познавай истину через людей, но познавай истину самое по себе“. Но путь истины в качестве предпосылки своей требует поиска прежде всего того, в чем заключается истинная природа самого познания».
Хайям замолчал и, подняв с ковра пиалу с чаем, сделал небольшой глоток: «Вы должны быть твердо уверены, что ваш путь познания должен вести к действительно достоверному знанию, то есть к знанию, когда познаваемое обнаруживает себя так, что при этом не остается места для каких-либо сомнений. Подобное знание должно быть настолько обеспечено от ошибки, что если бы кто-нибудь, претендуя на опровержение его, в доказательство своей правоты превратил, например, палку в змею, то и это не должно было бы вызвать никакого сомнения и колебания».
Хайям вновь замолчал, обдумывая пример: «Если бы я знал, что пять больше двух, и если бы кому-нибудь вздумалось сказать мне: „Нет, два больше, и в доказательство тому я превращу вот эту палку в змею“, и если бы он действительно проделал это на моих глазах, я все равно остался бы при своем убеждении. Подобный человек вызвал бы во мне лишь удивление по поводу того, каким образом ему удалось это проделать, — сомнения в достоверности моего знания он не пробудил бы никакого».
Хайям выпрямился, подложив под себя ноги, и взял четки. Перебирая бусинки, он продолжал: «Некоторые люди выбирают простой путь — приобретают достоверное знание из самоочевидных вещей, то есть из чувственных данных. Однако, только отбросив глубокие сомнения, возможно полностью полагаться на них.
Но откуда у таких людей берется доверие к тому, что дают нам наши органы чувств? Самым сильным из чувств является зрение. Но, однако, когда смотришь на тень, кажется, что она неподвижно стоит на месте, и ты отсюда можешь заключить, что она не перемещается. Стоит же тебе для проверки посмотреть на ту же тень через час, как ты обнаруживаешь, что она все-таки перемещается, ибо двигается постепенно и безостановочно.
Или посмотрите на звезду ночью — разве она не есть для вас маленькая, не больше динара. Но астрономы доказывают, что эта звезда по размеру своему превышает Землю».
Хайям вновь глотнул чай, а остающиеся капли слил в небольшой красивый кувшин, стоявший несколько поодаль: «Я приведу вам и другой более сложный пример. Представьте себе несколько человек, которые никогда не видели пиал. Ко мне подходит один из них, и я ему показываю вот эту пиалу, но только сбоку. Затем другому показываю пиалу донышком. Третьему — повернув пиалу так, чтобы он видел только внутреннюю часть. И если они после этого встретятся, то каждый будет говорить о том, что он видел, то есть о трех пиалах. Но ведь пиала-то была одна.
Но я хотел бы, чтобы вы уловили и более тонкую суть. Пиала, которую я держу в руках, необычна. И необычный мастер ее сделал. Если вы сможете ее одновременно увидеть со всех сторон, сверху и снизу, — я повторяю: одновременно, — то краски мастера сольются в необычайную и таинственную картину».
Хайям оглядел своих студентов, которые перестали писать и завороженно глядели на пиалу, которую он держал в левой руке: «А почему? Вы перестали видеть свою пиалу, вы сделали тем самым значительный шаг к тому, чтобы увидеть пиалу как она есть».
И сразу Хайям перешел к другому тезису: «Ученые утверждают, что полагаться можно только на положения логики, заключения рассудка. Ведь именно они являются такими принципами, как наши высказывания: „Десять более пяти“, „Отрицание и утверждение по отношению к одной и той же вещи несовместимы“, „Одна и та же вещь не может быть одновременно сотворенной и извечной, не существующей и существующей, необходимой и невозможной“. Но мы можем задать вопрос такому ученому: не может ли быть так, что за постигающей способностью разума имеется другой судья в человеке, готовый появиться и опровергнуть его так же, как это сделал сам разум, когда он появился и опроверг решения чувств? Ведь если подобная постигающая способность еще не проявляла себя, то это отнюдь не доказывает невозможности ее существования вообще. Почему бы действительно нам не предположить, что за рациональным познанием имеется такая ступень познания, на которой раскрывается некое внутреннее око человека, дающее возможность постигнуть особые объекты и особые свойства, недоступные для разума так же, как постижение цветов недоступно для слуха, а постижение звуков — для зрения?»
О мудрец! Коротай свою жизнь в погребке. Прах великих властителей — чаша в руке. Все, что кажется прочным, незыблемым, вечным, — Лишь обманчивый сон, лишь мираж вдалеке…Хайям задумался: «Дело не в том, что логика неверна и несовершенна. Опасно самомнение, соединенное с логикой. Такая связь рождает одну из наиболее изощренных форм фанатизма. У всего есть свой предел. И того, кто рьяно бросается выкопать глубокий колодец одним лишь кухонным ножом, можно назвать и храбрецом — все зависит от обстоятельств. Но если он не видит лопаты — то не глупец ли он?»
Лживой книжной премудрости лучше бежать. Лучше с милой всю жизнь на лужайке лежать. До того как судьба твои кости иссушит — Лучше чашу без устали осушать!Студенты терпеливо ждали. Наконец Омар Хайям заговорил:
— Я приведу вам пример. Каждый из вас видел сны. Но разве о сновидениях своих вы не думаете ночью как о чем-то непреходящем и устойчивом? Разве вы, будучи в состоянии сна, подвергаете их каким-нибудь сомнениям? А затем, проснувшись, разве вы не убеждаетесь в безосновательности и незначительности для вашей бодрственной жизни всего того, что пригрезилось и во что вы поверили? Хотя для вашего сна эти видения могут обладать определенной логикой.
Один из учеников поднял руку. Хайям кивнул.
— Учитель, — робко проговорил юноша, — но ведь мы знаем при этом, что логика во сне — нечто эфемерное.
— Не уверен. Вы можете сказать, например, что поедание хлеба во сне не делает вас сытым в бодрственном состоянии — отсюда должен следовать вывод, что еда во сне эфемерна с точки зрения логики. Однако ведь и еда в бодрственном состоянии, в свою очередь, не сделает вас сытым во сне. И тем не менее почему же некоторые ученые думают, что всякая вещь, определенная и познанная логикой, является истиной по отношению к его состоянию. Ведь у него может появиться и такое состояние, которое будет относиться к яви так же, как явь — к сновидению, и явь при этом будет перед ней не более как сновидение? Возможно, что это и есть то самое состояние, о котором как о присущем им говорят суфии, когда, углубившись в себя и отрешившись от чувств, становятся, по их убеждениям, очевидцами таких ситуаций, которые никак не могут быть приведены в согласие с показаниями разума.
…Вечером того же дня Омар Хайям вышел из дома и направился к холмам. Все чаще ему хотелось побыть одному, особенно на закате солнца, когда, чуть прищурившись, он пытался поймать теплые лучи красного светила.
Плеч не горби, Хайям! Не удастся и впредь Черной скорби душою твоей овладеть. До могилы глаза твои с радостью будут На ручей, на зеленую ниву глядеть.Осторожно ступая по тропинке, он обдумывал тему сегодняшней лекции. И вдруг нахлынули на него мысли вперемежку с воспоминаниями. Те, которые однажды он уже изложил на бумаге:
«Трагедия идущего по пути истинного познания заключается в том, что рано или поздно он встречается с огромным и непосильным препятствием — осознанием величайшего многообразия мира. И если он честен, то должен в этом признаться: только логика и логические постулаты бессильны, чтобы проникнуть в этот мир. Величие этого мира — в его беспредельности.
Но этот мыслящий — человек. И трагедия эта — человека, а не познающего. Ведь с тем, что многообразный и многоликий мир все равно останется для него величайшей загадкой, он еще может согласиться. И здесь-то ужас охватит его сердце: ведь если окружающий его мир так и останется для него загадкой, то такой же тайной останется он сам для себя, со своими желаниями, целями, мечтами, мыслями, смыслом жизни. И это невыносимо:
Чтоб счастье испытать, вина себе налей, День нынешний презри, о прошлых не жалей, И цепи разума хотя б на миг единый, Тюремщик временный, сними с души своей.Но ведь ищущий еще должен дойти до своего предела, чтобы иметь мужество сказать: «Да, я дошел, но я действительно сделал все, что мог». Но если бы дело было только в самом разуме!»
Он остановился передохнуть. Дрались в мусорных отвалах и шумно каркали вороны, хлопая крыльями. Тропинку перебежал варан, пытаясь ухватить качающей головой быструю змейку.
Хайям вспомнил один из своих наиболее ожесточенных споров с аль-Газали в 1107 году, здесь же, в Нишапуре. Аль-Газали говорил о месте математики, логики, физики в исламе.
Начал он с того, что осторожно пожурил «некоторых невежественных друзей ислама», решивших, что религии можно помочь путем отрицания всякой науки; «…они отвергали все науки математиков и утверждали, что последние якобы проявляют в них полное невежество. Они доходили до того, что отвергли их рассуждения о солнечных и лунных затмениях, называя их противозаконными».
Чуть прокашлявшись, аль-Газали продолжал:
— Когда же такие рассуждения доходили до слуха человека, познавшего все эти вещи на основании неопровержимых доказательств, человек этот не начинал сомневаться в своих доводах, но, решив, что ислам основан на невежестве и на отрицании неопровержимых доказательств, проникался к философии еще большей симпатией, а к исламу — презрением. Большое преступление перед религией совершают люди, решившие, что исламу можно помочь отрицанием математических наук!
— Да, но ведь арифметика, геометрия, астрономия не имеют никакого отношения к религиозным предметам — ни в смысле отрицания таковых, ни в смысле утверждения, — осторожно начал Хайям. — Это — доказательные предметы, отрицание которых становится невозможным, после того, как они поняты и усвоены.
— И все же они повлекли за собой серьезное несчастье, — внимательно посмотрев на Хайяма, продолжал аль-Газали. — Ведь тот, кто знакомится с математикой, приходит в такой восторг от точности охватываемых ею наук и ясности их доказательств, что начинает думать, что все их науки обладают тем же четким и строго аргументированным характером. А затем, если окажется, что он уже слышал разговоры об их неверии, об их пренебрежительном отношении к шариату, такой человек сам становится богоотступником — и все из-за того, что доверился этим философам. При этом он рассуждает так: если бы истина была в религии, последняя не упряталась бы от этих людей, проявляющих такую точность в данной науке. Поэтому, когда подобный человек узнает из разговоров об их неверии и безбожии, он принимается искать доводы в подтверждение того, что истина заключается именно в отвергании и отрицании религии?
Ты при всех на меня накликаешь позор: Я безбожник, я пьяница, чуть ли не вор! Я готов согласиться с твоими словами. Но достоин ли ты выносить проговор?Так подумал про себя Хайям. Вслух же проговорил, сдерживая подступавшее раздражение:
— Ну и что же ты предлагаешь?
Спросил, зная заранее, что услышит.
— Что предлагаю? — повторил, прищурившись, аль-Газали. — Постоянно держать под уздой каждого, кто занимается науками. Хотя они и не связаны с религиозными предметами, все же, будучи основополагающими принципами всех их знаний, они являются источником всех бед и несчастий, для людей, даже отчасти знакомящихся с математикой. Мало ведь математиков, не становящихся вероотступниками и не скидывающих с голов своих узд благочестия.
А в основу всей физики должно лечь понимание того, что природа подчиняется всевышнему Аллаху, что она не самодеятельна, но, напротив, является послушным орудием в руках своего творца. Солнце, луна, звезды, природные тела — все подчиняется повелениям его, и в них нет ничего такого, что действовало бы само собой и само через себя.
Что ж, все знакомо, давно знакомо… Еще тогда, много лет назад, когда рождались строки этого рубаи:
Чем стараться большое уменье нажить, Чем себе, закочнев в самомненье, служить, Чем гоняться до смерти за призрачной славой — Лучше жизнь, как во сне, в опьяненье прожить!ТРЕТИЙ КРУГ ОМАРА ХАЙЯМА.
ИСМАИЛИТЫ
Трактат о всеобщности существования: «Третьи — это исмаилиты (и талимиты), которые говорят, что путем познания творца, его существования и свойств является только весть праведника, так как в доказательствах познания есть много трудностей и противоречий, в которых разум заблуждается и ослабевает, поэтому лучше так, как требует речь праведника».
Когда Хайям касается исмаилитов, у него не находится ни слова для их осуждения или даже косвенной критики. Это необычно не только по сравнению с его ироническим отношением к мутакаллимам или с его скепсисом в отношении возможностей рационализма науки того времени. Удивительно другое: надо вспомнить, что время, когда писались Хайямом эти строки, характеризовалось ожесточенной борьбой между последователями Хасана Саббаха и официальными государственными властями. И надо было быть действительно мужественным человеком, чтобы не разразиться лицемерными и пышными проклятиями в адрес наиболее опасных внутренних политических и идеологических врагов сельджукского государства. Вероятно, самая главная причина, побудившая Хайяма к сдержанности — осознание близости некоторых своих онтологических концепций взглядам исмаилитских теоретиков. Прежде всего такая близость может быть прослежена в основном пункте — в идее Аллаха как абсолюта и тотальной целостности у Хайяма и всевышним Аллахом как «абсолютной истины», «всевышней тайны» в эзотерической доктрине исмаилизма.
Согласно внутреннему исмаилитскому учению, единое начало множественности проявлений мира есть Единый. У него нет никаких атрибутов, он неопределим и непознаваем для людей, которые не могут иметь с ним общения. И здесь исмаилиты, как, впрочем, и Хайям, резко расходились с суфизмом, утверждавшим возможность непосредственного личного общения человека с богом.
Стадии эманации бога-абсолюта у исмаилитов и Хайяма различаются, тем не менее можно предполагать, что эволюция взглядов Хайяма привела его в конце концов к кристаллизации специфической пантеистической идеи: реальные и возможные миры суть эманации Аллаха, но Единый этим себя не исчерпывает. Бог как мир, бог в проявлениях мира принципиально познаваем людьми. Но одновременно бог-абсолют всегда остается тайной.
Хайям чувствовал свою близость к исмаилитским воззрениям и по другим пунктам. Например, он, как и исмаилиты, придерживался некоторых идей Пифагора. В то же время по ключевому эпистемологическому принципу взгляды Хайяма и талимитов были противоположны. Если исмаилиты считали безусловно необходимым наличие имама как посредника между человеком и истиной, то Хайям принципиально был против всякого рода опосредующих звеньев между человеком и тайнами Универсума.
В отличие от Хайяма аль-Газали резко противопоставляет себя и талимитов: «Некоторые из них притязают на то, что кое-что знают. Но то, о чем они говорят, в сущности, представляет собой отрывки из жалкой философии одного из древнейших мыслителей — Пифагора. Его учение — это наиболее жалкое из учений философов, и Аристотель не только опроверг его, но и показал всю ничтожность и порочность его рассуждений».
Но Аль-Газали в общем-то верно подмечает и слабые стороны в методах познания исмаилитов. Причем сам этот метод являлся логическим продолжением исмаилитской доктрины. Да и сам Хайям, воздерживаясь от критики талимитов, также достаточно нейтрально отзывается об исмаилитских путях познания.
Эзотерическое учение исмаилитов выделяет семь стадий эманации: всевышний бог-абсолют, Мировой Разум, Мировая Душа, первичная материя, пространство, время и Совершенный Человек. Эти стадии составляют для талимитов «горний мир», источник творения. Мир есть макрокосм, «большой мир», а человек есть микрокосм, «малый мир». При этом особо подчеркивается параллелизм, соответствие между микрокосмом и макрокосмом, а также соответствие чувственного мира с «горним миром».
Практически аналогичной концепции придерживался и Омар Хайям. В одном из своих рубаи он пишет:
Джемшида чашу я искал, не зная сна, Когда же мной земля была обойдена, От мужа мудрого узнал я, что напрасно Так далеко ходил, — в моей душе она.Соответствием, отражением Мирового Разума в чувственном мире является Совершенный Человек, именно пророк, или, как его называют исмаилиты, — натик. Отражением же Мировой Души в чувственном мире является помощник пророка — самит, задача которого — объяснить высказывания пророка путем раскрытия и истолкования внутреннего смысла его речей и писаний. Такие помощники были у каждого из пророков: так, Моисей был натиком, а Аарон (по-арабски — Харун) при нем — самитом; Иисус Христос был натиком, а апостол Петр (по-арабски Бутрус) при нем — самитом; Мухаммад был натиком, а Али при нем — самитом.
Натики и самиты появлялись на земле ради спасения людей. Спасение же есть достижение совершенного знания; рай — аллегория этого состояния совершенства. Так же, как ад — это аллегория состояния полного невежества.
«Ад и рай — в небесах», — утверждают ханжи. Я, в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай — не круги во дворце мирозданья, Ад и рай — это две половины души.Подобно стадиям эманации в «горнем мире», жизнь человечества отмечена семью пророческими циклами — ступенями пути к совершенству. Этих мировых циклов, каждый из которых отличается появлением натика с его самитом, должно быть семь; шесть таких циклов уже были связаны с явлениями великих пророков — Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса и Мухаммада. Седьмой цикл, по представлениям исмаилитов, будет отмечен пришествием последнего великого пророка — аль-Каима, который появится перед концом мира.
В каждом пророческом цикле за натиком следовали имамы. Конец мира должен наступить, когда человечество при посредстве натиков, самитов и имамов достигнет совершенного познания. Тогда зло, которое есть не что иное, как неведение, исчезнет, и мир вернется к своему источнику — Мировому Разуму.
У фатимидских исмаилитов существовала специфическая иерархия степеней посвящения. Первую ступень занимал мустаджаб — новичок, еще ничего не знающий о тайной доктрине. За ним шел маъзун, то есть допущенный к изучению тайной доктрины. Ему эзотерическое учение сообщалось частично. Третьим являлся да'и, то есть миссионер, изучивший эту доктрину. Да'и и стояли во главе местных организаций. На четвертой ступени находился худжжа, обычно возглавлявший сеть организаций целой области или страны. Пятым в этой иерархии был «скрытый имам», или имам эпохи: потомок Мухаммада ибн Исмаила, глава всей исмаилитской организации. Шестым и седьмым являлись натик Мухаммад и самит Али. Таким образом признавалось семь степеней посвящения.
Масса верующих обычно не поднималась выше первой, редко — второй степени. Члены секты третьей и четвертой степеней составляли избранную верхушку — элиту исмаилитской общины.
В этот бурный период сельджукской истории (вторая половина XI — первая половина XII века) основные внутриполитические соперники — исмаилиты Хасана Саббаха и государственная система, поддерживаемая ортодоксальным суннизмом и его совершенствующейся схоластикой — каламом, боролись на идеологическом уровне за свою массовую социальную опору.
В основе каждодневной пропагандистской деятельности исмаилитских миссионеров лежала следующая посылка: мир людей сложен и противоречив, поэтому в каждый исторический период времени существует потребность в Учении, которое дает возможность разрешать возникающие вопросы, и в Учителе, единственно верно трактующем это Учение. Под последним имелся в виду «имам эпохи»: у фатимидских исмаилитов им являлся фатимидский халиф.
Полемизируя с талимитами, аль-Газали, возражая ортодоксам — «невежественным друзьям ислама», говорит, что нельзя опровергать все то, что исходит от противника: «Правильным же было бы признать существование потребности в Учителе, необходимости его и того, что таковой должен быть непогрешим. Но следовало оговориться, что наш непогрешимый Учитель — это Мухаммад (мир да будет над ним).
Если же талимиты скажут: «Ваш учитель уже мертв», мы ответим: «А ваш учитель скрыт». Они могут сказать: «Наш учитель дал наставления своим проповедникам и разослал их по странам. И он сделал свое Учение совершенным, ибо сказано было всевышним Аллахом: „Сегодня я сделал для вас совершенным религию вашу и завершил для вас свое благодеяние“. А раз учение доведено до совершенства, ни смерть учителя, ни его отсутствие не могут причинить никакого вреда».
Аль-Газали ищет и находит противоречия в аргументации своих оппонентов: «Осталось еще одно их высказывание: «Как вы можете обсуждать вещи, о которых вы ничего не слышали? На основании текста? Но вы не слышали его. Или, может быть, на основании иджтихада?[38] Но таковые представляются спорными». В этом случае мы ответим: «…если имеется текст, мы судим на основании текста, если же такового нет, мы судим на основании иджтихада. Больше того, аналогичного правила придерживаются и их проповедники в тех случаях, когда они удаляются от своего имама в дальние края, ибо при таких обстоятельствах им не представляется возможным судить на основании текста. Конечные тексты не могут охватить бесконечного множества случаев, а проповедник не может в каждом случае возвращаться в город, где живет его имам».
Однако Омар Хайям не мог в этой ожесточенной полемике не согласиться с резкими, но резонными обвинениями аль-Газали в адрес исмаилитов: «А твой имам желает покончить с людскими разногласиями без того, чтобы ему внимали. Спрашивается, почему же он не покончил по сию пору с этими разногласиями? И почему их не прекратил Али (да будет доволен им Аллах)? А ведь он — глава имамов! Или, может быть, твой имам думает, что способен склонить их выслушать себя силой? Так почему же по сей день он не склонил их к этому? И когда он собирается это сделать?»
В своей дискуссии аль-Газали невольно касается проблемы, в отношении которой и ортодоксы, и мутакаллимы, и исмаилиты были едины: отрицание многоаспектности познания и многовариантности методов. И по этому пункту Омар Хайям, вероятно, придерживался принципиально иной точки зрения. Аль-Газали описывает эту часть спора с исмаилитами следующим образом: талимит может сказать: «Ты утверждал, что кладешь конец людским разногласиям. Но возьмем человека, который растерялся, оказавшись между враждующими учениями и слыша с разных сторон взаимопротиворечивые высказывания. Нельзя же его заставить внимать только тебе, не дав ему выслушать и твоего противника. А большинство враждующих будет не согласно с тобой, и такой человек не заметит никакой разницы между тобой и твоими противниками».
Ответ сторонника калама исмаилиту достаточно показателен: «Этот довод… оборачивается против тебя же. Ибо, если ты позовешь такого человека на свою сторону, он тебе скажет: „А чем ты оказался лучше своих противников? Ведь большинство ученых людей не согласно с тобой“. Хотел бы я знать, как ты ему на это ответишь! Может, ты ему ответишь так: „Об имаме моем есть указание в тексте“. Кто поверит тебе относительно того, что утверждается в тексте, если он не слышал текста от посланника божьего? Ведь человек слышит только твои утверждения и одновременно видит, что вся ученая братия в один голос утверждает, что все это вымысел и ложь.
Далее, предположим, что он согласился с тобой относительно текста. Но если у него нет ясного представления о подлинной природе пророчества, он возразит тебе так: допустим, что твой имам для доказательства своей правоты прибегнет к чуду Иисуса и скажет: «Чтобы ты поверил мне, я воскрешу твоего отца».
Допустим, что он действительно воскресил его после этого и сказал тебе, что он мол все-таки прав. Но и в этом случае — как я могу знать наверное, что он прав? Ведь не все же люди признали правоту Иисуса на основании этого чуда. Напротив, перед ним были выдвинуты такие сложные вопросы, на которые нельзя было ответить иначе, как посредством тщательного рассмотрения их разумом. Но ведь, по-твоему, рассмотрение разумом не заслуживает доверия, а признать чудо доказательством правоты невозможно…»
И аль-Газали приходит к выводу, ненамного отличающемуся от начальной посылки своего оппонента: «…оказалось, что следовать за твоим имамом нет больших оснований, чем за кем-либо из его противников, и ему приходится прибегать к отвергаемой им же теоретической аргументации, в то время как противники его аргументируют подобными же, и даже более ясными, доводами».
ВТОРОЙ КРУГ ОМАРА ХАЙЯМА.
СУФИИ
«Только истинное спокойствие рождает целостность и гармонию; только добро рождает спокойствие; только любовь может породить добро по истине».
Трактат о всеобщности существования: «Четвертые — это суфии, которые не стремятся познать с помощью размышления и обдумывания, но очищают душу с помощью морального совершенствования от грязи природы и телесности, и когда субстанция очищена, она становится наравне с ангелами, и в ней поистине проявляются эти образы. Этот путь лучше всего, так как мне известно, что ни для какого совершенствования, не лучшего, чем достоинство господа, от него нет ни запрещения, ни завесы ни для какого человека (выделено нами. — Авт.). Они имеются только у самого человека от грязи природы, и если бы эти завесы исчезли, а запрещения и стены были бы удалены, истины вещей стали бы известны и казались бы как они есть…»
Нищим дервишем ставши — достигнешь высот, Сердце в кровь изодравши — достигнешь высот, Прочь, пустые мечты о великих свершеньях! Лишь с собой совладавши — достигнешь высот!К началу XII века суфизм был уже далеко не однороден. Впрочем, и с самого начала он не представлял собой чего-то единого. Но тем не менее существует общая почти для всех суфийских течений формула, которая по-своему выражает социальную, психологическую и интеллектуальную суть суфизма: деятельность и стремления человека сводятся к тому, что человек от бога; человек с богом; человек для бога; человек к богу.
Знаменитый суфийский шейх Абу-ль-Хасан Харакани на вопрос, что такое суфизм, отвечал: «Река из трех источников: один — воздержание, другой — милосердие, третий — независимость от тварей бога всевышнего и преславного».
По поводу воздержания у Хайяма есть следующие строки:
Неужели таков наш ничтожный удел: Быть рабами своих вожделеющих тел? Ведь еще ни один из живущих на свете Вожделений своих утолить не сумел!Независимость же понималась в том смысле, что суфий не должен привязываться к кому-либо из людей, ибо сердце его должно быть переполнено единственной любовью к творцу, к Аллаху. К людям же суфий обязан быть милосердным. Воздержание понималось не только в смысле аскетизма и бедности, но и в смысле отречения от своей воли и от своего «я»: «Господи, — молился шейх Вистами, — дай мне не существовать. Доколе между тобой и мной будет стоять мое „я“. Аскетизм как самоцель отвергался; он должен был служить средством для очистки от привязанности к чувственному миру, от своих желаний, от любви к своему „я“.
В определенном смысле Хайям также был по-своему аскетом. Как сообщает один из его биографов, Табризи, в своем труде «Тарабхана», Омар Хайям «никогда не был женат, и после него не осталось ни детей, ни наследства, кроме „Рубайята“ и прозаических сочинений на языках арабском и фарси». Близость его концепции аскетизма к суфийской подтверждается и следующим рубаи:
К нему идти ты хочешь. Оставь жену, детей. И все, что мило сердцу, и близких, и друзей. Все устрани, что может связать тебя в пути, Чтоб двигаться свободно, все путы рви скорей.Но при всем при том аскетизм Хайяма не является основанием его лицемерного самоупоения, упоения святостью аскетизма, что порой встречалось среди последователей позднего суфизма. Именно против такого самоупоения выступал один из известных суфийских поэтов Ансари:
Великий порок — самоупоение, Предпочтение самого себя всем людям. Учиться надо у зрачка глаза: Видеть всех, но не видеть себя!Аскетизм Омара Хайяма неравнодушен к боли и страданиям окружающих:
Не таи в своем сердце обид и скорбей, Ради звонкой монеты поклонов не бей. Если друга ты вовремя не накормишь — Все сожрет без остатка наследник-злодей.В различных системах суфизма число стадий «духовного совершенства» различно. Наиболее общими называют четыре этапа. Первый — шариат, то есть «закон», определяющий «благочестивую» жизнь согласно общим для всех верующих предписаниям мусульманской религии. Второй этап — тарикат, «путь», заключающийся в добровольной бедности, нестяжании, отречении от мира и от своей воли. Суфий должен был стать мюридом избранного шейха и, всецело подчинив себя его воле и контролю, под его руководством упражняться в духовной жизни. Третья стадия — маарифат, «познание», — на которой суфий, отрешившийся от чувственных желаний, признавался способным достигать временного общения с «единым». Наконец, четвертая стадия — хакикат (достигаемая лишь немногими), когда суфий оказывался в состоянии постоянного общения с «абсолютной истиной».
При жизни Омара Хайяма еще более явственно проявились различия в суфизме. Его умеренное крыло постепенно сближалось с ортодоксальным исламом (в конце концов именно аль-Газали создал такую достаточно интегрированную систему). Крайние суфии — пантеисты — достаточно резко расходились во взглядах со сторонниками ключевых догм господствовавшей ортодоксии. Хайям был близок именно к такого рода суфиям, однако чистым суфием без всяких оговорок его нельзя считать. В ключевом вопросе фана, да и по некоторым другим проблемам взгляды Хайяма и крайних суфиев заметно расходились.
Пантеистам-суфиям мир и человеческие души представлялись божественными не в своем эмпирическом бытии, но в своей субстанции. Человек является тайным богом. Он — не абсолютная истина, а частица этой истины, или, точнее, ее модель. В этом смысле человек несовершенен. Постепенное освобождение души от впечатлений, «отражений» чувственного бытия, «незанятость души» (миром) и отвержение своего эмпирического «я» и своей воли должны были привести суфия к состоянию фана, то есть к полному растворению души и личности в божестве как в мировом «я» и слиянии с ним. Истинный суфий сливается с богом подобно тому, как капля с морем.
Разнообразие же материального мира суфии-пантеисты объясняли следующим образом. Сущность Аллаха-истины едина. Миры минералов, растений, животных, человека различаются только внешне. Ведь все вещи и явления объединяет сущность бога, проникая в них. В этой связи характерен следующий пример. Однажды вечером Джунейд Багдади со своим мюридом шел по дороге. Залаяла собака. Джунейд остановился и сказал: «Лаббейк-лаббейк». Ученик спросил, что с ним. Джунейд ответил, что лай собаки он принял за зов и гнев Аллаха и не заметил перед собой собаку, поэтому произнес «лаббейк» (то есть я перед тобой).
Для крайних суфиев-пантеистов ничего, кроме аллаха, не существовало. Природа, человек, животный мир, лай собаки, вой ветра, грохот грома, сверкание молнии, звуки музыки — везде и во всем они видели проявление Аллаха. Для исламских ортодоксов же сравнение лая собаки с голосом бога являлось еретическим кощунством, против которого оправданы любые методы борьбы.
Например, мусульманское духовенство обвинило аль-Халладжа в отступничестве от единобожия. Но сам аль-Халладж отнюдь не утверждал существования в одно и то же время двоих — бога и человека. Аллах и его творения для суфиев-пантеистов неотделимы друг от друга. Тем не менее аль-Халладж был казнен.
Хайям же в общем, также являясь пантеистом, придерживался более сложной концепции субстанциональной уникальности индивидуального «я», невозможности ее полного растворения в боге-мире в силу наличия, по его мнению, гораздо более сложных взаимоотношений между Абсолютом и личностным «я». А это вело к отрицанию им ключевой идеи фана в суфизме. Правда, в одном из древних источников «Нузхат аль-Маджалис» (1331 г.) есть четверостишие Хайяма, в котором изображена кратко, но ясно суть суфийского учения.
Пока перед скитанием ворота не откроешь — не жди отрады. Покамест кровью сердца лицо ты не омоешь — не жди отрады. Зачем скорбеть о мире? Влюбленным уподобясь, уйди от мира. Пока, от «я» отрекшись, себя не успокоишь, — не жди отрады.Но, как известно, тема отречения от собственного «я» практически не встречается у Хайяма. Если это не «странствующее» четверостишие и действительно написано Омаром Хайямом, то мы можем предположить, что в его жизни был период серьезного исследования концепции фана, что и отразилось в этом рубаи.
Вместе с тем многое и сближало Омара Хайяма с крайними суфиями, прежде всего отношение к шариату. Исламские ортодоксы считали и считают, что шариат и есть истина. Поэтому правоверный мусульманин должен считать своим долгом строго следовать его предписаниям.
Умеренные, правоверные суфии видели в соблюдении предписаний шариата важное средство на пути духовного совершенствования. Такой точки зрения придерживался и аль-Газали.
Суфийский путь, по Газали, имеет девять стадий: 1) покаяние в грехах; 2) терпение в несчастьях; 3) благодарность богу за ниспосланные благодеяния; 4) страх божий; 5) надежда на спасение; 6) добровольная бедность; 7) отречение от мира; 8) отречение от своей воли; 9) любовь к богу. Каждая из них характеризуется приобретением одного из «спасительных свойств».
Первые пять стадий — общий путь благочестия, определяемый шариатом и пригодный для всех мусульман, а последние четыре — собственно суфийский путь, тарикат. В каждой стадии аль-Газали различает еще три этапа. Например, на третьей стадии суфий сначала приучает себя чувствовать благодарность богу за благодеяния, которые Аллах мог бы и не оказать ему, именно за то, что бог создал его живым существом, а не камнем, сознательным человеком, а не неразумным животным, мужчиной, а не женщиной, физически полноценным, а не, например, хромым, слепым, добрым, а не злым. Затем суфий должен научиться смотреть на «милости бога» как на средство для того, чтобы достигнуть в будущем фана. Наконец, он должен приучиться смотреть и на несчастья как на благодеяния и благодарить за них бога. Суфий должен теперь уже не только терпеть несчастья, но и радоваться им.
Омар Хайям, как и крайние суфии, с явным пренебрежением относился к шариату. Для этих суфиев, кроме «бога-истины», все остальное — ритуалы, обряды, соблюдение религиозных предписаний — не имело никакой ценности. Джунейд Багдади, живший до Хайяма, любил повторять: «Суфиями называются те, кто имеет дело с богом, для них существует только он». А знаменитый суфийский теоретик и поэт Джелалетдин Руми, говоря о том, что суфий ни во что не верит, кроме Аллаха, в сущности, отрицал все каноны и догматы официального ислама: «Вера влюбленного отличается от всех верований. Вера и религия влюбленных — это бог».
Одним из наиболее опасных элементов в суфийском учении, с точки зрения правоверных защитников шариата, являлось отрицание превосходства ислама как религиозного вероучения. Крайняя веротерпимость суфиев вызывала особое возмущение у ортодоксов ислама.
Суфии-пантеисты довольно безразлично относились ко всем религиям, считая, что между ними существует только внешнее различие. Порой они игнорировали даже различие между верой и неверием. С их точки зрения, нет никакой разницы между мечетью и церковью, между Каабой и питейным домом — все сводится в конечном счете только к внешней несхожести. Религия подобна прозрачной воде, которая в зависимости от цвета сосуда становится красной, зеленой, синей и т. д.
Некоторые суфийские шейхи, не отрицая религиозных учений, утверждали, что они сами воплощают в себе высшие качества всех пророков и святых различных религий. Например, тот же Джунейд Багдади заявлял: «Суфий тот, у которого сердце подобно сердцу Ибрахима (Авраама), покорность его подобна покорности Исмаила, горе его подобно горю Дауда (Давида), бедность его подобна бедности Айсы (Иисуса), терпение его подобно терпению Айюба (Иова), увлеченность его во время мунаджата (молитвы) подобна увлеченности Мусы (Моисея), искренность его подобна искренности Мухаммеда, да благословит и приветствует его Аллах».
Хайям же в этом вопросе придерживался еще более радикальных взглядов:
Вместо розы — колючка сухая сойдет, Черный ад — вместо светлого рая сойдет. Если нет под рукою муллы и мечети — Поп сгодится и вера чужая сойдет! Дух рабства кроется в кумирне и в Каабе, Трезвон колоколов — язык смиренья рабий, И рабства черная печать равно лежит На четках и кресте, на церкве и михрабе.Эти идеи коренным образом противоречили ортодоксальным богословам, считающим ислам «последним словом божьим», а Мухаммада — «печатью пророка».
Шариат разрешает мусульманам совершать молитву, кроме мечетей, также дома, на дороге (если поблизости нет мечетей), в общественных местах и т. д. Исходя из этого же положения, крайние суфии вообще отрицали специальное значение общего места для молитв — мечети. Ведь если можно совершать молитву везде, то тогда нет вообще никакой надобности в мечети. Суфийские шейхи утверждали: «Истинная мечеть — это сердце мусульман», «Если хочешь найти Аллаха — ищи его в своем сердце», «Не смотри на луну через ее отражение в воде, а смотри в небо» — так образно отрицалось значение мечети.
Для Хайяма также мечеть, молитва, пост не имеют значения:
К черту пост и молитву, мечеть и муллу! Воздадим полной чашей Аллаху хвалу. Наша плоть в бесконечных своих превращеньях, То в кувшин превращается, то в пиалу.Еще более недоброжелательно относились суфии к учению официального ислама о рае и аде. Характерно в этом смысле высказывание одной из крупнейших фигур в суфизме, поэтессы Рабии аль-Адавии: «Спросили Рабию, что она скажет о рае. Она ответила известным изречением: „Сперва сосед, а потом дом“ — и пояснила свою мысль, что она воспевает бога раньше рая». То есть, если речь идет о конечной цели — фана, то рай не имеет значения.
Известный суфийский шейх Абу-Бакр аш-Шибли более откровенно издевался над ортодоксальными представлениями об аде и рае. Однажды он прикинулся безумным и взял в руки палку, которая горела с обеих сторон. Когда у него спросили, что он хочет делать, аш-Шибли ответил: «Иду одним концом палки поджечь ад, а другим — рай, дабы народ стал действительно заботиться о своем отношении к Аллаху».
Омар Хайям, в свою очередь, называет представления о рае и аде «сорной травой», противопоставляя этому знание «тайны мира»:
Бушуют в келиях, мечетях и церквах Надежда в рай войти и перед адом страх, Лишь у того в душе, кто понял тайну мира, Сок этих сорных трав весь высох и зачах. Лучше пить и веселых красавиц ласкать, Чем в постах и молитвах спасенья искать. Если место в аду для влюбленных и пьяниц — То кого же прикажете в рай допускать?Одно из наиболее строгих предписаний шариата заключается в необходимости для правоверного мусульманина соблюдения ежегодного месячного поста. В месяце рамазан верующие в течение дня от восхода до захода солнца ничего не едят, не пьют и не курят.
Крайние же суфии под всякими предлогами могли нарушать пост, как, например, суфий Мааруф Кархи: «Рассказывают, что однажды в месяц рамазан Мааруф Кархи нарушил свой пост и выпил воды у водоносца, который кричал: „Благословит Аллах того, кто выпьет воды“. Ему, Мааруфу Кархи, напомнили, что он держит пост. Кархи отвечал: „Да, но меня привлекло благословение Аллаха“.
Один из знаменитых представителей суфизма, Баязид Вистами, которого ортодоксы обвиняли в ереси, еще более решительно высказывается как по поводу поста, так и в отношении молитвы: «От молитвы я, кроме напряжения тела, ничего не видел, от соблюдения поста я, кроме голода, ничего не видел».
Крайние суфии, выступая против показного благочестия, протестовали тем самым против официального лицемерия институционализированного ислама. Знаменитый суфий X века аль-Кушейри писал: «Одна пылинка настоящего благочестия лучше тысячи миска лов (мера веса. — Авт.) поста и молитвы».
Когда Хайям касается этой темы, то его сарказм проявляется в ярчайшей форме:
Шавваль пришел. Вино, глушителя забот, Пусть виночерпий нам по чашам разольет. Намордник строгого поста, узду намазов С ослиных этих морд благой Шавваль сорвет. Если пост я нарушу для плотских утех — Не подумай, что я нечестивее всех. Просто постные дни — словно черные ночи, А ночами грешить, как известно, не грех! Над краем чаши мы намазы совершаем, Вином пурпуровым свой дух мы возвышаем, Часы, что без толку в мечетях провели, Отныне в кабаке наверстывать решаем.Есть в рубайяте четверостишие, которое является своего рода радикальной иллюстрацией мысли аль-Кушейри:
Послушай слов Хайяма про самый верный путь: Нарушь посты, молитву, зато хоть чем-нибудь Ты помоги другому, будь плох он, будь он пьян. Пей сам, грабь по дорогам, но только добрым будь.Еще одним пунктом существенного расхождения между крайними суфиями и ортодоксами являлось отношение к любви. Для суфия истинная любовь — это любовь к богу, через которую постигается истина. Такая любовь не похожа на земную любовь, которая возникает между влюбленными, между родителями и детьми, между родственниками. Любовь к Аллаху-истине выше и не сравнима ни с чем.
Естественно, для крайних суфиев, мышление и поведение которых основано на предпосылке такой беспредельной любви к Аллаху, безразличен и как бы не существует и пророк с его предписаниями, и мусульманская община, и халиф, и т. д.
Ту же самую Рабию аль-Адавию однажды спросили, любит ли она Аллаха. Она ответила, что любит. Затем спросили, порицает ли она шайтана. Она ответила — нет, потому что любовь к богу не оставила никакого места в ее сердце для порицания шайтана: «Рабия сказала, что она видела посланника бога во сне, и пророк спросил ее: „О Рабия, любишь ли меня?“ Она ответила: „О посланник бога, кто тебя не любит? Но любовь к богу так заполнила мое сердце, что в нем не осталось места для другой любви, кроме любви к богу“.
Любовь суфия к Аллаху должна была быть вполне бескорыстной, он не должен был рассчитывать на награду «на том свете». «О боже, — говорил Харакани, — люди благодарят тебя за щедроты твои, а я благодарю за бытие твое, главная (твоя) милость — это бытие твое… Господь окликнул мое сердце: „Раб мой, что надо тебе, проси!“ Я сказал: „О боже, разве мне не довольно бытия твоего, чтобы просить еще что-либо?“
Говоря о теме любви, нельзя не коснуться и проблемы символизма в суфийской литературе, и особенно в поэзии. Суфизм создал достаточно стройную систему символов, при помощи которых идеи того или иного произведения буквально зашифровывались. В частности, идея любви к Аллаху находила свое отображение в строках, описывавших состояние обычного влюбленного, тоскующего по своему возлюбленному. Ансари таким образом пишет следующее суфийское четверостишие:
Опьянен я тобой, вина и кубка мне не нужно! Пленен я тобой, ни приманки, ни силка мне не нужно! И в Каабе, и в капище цель моя — ты, А если бы не так, то ни той, ни другого мне не нужно!Система символов играет в суфийской поэзии особую роль. Теоретики суфизма на каком-то этапе стали осознавать в силу двух основных причин ограниченность традиционных форм словоупотребления и словесных способов выражения мысли. Прежде всего речь идет о способах адекватной передачи некоторых ключевых суфийских концепций. Е. Э. Бертельс писал по этому поводу: «Особенную трудность, конечно, представляла фиксация хала, этого мистического озарения, наиболее характерной чертой которого является именно его кратковременность, даже правильнее было бы сказать „вневременность“. Можно ли было пытаться передать словами то, для чего слов в наличии не имелось, что, в сущности, непередаваемо вообще? …Пытаться логическим мышлением зафиксировать то, что по самой своей природе находится вне логики, в сфере эмоций, конечно, задача невыполнимая».
Вот, например, описание хала суфием Бабом Кухом:
Рассвело утро счастья благодаря счастливой звезде, Светило солнца тайны обратило лик к созерцанию. Поутру, по милости своей, «открыватель врат» Открыл передо мною, словно солнце, врата к свиданью. Когда я увидел арку бровей этой любезной луны, Моей душе оставалось только кланяться и бить земные поклоны. Когда (поклоняющийся) стал бить поклоны перед аркой бровей красавицы, И он, и она, кому он поклонялся, слились в одно. Когда сердце мое увидело красу, лучом которой являлась Оно получило уверенность, что это и есть благой исход.Русский дословный перевод не может принципиально выразить то состояние хала, которое отобразил Кух. Дело в том, что глубинное восприятие символической ситуации, описанной поэтом, предполагает не только и не столько знание используемых суфийских символов, сколько определенное внутреннее эмоционально-символическое состояние слушателя.
Другая, и более серьезная, причина заключалась в стремлении теоретиков суфизма преодолеть так называемую «определенность слов как таковых». В интеллектуальных сферах суфизма была достаточно частой концепция, в соответствии с которой вещи в мире, да и сам этот мир сами по себе истинного абсолютизированного бытия не имеют, а обладают лишь становлением и исчезновением. Обычный же язык фиксировать постоянно (для мышления в частности и для целостного мироощущения вообще) эти два процесса одновременно не может. Использование же специально разработанной философской системы символов позволяет в определенной мере обойти это препятствие.
Хайям неоднократно касается темы любви в своих поэтических произведениях. Причем эти рубаи можно разделить на три типа. В некоторых четверостишиях он, используя в определенной степени разработанную суфиями символику, говорит о любви к богу:
Я влюблен, осушаю я чашу до дна сегодня, В дом кумиров зашел я, поклонник вина, сегодня. Пред высоким чертогом всевышнего ныне стою, И свобода от уз бытия мне дана сегодня.Если под влюбленностью иметь в виду стремление к Аллаху, под вином — мистический настрой, а под опьянением — экстаз, то это рубаи в общем является типично суфийским.
Но есть у Хайяма и другие рубаи, которые могут интерпретироваться двояко: и как выражение любви к богу, и как гимн человеческой любви. Таким является знаменитое четверостишие:
Я перед тобою лишь не потаюсь, Своей великой тайной поделюсь. Тебя любя, я в прах сойду могильный И для тебя из праха подымусь.Наконец, встречаются в рубайяте четверостишия, в которых Хайям формулирует свои представления именно о земной любви, но с определенными философскими выводами:
За любовь к тебе пусть все осудят вокруг, Мне с невеждами спорить, поверь, недосуг. Лишь мужей исцеляет любовный напиток, А ханжам он приносит жестокий недуг. Словно солнце, горит, не сгорая, любовь. Словно птица небесного рая — любовь. Но еще не любовь — соловьиные стоны. Не стонать, от любви умирая, — любовь.И еще в одном пункте взгляды Хайяма или были близки к концепциям суфиев, или даже совпадали. Речь идет об оценке роли рационального знания и его месте в более широком контексте человеческого мироощущения. Причем здесь представления суфиев и Хайяма противостоят взглядам сторонников калама — схоластического богословия.
Мутакаллимы спекулировали на формальной интеграции знания в систему веры в качестве одного из атрибутов, при этом широко использовались приемы аристотелевской логики и рационалистических хитросплетений. Антирационализм суфизма, его акцент на интуицию в значительной степени стал своего рода реакцией на засилие софистики и рационалистической демагогии учения калама. Известный исламовед А. Массэ писал: «Суфизм восстанавливал широту религиозного горизонта, суженного каламом. Он незаметно устранял богословскую пауку и ставил на ее место интуицию».
В отличие от ортодоксального ислама суфизм в своей основе предполагал совершенно иную веру, определяемую не кем-то извне, а каждым индивидуальным человеком, веру, основывающуюся на личной достоверности пережитого опыта. (В действительности это ключевое положение, особенно после XII—XIII веков, чаще всего уже не реализовывалось.)
Суфийский скепсис относительно «абсолютного знания» схоластического ислама был не только отражением понимания ограниченности человеческих способностей. Он имел и ярко выраженный социальный контекст, будучи направлен против непререкаемости, чванливости и претенциозности мусульманской догматики.
В этом смысле Омар Хайям писал:
Скорей вина сюда! Теперь не время сну, Я славить розами ланит хочу весну. Но прежде разуму, докучливому старцу, Чтоб усыпить его, в лицо вином плесну. Сегодня — оргия. С моей женой, Бесплодной дочкой Мудрости пустой, Я развожусь! Друзья, и я в восторге. И я женюсь — на дочке лоз простой.Суфий не просто вручал себя бездумно Аллаху. Суфий должен был стремиться к такой вере, которая должна быть результатом труднейших испытаний, сомнений, отчаяния, страданий. Принципиально она ориентирована на человека, сознательно выбирающего трудный путь обретения особого рода чувственного, интеллектуального, духовного наслаждения. И Аллах в этой структуре веры стал совершенно иным: чувственно-интеллектуальным символом духовного единства человека со Вселенной, символом страстно желанной вечности и сокровенной тайны мира, к постижению которой устремлены все поиски человека.
Суфию, чтобы узреть бога, нельзя останавливаться на внешнем взгляде на вещи. Необходимо проникнуть внутрь их. Это не обнаружение причинных пластов вещи, не помещение ее в ряд с другими, причинно связанными с ней вещами, не анализ и разложение ее на составляющие части. Суфий должен перевоплотиться в эту вещь и уже изнутри себя обрисовать ее. Один из центральных принципов познания суфизма, как, впрочем, и исмаилизма, — идея глубокой взаимосвязи макро— и микрокосма. Все элементы мира, каждый на своем уровне, отражают абсолютный интеллект.
Интуиция суфия противостоит теологическому рационализму мутакаллима и эмпирическому рационализму ученого еще в том плане, что интуиция — это всегда неотделимая часть человека, это не нечто, что может противостоять ему. Опытный суфий может сказать: «Знание — сила», имея в виду, что его знание действительно всегда есть его личная сила. Для схоласта и рационалиста принцип «Знание — сила» не имеет такого абсолютного смысла, поскольку они ощущают дуализм самого себя и своего знания. В качестве пояснения можно привести яркие слова аль-Газали: «И тогда мне стало ясно, что наиболее специфические их (суфиев. — Авт.) особенности заключаются в том, что постижимо не путем обучения, но лишь благодаря испытанию, переживанию и изменению душевных качеств.
Какая большая разница — знать определение здоровья и определение сытости, их причин и условий, с одной стороны, и быть самому здоровым и сытым — с другой; знать определение опьянения, знать, что оно есть состояние, возникающее оттого, что пары, поднимаясь от желудка, завладевают источниками мысли, с одной стороны, и быть самому пьяным — с другой. Ведь хмельной человек не знает определения опьянения и его теории, и все же он пьян, хотя он не имеет ни малейшего понятия о природе опьянения. Трезвый же знает определение опьянения и его причины, хотя сам он ни чуточки не пьян. Будучи больным, врач знает определение своей болезни, ее причины и лекарства, которыми ему можно излечиться, и все же он нездоров. Такая же разница существует между тем, что ты знаешь истинную природу аскетизма, ее условия и предпосылки, с одной стороны, и тем, что ты сам переживаешь состояние аскетизма и духовного отвращения к дольнему миру — с другой».
Волшебства о любви болтовня лишена. Как остывшие угли — огня лишена, А любовь настоящая жарко пылает, Сна и отдыха, ночи и дня лишена.Взгляды Омара Хайяма были близки к некоторым представлениям суфиев. Но они не всегда были полностью идентичны. В рубайяте есть следующее четверостишие, которое проникнуто подчеркнутым пренебрежением к суфизму:
Не будет роз у нас — шипами обойдемся; Не будет света — пусть, есть пламя — обойдемся. Не будет рубища, ханаки, суфиев — Тогда зуннаром[39] мы с церквами обойдемся.Перу Хайяма принадлежат рубаи, в которых он в еще более резкой форме высказывает свое отношение к суфиям. В одном из своих четверостиший, не имеющем русского стихотворного перевода, Хайям говорит:
О саки, если мое сердце отобьется от рук, То куда оно уйдет? Ведь (мир) — это море, Если суфий, который, словно узкий сосуд, попон невежества, Выпьет каплю (вина), то оно ударит ему в голову.Неприкрытый сарказм звучит в следующем рубаи:
Ты мрачен? Покури хашиш — я мрака нет, Иль кубок осуши — тоски пройдет и след. Но стал ты суфием, увы! Не пьешь, не куришь, Булыжник погрызи — вот мой тебе совет.Но еще более показательно для оценки отношений между Хайямом и суфиями рубаи, в котором Омар Хайям противопоставляет свое отношение к вину суфийской символике. Кроме того, пожалуй, только в этом стихотворении он прямо высказывается по поводу известных суфийских шейхов.
Кирпич на кувшине короны Джема краше, И яства Мариам[40] — ничто пред винной чашей. Мне вздох из пьяных уст милей стократ, чем все, Адхам и Бу Саид, святые стоны ваши.Ибрахим ибн Адхам Балхи и Абу Саид Мейхенский относились к числу крупнейших авторитетов в суфизме. Абу Саид в свое время встречался с Ибн Синой. Но Хайям хочет подчеркнуть в этом четверостишии, что воля и свобода самого человека, пусть заключающаяся просто в выборе чаши вина, для него выше всего того, что обещают различные суфийские шейхи.
Позднейшие представители умеренного суфизма резко отрицательно относились к Омару Хайяму. Один из них, Ибн аль-Кифти, писал: «Омар аль-Хайям — имам Хорасана, ученейший своего времени, который преподает науку греков и побуждает к познанию Единого Воздаятеля посредством очищения плотских побуждений ради чистоты души человеческой и велит обязательно придерживаться идеальных между людьми отношений согласно греческим правилам. Позднейшие суфии обратили внимание на кое-что внешнее в его поэзии и эти внешности (то есть явный, буквальный смысл) применили к своему учению и приводили их в доказательство на своих собраниях в уединенных беседах. Между тем сокровенное (внутренний смысл) его стихов — жалящие змеи для мусульманского законоположения и сборные пункты, соединяющие для открытого нападения».
Известный представитель умеренного суфизма и крупный исламский теолог Наджм ад-Дин Абу Бакр прямо противопоставляет Омара Хайяма благочестивым суфиям: «И известно, что была за мудрость в привлечении духа чистого, вышнего и бестелесного в форму земную, низшую, мрачную; (известно также), для чего дух разлучается с телом и прерывается с ним связь его и разрушается форма; (известно, наконец), что за причина вторичного оживления формы в день судный и превращения ее в оболочку для духа: — причина та, чтобы (человек) не оправдывал (коранического) выражения: „Они скотам подобны, пожалуй, даже еще более заблудшие“ (Коран, VII, 178), — и достигал бы ступени человечности, и освобождался бы от пелены нерадения (о котором сказано в Коране): „Они знают только наружное в жизни этого мира, а относительно будущей своей жизни они нерадивы“ (Коран, XXX, 6.); — и со вкусом и страстью вступал бы на путь шествования (к Богу). А тем несчастным философам, материалистам и натуралистам, которые лишены этих двух благ, которые ошеломлены и сбиты с пути, остается вместе с одним из литераторов, который известен у них талантом и мудростью, остроумием и познанием (то есть Омаром Хайямом), читать только вследствие крайнего смущения и заблуждения следующие стихи:
Приход наш и уход загадочны — их цели Все мудрецы земли осмыслить не сумели. Где круга этого начало, где конец, Откуда мы пришли, куда уйдем отселе? Жизнь сотворивши, смерть ты создал вслед за тем, Назначил гибель ты своим созданьям всем. Ты плохо их слепил, но кто ж тому виною, А если хорошо, ломаешь их зачем?»Наконец надо отметить, что и один из крупнейших суфийских поэтов и теоретиков умеренного суфизма, Фарид ад-Дин Аттар, отзывался о Хайяме крайне нелестно.
К XI веку наряду с суфиями, не оставившими своих постоянных занятий (ремесла, розничная торговля и т. д.), размножились и оформились профессиональные суфии. Их обозначали уже тогда, как и теперь, термином «факир» или чаще его синонимом «дервиш». Многие из них жили постоянно или временно в дервишских обителях, называвшихся по-разному: ханака, завийа, ланга, рибат. В этих обителях сложился специфический устав духовного руководства: молодые суфии находились под началом наставника (шейх или пир). По отношению к послушнику-мюриду шейх являлся муршидом. Под руководством муршида мюрид должен был пройти долгий курс аскетической и созерцательной жизни для достижения совершенства на пути тариката.
Полное подчинение воли мюрида воле своего шейха являлось основной предпосылкой эффективности суфийского пути. Многие авторитеты суфизма требовали, чтобы мюриды оказывали своим наставникам больше уважения, чем богу. Зу-и-нун Мисри прямо утверждал: «Почитание мюридом своего шейха выше почитания им бога».
Разрабатывались специальные упражнения, направленные на полное подчинение мюрида воле шейха. В суфийском братстве Джелалетдина Руми искус новичка продолжался тысячу и один день, из которых 40 дней он исполнял обязанности конюха при обители, 40 дней чистил отхожие места, 40 дней носил воду, 40 дней подметал двор, 40 дней носил дрова, 40 дней служил поваром и т. д. Необходимо было любой ценой сломить гордость адепта, испытать его смирение и готовность выполнить любое распоряжение шейха.
После этого только мюрид принимался в суфийское братство и получал дервишскую одежду. Его связь с шейхом-наставником сохранялась всю жизнь. Мюрид, отрекаясь от своей воли, целиком отдавал себя муршиду, видя в нем по отношению к себе как бы заместителя самого Аллаха. Мюриды регулярно исповедовали свои грехи (в том числе и мысленные) перед шейхом и творили перед ним покаяние.
…На одной из своих лекций Хайям рассказал студентам сочиненную им самим историю: «К некоему известному суфийскому шейху пришел шайтан в образе человека, желающего вступить на святой путь. Шейх его спросил:
— Какова цель твоего прихода к нам?
— Желание сердцем своим прикоснуться к всепроникающему свету Аллаха.
— Но знаешь ли ты, что тяжел и труден путь мюрида?
— Знаю, о святейший из святых. И пришел я к тебе, зная о святости и мудрости твоей. Но прежде чем стать твоим вернейшим мюридом, позволь тебе задать несколько вопросов.
Шейх благосклонно кивнул головой, слегка погладив сплошь седую бороду.
— Что привело меня к тебе?
— Твое стремление найти свой путь к Аллаху.
— Но почему я пришел именно к тебе?
— Таково было твое предназначение.
— Почему я выбрал тебя?
— Твое сердце указало тебе путь ко мне.
— Таким образом мои сомнения проложили этот путь к твоей ханаке. Значит, мои сомнения составляют очень важную суть меня самого. Но не заставят ли они уйти от тебя?
— Это зависит от тебя.
— Но ведь путь истинного суфия — это постоянное преодоление своего «я». На каком-то этапе я должен буду лишиться своих сомнений и, следовательно, забыть свое «я».
— Но ты взамен получишь свое истинное «я», неотделимое от всего окружающего и неотделимое от Аллаха!
— Но, обуздывая свою волю и преодолевая свои сомнения, я буду прежде всего твоим отражением, о шейх!
— Я прошел значительную часть пути, и моя самость чиста. И через меня ты познаешь всевышнего. На то воля Аллаха!
— И тем не менее я превращусь в твое отражение. И возможно даже, что это отражение я приму за свое новое «я».
— Возможно. Но на каком-то этапе ты все равно пойдешь своим путем.
— Но каким образом я узнаю, что это мой путь? Без воли, без сомнений, с твоим отражением в себе — кто мне скажет, что это мой путь?
— Аллах даст тебе знак.
Шейх начинал раздражаться.
— Но каким образом я восприму знак Аллаха? Ведь я к тому времени буду тобой. Следовательно, это ты определишь мой путь. Но разве Аллаху нужны копии тебя, о шейх?
Сказав это, шайтан засмеялся и исчез».
Помолчав, Омар Хайям добавил: «Путь суфиев — это река, которая несет и мертвые и живые сердца. Это река, в которой может утонуть искренний, но слабый пловец. Но она же может нести лицемеров, искрение наслаждающихся своим лицемерием. Это река, которая может нести свои воды к океану, но может затихнуть и в зловонном болоте…»
В свое время суфизм в той или иной степени выражал протест, пассивный, реже активный, против социального угнетения. Но времена менялись, и постепенно менялась социальная роль суфизма. Идеологи суфизма в учении о нестяжании и бедности стали подчеркивать главным образом момент довольства своим жребием, терпения и покорности, непротивления насилию. Самое учение о бедности стали толковать так, что суфий может быть и богатым, лишь бы он не привязывался душой к богатству и, приобретая его, не творил насилия и греха. При этом богач должен был смотреть на себя не как на собственника, а только как на распорядителя богатства, доверенного ему богом. Но так как никто не контролировал такого суфия, то на практике эти моральные правила его не стесняли.
В XV веке в Среднеазиатском султанате Тимуридов главный шейх дервишского ордена накшбендийа Убейдаллах играл в течение почти сорока лет очень важную и притом крайне реакционную политическую роль. Своими почитателями он был прославлен как святой. Но у этого «святого» было 1300 мульковых земельных владений. Только в одном из них было три тысячи плужных участков (то есть около 23—27 тысяч гектаров). Кроме того, «святой» прибрал к рукам чуть не всю транзитную караванную торговлю на пути Мерв — Бухара — Самарканд.
Те, что жили на свете в былые года, Не вернутся обратно сюда никогда, Наливай нам вина и послушай Хайяма: Все советы земных мудрецов — как вода…ПЕРВЫЙ КРУГ.
ОМАР ХАЙЯМ
Если хочешь узнать человека — найди в душе его противоречия; среди них — найди главное; попробуй представить это главное противоречие как зеркало; загляни в него — и, может быть, тебе повезет — ты увидишь тень истинного человека, как он есть.
Омар Хайям — пантеист. Но он странный и удивительный пантеист — для него бог, Единое, не просто проявляет себя в гармонии мира и любви. Для него Аллах, Абсолют — это прежде всего загадка и вечный вызов: играющий бог, играющий Абсолют, и в игре через человека устремляющийся к познанию самого себя.
Бог — в жилах дней. Вся жизнь — его игра. Из ртути он — живого серебра. Блеснет луной, засеребрится рыбкой… Он — гибкий весь, и смерть — его игра.Человек окружен бесчисленными, бесконечными мирами — реальными, полуреальными и возможными. И эти миры, как и другие, невыразимые и странные — всего лишь один из срезов проявлений тотального Абсолюта, Универсума, Абсолютной тайны. Этот Абсолют бесконечен во времени и пространстве, и Тайна его — величайшая из тайн, и именно потому стремление к ее постижению делает ее еще более загадочной, туманной и мерцающей. Удивительная и несравнимая гармония Единого в его бесконечном разнообразии, порождающем целостность, которая стремится к еще большей сложности. Но одновременно эта взаимосвязанная, бесконечная и гармоничная сложность Невыразимого, никогда не ведомые в полном объеме его великие законы обусловливают фатальную предопределенность и человеческого мира, и человеческой жизни.
И все же только единственное может быть сравнимо с этой тотальностью Единого — и им является человек.
Цель творца и вершина творения — мы, Мудрость, разум, источник прозрения — мы, Этот круг мироздания перстню подобен — В нем граненый алмаз, без сомнения, мы.Человек подобен Универсуму — он бесконечно противоречив и сложен, целостен и уникален, потенциально свободен и загадочен.
Мы источник веселья — и скорби рудник, Мы вместилище скверны — и чистый родник. Человек, словно в зеркале мир, — многолик. Он ничтожен — и он же безмерно велик!Величие человека определяется тем, что только он знает о существовании тайны Невыразимого, что только он может ощутить Единое и принять его вызов.
О, чадо четырех стихий, внемли ты вести Из мира тайного, не знающего лести! Ты зверь и человек, злой дух и ангел ты; Все, чем ты кажешься, в тебе таится вместе.И именно здесь скрывается главное противоречие Омара Хайяма, которое стало для великого мудреца из Нишапура основной проблемой, жизненной драмой, своего рода «оптимистической трагедией». Абсолютной тайной порожден человек, но порожден таким образом, что подобен он Универсуму, ибо может мыслить и ощущать Тайну и Бесконечность. Но мыслит же и ощущает он это, будучи временным и конечным и зная, что он конечен!
Ты задался вопросом: что есть Человек? Образ божий. Но логикой бог пренебрег: Он его извлекает на миг из пучины — И обратно в пучину швыряет навек. Трясу надежды ветвь, но где желанный плод? Как смертный путь судьбы в кромешной тьме найдет? Тесна мне бытия печальная темница — О, если б дверь найти, что к вечности ведет! Кто в тайны вечности проник? Не мы, друзья, Осталась тайной нам загадка бытия, За пологом про «я» и «ты» порою шепчут, Но полог упадет — и где мы, ты и я? «Не станет нас». А миру — хоть бы что! «Исчезнет след». А миру — хоть бы что! «Нас не было, а он сиял и будет!» «Исчезнем мы…» А миру — хоть бы что!Но с этим связана и другая проблема Омара Хайяма. Мышление и познание человека должно быть основано на том, что его возможный и вероятностный мир, который он познает, всегда и всюду — всего лишь мельчайшая частица абсолютно сложного и неимоверно загадочного Единого с его вечно неведомыми и таинственными законами. И какие бы усилия человек ни предпринимал и как бы реально он ни постигал закономерности своего мира, тем не менее его знание всегда будет относительным, а таинственность Невыразимого не уменьшится. Между Универсумом и человеком всегда останется пульсирующий туман тайны. Однако дело не только в том, чтобы понять ее величие и тут же забыть. Отблеск этой таинственности должен оплодотворять каждодневное мышление человека.
Я — школяр в этом лучшем из лучших миров. Труд мой тяжек: учитель уж больно суров! До седин я у жизни хожу в подмастерьях, Все еще не зачислен в разряд мастеров… Вместо солнца весь мир озарить — не могу, В тайну сущую дверь отворить — не могу, В море мыслей нашел я жемчужину смысла, Но от страха ее просверлить не могу.И отсюда следует трезвый, без иллюзий, всепроникающий релятивизм Омара Хайяма:
Кто сведущ глубоко в делах земного царства, Тому одно — печаль, и радость, и мытарства. Не вечны, милый друг, добро и зло вселенной, На свете все — болезнь, на свете все — лекарство.Вторая ключевая основа хайямовского релятивизма — что все в мире находится в постоянном изменении и постоянном движении, что нет ничего абсолютного, все лишь переход от одного состояния (которого нет в действительности) к другому состоянию (которого, естественно, тоже нет).
О невежда, вокруг посмотри, ты — ничто, Нет основы — лишь ветер царит, ты — ничто. Два ничто твоей жизни — предел и граница, Заключен ты в ничто, и внутри ты — ничто. Поутру просыпается роза моя. Поутру распускается роза моя. О жестокое небо! Едва распустилась — Как уже осыпается роза моя.И все же человек должен быть смелым и мужественным не только перед великим вызовом Единого, не только перед той тайной, которая постоянно внутри и вне его. Человек должен также уверенно осознавать, что на своем пути познания он сталкивается с загадками, которые сам же и создает. Его мышление, его чувства, желания, воля выделяют и определяют в этом многообразном мире то, что человеку кажется необходимым, возможным или невозможным. Так ограничивается и становится почти «осязаемой» тайна мира, так противопоставляется знакомый и обыденный мир человека тому, что рядом, но что непривычно и не замечается.
Иллюзорно-устойчивый, описываемый словами и символами, сознательно и бессознательно ограничиваемый привычками, традициями отдельного человека, мир противопоставляется реальному, сложному и загадочному, постоянно изменяющемуся потоку. Или иначе: Омар Хайям хочет сказать, что даже реальный мир, окружающий человека, всегда сложнее самого сложного человеческого образа об этом мире.
Ты видел мир, но все, что ты видал, — ничто. Все то, что говорил ты и слыхал, — ничто. Итог один, весь век ты просидел ли дома, Иль из конца в конец мир исшагал, — ничто.Свобода тотального воображения, способность жить во многих реальностях одновременно может быть эффективнейшим приобретением на пути реального человеческого познания. Ведь глубочайшая истина заключается как раз в том, что признание потери, когда человек перестает хвататься за то, что безвозвратно утрачено, оставляет за собой пустоту, которая не бесплодна, а бесконечно плодоносна.
Одна из важнейших позитивных концепций в системе мироощущения Омара Хайяма — концепция жизни как реализации всего потенциала человека. Человек, индивидуальность — это не только тело, не только дух, не только разум и т. д., это развертывание человеческой тотальности в течение времени всей его жизни. Поэтому-то жизнь является ключевой ценностью для Хайяма:
Хорошо, если платье твое без прорех. И о хлебе насущном подумать не грех. А всего остального и даром не надо — Жизнь дороже богатства и почестей всех. За мгновеньем мгновенье — и жизнь промелькнет… Пусть весельем мгновение это блеснет! Берегись, ибо жизнь — это сущность творенья, Как ее проведешь, так она и пройдет.Как бы при разных поворотах рассматривает Омар Хайям дилемму жизни и смерти, бытия и небытия. Для него сама идея смерти играет очень важную роль. Прежде всего смерть не должна быть неким мистическим и бессмысленным пугалом. В концепции жизни человека обязательно должна присутствовать трезвая, без иллюзий, идея неизбежной смерти:
Разумно ль смерти мне страшиться? Только раз Я ей взгляну в лицо, когда придет мой час. И стоит ли жалеть, что я — кровавой слизи, Костей и жил мешок — исчезну вдруг из глаз? Смерти я не страшусь, на судьбу не ропщу, Утешенья в надежде на рай не ищу, Душу вечную, данную мне ненадолго, Я без жалоб в положенный срок возвращу. Если ночью тоска подкрадется — вели Дать вина. О пощаде судьбу не моли. Ты не золото, пьяный глупец, и едва ли, Закопав, откопают тебя из земли.Причем нельзя считать эти представления пессимистическими в прямом смысле слова. Точка зрения Омара Хайяма представляется по-своему достаточно эвристической. Человек смертен: спроси любого, он даст утвердительный ответ. Но в своем каждодневном поведении, мышлении, чувствах человек постоянно стремится забыть, что он смертен. Он в страхе бежит бессознательно от этой мысли. И возникает определенный парадокс: человек реально живет, забывая, что он смертен, он живет, действует, любит, мыслит так, будто он бессмертен. А ведь иллюзорная идея бессмертия рождает предательскую безответственность в человеке. Люди делают и вновь повторяют бессмысленные ошибки — ну и что, ведь они чувствуют себя бессмертными: у них еще будет время все исправить. Люди подражают другим и не созидают себя — ну и что, они же «бессмертны», у них еще есть время. Люди занимаются благоглупостями и не думают: как же, они же бессмертны, и у них еще есть неограниченное время для великих дел.
Знает твердо мудрец: не бывает чудес, Он не спорит — там семь или восемь небес. Раз пылающий разум навеки погаснет, Не равно ль — муравей или волк тебя съест?Рефрен смерти у Омара Хайяма служит как бы тревожащим напоминанием для мыслящего человека: будь внимателен, у тебя есть своя цель в этой жизни, у тебя есть свой путь, не трать зря жизненное время — самое главное твое богатство. Помни: смерть всегда готова бросить тебе вызов, поскольку смерть — твой вечный компаньон. Умей принимать ответственность за каждый свой поступок.
Вплоть до Сатурна я обрыскал божий свет. На все загадки в нем сумел найти ответ, Сумел преодолеть все узы и преграды, Лишь узел твой, о смерть, мной не распутан, нет!В контексте темы «жизнь — смерть» очень важную роль играет проблема настоящего, прошлого и будущего у Хайяма.
Коль можешь, не тужи о времени бегущем, Не отягчай души ни прошлым, ни грядущим. Сокровища свои потрать, пока ты жив, Ведь все равно в тот мир предстанешь неимущим.Когда человек тоскует о прошлом, мечтает о будущем, он тратит время настоящего: в это время он не живет в полном смысле слова, он имитирует жизнь. Но что толку думать о прошлом — все одно его не вернешь. Думать, мечтать о будущем или даже планировать это будущее — да, но, может быть, реальная жизнь в настоящем — это более эффективная предпосылка созидания будущего.
Словно ветер в степи, словно в речке вода, День прошел — и назад не придет никогда. Будем жить, о подруга моя, настоящим! Сожалеть о минувшем — не стоит труда. Вот снова день исчез, как ветра легкий стон, Из нашей жизни, друг, навеки выпал он. Но я, покуда жив, тревожиться не стану О дне, что отошел, и дне, что не рожден.Важное место в системе мироощущения Хайяма занимает тема не просто настоящего, а тема именно мгновения, мига. Бесконечное время протекло до появления человека на свет. Бесконечное время протечет после его смерти. И по сравнению с вечностью в нашем трехмерном пространстве не только месяцы и годы, но даже и века не более чем мгновение. Вся человеческая жизнь перед лицом вечности — это только мгновение, но человек в одном миге может ощутить вечность. И для Хайяма это очень важный пункт: целостность мига, мгновения — это то же, самое, что и целостность вечности.
Пей вино! В нем источник бессмертья и света, В нем — цветенье весны и минувшие лета. Будь мгновение счастлив средь цветов и друзей, Ибо жизнь заключилась в мгновение это. В полях — межа. Ручей. Весна кругом. И девушка идет ко мне с вином. Прекрасен миг! А стань о вечном думать, И кончено: поджал бы хвост щенком!Ибо миг — это и символ действительной свободы человека. Свободным надо быть не завтра, не послезавтра, не через неделю или год, а именно сейчас, вот в эту минуту, когда ты ощущаешь себя единым со всем миром. И если это ты можешь — то это твой звездный миг!
От веры к бунту — легкий миг один. От правды к тайне — легкий миг один. Испей полнее молодость и радость! Дыханье жизни — легкий миг один.Но мгновение, миг — это и прообраз всего сущего в его всеобщности, сцепленности и целостности. Жизнь — это река мгновений, и каждое из них человек должен испить. Призывая к космическому спокойствию перед лицом необратимой смерти, Хайям призывает по-настоящему ценить каждый миг жизни.
Если к чаше приник — будь доволен, Хайям! Если с милой хоть миг — будь доволен, Хайям! Высыхает река бытия, но покуда Бьет еще твой родник — будь доволен, Хайям!Омар Хайям — пантеист. Но пантеист, для которого индивидуальное «я», значение индивидуальной жизни, имеющей определенное и неслучайное предназначение для Единого, имеют решающее значение. Причем для реализации этого предназначения свобода играет важнейшую роль; это именно та свобода, которая вплетена в конструкции абсолютных законов мироздания.
Блажен, кто в наше время свободным шел путем, Довольствуясь уделом, дарованным творцом; От жизни, от мгновенья все, что хотел, он взял, Жил вольно, без печали, с фиалом и вином. В жизни сей опьянение лучше всего, Нежной гурии пение лучше всего, Вольной мысли кипение лучше всего, Всех запретов забвение лучше всего.Для Хайяма прежде всего важна внутренняя духовная свобода, свобода от тех пут, которые человек сам налагает на себя. Высшая свобода — независимость от прихоти случайности и от неумолимости необходимости — посильна тому только, кто неподвластен превратностям жизни, выходит из мира условного, из оболочки своего маленького «я», обретая подлинное Я.
В мире временном, сущность которого — тлен, Не сдавайся вещам несущественным в плен, Сущим в мире считай только дух вездесущий, Чуждый всяких вещественных перемен. До рождения ты не нуждался ни в чем, А родившись, нуждаться во всем обречен. Только сбросивши гнет ненасытного тела, Снова станешь свободным, как бог, богачом.Тема уникальности каждой человеческой жизни — одна из центральных в рубайяте. В мире постоянно происходит круговорот всего сущего: первоэлементы взаимно переходят друг в друга. Человек рождается и умирает.
Вчера я в лавке был у славных гончаров, И был искусен там любой из мастеров… Я видел то, чего не видели слепцы, — В руках у каждого я видел прах отцов!После смерти человек, смешавшись с прахом, сам превращается в глину. Гончар создает из этой глины гончарные изделия, которые вновь попадают к людям. Кувшины и чаши разбивают, снова месят глину, и так совершается вечный круговорот материи. Другой путь превращения материи — через травы и цветы, которые вырастают на могиле человека, вянут, умирают и вновь вырастают.
Фаянсовый кувшин от хмеля, как во сне, Намедни бросил я о камень. Вдруг вполне Мне внятным голосом он прошептал: «…Подобен Тебе я был, а ты подобен будешь мне». Трава, которою — гляди! — окаймлена Рябь звонкого ручья, — душиста и нежна. Ее с презрением ты не топчи: быть может, Из праха ангельской красы взошла она.Но ведь ни трава, ни глина, ни кувшин с человеком не сравнятся. И четверостишия о кругообороте материи нужны Хайяму для того, чтобы подчеркнуть предельно простую и трагическую мысль: человек умрет, и из его праха могут сделать кувшин, но из кувшина человека уже не сделаешь. И для Хайяма каждый человек — это уникальное единство тела и духа.
Твердят нам лицемеры: то тело, то дух, Не признают единства нигде субстанций двух. Вину с душой не слиться! Да будь все это так, Давно б всадил в свой череп я гребень, как петух.Смерть творит из тела прах, а душа? Омар Хайям много размышлял по поводу души человека после его смерти. В конце трактата о всеобщности существования есть такие слова: «Учения Гермеса, Агатодемона, Пифагора, Сократа и Платона таковы, что души, находящиеся в телах людей, обладают недостатками, колеблются и переходят из одного тела в другое до тех пор, пока они не станут совершенными, а когда они становятся совершенными, они теряют связь с телами. Это называется метампсихозом; если же души переходят в тела животных, это называется метаморфозой; если они переходят в растения, это называется усыплением, а если они переходят в минералы, это называется окаменением. Таковы разряды, соответствующие у них нисходящим ступеням ада».
Историк Ахмад Насрулла Татави в своей «Истории тысячи» писал: «Из многих книг известно, что он (Хайям) придерживался веры в переселение душ. Рассказывают, что в Нишапуре был старый медресе и для его ремонта ослы возили кирпичи. Однажды ученый шел с несколькими учениками по двору медресе. Один из ослов никак не входил во двор. Когда ученый увидел это, он улыбнулся и, подойдя к ослу, сымпровизировал стихи:
Ты нас давно покинул и возвращен, когда Твое исчезло имя из мира без следа, Когда срослися ноги в копыта у тебя, Хвостом ослиным стала седая борода.Осел вошел. У ученого спросили, в чем причина этого. Он сказал: душа, которая принадлежит телу этого осла, раньше находилась в теле учителя этого медресе — поэтому он и не мог войти. Но теперь, когда он увидел, что его товарищи узнали его, он волей-неволей должен был войти».
Если этот учитель был факихом, то его душа, с точки зрения Хайяма, могла переселиться только в осла. Это, конечно, анекдот. На самом же деле, исходя из концепции человека как единства материальной и духовной субстанций, Хайям должен был прийти к выводу о трагической уникальности личности в Универсуме.
Я нигде преклонить головы не могу. Верить в мир замогильный — увы! — не могу. Верить в то, что, истлевши, восстану из праха Хоть бы стеблем зеленой травы, — не могу. Разум к счастью стремится, все время твердит: «Дорожи каждым мигом, пока не убит! Ибо ты — не трава, и когда тебя скосят — То земля тебя заново не возродит».Но что же тогда остается человеку? Если он по-настоящему мужествен, он должен идти своей дорогой познания, даже если в конце он вынужден будет сказать, что все его приобретенные знания — ничто по сравнению с сияющей загадкой Единого.
Ученью не один мы посвятили год, Потом других учить пришел и нам черед. Какие ж выводы из этой всей науки? Из праха мы пришли, нас ветер унесет.Когда ты идешь своей дорогой знания, ключевая проблема состоит в том, чтобы определить, кто ты, который стремится познать. «Я не знаю» — это великий символ: я не знаю, ни кто я, ни что я не знаю. «Я не знаю» — это символ движения к Истине, к Реальности, к самому себе, когда по крайней мере я знаю, что это именно Я, который не знает. Мудр, имеющий знания и искренне говорящий «Я не знаю», ибо он осознает, что путь бесконечен. Глупец же, говоря «Я знаю», считает, что он нашел истину, забыв, что истина прежде всего движение от «Я не знаю».
Я для знаний воздвиг сокровенный чертог. Мало тайн, что мой разум постигнуть не смог. Только знаю одно: ничего я не знаю! Вот моих размышлений последний итог.Каждый шаг к истине должен быть сопряжен с ясным осознанием того, что полученное знание относительно, что оно порождает гораздо больше проблем, чем решает. Важно именно это: одновременное в мышлении, ощущении признание того, что получено, и то, что оно относительно. Нельзя самодовольно упрощать сложность даже на гребне действительно великих свершений!
Твой путь к Истине сложен. И много препятствий на этом пути. Ты будешь идти, окруженный сворой сомнений — таких сомнений, из-за которых перестает биться сердце и высыхает мозг.
Пускай ты прожил жизнь без тяжких мук — что дальше? Пускай твой жизненный замкнулся круг — что дальше? Пускай, блаженствуя, ты проживешь сто лет? И сотню лет еще, — скажи, мой друг, что дальше?Ты должен будешь пройти испытание тщеславием и богатством.
Порою некто гордо мечет взгляды: «Это — я!» Украсит золотом свои наряды: «Это — я!» Но лишь пойдут на лад его делишки, Внезапно смерть выходит из засады: «Это — я!» Раз насущный твой хлеб дан от века творцом, Не отнимут его, не прибавят потом. Значит, в бедности будь непокорным и гордым, А в богатстве не стань добровольным рабом.И надо помнить, что человек, всегда довольный собой и своей жизнью, — это, в общем-то, абсурд и вызов миру. Ведь такое самодовольство в конечном счете предполагает отказ от самосовершенствования в мире, который постоянно изменяется и усложняется.
Сбрось обузу корысти, тщеславия гнет, Злом опутанный, вырвись из этих тенет, Пей вино и расчесывай локоны милой: День пройдет незаметно — и… жизнь промелькнет.Ты будешь окружен страданиями, ты будешь страдать, вынужденный выбирать. Но помни, истинная боль как факел высвечивает самые скрытые закоулки человеческой души. Страдание давит на душу слабого извне, а на душу сильного изнутри.
Все в жизни — дар судьбы, все в жизни — испытание. И ты должен ко всему быть готов!
Как нужна для жемчужины полная тьма, Так страданья нужны для души и ума. Ты лишился всего, и душа опустела? Эта чаша наполнится снова сама!Путь Истины требует мужества, ответственности за каждый свой, даже мельчайший поступок. Он потребует тебя всего, ничего не дав взамен, кроме одного — прикосновения к величайшей тайне — тайне Универсума!
Водой небытия зародыш мой вспоен, Огнем страдания мой мрачный дух зажжен; Как ветер, я несусь из края в край Вселенной И горсточкой земли окончу жизни сон.«Страдать — не захлебываясь в горе и несчастьях; сомневаться — но не повторяясь; жить — но и каждую минуту; мыслить — но только через себя и только по-своему; оставаться собой — даже падая в бездну вечности».
Пусть будет сердце страстью смятено. Пусть в чаше вечно пенится вино. Раскаянье творец дарует грешным — Я откажусь: мне ни к чему оно.Последние годы жизни Омара Хайяма приходятся на годы царствования султана Санджара. Ранней весной 1118 года султан Мухаммад заболел, возможно, отравленный исмаилитами, и 18 апреля того же года умер. Великий визирь Али Бар обвинил султаншу Гухархатун и поэта Муаййида ад-Дина в том, что они магическими действиями вызвали смерть владыки. Еще до смерти Мухаммада султаншу ослепили, а в день его смерти ее задушили. Казнен был и Муаййид ад-Дин.
После Мухаммеда на престол вступил его тринадцатилетний сын Махмуд. Несмотря на свой юный возраст, новый султан уже успел погрязнуть в различных пороках. Свое время он отдавал главным образом соколам и собакам, для которых изготовляли драгоценные ошейники и попоны.
Дядя Махмуда — Санджар решил заявить о своих правах и выступил против племянника. 11 августа 1118 года при Саве произошел бой. Хотя войска Махмуда были многочисленны, исход сражения решили боевые слоны, имевшиеся в армии Санджара. Махмуд потерпел поражение, и верховная власть перешла к Санджару.
При Санджаре могущество Сельджукидов временно укрепилось. Он не только возвратил среднеазиатские владения, но и заставил газневида Бахрамшаха признать себя вассалом сельджукского властителя. И все же рост могущества сельджукского государства при Санджаре был как бы прощальным всплеском: ему было суждено стать последним правителем в ряду так называемых «великих сельджуков».
Старость — дерево, корень которого сгнил. Возраст — алые щеки мои посинил. Крыша, дверь и четыре стены моей жизни Обветшали и рухнуть грозят со стропил.Сохранились только два достоверных свидетельства о событиях последних лет жизни Хайяма. К 1118—1123 годам, когда визирем султана Санджара был племянник Низам аль-Мулька Шихаб аль-Ислам, относится рассказ аль-Бейхаки о встрече визиря с Хайямом:
«Рассказывают, что однажды имам Омар пришел к визирю Шихаб аль-Исламу Абд ар-Раззаку, сыну досточтимого богослова Абу-ль-Касима Абдаллаха ибн Али, племяннику Низама. У него был имам чтецов (Корана) Абу-ль-Хасан аль-Газзал. Они говорили о разночтении в каком-то стихе (Корана). Тогда Шихаб аль-Ислам сказал: „Обратимся к знающему“, — и спросили об этом имама Омара. Тот указал виды различий в чтении и недостатки каждого из них, упомянул противоречивые места и их недостатки, а затем предпочел один вид другим видам. Тогда имам чтецов Абу-ль-Хасан аль-Газзал сказал: „Да умножит Аллах подобных тебе среди ученых, сделай меня твоим слугой и будь благосклонен ко мне, ибо я не думаю, чтобы хоть один из чтецов в мире помнил бы это наизусть и знал это, кроме одного мудреца“.
Ухожу, ибо в этой обители бед Ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот уходящему вслед, Кто прожить собирается тысячу лет. Жизнь с крючка сорвалась и бесследно прошла, Словно пьяная ночь, беспросветно прошла. Жизнь, мгновенье которой равно мирозданью, Как меж пальцев песок, незаметно, прошла!В сообщении о Хайяме в «Доме радости» Табризи имеется следующее неполное предложение: «…в четверг 12 мухаррама 555 года в деревушке одной из волостей округа Фирузгонд близ Астрабада». Индийский исследователь Говинди высказал предположение, что в этом предложении Табризи перед словами «в четверг» недостает слов «он умер» или другого выражения с тем же значением.
Советские ученые определили, что 12 мухаррама пришлось на 4 декабря 1131 года. Именно эту дату следует считать наиболее вероятной датой смерти Хайяма, что соответствует сообщениям Табризи и ас-Самарканди. У Табризи в «Доме радости» имеется предложение, касающееся Хайяма: «Продолжительность его жизни — ?? солнечных года». На месте знаков ?? в рукописи сообщения Табризи — две малоразборчивые цифры, первую из которых можно прочесть как 7 или 8, а вторую — как 2 или 3. В соответствии с сообщениями аль-Низами ас-Самарканди указанные слова Табризи означают: «Продолжительность его жизни — 83 солнечных года».
О том, как умер Хайям, рассказывает аль-Бейхаки: «Его (то есть Хайяма. — Авт.) свояк имам Мухаммад аль-Багдади рассказывал мне: «Однажды он (Омар Хайям) чистил зубы золотой зубочисткой и внимательно читал метафизику из (Книги) Исцеления» (сочинение Ибн Сины). Когда он дошел до главы о едином и множественном, он положил зубочистку между двумя листами и сказал: «Позови чистых, чтобы я составил завещание». Затем он поднялся, помолился и (после этого) не ел и не пил. Когда он окончил последнюю вечернюю молитву, он поклонился до земли и сказал, склонившись ниц: «…О боже мой, ты знаешь, что я познал тебя по мере моей возможности. Прости меня, мое знание тебя — это мой путь к тебе». И умер».
Этот мир красотою Хайяма пленил, Ароматом и цветом своим опьянил. Но источник с живою водою иссякнет, Как бы ты бережливо его ни хранил! Палаток мудрости нашивший без числа, В горнило мук упав, сгорел Хайям дотла. Пресеклась жизни нить, и пепел за бесценок Надежда, старая торговка, продала.Перу ан-Низами ас-Самарканди принадлежит трогательный рассказ: «В пятьсот шестом (1112 г.) ходжа имам Хайям и ходжа Музаффар Исфазари были во дворце эмира Абу Са'да в квартале работорговцев в Балхе. Я был с ними в веселом собрании. Там я слышал, как Доказательство истины Омар сказал: „Моя могила будет расположена в таком месте, где каждую весну северный ветер будет осыпать надо мной цветы“. Мне эти слова показались невозможными, но я знал, что такой человек не будет говорить без основания.
Когда в (пятьсот) тридцатом (1135 г.) я был в Нишапуре, уже прошло четыре года, как этот великий человек скрыл свое лицо под покровом праха и оставил этот мир осиротевшим. Он был моим учителем. В пятницу я отправился на его могилу и взял человека, чтобы он показал мне ее. Он привел меня на кладбище Хайра. Я повернул налево и увидел ее у подножия садовой стены, из-за которой виднелись ветви грушевых и абрикосовых деревьев, осыпавших свои цветы на эту могилу настолько щедро, что она была совершенно скрыта под ними. Тогда я вспомнил те слова, которые слышал от него в Балхе, и заплакал».
Не рыдай! Ибо нам не дано выбирать: Плачь не плачь — а придется и нам умирать, Глиной ставшие мудрые головы наши Завтра будет ногами гончар попирать. Ночь на земле. Ковер земли и сон. Ночь под землей. Навес земли и сон. Мелькнули тени, где-то зароились — И скрылись вновь. Пустыня… Тайна… Сон…Словарь
Алиф — первая буква арабского алфавита, обозначающая звук «а».
Акциденция — случайное, преходящее свойство вещи.
Аль-мукабала — буквально «противопоставление»; алгебра и аль-мукабала (аль-джабр ва-ль-мукабала) — первоначальное название алгебры. Слова аль-джабр (буквально «восполнение») и аль-мукабала означают две простейшие алгебраические операции — перенесение вычитаемых членов уравнения в другую часть в виде прибавляемых членов и взаимное уничтожение равных членов уравнения в левой и правой частях.
Антропоморфизм — теологическая доктрина, уподобляющая бога человеку; одно из наиболее консервативных течений в исламе.
Атабек — высокопоставленный опекун (дядька) при малолетнем эмире или наследнике престола у Сельджукидов.
Ашариты — последователи основоположника калама аль-Ашари.
Аят — стих Корана.
Газневиды — династия тюркского происхождения, правившая в Газневидском государстве (X—XII вв.), основанном в 962 году саманидским полководцем Алп-Тегином. Наибольшего могущества государство Газневидов достигло при Махмуде Газневи, когда в его состав входили территории современного Афганистана, ряд областей Ирана, Средней Азии и Индии.
Гедонизм — учение в философии, считающее наслаждение высшим благом, а стремление к наслаждению — принципом поведения.
Герменевтика — наука о языковом выражении мысли; в более широком смысле — наука о понимании посредством языковых конструкций.
Гузы , или огузы — объединения тюркских кочевых племен, ведущих свое начало от легендарного предводителя Огуза.
Гулямы — постоянная конная гвардия, личная охрана аббасидских халифов, эмиров, султанов. Набирались в основном из молодых рабов — тюрков.
Дервиш — бродячий суфий; обычно член суфийской общины или ордена.
Джабраил — коранический прототип архангела Гавриила.
Джемшид — легендарный царь древнего иранского эпоса, обладавший чашей, в которой отражался весь мир.
Джериб — мера площади; около 1952 квадратных метров.
Диван — (букв.) «Собрание». 1) Высший совет при султане; 2) Сборник, собрание стихотворений.
Динар — наиболее распространенное название золотой монеты в странах мусульманского мира. Впервые начала чеканиться в VII веке; содержала около 2,4 грамма золота.
Дирхем — серебряная монета. Впервые начала чеканиться с 695 года. Содержала 2,97 грамма чистого серебра.
Дихканин — первоначально землевладелец в Персии и Маве-раннахре.
Зороастризм — религия, господствовавшая в Иране до арабского завоевания и названная по имени пророка Зороастра.
Имам — духовное звание, главный служитель мечети, руководитель религиозной общины.
Имамиты — представители крупнейшего шиитского умеренного направления в исламе.
Исмаилизм — радикальная шиитская секта в исламе. Исмаилиты называли себя также талимитами (таълим — обучение) и батынитами.
Кааба — священный черный камень в мечети аль-Харам в Мекке. По представлениям мусульман, это окаменелый ангел-хранитель Адама, изгнанный вместе с ним из рая.
Каба — вид мужской одежды.
Кавсер — легендарный источник в раю.
Кади — судья.
Калам — система ортодоксальной схоластики в исламе, основанная богословом аль-Ашари. Так же называется инструмент для письма — тростинка, которую макают в чернила.
Камал — мера высоты, около 1,85 метра.
Караханиды — династия, происходившая из знати тюркских племен Семиречья. Правила после Саманидов в Мавераннахре (ок. 932—1165 гг.).
Карматы — представители радикального, антифеодального течения в исмаилизме.
Каррамиты — последователи секты каррамийя, от имени Абу Абдаллаха Мухаммеда ибн Каррама. Каррамитов считали антропоморфистами. Секта была очень влиятельна в Хорасане в X—XI веках.
Маарифат — один из этапов суфийского пути к просветлению.
Маздак — зороастрийский жрец; руководитель широкого социального движения в империи сасанидов V—VI веков. Исходил из принципа всеобщего равенства, «данного богом».
Мазхаб — богословско-юридическая школа в исламе. Наиболее распространены четыре мазхаба: ханифитский, ханбалитский, шафиитский, маликитский.
Майсир — домусульманская арабская азартная игра.
Маликиты — сторонники маликитского мазхаба, основанного имамом Маликом ибн Анасом.
Медитация — глубокая мысленная и чувственная концентрация; сопровождается телесной расслабленностью, отсутствием эмоциональных проявлений, отрешенностью от внешних объектов.
Медресе — богословская школа, где изучались и светские науки.
Минбар — возвышенная кафедра в мечети для имама и проповедника.
Михраб — ниша в мечети (квадратная, полукруглая или многогранная), ориентированная в сторону Мекки.
Мутазилиты — представители рационалистического течения в исламе, появившиеся в начале IX века.
Мустамли — помощник учителя в медресе.
Муфтий — толкователь вопросов мусульманского права на основе шариата.
Мухаддис — собиратель и толкователь хадисов.
Мухтасиб — базарный надзиратель; в широком смысле — блюститель нравов.
Мюрид — дословно: «желающий» — человек, вступивший под начало духовного суфийского наставника-шейха, вручивший ему свою волю; последователь.
Намаз — ритуальная молитва мусульман, совершаемая пять раз в день.
Омейяды — династия в истории халифата (661—750 гг.).
Онтология — учение о бытии как таковом, независимо от субъекта и его деятельности.
Пантеизм — философское учение, объединяющее бога и мир или отождествляющее их.
Пир — духовный наставник в суфизме.
Предикат — один из двух терминов суждения в логике, а именно тот, что «сказывается» (говорится) о другом, о так называемом предмете речи (субъекте).
Рабад — ремесленно-торговое предместье в городах Средней Азии и Персии в VII—VIII веках. Примыкал к шахриста-ну. В IX—X веках рабад становится центром экономической и политической жизни восточного мусульманского города.
Раис — городской голова, городской начальник.
Рамазан — название девятого месяца арабского лунного года, в течение которого правоверные мусульмане обязаны соблюдать пост от восхода до захода солнца.
Рафизит — в широком смысле слова «еретик»; термин, применявшийся ортодоксальными мусульманами в отношении исмаилитов.
Реджеб — седьмой месяц мусульманского лунного календаря.
Релятивизм — теоретическая концепция, согласно которой все в мире только относительно.
Саманиды — раннефеодальное государство IX—X веков, расположенное в основном на территории Хорасана.
Сельджуки — объединение огузо-туркменских племен, ведущих род от легендарного вождя — Сельджука.
Силлогизм — форма дедуктивного умозаключения, в которой из двух высказываний определенной структуры следует новое высказывание той же логической структуры. Например: «Всякое А есть В; всякое С есть А; следовательно, всякое С есть В».
Субстанция — неизменная основа вещи; объективная реальность, рассматриваемая со стороны ее внутреннего единства, безотносительно ко всем тем бесконечным многообразным видоизменениям, в которых и через которые она в действительности существует.
Сунна — дословно «предание». Мусульманская сунна основана на множестве хадисов.
Суннизм — основная, ортодоксальная форма ислама, которой придерживается большинство мусульман.
Суп — топчан на дворе.
Сура — глава Корана.
Суфизм — социальное и интеллектуально-пантеистическое течение в исламе, ориентированное на достижение той или иной формы единства с божеством.
Тандыр — печь для выпечки хлеба.
Тарикат — суфийский путь просветления; последовательный путь суфия к достижению единения с божеством.
Факих — мусульманский ученый-правовед; ортодоксальный знаток шариата.
Фана — достижение и ощущение полного единства с божеством; конечная цель тариката у большинства суфийских школ.
Фарраш — в широком смысле: слуга.
Фарсах — мера длины; около 6—7 километров.
Фатимиды — династия арабских халифов (909—1171), официальной идеологией которых был исмаилизм. Фатимиды претендовали на происхождение непосредственно от пророка: Фатима была дочерью Мухаммада.
Фикх — богословское законоведение.
Хадж — паломничество мусульманина в Мекку. Совершается в двенадцатом месяце мусульманского лунного года.
Хаджс — предание о речах и поступках пророка Мухаммада или его сподвижников.
Xакан — один из титулов караханидских правителей.
Хакикат — последняя стадия суфийского познания. Дословно «подлинное бытие».
Халиф — духовный вождь мусульман; руководитель халифата — мусульманской общины в широком смысле слова. С X века за халифами сохранялась лишь религиозная власть главы мусульманской общины.
Xаль — кратковременное состояние, настроение у суфиев, проходящих путь самосовершенствования. Ощущение единства с богом-миром, форма экстаза.
Xанака — обитель суфийских послушников (мюридов) и дервишей.
Ханбалиты — сторонники мазхаба имама Ахмеда ибн Ханбаля (умер в 855 году).
Ханифиты — сторонники мазхаба, основанного имамом Абу Ханифой (около 696—767 г.).
Хариджиты — сторонники одного из первых течений в исламе, возникшего в 50-х годах VII века. Выступали за равенство всех мусульман независимо от их происхождения и цвета кожи. По учению хариджитов, халифом может быть любой последователь ислама, избранный мусульманской общиной.
Хорасан — область, расположенная на восток и юго-восток от Каспийского моря.
Xутба — род молитвы за правящего государя и за всю общину правоверных. Включение имени властителя в хутбу равносильно признанию его власти. Обычно хутба читалась во время пятничного богослужения.
Чарсу — полотняный купол городского рынка или площади.
Шабан — восьмой месяц мусульманского лунного календаря.
Шавваль — десятый месяц мусульманского лунного календаря (следует за рамазаном).
Шариат — свод норм мусульманского права, морали, религиозных предписаний и ритуалов, призванный охватить всю жизнь мусульман. Основан на Коране и Сунне.
Шафииты — сторонники мазхаба имама Мухаммеда ибн Идриса аль-Шафи'и (умер в 820 году.).
Шахристан — исторический центр мусульманского города.
Шейх — духовное звание в исламе; наставник в суфизме.
Шиизм — второе основпое (после суннизма) направление в исламе. Шииты признают Коран «божественным откровением», однако считают, что в Османовой его редакции опущены аяты, имеющие отношение к Али.
Эзотерическое — здесь: внутренняя сущностная доктрина исмаилизма в отличие от внешней — экзотерической доктрины.
Эманации — формы проявления (истечения) безличного божества (абсолютной истины) в пантеизме и в учениях, примыкавших к пантеизму.
Эмир — титул светского властелина, феодала.
Эпистемология — термин, употребляемый для обозначения теории познания.
Основные даты жизни и творчества Омара Хайяма
Основные даты жизни и творчества Омара Хайяма
18 мая 1048 г. — день рождения Омара Хайяма.
1066—1070 — период пребывания Омара Хайяма в Самарканде.
1070—1074 — период пребывания Омара Хайяма в Бухаре.
1066—1074 — Омар Хайям завершает четыре математические работы, в том числе «Трудности арифметики», «Трактат о доказательствах задач алгебры в алмукабалы» и «Весы мудрости».
1074 — Омар Хайям переезжает в Исфахан.
1074—1075 — основана знаменитая Исфаханская обсерватория, где до 1092 года работал Омар Хайям.
1077 (декабрь) — Омар Хайям завершил один из своих важнейших математических трудов — «Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида».
1079 (март) — календарная реформа Омара Хайяма.
1080 — Омар Хайям пишет «Трактат о бытии и долженствовании».
1080—1091 — Омар Хайям создает «Ответ на три вопроса», «Свет разума о предмете всеобщей науки», «Трактат о существовании».
1092 — смерть Низам аль-Мулька и Малик-шаха.
1095—1098 — Омар Хайям пишет «Науруз-наме».
1098—1104 — период интенсивных духовных исканий Омара Хайяма.
1105—1110 — Омар Хайям завершает свое философское завещание — «Трактат о всеобщности существования».
1114 — Омар Хайям в Мерве.
4 декабря 1131 — уход из жизни Омара Хайяма.
Примечания
1
Основной жанр стихотворных произведений Хайяма — отдельное и законченное четверостишие — рубаи (в собирательной форме — рубайят).
(обратно)2
С этим словом по законам арабского языка связано и название «медресе», то есть место, где совершается тадрис.
(обратно)3
В различных исследованиях имя основателя ислама встречается во многих вариантах транскрипции: Мохаммед, Магомет и т.д. Используемая здесь транскрипция ближе всего к подлинному звучанию его имени по-арабски.
(обратно)4
Именно таков приблизительный перевод слова «халиф».
(обратно)5
Широко распространенная в японской поэзии форма: пятистишие с фиксированным количеством слогов в каждой строке.
(обратно)6
Виночерпий (перс.)
(обратно)7
Имеется в виду арабский язык, игравший роль международного средства общения в странах ислама в средние века.
(обратно)8
Аполлоний — великий греческий математик (около 260—170 гг. до н.э.), работал в Александрии и Лергане.
(обратно)9
«Низам аль-Мульк» в переводе с арабского означает «устроитель государства».
(обратно)10
Мукта — владелец земельного надела, выданного за службу.
(обратно)11
Дарий Гистасп (552—486 до н. э.), царь из древнеперсидской династии Ахеменйдов.
(обратно)12
Афридуя — один из мифических царей Персии.
(обратно)13
Александр Македонский.
(обратно)14
Основатель династии Сасанидов.
(обратно)15
Сасанидский царь Нуширван (531—539).
(обратно)16
Медаин (Ксесифон) — столица государства Сасанидов.
(обратно)17
Мамун — аббасидский халиф (813—833).
(обратно)18
Мутаваккиль-ил-лахи — аббасидский калиф (847—861).
(обратно)19
То есть, если считать, что годовой оборот Солнца равен точно 365,25 суток, то через 1461 год Солнце возвращается в ту же точку небесного свода в ту же минуту.
(обратно)20
То есть халифа.
(обратно)21
Крупнейшие представители династии Газневидов.
(обратно)22
Ибн Сина.
(обратно)23
Пророка Мухаммада.
(обратно)24
Гадание на песке.
(обратно)25
А.Е. Бертельс предлагает переводить это словосочетание как «призыв к новой (вере)», «проповедь новой (религии)».
(обратно)26
Напиток из меда и винного уксуса.
(обратно)27
Лекарство, обладающее вяжущими свойствами.
(обратно)28
«Высшая наука и первая философия» — восточное аристотельянство. «Первая философия» — название основного философского произведения Аристотеля «Метафизика». «Первой философией» называл сам Аристотель науку, излагаемую в этой книге, в отличие от натурфилософии, изложенной в «Физике».
(обратно)29
Такую мысль Хайям уже высказывал в первом из своих трактатов.
(обратно)30
Струнный музыкальный инструмент наподобие европейских цимбал.
(обратно)31
Паланкин (перс.)
(обратно)32
Верховный жрец в зороастризме.
(обратно)33
Ангел-вестник в зороастризме.
(обратно)34
Буквально по-арабски «дуга» и «хорда» звучат соответственно как лук и тетива.
(обратно)35
Бурак — таинственное животное, на котором, согласно преданию, Мухаммад совершал свой мирадж, то есть ночной полет на небо.
(обратно)36
Ильяс — библейский пророк Илья.
(обратно)37
Там, где они (промежуточные виды. — Авт.) являются видом, — они частное по отношению к своему общему. Таким образом, каждый из них есть
(обратно)38
Иджтихад — правило, выводимое мусульманским богословом на основе священных текстов для того, чтобы верующие руководствовались им в том или ином непредвиденном случае.
(обратно)39
Зуннар — пояс, которым повязывались иноверцы в мусульманских странах.
(обратно)40
Имеется в виду пища, которой питалась Мария, когда была беременна Христом. Здесь это выражение символизирует нечто священное, что противостоит личному, индивидуальному в человеке.
(обратно)



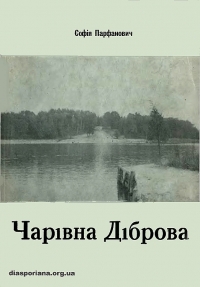
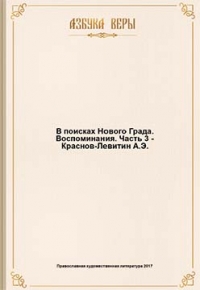
Комментарии к книге «Омар Хайям», Шамиль Загитович Султанов
Всего 0 комментариев